Алексей Павлов Должно было быть не так
Детям до 16 лет и милиционерам читать не рекомендуется
Автор«Из отзывов читателей»
Верьте или нет, но когда израильтяне просят меня объяснить, что же происходит в России, я почти всегда отвечаю: «Это королевство кривых зеркал». Но Йотенгейм, пожалуй, подходит ещё лучше для описания того, что там творится. По большей части, мне не верят, недоверчиво улыбаясь — «ну как такое может быть?» и главное «зачем?». Зачем беспричинно мучить людей — вот чего не могут понять мои знакомые. То, о чем пишете вы — это сюрреализм чистой воды. Настолько дико, что многие читатели скажут «не может быть, потому что не может быть». Невозможно представить что в центре мегаполиса установлены гигантские котлы, в которых заживо варятся и гниют люди, ещё не осуждённые ни за что. На какое будущее рассчитывает страна творящая такое с собственными гражданами?
Александр Гейфман,ИерусалимПРОЛОГ
Предыстория этих событий — предмет отдельного описания из прошлых жизней, которых мы проживаем несколько уже сейчас, между так называемыми рождением и смертью. Сама же история ещё не остыла и не стёрлась из памяти, хотя и подёрнулась дымкой тумана; уже не каждую ночь снятся московские казематы, уже появилась надежда на жизнь, и сам я — за тридевять земель от тех родных мест, что расположены в одном из самых безумных государств планеты. Давным-давно скандинавы называли ту страну Йотенгеймом — царством колдовства и торжества злых сил природы. Однако купцы в Йотенгейме бывали. Вероятно, само возвращение домой было значительным событием в их жизни. Я же принадлежу к тем, кому довелось считать Йотенгейм своей родиной, голос которой меня и позвал к себе, властно и непреодолимо. Остальное получилось само собой: на другом краю земли у меня украли документы, и, ужаснувшись, но втайне и обрадовавшись, я оседлал железного коня и с невероятной скоростью оказался в Йотенгейме. Да, по другому руслу могла потечь река моей жизни, много разумных доводов кажутся сейчас неоспоримыми и сводятся к одному: нечего было делать там, в Йотенгейме, но вот беда — тот властный голос…
А может быть, я его и придумал?..
Глава 1. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
В ночь перед отъездом тревога стихла. Вовка оказался на высоте: паспорт — настоящий, машина с водителем есть, будем ехать вместе столько, сколько потребуется; с нами едет Вовкина сестра с ребёнком. Если остановят, вряд ли привлечём внимание. Главное — выехать из Москвы, а там уже к вечеру мы на Украине. Все проблемы могут быть только в Москве, иначе бы задержали ещё при въезде в Россию.
Да, приходили к разным знакомым странные субъекты, то в галстуках, то с золотыми цепями на шее, интересовались, где я, данных о себе не оставляли; повесток тоже нет, никто не звонил, никуда не вызывали — вер-ный признак частного мероприятия. Так уж водится нынче в государстве Российском: кто-то нашёл знакомых при должности, дал или пообещал дать денег, и пошла моя фамилия в разработку какого-нибудь полутёмного ведомства, вроде РУОПа, отсюда и ноги растут. Дело нехитрое и многим доступное. Тот же РУОП берет тысячу долларов за выезд на разборки в качестве «крыши». Однажды я продавал недорого хороший гараж, подружился с покупателем; оказалось, он из РУОПа; он-то мне и предлагал услуги своего ведомства: «От крутых бандитов — отмажем. Выезжаем группой, с оружием; автоматы, все дела. Один выезд — тысяча долларов. На постоянной основе — по договорённости». То же я слышал от знакомого полковника, тот же тариф известен из других источников и моим знакомым. Раньше этим братва занималась, но не прошло и нескольких лет от начала нашей демократии, как эту функцию стали брать на себя многочисленные спецслужбы и их осколки — охранные предприятия, однако если последние являются структурами коммерческими, то первые — государственными, а государство слишком мало платит. Братва вообще сильно потеряла в весе перед облечёнными властью конкурентами; а кто сумел переступитьчерез понятие «хороший мент — это мёртвый мент» и нашёл общий язык с этим самым ментом, тот и поднялся, если можно так выразиться, на ступень выше традиционной братвы.
Но кому я понадобился теперь? Выстраивать защитные заслоны не хотелось, за тем ли я уехал из России, чтобы снова жить её проблемами. Уже месяц в Москве, пожалуй и хватит; здесь только начал снег таять, а там у нас зелёная трава; полечился от ностальгии, пора и честь знать.
В тот день мы приехали к Вовке на Садовое. Он и Сергей были рады моему приезду. Будучи давними знакомыми и, если не бизнесменами, то, как минимум, предпринимателями, обсуждали возможные совместные дела, выбирали, куда пойти выпить по рюмке, планировали разъезды по всяким текущим разностям, стараясь не показываться в местах, где у кого-нибудь из нас бы-вали проблемы. А были они у всех. Не слышал я, чтоб бизнес в России был без проблем. Вот и у Вовки в доме два охотничьих ружья, хотя не охотник он вовсе, и у Серёги есть; личной охраной время от времени все пользуются, хотя и обременительно. Привыкает русский предприниматель к опасности, как к хронической болезни: вроде с ней не сахар, но куда без неё.
Часом раньше Вовка сел за руль и, поддавшись хорошему настроению, заложил по московским улицам виражи, будто за нами гонятся. Необходимости в такой езде не было. Но это час назад, а сейчас зазвонил сотовый Сергея. Звонила его жена. Сергей потемнел:
— Генеральная прокуратура? Ты документы спрашивала? Переписала? Правильно. На какой машине уехал? Кого? Да мы и не виделись.
Так ситуация из теоретической стала для меня практической. Искать причины, недоумевать было некогда. Прежде всего покинуть Москву. Сергея — немедленно на поезд, в «командировку», машину в гараж. Вовкины координаты вряд ли известны: квартира новая и не наего имя.
И вот все готово. Последняя ночь в Москве. Не со всеми увиделся, не все сделал, но до того ли теперь.
Надо бы заснуть. Беру книгу, раскрываю наугад. «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой баш-ней… Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца ниссана».
Как ветер налетела тревога. Однако дальше. «Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны. Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок».
Да уж… Приехать было — смело. А уехать?
Спать. Завтра все будет хорошо. Кстати, какое сегодня число?
Глава 2. ОТЪЕЗД
Не рок головы ищет,
сама голова на рок идёт.
Утром стало ясно, что тревоги на душе нет. Есть страх. Такой же, как перед сложным восхождением, когда занимался альпинизмом; как предупреждение о реальной опасности. С тех пор, как в горы не хожу, — забытое чувство, возможно потому, что больше не было реальных опасностей, а были их подобия. Что же случилось сейчас, ведь серьёзных оснований нет. Нервы?
У подъезда в чёрном «мерседесе» — Вовка и води-тель.
— Поскромней машины не нашлось?
— Нет. Зато не сломается. Не волнуйся. Заберём сестру с малым, никто и внимания не обратит.
Заехали за сестрой в Чертаново. Вроде на хвосте никого. По Каширскому шоссе выехали из Москвы. Благополучно, не то что год назад.
Тогда, вот так же, как и сейчас, был в Москве, ни о чем особо не беспокоился, только появилось вдруг чувство — как будто на меня смотрят. По опыту знаю, что это такое. Стал присматриваться к зеркалам, так и есть: следят. Сразу к знакомым; стали ездить втроём. Все равно то же: ездят по пятам, на контакт не идут. Пришлось срочно уезжать подальше, да и как! — от хвоста ушли только километров через двести.
Сейчас — все спокойно. Вовка протягивает руку: «Поздравляю». Скоро граница. Незадолго до таможни остановились. Темнеет. Кругом мрачные поля. Вовка в раздумье:
— А что за проблемы могут быть? Все-таки Генпрокуратура.
— Не знаю, такого ещё не было.
— Может, пешком перейдём? По полю. Местные спокойно ходят. Граница только на карте. А на переходе — компьютер.
Заплакал ребёнок: «Мама, я устал!» Занервничала мама: «Володя! Сколько можно!?»
— Ну, так что? Идём? Или едем?
— Надо подумать. — Прислушиваться к себе нет необходимости: страшно. Вышел из машины. Курю на сыром ветру. Гаснет задёрнутое тучами небо.
Трусость… Один из самых… Нет, возражаю…
Сажусь в машину: «Едем».
Вернувшись ощущением назад, сейчас понимаю, что надо было послушать товарища. Элементарный расчёт — надо было идти пешком, что и понятно совершенно. Но — не пошёл. Если Судьба явилась лицом к лицу, всебудет только так, как будет, и не иначе. От судьбы не уходили даже боги.
Глава 3. КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Помнится резкая неприязнь к ребёнку с мамой, как будто причина в них, и по-другому, как пойти у них на поводу, нельзя.
Промелькнули длинным рядом одинаковые серые домишки посёлка, дорога нырнула в темень полей, и впереди показался пограничный пункт, как хуторок в степи, маленький и убогий. Казалось, за шлагбаумом дремлет в конуре какой-нибудь будочник гоголевских времён. По освещённой единственным фонарём площадке бродит дворняга. Шлагбаум открыт.
Остановились. Пришёл пограничник: «Куда едете?» Прямо едем. Дорога одна. «Приготовьте паспорта». Отдали. «Хорошая машина. Валюта есть? Надо заполнить декларации. Сейчас придёт таможенник». Пришёл. Распотрошил все сумки, осмотрел все углы. Пограничник принёс паспорта: «Это — чей?» Я: «Мой». Конечно, нервы. Лечиться надо. Сейчас, как дураки, месили бы грязи в полях. — «Заполните декларации и можете ехать». Заполнили. Опять пограничник: «Машину в сторону. Повторный таможенный досмотр. В машину никому не садиться».
Кольнуло. Говорил же, машину нужно попроще.
Ладно, не важно, сейчас поедем.
Деньги — пересчитали, печати, подписи — получили. Из таможенной лачуги выхожу с уверенностью: все в порядке. Если бы не закрытый шлагбаум и УАЗ рядом с нами, стоящий так, что не выехать. И шесть человек в камуфляже. Появился начальник КПП, подошёл ко мне:
— Гражданин Павлов, Ваши документы вызывают у нас подозрение, поэтому, для выяснения, мы передаём Вас правоохранительным органам. Возьмите свои вещи,следуйте в машину.
И тут раздался беззвучный колокольный звон: свершилось. Что свершилось? Едем. Куда? Мне в другую сторону. Вы кто, ребята в камуфляже? Какие сомнения в документах? — паспорт с пограничным штампом пересечения границы лежит в моем кармане. Так не бывает.
— Вы, собственно, кто и куда меня везёте?
— Приедем — узнаешь.
Над таким ответом можно задуматься.
— Я точно знаю, что мои документы в порядке.
— Ну и что. А ты знаешь, на какой машине приехал?
Кажется, действительно, приехал. Вопросов больше не задаю. Слушаю колокольный звон. И сквозь него: «Прибыли! На выход! Быстро!»
… Помню себя бегущим по какой-то сельской улице, широкой и слабо освещённой, то ли луной, то ли светом из окон. Сзади ругань, крики: «Стреляем! Стой!» Дорога скользкая — укатанный снег (откуда только взялся — в полях ни клочка). На бегу оглядываюсь: двое с пистолетами в руках за мной, остальные дальше, и расстояние между нами увеличивается. Нет, не остановлюсь. Хлопок. Другой. Если есть шанс, то он мой. Надо бежать зигзагом. (Позднее в Бутырке, в протоколе задержания прочёл следующие строчки. «Одним ударом сбив с ногстоящего рядом с ним слева милиционера, вторым ударом задержанный отбросил в сторону стоящего справа милиционера и побежал в сторону универмага». Оказалось, граница между Украиной и Россией проходит по середине главной улицы посёлка, а универмаг находится на Украине.) Помню, как потеряли подошвы сцепление с дорогой, будто взлетел над ней; как захотел изменить направление, но картина перед глазами в сторону не пошла, а, вопреки желанию, застыла и стала увеличиваться в размерах, определилась в виде больших деревянных ворот, в которые я с треском и врезался. Подни-маясь, под не стихающий колокольный звон, я понял, что не успею.
Первый удар армейского ботинка пришёлся мне в лоб. Потом началась гроза, пошёл необычно крупный град, и нет возможности подняться под его ударами; тошнота во всем теле: в руках, ногах, голове — везде. Вспыхнула молния.
Горная болезнь — вещь неприятная, коварная и опасная, но не настолько же. Кому скажешь — засмеют: на пяти-то тысячах, при полной акклиматизации; а то, что — со мной, — не поверят, как не поверит автогонщик, что может нажать на тормоз вместо газа. Конечно, бывает, тошнит, кровь из носа идёт, но всегда ж останавливается. Впрочем, внимание — выход на гребень. Переход со скал на лёд и снег всегда опасен. Хорошо, Славик фирменных кошек не пожалел на гору. Зря только сам не пошёл, променял такую гору на тренерскую дочь — не спортивно. Эх, ободрал уже кошки на скалах, но ничего, при розливе сочтёмся. Кричу:
— Женя, внимательно! Выдай верёвку! Выхожу на гребень!
То, что я увидел с гребня, требовало обсуждения. С юга, со стороны моря, невидимые до этого полмира закрыла чёрная гигантская туча, разделив небо, как добро и зло, на две части. Туча приближалась. Как бы ища поддержки, я повернул голову и посмотрел туда, где внизу застыл ледяной рекой и исчезал в дымке ущелья Безенгийский ледник. Из тучи полыхнуло, ударил гром, и, гулко перекликаясь с ним, посыпалась с окрестных гор на ледник белая пена лавин. Оказаться почти на вершине Джанги-Тау в грозу… Позже Слава с юмором рассказывал, как в базовом лагере (на километр ниже нас), когда началась гроза, он вылез из палатки и поспешил назад: по пуховке с треском побежали голубые огоньки.
Выбирая верёвку через вбитый в снег ледоруб, я думал, что скажет Женя, мастер афоризма. Остальные две связки ещё не подтянулись.
— Выбирай жёстко! — раздался Женькин голос. Вотпоказался он сам. Отдышавшись, задумчиво произнёс: «Здесь вам не равнина…»
— Жень, ветра нет. На вершину пойдём?
— Тебе жить не охота, а я в отпуске, — ответил он и стал готовить верёвку для спуска.
Буря налетела внезапно и страшно, как войско Чингиз-Хана. Горы погасли, как будто выключили свет. Крупный град забарабанил по каске до звона в голове. Одновременно с громом взорвалась невиданная молния, осветив невероятным светом все вокруг. В плечо больно ударил электрический ток. Над гребнем, голодно озираясь, как злой дух, и явно разумная, пролетела сгустившаяся в небольшой шар субстанция с глазами; увидев меня, она под острым углом изменила направление полёта, мгновенно приблизилась и торжествующе ударила меня в лоб. Что-то случилось и с Женькой: он скорчился и уткнулся лицом в снег. Тонко и противно зазвенели ледорубы и крючья. Мы оказались внутри грозы…
Навыки, доведённые до автоматизма, не подвели. Уже пять часов рвёмся вниз, почти не соблюдая правил безопасности. Каждую секунду — ожидание трагедии; вот она ударила над головой огромными раскалёнными металлическими ладонями, но промах: за это мгновенье мы спустились на метр ниже. Все собрались на какой-то скальной полке. В выборе пути трудности нет: молнии бьют так часто, что похоже на затянувшийся взрыв. Включается и выключается яркий день, в короткие промежутки темноты светятся наши зеленовато-голубые марсианские силуэты, светится верёвка, искрит и неустанно звенит железо. Кричать бесполезно, не услышишь сам себя. Кому-то на плечо опустился вспушенный клок зеленой ваты и прилип. Человек отмахнулся от него, как от наваждения, клок оторвался, лениво полетел сквозь бурю и исчез.
Вдруг стало понятно, что самое страшное позади, точнее наверху. Между молниями и громом появились короткие промежутки, стал слышен голос. Несколькосотен метров по вертикали вниз, и мы на леднике; на него сегодня, конечно, спускаться не будем (ночь, трещины, лавины); а вон там уже можно палатку поставить. На сегодня последняя верёвка спуска по скально-ледовому кулуару, чуть в сторону, на контрфорс, на нем снежная площадка. Спускаюсь последним. Два ледобура ввёрнуты в натёчный лёд всего на несколько сантиметров. Рывка, конечно, не выдержат, но, плавно нагружая верёвку, уже четверо спустились благополучно. Андрей возится у верёвки перед спуском: ничего не видно, уже приходится ждать молнии. Я в нетерпенье (признак отступившей опасности):
— Что ты там?
— Схватывающий вяжу. — Нашёл время. С самого верха шли почти без страховки, а тут надумал.
— Иди так.
— Нет.
— Тогда я пошёл. — Берусь за верёвку и, без всяких хитростей, спускаюсь по ней (узнай тренер — точно поеду домой), откачиваюсь из кулуара на контрфорс и —все, можно идти пешком. Иду. Вспоминаю: нижний конец верёвки не закреплён (ошибка тех, кто уже спустился). Нехорошо, не по правилам. Пошёл назад, взял оставленный конец верёвки, защёлкнул узел в карабин обвязки, воткнул в снег ледоруб, обернул вокруг него верёвку — что-то вроде шевеления совести. А теперь, если Андрей дёрнет верёвку, ледобуры могут вылететь, и он упадёт метров на тридцать, но его дурацкий схватывающий затянется, и у меня будет такой рывок, что страховка через ледоруб — не больше, чем надежда на чудо: выбьет, как пробку из бутылки, но уже вместе со мной. Впрочем, Андрей сейчас пройдёт, минутное дело.
Раздался треск, как от нескольких выстрелов, скорее разряда, чем молнии. Послышался звук бьющихся о стенки кулуара металлических предметов — это были кошки и ледоруб Андрея: он падал. Значит, ледобуры не выдержали.
Отчаянным сожалением промелькнула мысль, что не надо было пристёгиваться к верёвке. Навалившись на ледоруб, я ждал рывка. Через несколько секунд мы упадём на ледник. Страшно затошнило все тело: руки, ноги, голову.
После того, как Андрея ударил электрический разряд, он потерял сознание и упал. Схватывающий узел, который он так долго прилаживал к обледенелой верёвке, не затянулся, но, благодаря ему, Андрей повис в кулуаре на верёвочной петле. Рывок распределился на мой ледоруб и ледовые крючья, которые почему-то выдержали. Когда сознание вернулось к Андрею, он ничего не помнил и спрашивал, что произошло, почему он висит в пустоте. Я ответил не сразу, мне понадобилось время прийти в себя.
Глава 4. ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ
В себя я пришёл в «обезьяннике» — помещении, получившем такое прозвище за схожесть с клеткой: вместо двери крупная решётка; внутри спрятаться негде; уз-кая лавка вдоль стены, больше ничего. Все на глазах у дежурного. Живой и в милиции — не худший исход вчерашнего вечера. Судя по всему, утро: в комнате дежурного собралось совещание милицейского сброда, похожего на партизанский отряд. Пришли, шаркая сапогами, животастые мордатые мужики в полушубках и с автоматами; молодые, спортивного виду, коротко стриженные ребята в кроссовках, джинсах и «алясках» — куртках с капюшоном, отороченным искусственным мехом (писк советской моды двадцатилетней давности); несколько человек собственно в милицейской форме. Совещание повёл мужик в телогрейке, рабочих штанах и старых керзачах, которыми, похоже, месил глину для домашней стройки, а тут вот отвлекли дела важные. Но старшой оказался в авторитете: как только сказал «начинаем»,хор матерящихся сразу умолк, и мужик, неторопливо наслаждаясь своей значительностью, определил бригаде, кому нести чего куда. Закончили ритуалом сдачи-выдачи оружия. На меня, лежащего на полу в обезьяннике, никто не обратил внимания.
Прелесть феерии была очевидна, но проникнуться ею не удалось: обнаружилось несколько неприятностей. Во-первых, как с хорошего похмелья, болела голова. Во-вторых, голов было две, одна где обычно, другая над правым плечом, и как бы сама по себе. В третьих, болела именно правая; у той же, которая на шее, разбито лицо. Вообще болело все тело, и почти не работала правая рука, повисшая и едва контролируемая.
Рядом со мной на полу лежал полиэтиленовый пакет с моими вещами. У пакета был весьма замученный вид, за ночь он сильно постарел.
Глава 5. В ОБЕЗЬЯННИКЕ
Попробовал ходить по обезьяннику. Получилось. Похоже, кости целы. Одежда — грязная, как слоны топтали, рубашка в крови, во рту кровь, кулаки содраны.
Паспорт, декларация, протокол португальской полиции об украденных документах, деньги — все в кармане. Нашлась и пачка сигарет, одна из которых оказалась целой. Закурил. Видать, не запрещено, коль партизаны сами курят и окурки на полу топчут. Попробовал голос. К дежурному: «Как у вас насчёт воды?» — тот и ухом не повёл. Повторил вопрос: думал, не слышит. Результат тот же.
Все он слышал, только где было знать мне, неопытному, что самое главное чувство тюремщика — чувство собственного достоинства. Есть, правда, не обоснованное фактами, но подозреваемое мнение, что под досто-инством тюремщика скрывается не высокое духовное чувство, а некий половой орган. Прав был, быть может,старина Фрейд. Не во всем, не ко всем, конечно, но к тюремщикам — ах как был прав. А потому, и для рефлексии, к тюремщику надо обращаться многократно. Но деликатно. И в тоне не ошибиться. А то выведут тебя на продол, и будут потом сокамерники, затаив дыхание за тормозами, слушать глухие удары и как хрипит под ними принадлежащее тебе тело. Но не стоит обижать тюремщика, а воcстановив немедленно справедливость, отметить, что сомнения в качестве его чувства могут быть отнесены не только к нему одному.
Мимо ходили часто, на меня ноль внимания. Теперь что-то изменилось: по одному останавливались сотрудники благородного ведомства и с любопытством или страхом разглядывали меня. Пришёл некто в форме и страстно воскликнул:
— Как тебе удалось сто миллионов украсть!?
— Чего сто миллионов?
Вместо ответа мент безнадёжно махнул рукой и горестно, как о самом себе, убеждённо посетовал: «Матросская Тишина — обеспечена!»
Пришёл молодой, в «аляске»:
— Когда взяли?
— Вчера.
Мечтательно:
— Били?
— Били.
С гордостью:
— Хорошо, что не мочили!
Подошёл какой-то серьёзный. Доверительным шёпотом, как у своего, спросил:
— За что взяли?
— Пока не знаю.
— Да?
— Да.
Ушёл.
Усатый опер топтался перед клеткой, говорил с дежурным, а когда тот отвернулся к зазвонившему теле-фону, вдруг бросил мне пачку сигарет и сразу ушёл.
Открылась решётка: «Пройдёмте».
В присутствии понятых (алкоголиков, отбывающих «сутки») изъяли документы, деньги, шнурки и ремень, о чем составили протокол. — «И вот это подпишите: здесь основания Вашего задержания».
Глава 6. ПАХАН ИЛИ СЕАНС МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Вечером из обезьянника повели в подвал, который удивил чистотой и дурацкими, не к месту приляпанными, например перед дверью в туалет (служебный, конечно), голубыми занавесками в цветочек. Гудит кондиционер, воздух свежий, прохладный. Поставив меня лицом к стене, мусор открыл одну из металлических дверей (без занавесок) и велел зайти.
Вначале я не понял, куда попал: в нос шибануло горячей мерзостью, ни на что не похожей, и меньше всего на воздух. Дверь тотчас громко захлопнулась. Тусклая жёлтая лампочка висит в табачном мареве. Стены, пол, потолок — грязно-коричневые, чёрные. Напротив двери окно с решёткой и досками вместо стёкол. Под решёткой деревянный подиум на деревянном же полу. На подиуме сидят и лежат люди. Все курят. Посередине — ноги по-турецки, голый по пояс, живого места нет от татуировок — беззубо улыбается во мраке абсолютно уголовного виду мужик.
Глядя на меня, длинно и абстрактно отматерившись, вдруг как заорёт:
— А иди сюда!!
Ну, думаю, началось, вот он — пахан. А как говорить-то с ним. Я таких только в кино и видел. Пахан опять орёт: «Как зовут?!»
— Алексей.
— Погоняло есть?!
На всякий случай говорю: «Нет».
— Рассказывай, за что взяли!
Я к нему со всей серьёзностью, оробел прям:
— Не знаю.
— А что клеют?!
— Говорят, деньги украл.
— Сколько?!
— Сто миллионов.
— Рублей?! — порвёт на куски, если скажу не так.
— Долларов.
— А-а! Ну, тогда ясно! Присаживайся. Здесь не тюрьма, здесь мы все запросто! — Цифра пахана совершенно успокоила. И орать перестал и вопросы задавать, но говорил громко, радостно и не переставая, по тридцать раз в минуту вбивая в воспалённый мозг одно и то же слово — «уебашенный». Уебашенный мент; какой-то уебашенный Пыша, которому Коля (пахан) дал с ноги, после чего уебашенный Пыша упал как уебашенный; уебашенный грузовик и так далее, до бесконечности. Всю душу вкладывал Коля в это слово.
Голова шла кругом, в прямом смысле: тошнотворное чувство не быстрого, но непрестанного вращения на широкой тёмной карусели, не проходящее странное ощущение двух голов, из которых болит лишь одна, и карусель стала вдруг наклоняться, подошвы поехали вниз, зацепиться было не за что.
— Давай-давай, здесь лежи, — вполне по-человечески говорил Коля, подкладывая мне под голову что-то заменяющее подушку. — Вот, водички выпей. Колёса есть. Пей, пей, помогает.
— Да меня малость…
— Вижу, не слепой. Менты — они ж уебашенные! Пройдёт! Привыкнешь!
На спине лежать тяжело: меж лопаток будто клин забит, руку бесхозную никак не пристроить. Головная боль не даёт думать. Утешение одно — когда-нибудь пройдёт. Тогда ещё не знал, что ближайшие полгода мыбудем неразлучны, и хорошо, что не знал, потому что ещё не привык.
Что были за колёса, так и не спросил, но заснул крепко, впервые от того московского вечера, который был так давно, теперь уже в прошлой жизни.
Футбольный матч проходил в Бразилии, на стадионе Марокана. Я играл за сборную Франции. Замечательное зеленое поле, яркие жёлтые и синие майки игроков. Трибуны забиты до отказа. Никого из своей команды я не знаю, и как попал в сборную, тоже неизвестно. Игроки — рослые атлеты, я же в сравнении с ними как ребёнок. Майка мне явно велика, достаёт до колен, трусы тоже длинные и широкие. Наша команда атакует. Долго бегу к посланному мне низом на выход мячу. Нет, не догоню. Но соперник зачем-то нарушает правила: сбивает меня с ног. Штрафной удар. До ворот далеко. Мяч тяжёлый, его бы с места стронуть. Явно не смогу даже добить до ворот.
Ухожу от мяча подальше, долгий разбег, от навалившегося чувства ответственности слабеют ноги. Бью по мячу, он не летит — катится по траве мимо выставленной стенки в сторону ворот. Охватывает отчаянье: разве это удар. Вратарь смотрит на мяч и не трогается с места: не долетит. Однако мяч катится в дальний угол ворот, вратарь, опомнившись, делает запоздалый бросок, но поздно: гол! Ко мне подбегают могучие атлеты, поздравляют, хлопают по плечам, спине. Стадион взрывается яркими красками.
Хлопнула кормушка: «Хлеб получать! Чай». Настало ивээсовское утро.
Выдали по полбатона чёрного и «чай» — тёплую воду в пластмассовых жирных, плохо вымытых тарелках.
Коля Терминатор, не успев глаза продрать, заорал во всю глотку:
— Ага! Чай! Вася, стой, дело есть!
Дежурный мент весело откликнулся за дверью:
— Какое дело?
— Вася, сделай нам кипятку, чайку хорошего заварить!
— Ладно! Сделаю! — с героическим задором отозвался «Вася», и впрямь скоро принёс в пластиковой бутылке кипяток.
Без промедления Коля сделал чифир. Мне: «Чифиришь?» — «Не пробовал». — «Будешь?» — «Нет». Кружка пошла по кругу, по два глотка за раз. Коля замлел:
— Вася!
— Что ещё? — по тону ясно, что «Вася» лимит доброты исчерпал, хотя с Колей они знакомцы и чуть ли не соседи по посёлку. Тут все, кроме меня, местные.
Коля с чувством:
— Хороший ты мент, Вася! — И благодарно: «В хорошем гробу поедешь!»
«Вася» не только не обиделся, но просто-таки чувствовалось, как он там, за дверьми, польщён. (В Бутырке за такие слова могут убить).
Послышался собачий лай взахлёб. Открылась дверь: «На коридор! Проверка!» Один мент с автоматом, другой двумя руками еле сдерживает на поводке рвущуюся на нас, потерявшую от злобы достоинство немецкую овчарку. В прохладном ярком коридоре собачий лай и свежий воздух оглушают. Пришёл начальник ИВС: «Просьбы? Жалобы? Нет? Заходим». Глоток воздуха — и выдыхать не хочется, но дверь захлопывается и — надо дышать. Алкоголики-суточники сменили парашу — огромное помойное ведро, каких и на помойке не сыщешь.
— Ну, я пошёл на дальняк, — решительно и с удовольствием объявил Коля, снял ботинки, приладил их на край параши подошвами кверху — вот и сиденье готово.
Вентиляции в камере нет. Есть маленькая щель у двери, как раз на уровне носа; через неё проникает струйка свежего воздуха и тут же уходит через эту же щель назад, как бы не выдержав здешней атмосферы.
Решил, что, пока могу, буду ходить. Движение — это жизнь. Так и приловчился, ковыляя по камере, делать вдох, подойдя к воздушному родничку, и выдох, уходя назад. Большое подспорье.
Познакомился с гусекрадами и куроедами. Один по пьянке свернул шею соседской утке. Другой проник, по той же причине, в чужой курятник, оторвал головы всем курам, погрузил их на тележку из того же сарая и повёз раздавать знакомым, не оставив себе ничего. Потерпевшим на воле уже возместили ущерб, и заявления свои потерпевшие забрали назад, но один из парней уже получил «объебон» — обвинительное заключение и ждал суда; другой, придя с вызова от следователя, в отчаянье восклицал: «Да где же я полштуки возьму?! Я ему — мешок сахара возьми, а он — мало. Опять, блядь, на зону поеду!» Коля же с подельником чувствовали себя бодро. Коля говорил, подельник cлушал. И так каждый как бы был при своём, и как-то шло бесконечное время.
С неработающей рукой надо было что-то делать. Меж лопаток явно не на месте позвонок. С тех пор, как однажды, после неудачной тренировки, я стал постоянным клиентом специалиста в области мануальной терапии, — приёмы её мне известны, но как ими пользоваться… Оставалось довериться интуиции и случаю. Прислушался к себе. Нужно принудительное скручивающее движение корпуса, но в какую сторону?.. Последствия могут быть необратимы. Виктор (отрывавший курам головы) внимательно выслушал, что ему предстоит сделать.
…Хрустнуло громко, на всю камеру. Однако сквозь ожидание худшего, стало понятно, что клин из спины ушёл и — сразу заработала рука! Наблюдавший за операцией Коля, на время прервавший свои бесконечные тирады, развёл в изумлении руками: «Ну, ты, Вась, в натуре доктор!»
Глава 7. МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Вызвал к себе начальник ИВС, вежливо говорил, что он не знает, виноват ли я, что человек он маленький, вот приедет за мной Генпрокуратура, отвезёт в Москву, «там разберётесь»; факс из Москвы с обоснованием моего задержания читать мне сейчас не обязательно, да и нет его здесь, факса, все будет там — в Москве, и адвоката дадут, и к врачам можно будет обратиться, а здесь деревня, все ушли на фронт так сказать. То есть он, начальник ИВС, собственно, и не в курсе, его дело: принял, сдал. Стало ясно, что путь на волю лежит через тюрьму. Поделился мыслью с сокамерниками. — «Так привыкай к тюрьме! — радостно отозвался Коля, — здесь, конечно, ещё не тюрьма, но уже и не воля». Что же такое тюрьма? Ещё хуже? Рассказы о ней пугали мрачным разнообразием, там-то так, а там этак, но, по всему, Москва — Бутырка и Матросска — хуже всего. — «Да ты не бойся! — говорил Коля. — Везде люди, а в тюрьме тем более!» Вот именно это и вызывало сомнение.
— Коля, а как себя вести в тюрьме?
— Да обычно! — радовался Коля. — Будь самим собой, вот как здесь, ты же среди людей! А если какой уебашенный попадётся — не обращай внимания — сам отстанет!
— Коля, а как в камеру заходить?
— Да обычно! Ногами! Как заходил. В хате скажешь: «Привет, мужики!» А там у старшего все узнаешь.
— Какого старшего?
— Да у смотрящего! Он все расскажет и на пальму определит. Да сам увидишь!
Что за хата, куда смотрящий, и на какую пальму, спрашивать уже не стал: сам увижу.
— Главное, — вступил в разговор парень с этапа, — меньше говори, больше слушай. Давай в дурачка пере-кинемся, — и достал рисованную на картонках от «Примы» колоду.
— Давай, — решил отвлечься я. — Только играть будем просто так.
— Просто, так просто, — отозвался этапник. — Значит, просто?
— Да.
Тут вкрадчиво подключился Коля:
— Вась, а если проиграешь?
— Это Учителю-то? — Прозвище «Учитель» сразу пристало ко мне, когда упомянул, что раньше работал в школе.
— На то учитель, чтоб учить…
Парень слегка засомневался:
— Ладно, играем без интереса.
— Какая разница, — возразил я. — Что просто, что без интереса.
— Просто — это… — парень выразительно похлопал себя по заднице.
— Ну, а если проиграл?
— Тогда бы выкуп.
— А если не на что?
— Тогда плохо.
— Да здесь не тюрьма! — подвёл итог Коля. — А лучше вообще не играй.
Счёт дням в камере потерялся быстро. Ни дня, ни ночи, только лампочка под потолком; хлеб, «чай», проверка с собакой, обед, «чай» — все сливается в тёмную ленту; проснувшись, думаешь, что сейчас проснёшься ещё раз, и снится какой-то грязный сон: то ли ты на помойке, то ли в общественном туалете. Привязка к реальности — сигареты. Выяснилось, что товарищи милиционеры не лишены гуманности, и им можно заказать купить на отобранные деньги что-либо на рынке. Заказал лекарства, сигареты, одежду. Действительно купили. Увидев россыпь пачек «Мальборо», сокамерники прониклись уважением, как будто от того, какие сигареты якурю, что-то меняется (позже узнал, что это важно, по типу того, в какой одежде ходишь на воле).
Стал приставать с расспросами подельник Николая Костя, косящий под простачка, но себе на уме. И говорить тошно, и не говорить нельзя, это уже усвоено: «надо общаться». А Костя прилип как банный лист и, в конце концов, душевно-предушевно говорит: «Алексей, дай мне твой адрес, я тебе письмо напишу». Я в ответ, тоже благожелательно: «Мой адрес не дом и не улица».
— Вот это верно! — с восторгом вынырнул из мрака Коля Терминатор (такое у него оказалось прозвище) — А во как сказано! Пр-р-равильно! Ни р-родины, ни флага!
Костя же смутился и с расспросами отстал.
Глава 8. КАК ХОРОШО БЫТЬ ГЕНЕРАЛОМ ИЛИ ПРЕСТУПНАЯ ФИЛОЛОГИЯ
«Посмотрим на него!» — раздался за дверью начальственный голос, затем услужливый отклик: «Конечно, здесь! Живучий как собака». Открылся глазок, и кто-то долго пялился в него.
— Павлов, на коридор! Руки за спину. Пошли.
Свежий воздух, яркий свет. Кабинет начальника. Плёнка кино перескочила на следующий кадр, и трудно поверить, что полминуты назад было по-другому.
— Здравствуйте, гражданин Павлов. Я — старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, государственный советник юстиции третьего класса генерал Суков. — За столом сидело крупное добродушное воплощение законности в синем мундире с генеральскими погонами. Генерал не скрывал своего счастья. — «Садитесь. Мои полномочия удостоверяются соответствующими документами и имеющимися у меня бумагами. Для того чтобы у Вас, Алексей Николаевич, не было сомнений в за-конности проводимых действий, здесь присутствует адвокат местной юридической консультации товарищ Иваненко». Одетый в старинный сюртук с обсыпанными перхотью плечами, товарищ Иваненко смотрел широко распахнутыми глазами, в которых был страх, и ничего более; бедняга даже забыл закрыть рот. Начальник ИВС поднялся: «Наверно, я могу вас оставить, товарищ генерал?»
— Да. Я думаю, у гражданина Павлова нет сомнений в достоверности моих полномочий.
— Дверь оставить открытой?
— Нет, можете закрыть. Я полагаю, глупостей не будет. Да, Алексей Николаевич?
Это он, кажется, ко мне. Контраст воздуха и света отозвался звонкой головной болью. Медленно и тяжело подступал сердечный приступ.
— Состояние вполне понятное, — послышался удовлетворённый голос генерала, вслед за тем, как мне удалось схватить рукой и притянуть назад попытавшееся ускользнуть в сторону сознание. — Если хотите, можете курить. Угощайтесь: московские. «Золотая ява».
— Спасибо, я — «Мальборо».
— Ну, конечно, — закивал генерал, — понимаю. Вы же очень богатый человек.
— Я бы не сказал.
— Вы и самолёт себе можете купить. Ещё не купили? У Вас есть самолёт? Да, Алексей Николаевич, честно скажу: трудно пришлось с Вами, без ФСБ и контрразведки могли бы не справиться. У нас собрано достаточно улик и доказательств, позволяющих предъявить Вам обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьёй 160, часть 3 Уголовного кодекса РСФСР, — хищение государственного имущества в крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Данное преступление карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Я предъявляю Вам обвинение, и, по закону, обязан допросить Вас. Вот по-становление о привлечении в качестве обвиняемого, вот постановление об объявлении Вас во всероссийский розыск, о применении меры пресечения — взятии под стражу. Как видите все санкционировано заместителем Генерального прокурора, вот печати Генеральной прокуратуры — настоящие! Ознакомьтесь.
Читаю. Содержание отдалённо похоже на то, что было в факсе, и не похоже ни на что, хоть отдалённо напоминающее разум.
— Могу я получить копии подписанного мною факса и предъявленных мне сейчас постановлений?
— Конечно, Алексей Николаевич, только не копии — имеете право переписать, но сначала надо поставить подпись.
— Дело в том, что я не согласен.
— С чем? С обвинением или поставить подпись?
— Ни с чем. Я имею право отказаться?
— От дачи показаний — да, имеете право отказаться, но обвинительные документы надо подписать, Вы же ознакомлены. Вот, товарищ Иваненко может подтвердить, — Суков повернулся к нему. Иваненко, заглатывая воздух, стал повторять: «От дачи показаний имеете право отказаться, но документы следует подписать — Вас ознакомили».
— Хорошо, подпишу.
— И число поставьте: 14 марта 1998 года.
— А какое число сегодня?
— 20-е, но Вам же предъявили факс?
— Да.
— На нем стоит 14 марта. Документы одни и те же. Должно быть единообразие. Значит, и здесь нужно поставить 14-е.
— Хорошо, — сказал я и поставил число: 20 марта 1998 года. Генерал и бровью не повёл.
— Гражданин Павлов, я обязан задать Вам вопрос. Вы признаете себя виновным?
— Нет.
— Может, частично?
— Нет, ни в чем.
— Как же ни в чем? Следствие установило, что, находясь на посту Президента Международного инновационного банка, Вы, используя служебное положение, совершили хищение госимущества в размере 112 миллионов долларов США в период с февраля по август 1995 года. Срок давности по таким преступлениям не существует.
— Но в указанный период я не работал в банке.
— Работали, Алексей Николаевич, — ласково возразил генерал, — работали! Если бы я этого не установил, я не был бы генералом. Гражданин Павлов, сейчас я задам Вам несколько вопросов. Ответы имеете право записать собственноручно.
— Я бы хотел сначала воспользоваться своим правом переписать документы.
— Сегодня уже поздно, Алексей Николаевич, сейчас ночь. В Москве перепишите.
— С Вашего позволения, Ваши вопросы я выслушаю тоже в Москве.
— Хорошо. Все предъявленные Вам документы — в нескольких экземплярах. Подпишите их, они идентичны.
— Исключено.
— Почему? Вы обязаны.
— Потому что, руководствуясь остатками здравого смысла, я убедился в своём предположении, что Ваши действия ничего общего с законом не имеют, и я постараюсь это доказать.
— Алексей Николаевич, а кто Вы по образованию?
— Учитель русского языка и литературы.
Вот тут генерал удивился:
— Да что же это такое, что ни обвиняемый, то филолог! Вы знаете, после перестройки люди с филологическим образованием часто бывали у меня обвиняемыми в тяжких преступлениях. Вы будете давать показания?
— Нет.
— Ну, хорошо. У Вас есть время подумать. Когда надумаете, обратитесь ко мне письменно. Вас привезут ко мне. Напишите чистосердечное признание. Но только Вы — сами. Я к Вам уже не приду.
В камеру я возвращался думая о происхождении генеральской фамилии. Хлопнула за спиной дверь, и плёнка кино съехала на кадр назад.
Глава 9.
«Гоненье на Москву…»
ПушкинНе успели сокамерники поверить, что за мной приехал генерал, как отворилась дверь: «Павлов, быстро с вещами на выход!» Вышел и тут же — в другую дверь. Тоже камера, только свет яркий, холодно и можно дышать. По камере нервно ходит парень. Больше никого. Познакомились. Его только что взяли на границе с КАМАЗом контрабандного спирта. Всегда ездил, все хорошо было, а сегодня патруль в чистом поле, сапогом по ноге ударили, денег предлагал — не взяли, а раньше брали, папа на Украине большой человек — начальник зоны, должен вытащить, позвонить уже разрешили, четыреста рублей дал за звонок, что будет теперь? — клопов здесь много, выгодное это дело — спирт, за несколько лет заработал на квартиру в Киеве и машину, ни в чем себе не отказывал. В общем, все рассказал, на что, наконец, я и обратил его внимание. Парень изумился: «А ведь правда!» — «Вот и давай, — говорю, — о другом». Симпатии не испытываю, но что-то похожее на сочувствие есть. Позже, в тюрьме выяснилось, что это — арестантская солидарность. Стали обсуждать тему клопов, она оказалась актуальной: стоило присесть на полу, как сразу появлялись клопы и, проникая под одежду, как штурмовики в осаждённую крепость, нещадно кусались.Пришлось всю ночь ходить по камере. Под утро стало невыносимо. Расстелили куртки, легли. Нет, невозможно: клопы, как солдаты по команде, сбежались в таком количестве, что мы стали похожи на муравейник.
— «Павлов, с вещами на выход!» — Что-то рано, ещё хлеб не дали. Куда? Все равно, от клопов бы подальше. А, это знакомо — обезьянник. Лёг на пол, тут же заснул.
— Как спалось, Алексей Николаевич? — с издёвкой спросил генерал. В комнате дежурного ещё двое в гражданском, с пистолетами в кобуре под курткой, и начальник ИВС. От всех густо несёт перегаром, похоже у них была трудная ночь. Суков распоряжался как перед боем: «Слава, ты слева — наручники. Толя справа, чуть сзади. Внимательно. При попытке к бегству стрелять без предупреждения и без моей команды. Все ясно? Через десять минут на выход».
— Спасибо за гостеприимство. Приятно быть Вашим гостем, — прощался Суков с начальником ИВС. — Желаю всего хорошего.
— А как Вам, Владимир Юрьевич, наш ИВС?
Генерал стал добродушен, как вчера:
— Образцово-показательный.
— Правда? — заискивающе-польщенно осведомился начальник.
— Честное слово. Сколько видел ИВС — этот лучший.
Слава застегнул наручники на моей и своей руке, и мы пошли на улицу. Почему-то машину не подогнали ко входу, надо метров сто идти. Снег. Весенний воздух. Свет. Ведут быстрым шагом. Сбоку трусцой передвигается местный в штатском:
— Всего Вам хорошего, Алексей Николаевич. Надеюсь, у Вас нет к нашим сотрудникам претензий?
Да это прямо цирк какой-то. Отвечаю не глядя: — Смотря к кому.
— Но ко мне-то у Вас, Алексей Николаевич, — комне! — нету претензий?
Пёс бы тебя побрал. Поворачиваю голову: это ж усатый, что сигарет мне в обезьянник бросил.
К поезду повели в сопровождении несметного количества характерных людей в штатском, растворяющихся в пассажирской массе по мере приближения к вагону. В вагоне — дверь на защёлку, Слава с Толей по бокам, Суков напротив, окно собой закрыл милиционер.
Поезд тронулся. Когда он ещё трогался так безнадёжно, куда везёт этот поезд, и почему я еду в нем. Я, кто всегда считал, что главная свобода — это свобода передвижения в пространстве, что нет без неё жизни, должен теперь, волею судеб, проверить — а может быть, все-таки есть?
Минут через двадцать все успокоилось. Невиданного покушения неведомых сил отбить меня у конвоя не состоялось, новоиспечённый государственный преступник благополучно следовал по рельсам правосудия, а генерал приближался к недосягаемым доселе звёздам, не иначе как опасаясь взглянуть на собственные плечи, чтобы не ослепнуть от сияния наикрупнейших знаков государственного отличия.
— Ну, давайте ко мне по одному, — скомандовал генерал, и мои провожатые потянулись по очереди в соседнее купе, после чего от них запахло уже не перегаром, а живой водкой. Воодушевившись, конвоиры освободили меня от наручников и, прижав боками за столом у окна, толковали о своём: как задержатся на денёк в Ростове (генерал хочет погостить), о том, как задолжали шефу сто рублей, а пьют на свои, не на казённые; что надо на станции купить сушёной рыбы побольше, чтоб домой хватило. Если же речь заходила обо мне, то генерал говорил, как об отсутствующем — в третьем лице. Толя — высокий блондин с оттенком романтизма на лице. Слава — похож на уголовника: руки в наколках, по-ходка развязная, выражение лица порочное. Оба вежливы и предупредительны. Задают массу мелких вопросов, стараясь чуть ли не угодить. Почти не отвечаю, ограничиваясь «да», «нет». Выводят в тамбур курить.
Толя:
— Алексей Николаевич, это правда, что Вы альпинист?
— Бывший.
— Сколько лет в горы ходили?
— Пятнадцать.
— И на какой высоте бывали? — этот вопрос задают все, кто не знает, что высота в горах не главный показатель трудности маршрута. — Вы не подумайте, Алексей Николаевич, это мы так, по-человечески спрашиваем — интересно, как высоко бывали.
— Не очень.
— А не очень — это сколько?
— Семь тысяч.
Слава:
— А правда, что Вы учителем работали?
— Правда.
— И каратэ занимались?
— Да.
— Суков говорит, Вас курить по одному не водить, а то он, — (я то есть), — каратист, и уроет запросто, — в глазах Славы загорелся интерес. — Правда, можете?
— Уже нет.
— Почему? Здоровье?
— Да.
— А раньше могли? Урыли бы? — заглядывая в глаза, допытывался Слава.
— Обязательно.
Подумав, Слава приблизил своё лицо к моему и сквозь спиртной дух зашипел:
— Ну, так вот, Алексей Николаевич, Вы мастер альпинизма и каратэ, а я мастер по стрельбе, — глаза его потемнели, как будто исчезли зрачки. — И если дёрне-тесь, я Вас застрелю.
Путешествия в соседнее купе время от времени про-должались. Милиционер с генералом вообще забыли обо мне, а Слава с Толей уделяли все больше внимания: «Удобно ли Вам, будете ли есть, не хотите ли пить?»
— «Алексей Николаевич, пойдёмте покурим» — предложил Слава. Это что-то новенькое. Ладно, пойдём. В коридоре: «Не надо руки за спину». Хорошо, не надо так не надо. В тамбуре закурил. Слава с Толей — нет. Совершенно очевидно: что-то они решили. Заговорил Толя:
— Мы хотим Вам сказать. Нам приходилось брать разных людей, и не всегда виноватых. Мы хотим, чтобы Вы знали. Честно говоря, у нас нет на Вас ничего. То, как Вы держитесь, нам нравится. Если что не так — Вы нас извините. Но если об этом разговоре Вы когда-нибудь кому-нибудь скажете, мы Вас убьём.
Открылась дверь, появился Суков:
— Вы что его все курить таскаете! Пореже. Зайдите ко мне.
На следующий перекур пошли в другой тамбур, противоположный от купе Сукова.
— Не знаем пока, куда тебя направят, — Слава перешёл на «ты», — в Бутырку, Матросску или Лефортово. Неясно, за кем будешь числиться. Если за ФСБ, то в Лефортово, если за МВД, то в Матросску. А в Бутырку лучше и не попадать.
Поезд остановился на какой-то солнечной станции. По перрону спешили торговки: «Пиво! Огурчики! Картошка!» Вспомнил, что во рту уже с незапамятных времён ни маковой росинки. Но есть не хочется. Пива бы. Наверно, вслух сказал, потому что резко оживился Слава:
— Пивка хочешь? — и стал размышлять.
— Потом сказал: «А куплю я Алексею Николаевичу пива».
— А если шеф… — начал Толя.
— Беру на себя, — ответил Слава.
Пиво пролилось на жажду, как холодный дождь нагорячую землю. Cлава с Толей смотрели на процесс, как на действо: не отрываясь, с жгучим пониманием; несомненно, пиво — это очень важная часть их жизни.
— Как самочувствие? Голова ничего? Болит? Да ты вообще на больничку съедешь в тюрьме!
— Не съеду.
— Нет, — возразил Слава, и со значением выговорил каждое слово, — ты обязательно в тюрьме съедешь на больничку.
Толя ещё на «ты» не перешёл:
— У Вас адвокат есть?
— Нет.
— А где думаешь взять? — встрял Слава. — Мы ж тебе хуевого адвоката дадим.
— Посмотрим.
— Без своего плохо, особенно в Бутырке. Я сам там сидел, недолго правда. Долго — тяжело.
Допиваю пиво, курю.
— Нет, Алексей Николаевич, ты меня не понял, — и с расстановкой, — я был в Бутырке. В общей камере. По работе.
Открылась дверь, в тамбур зашёл Суков и растерялся: «Вы что… Вы бы ему ещё водки налили. Зайдите ко мне».
На вторую полку сам я залезть не смог: боль в пояснице преодолеть не удалось. Зато голова уже одна, и болит не смертельно. Суков лично пристегнул меня несколькими наручниками за руки и ноги к разным ручкам так, что тело оказалось скрученным и частично подвешенным над полкой, затянул наручники и остался совершенно доволен:
— Ну, зайдём ко мне и отдыхать.
В купе заглянула проводница с веником в руке и, сгорая от любопытства, спросила: «Ребята, можно я у вас мусор уберу?» — и сразу стала подметать. Краем глаза я видел, как насупился милиционер:
— Вы и нас тогда заодно уберите.
Женщина выпрямилась и виновато-радостно воскликнула:
— Ой, простите! Я совсем забыла, Вы ведь тоже — мусор!
Удержаться от смеха не удалось; видимо, поэтому до самого Ростова пришлось висеть в туго затянутых наручниках.
Долго ли, коротко ли, а в Ростов все-таки приехали. «А мы думали, Вы шутите» — сказала проводница, увидев меня в наручниках, а Славу с пистолетом. С поезда прямо на перроне пересадили в «Волгу» и в сопровождении нескольких «Жигулей» повезли куда-то в центр. Перед подъездом без вывески оставили в машине одного, пристегнув к ручке над боковым стеклом; чтоб не скучал, включили магнитофон: лагерные песни.
«Не печалься, любимая, За разлуку прости меня. Я вернусь раньше времени, Дорогая, прости»…Романтическая у них профессия. Сами романтики появились через несколько часов. Главный романтик, по-прежнему, как нет меня, говорил: «Не примет его ростовская тюрьма. Поехали в аэропорт, попробуем с милицией договориться». В аэровокзале поместили в маленькую одиночку с окошком из плекса. Пара шагов туда, пара шагов сюда. Дежурный с автоматом на вопросы не реагирует. Тишина вперемешку с головной болью звенит в ушах. Холодно. Сигарет взять не разрешили. Анальгин кончился. Зато лавка есть, можно как-то лечь.
Космическая экспедиция на Марс. Экипаж — добровольцы. Пресса не оповещена. Возвращение не планируется. Я — капитан экипажа. Старт с Байконура. Отсчёт закончен, корабль пошёл. Сумасшедшая перегрузка. На грани потери сознания ощущаю набор космической скорости. Надо держаться. Зачем? Пока жив, значит, надо. В широкий иллюминатор смотрю на космическую бездну. Уже ничего не связывает с Землёй, только голос Высоцкого:
«Вы мне не поверите, а просто не поймёте, Ведь в космосе страшнее, чем в дантовом аду. Мы по пространству-времени прём на звездолёте, Как с горы на собственном заду!»Ночь, день, ночь. Приехали гвардейцы кардинала. Над генералом разве что не зелёный нимб светится, Слава с Толей на бомжей похожи. Торопятся: на самолёт опаздывают. Суков Славе:
— Ты пистолет свой нашёл?
— Нашёл.
— Поехали. — Это, надо полагать, дежурная шутка.
По лётному полю к самолёту пешком. Очередь у трапа расступается, пассажиры отводят глаза. Сегодня будут рассказывать: опасного преступника везли в наручниках; наверно, только что поймали: конвоиры такие грязные, отмыться не успели.
Раньше в самолёте не всегда удавалось сесть у окна. На сей раз по-другому и быть не могло. Пошли на взлёт. Небо. В Москву. Вообще-то, мне туда не надо. Так все же почему? Может быть, я не хочу, а на самом деле надо. Или все-таки хочу? По крайней мере, хотел. Разве не думал, бродя по Лиссабону, что не хватает чего-то в жизни, которая всегда была преодолением (и в том было удовольствие), разве не размышлял о том, каких невзгод ещё не испытал в этой жизни. Помнится, именно о тюрьме думал, как Лев Толстой когда-то: «Жаль, не посидел, а мне-то надо было». До исполнения желаний далеко ли. Вот и посидишь. А что если желание поменять: вот не хочу теперь! Нет, первое слово дороже второго, посидишь — потом хоти. Изменить можно будущее, но не настоящее.
Глава 10. СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
В самолёте одолел сон. Открыл глаза — отчётливо видны крыши домов, дороги, леса. И все залито солнцем.
Когда светит солнце, пропадают невзгоды, горести и боли, вопрос о смысле жизни неуместен; солнечный свет рассудит всех.
Прямо с трапа — в «Волгу» и с двумя «Жигулями» сопровождения, с сиренами и мигалками, распугивая встречные машины, поехали в Москву. Что будет в конце поездки — думать не хочется. Растянуть бы минуты, запомнить бы солнце, постоять под ним перед надвигающимся мраком, не слышать бы голоса Сукова, дорвавшегося до служебного мобильного, без умолку звонящего то домой, то знакомым, то на службу. — «Куда его?» — спросил Слава. — «В музыкальную шкатулку — Матросскую Тишину, — довольно ответил Суков. — За мной будет числиться. Знаменитая тюрьма, там все Герои России сидели. Да и концы там все схвачены». Вдруг «Волга» потеряла ход, скорость упала, мотор заглох. — «Ремень порвался» — сказал водитель. Вышли на обочину Киевского шоссе. Одна машина уехала за ремнём.
Ну, вот и солнце… Ранняя весна. Пешком отсюда часа три до дома. А если пойду через Очаково, дольше будет? Нет, не пойду. Нынче я на цепи, как собака, у какого-то пьяного Славы. Не пойду я сегодня, а поведут меня, и, чует сердце, в недоброе место.
Привезли ремень, поехали. Потянулись знакомые хоженые-перехоженные, езженые-переезженные проспекты, улицы, набережные. И время замедлилось, и все позабылось. Вот Москва и жизнь кругом, и где-то есть те, кто меня ждут. Есть солнечный свет.
Глава 11. МАТРОССКАЯ ТИШИНА, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
«И на протяжении всего этого времени одна часть моего существа с любопытством наблюдала за происходящим, вовсе не думая, что я могу умереть. Вторая же часть была страшно напугана и в панике вопила: „Мне все это совсем не нравится. ЧТО Я ЗДЕСЬ ДЕЛАЮ?“
Р. Бах, «Дар крыльев».«Оставь надежду, всяк сюда входящий!»
ДантеЭти слова Данте я впоследствии не раз слышал от арестантов, которые и не читали «Божественной комедии», но были прямыми её участниками. А пока, суть да дело, доехал наш кортеж до улицы с поэтическим названием Матросская Тишина. Раньше здесь был приют для моряков, инвалидов русско-японской войны, теперь этим названием можно пугать детей.
— Приехали, Алексей Николаевич, — сказал Суков. — Ваши апартаменты готовы. Но если Вам не понравится, можете в любое время обратиться ко мне письменно через администрацию. В моей власти изменить меру пресечения. Вам нужно только написать три слова: «Признаю себя виновным». И, повторяю, я к Вам уже никогда не приду. Только Вы ко мне. До встречи.
— Железные ворота «шлюза» поехали в сторону, закрылись за спиной, и свет померк. Конвоиры сдали оружие, сняли наручники, завели меня в длинный обшарпанный коридор с множеством одинаковых металлических дверей по обеим сторонам, за которыми, впрочем, не слышно ничего. Пахнуло казёнщиной, антисанитарией и безнадёжностью. — «Тебе — туда, — указал Слава на другой конец, где в сумраке вдали виднелось белесоепятно окна. — Будешь жаловаться — я к тебе сам в камеру приду. Кости переломаю». Сказал и скрылся за дверью вместе с Толей и генералом. Откуда-то появился, нетвёрдо ступая и блаженно улыбаясь разбитыми в кровь губами, голый по пояс татуированный кавказец; остановился, с интересом разглядывая меня глазами с огромными зрачками:
— Ты когда пришёл?
— Сейчас.
— А-а. Значит, вместе будем. Пошли к врачу. — Что-то не хочется вместе: вдруг сумасшедший. Не так здесь и тесно, если зэки запросто гуляют по тюрьме. Тогда я ещё не знал, что с официальной процедурой приёма в тюрьму эта ситуация не имеет ничего общего, что привели меня, можно сказать, через чёрный ход.
— В конце коридора — опять Суков, Слава, Толя. В отгороженной решёткой части сидит за столом, забрызганном кровью, ярко накрашенная молодая женщина в грязном белом халате:
— Гусейнов, руку давай. Где вены? Наркоман?
— Да, — улыбнулся кавказец.
— Ладно, — женщина с сожалением достала из кармана иглу в упаковке; раскрыв, проколола с сухим треском вену на кисти руки Гусейнова. — Отойди. Следующий. Фамилия.
— Павлов.
— Имя, отчество.
— Алексей Николаевич.
— Год рождения, число.
— 1957, 27 октября.
— Статья.
— Не помню.
— Должен помнить.
— Кажется 163. Вы у него спросите, он лучше знает, — киваю на Сукова.
— Вас били?
— Да.
— Кто бил?
Не представились.
В ИВС к врачу обращались?
— Сказали, врач будет в Москве.
— Я врач. К конвою претензии есть?
Гляжу на застывшего в напряжении Сукова. Что ж он так напрягся, будто не я у него в гостях.
— К конвою нет, — вижу, как облегчённо вздыхает Суков и молча уходит с собратьями по разуму.
— Жалобы есть?
— Голова болит. Уже одна. Было две.
— На учёте в психдиспансере состоишь?
— Нет.
— Давно болит?
— С неделю.
— Рвота была?
— Когда били — да. Потом — нет.
— Что ещё?
— Позвоночник болит.
— Это не страшно. У меня тоже болит. Руку давай, давление посмотрим. У тебя всегда такое?
— Сколько?
— 170/110.
— Обычно 110/70.
— Вены есть? Сожми кулак, — потянулась к тарелке с иглами без упаковки.
— Я бы хотел одноразовую.
— Хотеть не вредно. Теперь укол, — опять берет такую же иглу.
— Я отказываюсь от укола.
— Считай, что я этого не слышала.
Подошёл тюремщик с дубинкой:
— Надо помочь? Не понимает? Все? Выздоровел? Пошёл за мной!
В грязной комнате без окон злобный мужик в камуфляже распотрошил принесённые откуда-то мои ве-щи, велел раздеться догола, указал на дверь: «Иди туда». А пол такой, что свинья в сапогах не пойдёт, не то что босиком.
— Можно, — говорю, — хотя бы носки не снимать?
— Молчать! Пошёл! — дверь захлопнулась. Света нет. Стою, жду. Открывается в стене окошко, через него летят поочерёдно на пол мои вещи:
— Забирай, выходи. Здесь оденешься.
Выхожу. Тюремщик разглядывает мой кошелёк:
— А с этим что будем делать?
Намёк понятен.
— Разделим пополам, а ты меня устрой здесь.
Подобие улыбки озарило лицо тюремщика, и денег в описи стало вдвое меньше. Тюремщик смягчился:
— Пошли на сборку.
Если то, как он меня устроил, хорошо, то что такое плохо? В заплёванной конуре, где места не больше чем на троих, меня захлопнули одного.
— Эй, есть кто? — послышался знакомый голос кавказца.
— Говори! — отозвался другой.
— Тебя как зовут?
— Саша.
— Ещё кто есть?
— Есть, — отвечаю. — Алексей.
— Ты откуда, Саша? Я — Лева Бакинский.
— Отсюда, с централа.
— Лёша, а ты?
— Из Москвы.
— С воли?
— Да. Мы у врача виделись.
— Саша! — в голосе Левы тоска. — Как там у тебя, тесно?
— Тесно.
— У меня тоже. Плохо мне. Кумарит. Трусы уже два раза поменял.
— Терпи, Лева.
— Лёша, а у тебя тесно?
— Не очень.
— Сколько человек сидеть могут?
— Три.
— И свет, наверно, есть?
— Есть.
— Везёт! У меня только один может сидеть. Лёша, я к тебе приду! У тебя курить есть? Ох, плохо мне. Саша!
— Говори!
— Саша, какое положение на централе?
— Вор на тюрьме. Багрён Вилюйский. Общее собирается. Карцер греется. На тубонар и больничку дорога два раза в неделю. БД и ноги. На воровском ходу.
Хлопнула дверь. — «Давай его сюда, — послышался начальственный голос, — я сам с ним поговорю». Кого-то вывели из соседней конуры. Тот же голос: «А вот я тебе дам, как следует. Руки за спину. Руки, сказал, за спину!» Затем удар, как в боксёрскую грушу и сдавленный голос: «С-сука!» — «Ты что сказал, падла? Ты что сказал!» — и вдруг частые удары, будто в тесной комнате остервенело гоняют футбольный мяч, и крики избиваемого, какие и назвать нельзя иначе как страшные. Крики оборвались. Что-то тяжёлое протащили волоком. Хлопнула дверь. Все стихло.
— Саша! — позвал Лева.
— Говори.
— Саша! Ты здесь. Лёша!
— Да.
— Ты тоже здесь. Саша!
— Говори.
— Я думал — тебя.
— Нет. У меня ВИЧ, меня не трогают.
В замке моей двери повернулся ключ:
— Павлов! Пошли. Руки за спину. — Обдало холодом: угораздило подать голос… Однако обошлось: привели в фотолабораторию. Сфотографировали: фас, профиль. Сняли отпечатки. Повели назад. По пути откры-лась какая-то дверь: в совершенно чёрной от грязи комнате с чёрным же потолком толпится куча народу в верхней одежде, и смердит оттуда, как в ИВСе. Понятно. Что будет дальше, неизвестно, но пока повезло.
— Что, Павлов, сфотографировался? — весело поприветствовал меня тот, что принимал. — Пошли за мной.
— Лёша, ты пришёл? — это Лева. — Старшой! Подожди, не уходи! Старшой! Посади меня к нему! Старшой, я умру здесь! Я тебя Христом-богом прошу! Посади меня к нему!
— Я не старшой, — с гордостью отозвался мой конвоир, — я — руль! — В доказательство того, что он — руль, послышался громкий голос: «Руль! Ты где? Ру-уль! Куда этого?»
Руль бодро распорядился, «куда этого», а я кое-как примостился на лавке и закрыл глаза.
— Старшой! — Лева Бакинский остервенело барабанил в дверь. — Старшой!
Щёлкнул замок, шаги:
— Чего орёшь. Я старшой.
— Старшой! Посади меня к Лёше! Старшой… — Лева почти плакал. — Я тебя по-человечески прошу.
— Слушай, Руль, на что его посадить, чтоб он заткнулся? — спросил кого-то старшой. Хлопнула дверь, все стихло. Однако через какое-то время крякнули замки: один, другой, третий, открылась моя дверь, и Лева с пакетом в руках проворно нырнул в мою конуру, от былой заторможенности его не осталось следа.
— Угощайся! — Лева достал печенье.
Угощаться не хотелось. И видеть Леву не хотелось. И не хотелось много чего ещё.
— Спасибо. Не хочу.
— У тебя курево есть? Ого! — «Мальборо». Ты по воле-то чем занимался?
— Всем понемногу.
— А по какой статье заехал?
— Не помню точно.
— Как не помнишь? Ты, я гляжу, по первому разу. На тюрьме это главный вопрос. Могут неправильно понять. У тебя же в копии постановления есть статья.
— Мне ничего не дали.
— Не может быть. Всем дают. Слушай, Лёша, тебе к адвокату надо, здесь что-то мутно. А паста у тебя есть?
— Слушай, мужик, — говорю, — оставь меня в покое, ладно?
Лева посерьёзнел:
— Ты меня больше так не называй. Мужики — на лесоповале. А я не мужик. За то, как ты на вопрос ответил, — бьют. Но я по жизни крадун, живу по воровским законам и считаю, что надо не наказывать за незнание, а учить. В тюрьме все люди, и мы должны держаться вместе, иначе нас мусора поодиночке передушат. Есть неписаные законы и правила, установленные Ворами, суровые, но справедливые. Их надо знать. Поэтому надо интересоваться. Нельзя отказать арестанту в просьбе, если просит не последнее. Порядочному арестанту всегда есть что сказать. И Вор — это не тот, кто ворует, а кто лучше всех знает жизнь и имеет высочайший авторитет. Вор никогда не работает. Ему это не нужно. Вор — это звание приближённого к богу.
Опять университеты. Соображая, что в словах Левы может быть правдой, а что не может, и наблюдая, как он манипулирует по-блатному пальцами, решил быть раз и навсегда осмотрительнее.
— Хорошо, Лева. Спасибо за науку.
— Спасибо скажешь прокурору. В тюрьме «спасибо» нет. Есть «благодарю». А за спасибо е..т красиво. Следи за каждым словом. И никогда не в падлу, если чего не знаешь, поинтересоваться, — это приветствуется. Тюрьма — наш общий дом, нам в нем жить.
Захлопали двери. Открылась и наша. Зашёл высокий парень, сел на скамейку, взялся руками за голову. В ко-нуре стало тесно, мир сузился до неузнаваемости.
— Откуда, братишка? — спросил Лева.
— С коломенской тюрьмы, — на парне лица нет.
— Зовут как?
— Лёша.
— Меня — Лева. Его — тоже Лёша. Как там, в Коломне, кормят?
— Кормят хорошо. И бьют мусора — от души.
— Статья тяжёлая?
Парень безнадёжно махнул рукой и закрыл ладонями лицо. На руках татуировки: могилы, черепа. Потом достал из грязной сумки машинописный текст, протянул Леве. Прочитав, Лева задумался:
— Говорят, в таком случае плохо, если у трупа есть голова. Голову-то оставили?
— В том-то и дело, что оставили! — тоскливо ответил Лёша.
Старшой открыл дверь. — «Вы двое, — указал на меня и Леву, — с вещами». Взяли свои баулы (сумки то есть), пошли. Парень поднял лицо. Во взгляде страдание и мольба. Чем же я тебе могу помочь. Ни воля моя, ни власть. Молча, взглядом: «Держись, не мне тебя судить». И он также молча: «Благодарю». Какой арестант не помнит этой, скупой на слова, но так нужной поддержки, когда нет сил ни ждать, ни надеяться, и вот-вот разорвётся череп от ударившей из сердца крови, и меркнет свет, но касается твоего плеча татуированная рука какого-нибудь головореза, и доносится издалека его голос: «Не гони. На, покури „Примки“. И, прикрывая ладонями поднесённый огонь, прикуриваешь, вдыхаешь горячий горько-сладкий дым, куришь молча, курит и молчит твой собеседник, и отступает отчаянье.
Какой длинный день, ни часов, ни времени. По коридорам, по ступенькам вниз, в грязный тупик, сырой и чёрный, где вдоль глухой стены — сточный жёлоб, а в нем шевелятся неторопливые жирные лоснящиеся в полумраке крысы. Напротив стены три деревянные пере-хлёстнутые железом двери с открытыми кормушками, тускло светящимися, как маленькие окна. И чуть ли не шипение слышно адского огня. Нам с Левой в среднюю дверь. Совершенно чёрная от грязи камера с двумя откидными шконками, от которых сохранились только металлические рамы. Полуподвальное окно в крупную решётку, из-за которой сочится темнота и холод (значит, на улице ночь). От ветра окно наполовину заслонено убогим деревянным щитом. У двери — вонючая параша. На свисающих оголённых проводах подвешена слабая лампочка. На одной шконке, на трех досках, лежит в лохмотьях парень. На другую шконку ни сесть ни лечь, разве что если взять щит от окна и положить на раму. Парень с трудом поднял голову, мутно оглядел нас и снова лёг, ничего не говоря.
Молчание нарушил Лева, который, казалось, с каждым часом обретал себя. Уже кипятильник подвешен на оголённых проводах, кипит вода и делается чифир, уже парень оживился, и даже встал, и ведётся у них разговор за тюрьму, положение, за статью, за Иисуса Христа. Вадим в одиночке четыре месяца, ждёт, когда переведут на больницу, должны делать операцию (острая форма отита, осложнение), да денег нет, адвоката тоже, а стало быть и движения. Передач не получает, сидит на баланде. Общее заходит случайно: дороги нет, только ноги иногда. Толком не знает, что за камеры — его и соседние — не сборка, не спец, не общак, не больничка; знает, что за углом по коридору — карцер, и все. Соседи слева — туберкулёзники в тяжёлой форме, справа — спидовые. Два раза в сутки всех вместе из трех камер выводят в туалет, там же есть кран, можно набрать воды, так что если нас здесь оставят, утром нужно залить во что есть. — «Я думаю, — говорит Лева, — завтра нас подымут в хату». — «Лева, — говорю, — все хаты — такие?» — «Нет, эта на кичу похожа, а в хатах по-другому». Понятного мало. Что ж, буду больше слушать, меньше говорить. — «Присаживайтесь, — приглашает Вадим, — яподвинусь». Лева принимает предложение, я же не могу преодолеть отвращения прикоснуться к чему-либо. Покуда станет сил, буду стоять, а когда потеряю сознание, по крайней мере, не буду этого видеть. И в туалет с тубиками и спидовыми не пойду. Никогда.
Серый рассвет прополз через решётку, ничуть не оживив склепа, лишь отчётливей стала видна вековая грязь камеры. Уже был хлеб, баланда: половник чего-то сильно вонючего плюхнули через кормушку в миску Вадика, и он бережно понёс её на шконку; «рыбкин суп», говорит. Никто из нас не спал. Остаток ночи и утро Лева с Вадиком провели в религиозных дискуссиях, то и дело обращаясь к небольшой книжечке Нового Завета. Ещё сутки, может быть, простоять смогу. Разве можно здесь привыкнуть?
«Гусейнов, Павлов — с вещами». Давай, Вадик, пока. Держись, если сможешь. Вывели из аппендикса, как из канализации: коридоры становятся светлее, и то, что вчера приводило в ужас, сегодня — как избавление. Надолго ли. Что будет дальше? А вот и вовсе чистый коридор и целая толпа таких, как мы. В окошке вызывают пофамильно, выдают миску, ложку, одеяло. Разбили на группы. Нас, человек десять, завели в комнату без окон; вдоль стены лавка. Все молчат. На большинстве лиц — страх. Выделяется один — насмешливый, презрительный и уверенный. Вдруг обращается ко мне:
— Ты на сборке с Бакинским был?
— Да. Откуда знаешь?
— Пересечетесь ещё — скажи: Валера Бакинский здесь. Это я. Меня тоже приняли. Я поисковую пущу. Видел вас на лестнице вместе. Он не знает, что я здесь.
— Хорошо. Куда дальше, не знаешь?
— Куда-куда! На общак. Может, на спец.
— А в чем разница?
— На спецу лучше. Там даже занавески бывают.
«Павлов! С вещами. Пошли». Коридоры, коридоры, вертухай оглушительно хлопает дверьми в переходах,лестница наверх, уже, наверно, этаж четвёртый. Спешу за вертухаем, придерживая рукой сердце, чтобы не выпрыгнуло, и уже не обращаю внимания на боль в голове.
— Командир, идём-то куда?
— Е…. верблюд
Ясность полная: молчание — золото.
Глава 12. ЛОМОВОЙ КОТ ВАСЯ, ХАТА 228
От окна до окна (в решётках, но со стёклами) — длинный коридор с невольничьим названием «продол», и устрашающего вида двери в рельефном металле, с тросами-ограничителями, двумя глазками, большим и меньшим (в первый как раз пройдёт ствол), не двери, а монстры, за которыми обманчивая тишина. Эти чудовища стоят на пути арестанта, их никогда не открыть и не закрыть самому — гордые швейцары с холуйским нутром сделают это за тебя. Проклятые двери скрипят и лязгают, открываясь тяжело и неохотно, и грохочут захлопываясь, категорически отгораживая арестанта от всего, на что он имеет от рождения право. Одно слово — тормоза. Вот залязгали зубами замки на двери 228, и что там? Страшнее всего неизвестность, с ней смириться труднее всего.
Калейдоскоп цветных картинок и лиц покачнулся, когда за спиной раздался короткий взрыв — это захлопнулись тормоза. Яркая лампа дневного света на потолке, мозаично заклеенном журнальными вырезками. Гудение вентилятора. Где-то впереди громко работающий телевизор, гомон голосов. В маленькой прямоугольной комнате вдоль стен в два яруса металлические нары, впереди на высоте человеческого роста окно с решеткой, за которой с внешней стороны толстые металлические жалюзи («реснички») почти не пропускают свет. Посередине небольшой стол с двумя лавками. У двери слева занавеска из простыней закрывает унитаз. Рядом кран сраковиной. Стены до уровня верхних нар оклеены цветными простынями, а выше все теми же журнальными вырезками. Вся камера в веревочных растяжках, на которых во множестве висит белье, одежда. На нижних нарах самодельные занавески, они же на окне. И очень много народу. Человек двадцать, одетых по-домашнему, лежат, стоят, сидят, куда-то пробираются. Ходить нет возможности, только протискиваться. Кто разговаривает, кто смеется, кто спит. Никто на тебя не обращает внимания, как будто и нет тебя. Почти все курят. В основном молодежь, старше себя никого не вижу. Все лица кажутся крайне неприятными. Так вот она какая — хата… Где взять сил с ними общаться, где взять сил вообще: усталость, усталость, как после смертельной опасности. Заскрипели тормоза, и народу еще прибавилось, стоим как в переполненном тамбуре электрички, курим, о чем-то говорим. Время — отсутствует. Как только подает голос замок на двери, сразу, кто услышал первым, громко дает команду: «Тормоза!» Или: «Кормушка!» Тогда, как при голосовании, вздымается множество рук на перехват метнувшемуся в отчаянном броске по головам и шконкам навстречу свободе серому коту Васе, арестанту со стажем (родился и вырос в тюрьме). На вопрос, за что Вася сидит, объяснили: за то, что родился. Но до порядочного арестанта Вася не дотягивает. Во-первых, ломовой. Выламываться из хаты — последнее дело: значит, или косяк спорол, или петух, или кумовской. Поэтому после каждой попытки сломиться, а это строго по количеству открываний кормушки и тормозов, Вася исправно получает пизды. Рукоприкладство на тюрьме не приветствуется, но если убедительно обосновано, то и не наказуемо. К тому же отписать Вору Вася не может, а стало быть, и сор из избы не вынесен. Вступается изредка за Васю пьяная вертухайша Надя, пасущая втихаря в шнифты, но тем дело и кончается — побазарит на продоле, погрозит вызвать резерв, да и смолкнет. Во-вторых, после каждого получалова Васяжестоко мстит: заползает под шконки, находит незакрытый баул и оттягивается на нем, после чего туда без противогаза трудно нос сунуть. Порочный круг на этом не размыкается, ибо следует новое получалово. Но виноват в беспределе, скорее всего, сам Вася, потому что порядочный арестант косяки не порет и за собой ничего не чувствует. Тем не менее, Васю любят, и на его шее красуется безусловная роскошь — кожаный ошейник с дюралевым жетоном, на котором чеканкой набито «Кот Вася, х. 228». Жетон способствует возвращению Васи в хату, когда побег удается (редко, но бывает). Попав на продол, серый не знает, что делать с обрушившейся на него свободой, бродит, совершенно умиротворенный, до тех пор, пока старшой за пачуху сигарет не вернет кота домой; беглец, считая, что достиг границы мира, не сопротивляется, а лишь по привычке прижимает уши и закрывает глаза, когда его берут за шкибот. Однажды Вася достиг большего — попал на лестницу. Где его нашел старшой, неизвестно, но заработал на этом уже не пачуху, а лавэ как за месяц службы. После этого Васины понятия о границах мира изменились, ловить его стало труднее, возвращать — дороже; шансы кота на побег уменьшились. Примерно такая информация просочилась от решки к нам, стоящим у тормозов, где плотность населения гораздо выше и близка к критической. Несмотря на непомерную тесноту, камера все время в движении, кто-то куда-то протискивается, лазает по шконкам. От решки кричат: «Забейте шнифты!» Значит, нужно тотчас закрыть глазок в двери, после чего молодой крепкий парень ловко взбирается на решетку и, стоя на подоконнике (решетка несколько заглублена в проеме), ударом кулака в потолок или стену дает соседям условный сигнал, после чего с помощью веревки отправляет или принимает записки (малявы) или вещи (грузы) через разогнутые каким-то образом в одном месте реснички. Весь авторитет — братва — базируется ближе к решке, до которой не больше десяти шагов, но кажется, что она где-то да-леко впереди, и там за дубком (столом) другая жизнь, другие лица — серьёзные, уверенные; там есть пара шагов свободного пространства; телевизор, повёрнутый экраном к решке, подчёркивает разделение камеры на две части. Можно оценивать ситуацию по-разному, но — ни крыс, ни СПИДа, ни туберкулёза, кажется, нет, если, конечно, самому не всобачили у врача. Странно, но самое большое неудобство — душит неприязнь к тем, кто в камере, особенно к тем, кто смеётся. Стою молча. Вплотную рядом грузин Гоги и осетин Алан всем видом показывают, что все в порядке, ничего особенного не происходит, и стараются дать мне возможность стоять посвободнее; предложили обезболивающие таблетки, конфеты. Оба, говорят, заехали за наркоту, но у обоих на лицах написано, что они на работе. Хотя поверить, что сюда могут быть командировки, трудно. Рядом происходит ссора, гул опасно сгущается. (Алан и Гоги подвигаются и, сомкнув плечи, отгораживают меня от ссорящихся). Бритый хохол продвигается в сторону решки и, возвратившись, сильно бьёт по голове сверху вниз своего оппонента. Сразу вокруг них образуется свободное пространство.
— Але, вокзал! Вы, двое, подойдите. — Под решкой оживление, у тормозов тишина. Оба послушно пробираются к дубку. На нижней шконке у решки спокойный парень распоряжается выключить телевизор и негромко, через дубок, задаёт вопрос:
— Ты его ударил?
— Конечно!
— Обоснуй.
— Слава, да он же меня дураком назвал! Все слышали, — убеждённо говорит хохол.
— Я не слышал.
— Другие слышали!
— Кто другие? — Слава говорит тихо, почти отвлечённо. — Леха, ты слышал?
— Нет, я не слышал, — с удовольствием прикуривая, говорит парень с шконки напротив, тот, что лазит на решку. Слава обращает взгляд к тормозам, в его неопределённого цвета глазах прочитать ничего нельзя.
— На вокзале. Кто слышал?
Тишина.
— Ты, — говорит Слава пострадавшему, — называл его дураком?
— Я не помню точно… — мнётся пострадавший.
— Так. Я не слышал. Леха не слышал. На вокзале никто не слышал. Значит, ты врёшь?
— Я — вру?! — задохнулся хохол.
— Значит, сознаёшься…
— В чем сознаюсь?
— Что врёшь. Ты только что сказал. Твои слова: «Я вру».
— Я не сознаюсь! — хохол разгорячён, но твёрд и убеждён.
— Значит, врёшь и не сознаёшься?
— Я не вру!
— Так не врёшь или не сознаёшься?
— Не вру и не сознаюсь! Слава, я запутался! Но это правда: он меня дураком назвал.
— Запутался или попутал?
— Да, попутал! Ты же понимаешь!
— Понимаю, когда вынимаю. Леха, что скажешь?
Леха, серьёзно обдумав вопрос:
— Кто пиздит, тот пидарас?
— Конечно! — хохол явно хочет угодить, но Леха непреклонен:
— Значит, ты пиздишь?
— Почему? — парень начинает бледнеть.
— Потому что ты сказал, что попутал, врёшь и не сознаёшься.
— Я этого не говорил.
— Значит, мы со Славой пиздим?
— Нет, вы со Славой не пиздите.
— А кто пиздит, тот пидарас?
Хохол едва не плачет:
— Мне смотрящий разрешил.
С верхней шконки слезает до этого молча наблюдавший за хатой мужчина в спортивном костюме, с рукой без двух пальцев, присаживается за дубок и, глядя в упор на хохла тёмным каменным взглядом:
— Что разрешил?
Хохол в отчаянье:
— Володя, ты же сам сказал! Я говорю — что мне делать? А ты говоришь — дай ему по голове.
— А если я скажу тебе повеситься? Ты в курсе, что на тюрьме рукоприкладство запрещено?
— Володя, я не хотел…
Слава сочувственно:
— Не хотел, но ударил. Наверно, немного хотел?
— Немного — хотел.
— Значит, пиздишь, — подвёл итог Леха. — А кто пиздит, тот пидарас дырявый. Значит, ты дырявый?
— Нет!! Я не дырявый.
— А доказать сможешь?
— Как?
— Да просто: сядь в тазик с водой. Если пузыри пойдут, значит дырявый. Если нет — обвинение снимается. Сядешь в тазик?
— Сяду! — твёрдость вернулась к хохлу.
В тишине Леха скомандовал:
— Тазик на середину!
Пластиковый тазик с холодной водой появился тотчас. С убеждённой решимостью хохол спустил штаны и уселся в таз, расплескав воду, и, уже спокойно, сказал: «Я — не дырявый».
— А ты погоди, — тоном эксперта возразил Слава, — не гони волну. Сейчас посмотрим. Да где ж увидишь, воды мало, надо подлить. Воды сюда! Ты по воле-то кем был?
— Футболистом.
— Ну, вот — футболистом. А он дураком тебя называет… Сейчас мы тебе водички дольём. Если пузырей нет, то и базару нет — оправдан.
Хата взорвалась хохотом и криками: «Дырявый! Пузыри! Дырявый!» Все завыло, заулюлюкало, запрыгало и закачалось: «Дыря-а-а-вый!»
— Кормушка!! — перекрывая всех, заорал цыган. — Васю держите!!
Звякнула и откинулась кормушка, рожа вертухая вперилась в неё:
— Это что у вас?
— Ничего, старшой! Все нормально! — раздались голоса.
— А ну, расступись! Живо, я сказал! Хотите резерв? Что это? — посередине, голой задницей в тазике, горестно сидел футболист.
— Ничего особенного, старшой, — объяснил смотрящий. — Купаемся.
— И все?
— Все.
— Тогда гулять! — кормушка захлопнулась.
— Дело передаётся в суд, — объявил Слава. — Судебное заседание состоится в прогулочном дворике. Явка обязательна.
Камера пришла в движение, из угла между тормозами и ближней шконкой разобрали гору курток, под которой обнажилась чугунная вешалка. Через несколько минут, вся одетая, хата ожидала прогулку.
По одному, из хаты на продол, на лестницу, мимо вертухаев, наверх, на крышу, в прогулочный дворик, в бетонную камеру, не намного большую, чем хата 228, где вместо потолка решётка, а над ней небо, то самое, упоминаемое в шутках, небо в клетку, серое, сырое и недоступное. Здесь можно ходить, что несколько человек и делают, остальные расположились на корточках, как зрители перед артистом — многострадальным ответчиком.
— Встать, суд идёт, — объявил Слава, и все встали,включая Леху с литровой кружкой чифиру в одной руке и Васей в другой. — Прошу садиться, кто желает; кто не желает — присаживаться. Слушается дело по обвинению гражданина — как фамилия? Доценко? — гражданина Доценко — в том, что он дырявый; данный факт установлен предварительным следствием.
— Я не дырявый, — затравленно возразил хохол.
Каменный взгляд смотрящего зловеще похолодел:
— В тазик садился? Пузыри шли? Что молчишь? Порядочному арестанту всегда есть что сказать. Я задал вопрос.
— Шли. Но я не виноват.
— Но пузыри были?
Футболист свесил голову.
Прихлебнув чифиру и передав кружку дальше по кругу, включился Леха:
— Может, ты за собой что-нибудь чувствуешь?
— Нет, не чувствую.
— Чего не чувствуешь? — это уже Слава. — Не чувствуешь, как пузыри идут?
— Да.
— Подсудимый признался, что не чувствует, когда у него идут пузыри. Есть подозрение в неосознанности совершённого преступления. Подсудимый, вы осознаете тяжесть совершённого вами преступления?
— Я не виноват!
Смотрящий (доброжелательно):
— Но пузыри были? И ничего за собой не чувствуешь?
— Не чувствую.
Леха (обличительно):
— А пузыри?
— Это не я.
Слава (заинтересованно):
— А кто? Кто в тазик садился?
— Кто-то положил в воду таблетку.
— Какую таблетку?
— «UPSA».
— Подсудимый бредит. У какого пса?
— Это аспирин. «Aspirin UPSA». Шипучий.
— Где ты его взял?
— Я не брал. Мне подбросили!
— Никогда не брал аспирин?
— Никогда.
Леха:
— А кто пиздит, тот пидарас? Никогда ни у кого не брал аспирин «UPSA»?
— Нет, вообще, конечно, брал, но не сегодня.
— Значит, вообще у пса брал, но не сегодня?
— Да.
Смотрящий:
— Подсудимый признался, что брал у пса. Часто брал?
— Мне подбросили.
— Я интересуюсь, часто брал?
— Нет, не часто.
Слава:
— Подсудимый неоднократно признался, что брал у пса, но не часто. При этом утверждает, что не чувствует, как у него идут пузыри. У какого пса ты брал, но не часто? У одного или нескольких?
Судя по задрожавшим рукам футболиста, до него наконец-то дошло. Не поднимая головы он молчал.
Леха погладил Васю:
— Хороший кот! Хороший Вася. Подсудимый, Вам предоставляется последнее слово.
— Я не виноват…
— Та-а-а-к. А что скажет прокурор? В какой палате у нас прокурор?
Слава:
— Надо выслушать адвоката.
Леха:
— А в какой хате адвокат?
Смотрящий:
— Подсудимый, ты что-нибудь понял?
— Да…
Если кто-нибудь позволит себе так обращаться со мной, это кончится плохо. Сразу. И, вероятнее всего, — для меня. Почему они улыбаются. Что это — забава зэков или улыбка людоеда. Что будет дальше. Говорят то ласково, то как палачи. Скорпионы. Сволочи. Эти трое. Остальные — подлое быдло. За этими мыслями я и не заметил, что, как раненый волк, один хожу взад-вперёд, остальные участвуют в заседании.
— Подсудимый, что ты понял? — голос смотрящего смягчился. — Ты понял, что на тюрьме рукоприкладство не приветствуется?
— Да! — выдохнул с надеждой хохол. — Я больше не буду. Простите меня!
— Бог простит. А вот как прокурор? Так в какой хате у нас прокурор? Ладно, с этим адвокат разберётся. В тазик — зачем садился?
— Чтобы доказать.
— Что доказать?
— Что я не дырявый.
— Ну, и доказал? По-другому не мог?
— Вы же сами сказали.
— А если б тебе сказали повеситься? Ещё в тазик сядешь?
— Нет, не сяду.
— А зачем садился? Порядочный арестант в тазик не сядет.
— Володя, а что я мог сказать?
Слава:
— Да что угодно. Знаешь, что я сказал бы?
— Что?
— Тому, кто мне предложил бы сесть в тазик, я бы сказал: «Я сяду в тазик, если ты мне в х.. дунешь, чтоб пузыри пошли». Понял?
— Понял.
Смотрящий:
— Мой совет: не забудь, когда на общак съедешь.
Все встали и сразу забыли хохла. Какой-то цыган громко обратился ко мне:
— Тебя как зовут?
— Алексей.
— Погоняло есть?
Опять погоняло…
— Нет.
— Будет. Богатырь Алёша Попович. Согласен с таким погонялом?
— Сам ты попович, — отвечаю на всякий случай.
— Я тебя чем-то обидел?
— Нет. И надеюсь, это взаимно.
— Тогда просто Богатырь. Согласен?
— Просто оставь себе.
— Хорошо. — Богатырь?
Желая как-то прекратить этот диалог, молча поднимаю и опускаю руку.
— Верно! — одобрительно кричит цыган, как Коля Терминатор в ИВСе. — Больше дела, меньше слов!
Так я узнал, что такое погоняло и значение сделанного мной жеста. Заскрипела дверь, заглянул вертухай: «Домой!» Это значит в хату, ибо, как утверждает братва, тюрьма — наш общий дом. В хате вновь прибывших, включая меня, по очереди, по двое-трое, позвали к решке, к смотрящему (где ж было мне тогда знать, что смотрящих на спецу не бывает), предложили сесть за дубок. — «Ну, что я вам могу сказать, — серьёзно начал Володя. — Вы заехали на централ Матросская Тишина, на Большой спец. Есть ещё корпус ФСБ — Малый спец, общий корпус, больница, туберкулёзный корпус, хозбанда живёт отдельно. Тюрьма перегружена, рассчитана на полторы тысячи человек, сейчас на тюрьме восемь тысяч. Самое тяжёлое положение на общем корпусе. Вам повезло, Вы попали в одну из лучших камер Большого Спеца и централа вообще. Я в хате смотрящий за положением, зовут меня Владимир, можно Володя;здесь обычно по именам: лагерный пацан считается до шестидесяти. Сижу почти год, статья тяжёлая — контрабанда, от семи до двенадцати лет. Тюрьма на воровском положении, на тюрьме Вор, Багрён Вилюйский. За Большим спецом смотрит Измайловский. К ним можно обращаться по серьёзным вопросам. С десяти вечера до шести утра работает дорога, вот дорожник — Леха. Если хотите отписать знакомым, подельникам, отдавайте малявы ему, он отправит. Можно пустить поисковую по всему централу, если хотите кого-нибудь найти. Поисковая пройдёт всю тюрьму, даже тубонар и больничку. В отдельных случаях, если есть серьёзные основания, можно найти дорогу и в карцер, и даже в корпус ФСБ. В малявах советую лишнего не писать, бывает, их мусора перехватывают, да и вообще неясно, через какие хаты они проходят. Работа на Дороге ответственная, запала быть не должно, особенно если идут важные сообщения, например Воровской Прогон. Кроме того, на этой половине решаются вопросы, о которых вам лучше и не знать. Поэтому передвигаться по хате можно до дубка, дальше не надо. Если что важное, можно обращаться ко мне, к Славе и Лехе. В камере собирается общее. С камерного общака уделяется на тюремный, с тюремного греется тубонар, больничка, карцер. Если кто получает передачу, по желанию, может передать часть на общее. Когда дорожник на решке, шнифт должен быть забит, поэтому тот, кто ближе к тормозам, должен сразу после команды встать так, чтобы его закрыть. От нас идёт БД (Большая Дорога) со всего корпуса на больничку, это особая ответственность. Если вертухай увидит дорожника на решке и дорожник попадёт под раздачу, отвечать будет тот, кто стоит ближе всех к шнифтам. Петухов в хате нет, под хвост никто не балуется: можно чифирить, докуривать за соседом. На сборке, когда пойдёте на вызов к адвокату или следователю, за незнакомыми докуривать не надо. Петухи сами не представляются, а информация по тюрьме расходится быстро. Когда иде-те на дальняк, сразу пускайте воду, кран отворачивайте и закрывайте до конца. Если кто-то ест, лучше подождать или попросите прерваться; это на общаке не важно, там столько народу, что никто не обращает внимания, а здесь строго. Все конфликты решаются здесь, у решки. Беспредела в хате нет. С футболистом — не принимайте всерьёз. Вольные посылания забудьте. За это жёсткий спрос. Речь должна быть выдержанной и понятной, иначе можно оказаться в трудном положении. Живём мы, в основном, семьями по три-четыре человека. Каждая семья сама питается, семейники поддерживают друг друга. Общайтесь, может, с кем найдёте общий язык, и вас возьмут в семейку. В общем, сами смотрите, что к чему, интересуйтесь у тех, кто сидит долго. Пока все. Потом поговорим ещё. Вопросы есть?»
Вопросы, конечно, есть. Как можно круглые сутки сидеть или лежать на шконке, как можно до бесконечности стоять у тормозов, где несусветный гам, сырость и вонь, хотя и работает вентилятор. Здесь, у решки, даже как будто дышать можно, а там? По какому признаку у решки каждому по шконке, в середине по месту на двоих-троих, а у тормозов одна шконка на десятерых и спать нам по очереди, по два часа каждому. Чем здесь питаются, если на вопрос, заданный в окошко: «Баланду будете?» — последовал ответ: «Сам ешь свою баланду!» Тем не менее, некоторые передали свои шлемки, в которые баландер налил такой гадости, что сразу стало понятно: это есть можно только под угрозой голодной смерти. И что нужно, чтобы не попасть на общий корпус. Есть ли вероятность, что окажут медпомощь. Много вопросов. Только не к спеху. Главное — все это скоро закончится, не может не закончиться; если человек не виноват, не могут его долго держать в таких условиях. А пока — упереться рогом и держаться. — «Нет, — говорю, — вопросов нет». Некоторое облегчение принесла возможность сидеть по очереди на первой нижней шконке: один спит, а четверо сидят с краю. На верхнихместах — только по одному. Точно: вокзал. Все шконки застелены бельём, а на этой только грязный матрас. Впрочем, антисанитарной обстановку назвать нельзя, все стараются соблюдать чистоту и, если так можно выразиться, порядок. По стенам наклеены разные коробочки для мелочей, у решки есть клеёная полка с книгами, около раковины под электрической розеткой картонная полочка для кипячения воды, под дубком подвесное полотнище с ячейками для посуды — парус; вентилятор над тормозами погружён в самодельный картонный тубус, верёвочные растяжки устроены оптимальным образом, картинки на стенах и потолке подобраны не случайно, бросается в глаза одна: сфинкс и призыв «не бояться страха». На картинках много надписей. Закрываю глаза, загадываю на будущее. Открываю, наугад останавливая взгляд на одной из них. «Все будет так, как мы захотим сами». Да, наверно, все-таки хотел… Если бы не такое количество народу, то вполне терпимо, но, говорят, эта хата не надолго, переведут на общак, о котором рассказывают страсти. Но мне-то что до того, не пройдёт и месяца, как меня отпустят; Россия, худо-бедно, а стремится в цивилизованный мир; понятие презумпции невиновности уже несколько лет как перестало удивлять людей; поменялся один из важнейших принципов в жизни общества: раньше было запрещено все, кроме того, что разрешено, теперь же разрешено все, что не запрещено. Так что ничего. Голова болит, спина, но опять-таки не умер, не умру и потом, главное — рогом, рогом упереться. Покрепче. Однако что-то непросто упираться. Вон уже Алан на пальму взгромоздился (что значит общительность), а мне ждать своих двух часов сна, и сколько ещё? Не потерять бы сознание. Да нет, не потеряю, не должен. Гоги рядом тоже несладко, а все с расспросами, ненавязчиво, но тянет за язык. Ладно, Гоги, слушай, коли так интересно, чем я занимался на воле. Я тоже развлекусь воспоминанием.
1987 год. Чемпионат Москвы в классе техническисложных восхождений проводился на базе альплагеря «Ала-арча» в Киргизии. Позади тренировочные, плановые, контрольные восхождения. Соревновательный объект — пик Свободная Корея, северная стена. Комбинированный маршрут высшей категории трудности по практически отвесной стене, почти не освещаемой солнцем, — объективно опасен (камнепады, ледопад). Пройти маршрут — значит занять призовое место. Накануне восхождения вдруг в августе наступила зима. В базовом лагере на зеленую траву и цветы выпало столько снега, что некоторые палатки порвались под его тяжестью. Посовещавшись, пришли к выводу, что снег на стене не помеха, все равно не задержится, а лавины с предвершинной шапки через нас, надо полагать, перепрыгнут. Опять же на морозе меньше вероятность камнепада. Скалы холодные, натёчный лёд — это неприятно, но зима — она и есть зима, не только же летом ходим в горы. Категория трудности, если не формально, то фактически, повышается на единицу, но так представим, что дело происходит повыше, скажем на Памире. Правда, это уже был бы высотно-технический класс, но что с того — все согласны: идём. В первый день выйдет одна связка, навесит верёвки настолько высоко, насколько сможет пройти, спустится в базовый лагерь, а на следующий день по «перилам» поднимется вся команда и продолжит штурм с ночёвками на стене. Приятно спать в палатке, сколько хочешь, а проснувшись, выглянуть наружу, смотреть на падающий снег, курить, сознавая, что у Марата и Аркадия сейчас нет опоры под ногами, а ты самым комфортабельно-свинским образом можешь лежать, как хочешь, на спине, на боку, на животе. Дарит альпинизм и такие простые удовольствия. Чтобы оценить свободу, нужно её временно лишиться. Как раз завтра и лишишься, поэтому каждая минута сегодня — удовольствие. Не торопясь одеться, разжечь примус, сделать чаю, пойти к друзьям в соседнюю палатку. — «Зачем мы ходим в горы?! — восклицает Валера. — Это,наверно, как раньше на войну ходили». Валера доволен: он не в команде, ему завтра наверх не идти. Зря радуешься, дорогой товарищ, ты — в спасотряде, и если с нами что приключится, полезешь вслед и хлебнёшь по самое некуда, спасая нас. Валера сам знает это, а потому вдвойне желает нам удачи.
Каждый раз перед сложным восхождением хочется, чтоб нашлась не зависящая от тебя причина для его отмены. Уверен, такое желание, осознанное или нет, бывает у каждого. Другое дело, когда рюкзак на плече — все, сомнения прочь. Странное стремление — идти к вершине по трудному пути. В чем смысл? Размышлять некогда: уже идем по леднику. Снегопад прекратился, морозная ночь, звезды. Впереди Марат с Аркадием, они уже знают дорогу, начало маршрута искать не придется. Вот ледник стал уходить в небо, идем на передних зубьях кошек к навешенным перилам. Я в связке с Аркадием. Вчера первым на стене работал Марат, сегодня будет Аркадий, завтра он же, потом я. Еще двое в команде, Саша и Толя, первыми давно не ходят; как говорит Толя, живого мастера надо беречь. Трудность и опасность для идущего первым в том, что веревка от него всегда идет вниз, в случае срыва ему грозит падение до ближайшей точки страховки (обычно это крюк с карабином, в который прощелкивается веревка) плюс на такую же глубину, пока веревка не натянется, задержанная руками страхующего. Это могут быть и несколько метров, и десятки метров. Могут и крючья не выдержать, тогда, как правило, связка погибает. Вот здесь, недалеко, гора Байлян, в прошлом году двое наших ребят с нее не вернулись. А сколько лет ходили в горы. Помнится, спросил одного из них, не страшно ли. «А чего, — говорит, — бояться. Если опасно, я лишний крюк забью, а если плохо, так вовсе не пойду. Я в горы хожу за удовольствием». За чем сейчас идем мы? Поднимаемся по заледенелым веревкам с помощью зажимов, которые идут вверх по веревке, а вниз уже нет. Скалы отвесные, трудные,похоже, вчера на ветру, в снег и мороз, Марату здесь досталось. Невольно задаюсь вопросом, а смог бы сам здесь пройти первым. Сегодня погода ясная. Рассвет обозначил контуры гор и уходящую бесконечно вверх стену. Перильные веревки закончились, началась напряженная работа. Крутизна и трудность стены подавляют, чувствуешь себя муравьем на небоскребе. Ползем вверх, за час метров на сорок, не больше. Аркадий — хороший скалолаз, это успокаивает, но совсем не хочется, чтобы он устал, пусть пользуется безраздельно почетным правом идти первым, вся команда безусловно поддерживает его в этом стремлении. За горой взошло солнце, напряжение возросло: сверху, воя как снаряды, полетели оттаявшие камни, куски льда. Это по холоду, а что было бы в теплую погоду. Чем выше, тем меньше хочется смотреть вниз и по сторонам: масштаб картины угнетает, лучше смотреть вверх да перед собой. Вот небольшая трещина в скале, вот вбитый в нее титановый лепесток с ушком, за которое и держится на карабине твоя жизнь. Скала пахнет свежевысеченной искрой. Все мысли о том, чтобы не делать ошибок, разговоры — краткие команды: «Выдай веревку! Внимательно! На самостраховке! Понял! Страховка готова, пошел!» По закрепленной веревке подтягиваются остальные. Пока первый обрабатывает следующий участок, остальные висят на крючьях. Спокойнее всего под скальными карнизами: на падающие камни можно не обращать внимания. Вверх, вверх, вверх. Утро, день, вечер. Скоро стемнеет. На первой же полке надо ночевать, но полок нет, ни больших, ни маленьких. Все, останавливаемся, как говорится, спасайся кто может. Саша, наш ветеран, откачивается на веревке маятником по стене, цепляется за уступ, на нем можно сидеть, находит в скале трещину, вбивает крюк, пристегивается к нему на самостраховку. Саше повезло. Толя растягивает на крючьях маленький гамак. Это удобно. У Марата гамак побольше, в нем они усаживаются вдвоем с Аркадием. Им тоже везет. Я га-мака не взял. Почему? А кто его знает. Лишний вес. Да и где бы я его тут повесил, и так крючьев забито мало, а трещин больше нет. Стою на облитом, как глазурью, натечным льдом участке скалы, крюк для самостраховки забит вверху и в стороне. Или зависнуть в обвязке, тогда до стены можно лишь достать рукой, или стоять на передних зубьях кошек, придерживаясь для равновесия за самостраховку одной рукой и за зацепку на скале — другой. Опасаясь, что от ремней в висячем положении за ночь затекут ноги, выбираю стоячую ночевку, все-таки можно переминаться с ноги на ногу. К тому же висеть в пустоте и темноте как-то неприятно. В общем, не повезло. Рядом гамак Марата и Аркадия, но тоже не с руки: оттяжку для равновесия не сделать. Теперь считай секунды до утра, упершись козырьком каски в стену.
Все замерли, как куры на насесте. После двадцати часов непрерывной работы хочется пить. Кусочки льда, отколотые со скал, только сушат глотку и усиливают жажду. О еде речи не идёт. У каждого есть маленький пакетик с восточными сладостями, которые следует растянуть на все восхождение. Мы с Аркадием свои запасы уже приговорили. Остальные, похоже, тоже. Руководит нынче Толя, за ним числится много сложных восхождений, он знает, что нужно.
— Саша! Ты живой?
— Живой, Толя, живой, — по голосу понятно, что Саша в норме, ничего ему не надо, и разговаривать сегодня он больше не хочет.
— Аркадий! Что Марат затих? Скучает?
— Нет. Блюёт.
— А что так?
— Температура. Заболел.
— Будем спускаться?
— Нет. Если первым не пойдёт, — до вершины дотянет.
— Алексей!
— Что?
— Насчёт гамака всех предупреждали.
— На хрен он нужен.
— Понял. Курить будешь?
Замечательно. Я, по случаю необычного восхождения, не взял сигарет. А зря.
— Буду, передай через Аркадия. Мастер — он и есть мастер. Старый конь борозды не портит.
— Но и глубоко не пашет, — значительно отвечает мастер. — Аркадий, на, попробуй передать сигарету. Не урони. Марат! Что молчишь, давай работай, разводи примус. Аркадий, набей льда.
Внизу послышался металлический звук ударившегося о скалу предмета.
Толя:
— Что это было?
Марат:
— Примус.
— Крышка осталась?
— Да. Выбросить?
— Не вздумай. Бензин не уронил?
— Нет.
Если на еде и гамаке можно сэкономить в весе, то примус берётся на гору всегда. Глоток горячей воды — это важно. Толя распорядился собрать из карманов бумажки, обломки спичек, чего оказалось достаточно, чтобы, залив бензином и запалив, растопить в кружке лёд. Странно: можно протянуть в темноте руку и в пустоте нащупать переданную тебе кружку с водой, которую заглатываешь жадно, не обращая внимания, что она с камнями, и в то же время неудобство и напряжение твоего положения никто изменить не может. Опять все замолкли. Теперь не спи. Заснёшь — слетишь с какой-никакой, а все-таки полочки, будешь болтаться в пустоте; забраться обратно в темноте будет трудно. Опять же замёрзнуть можно, температура-то минусовая. Так что — переминаться с ноги на ногу, поставить стопу поперёк, перенося нагрузку с передних зубьев кошек на боковые,постучать ботинком о скалу, опустить одну руку с холодной скальной зацепки, отогреть, вернуть на место, опустить другую. Толя сделал сюрприз: передал не одну, а четыре сигареты. Курю. На стене тишина. На горизонте огни города Фрунзе, поэтому нет обычного в горах ощущения затерянности во Вселенной. Холодно. Очень.
— Алексей! Не спишь? — это Толя.
— Издеваешься?
— Не обморозился?
— Не дождёшься.
— Коньяк будешь?
— А у тебя есть? — с моей стороны вопрос полон мужественной иронии.
— Есть, — отвечает Толя.
Что ему сказать. Как говорил известный персонаж, грешно смеяться над больными. Поэтому я и не буду смеяться.
— Марат! Аркадий! Вы коньяк будете? Нет? Тогда передайте Лехе.
Не шутит, старый конь. У меня в руке бутылка. Мы тут на жратве экономим, а он пол-литра затащил. Говорят, настоящие мужчины утоляют жажду водкой. Не знаю, насколько справедливо данное утверждение, но что полбутылки коньяку в данном случае жажду утолили вполне — это правда. Так же поступил Толя, после чего с торжественным напутствием отправил пустую посуду в бездну, и мы довольно слаженно запели во всю глотку:
«Из полей — уносится печаль, Из души — уходит прочь тревога! Впереди у жизни только даль, Полная надежд людских дорога!»Партнёры по восхождению хранили молчание, а мы куролесили ещё несколько часов, сравнивая степень свободы жителей города Фрунзе и нашу.
Проснулся я от тяжести в голове. Что-то было неправильно. Сначала я решил, что сон не закончился, по-тому что гор вверх ногами не бывает, потом понял: вишу в воздухе на самостраховочной верёвке, но, по результатам романтического подхода к альпинизму, система обвязки растянулась, будучи самодельной, и я оказался вниз головой, отчего физиономия затекла и распухла. Пока этого безобразия в сером рассвете не видит никто, принял меры к восстановлению положения вверх головой, потом подтянулся на самостраховке и раскачиваясь поймал зацепку, достиг прежнего положения. Самочувствие в норме, только спать хочется.
Через пару часов мы с Аркадием двинулись дальше. К небу. К полудню преодолели несколько карнизов. Очень трудное лазанье. Аркадий работает как ломовая лошадь и все больше мрачнеет, начинает ругать гору. — «Нельзя, Аркадий, так говорить». — «На хрен! — отвечает. — В гробу я её видел! Ещё одну верёвку и меняемся».
М-да… Впереди сорок метров скал с отрицательным уклоном — ключевой участок, как раз через одну верёвку. Извольте пожаловать.
Маршрут идёт по стене чуть наискосок. Отсюда уже безопаснее верх, потому что если спускаться, то напрямую, а там все простреливается камнями. Как на большинстве восхождений, наступил момент, когда назад если не труднее, то опасней, чем вперёд. Аркадий медленно поднимается к нависающим как судьба красным скалам. Ругается, зависнув на очередном забитом крюке, но делает все правильно: две верёвки ведёт за собой через крючья и закладки по обе стороны от себя, на случай если одну перебьёт камнем.
Эти красные скалы на фоне стремительных облаков будут потом сниться, освещённые мистическим светом предстоящего преодоления. А сейчас, повиснув на самостраховке, упёршись ногами в стену, я держу в ладонях обе верёвки, медленно уползающие из рук вверх, и слежу за Аркадием. Оттого, что голова запрокинута, болит шея. Да и опасно это. Лицо посечено в кровь осколкамильда и каменной крошки, руки тоже. Устроюсь-ка я под карнизом, пока Аркадий на очередном крюке на самостраховке. Чуть вправо, в щель — закладку, теперь можно висеть в безопасности. А то, глядишь, камень побольше прилетит. Вздремну перед боем. Такой трудности скал ещё не было в моей практике.
— Аркадий, как дела?
— Вижу ручку. — Это значит, зацепку, за которую можно взяться, если не двумя руками, то, по крайней мере, четырьмя пальцами. — Дойду до неё — и меняемся!
Хорошо. Моментально засыпаю, выигрывая минуту отдыха. Сначала раздался истошный крик Аркадия: «А-а-а-а-а!!!» В следующее мгновение что-то со змеиным шипением заслонило свет, обдало горячей волной и исчезло. Внизу ухнуло как взорвалось. Резко прыгнула из рук верёвка. Инстинктивно сомкнулись со всей силы пальцы, показалось — не удастся удержать; нет, удалось. Хорошо, что в рукавицах, верёвкой прожгло материю, но не кожу. Упёрся ногами в стену, выглянул из-под карниза. Аркадий висит на одной верёвке всего в нескольких метрах выше, бормочет, стонет и сучит руками как паук. Одна верёвка перебита. Закрепляю уцелевшую узлом на карабине, рассматриваю Аркадия. Говорить с ним пока бесполезно: он в шоке. Первым делом выяснить, какой шок, психологический или травматический. Визуально — цел; пролетел метров пятнадцать. Там, где прогнозировалась «ручка», в стене свежее пятно в форме линзы в несколько метров диаметром. За верх выпавшей линзы и взялся Аркадий, встав в контрупор одной ногой на неё же, а другой за её границу, она и выскользнула из-под Аркадия, перерезала одну верёвку, а он уже полетел вниз на другой. Саша, Толя и Марат не пострадали, будучи немного в стороне и под карнизом, но перильную верёвку к ним тоже порезало в куски.
— Что случилось? — кричит Толя. Из-под карниза нас не видно.
— Аркадий сорвался.
— Где он?
— Здесь, рядом.
— Живой?
— Да.
— Аптечка нужна?
— Да.
— Что из аптечки нужно?
— Анальгин.
— Почему перильная ослабла?
— Перебита.
— Сейчас подойду.
Значит, Толя пошёл лазаньем. Раньше чем через сорок минут не будет. Аркадий — как противовес на закреплённой у меня верёвке, её можно использовать как перила. Подбираюсь к Аркадию, успокаиваю как ребёнка, он приходит в себя, перестаёт стонать, начинает говорить. Выясняется, что не помнит, как упал, болит голова и нога, но перелома, кажется, нет. В согнутом положении нога болит меньше. Из вспомогательных верёвок делаю на неё петлю. С таким одноногим красавцем теперь только вниз. Перспектива — хуже нет.
— Может, сможешь по перилам? — показываю наверх.
— Нет! Только вниз.
— Понимаешь, что вниз опасней?
— Да.
— Хорошо. Толик подойдёт, будем спускаться.
Когда подошёл Толя, Аркадий опять мычал от боли; горсть таблеток пришлась вовремя.
— Может, его промедолом ширнуть? — посоветовался Толя.
— Нет, — вступился за себя Аркадий, — я потерплю, мало ли чего на спуске.
— Это верно. Ну что, покурим и поехали?
— Покурим, — говорю, взяв у Толика сигарету и глядя вверх на красные скалы. Не суждено до них до-тронуться.
Под солнцем проснулись камнепады, сверху полетели большие куски льда. Теперь первым спускается Толя. Скалы — сплошь монолит. На всю верёвку вниз, шлямбуром продалбливает в скале отверстие, в него забивает расклинивающийся крюк, который остаётся в скале навсегда. Хватило бы этих крючьев. Спускаюсь последним по двойной верёвке. Закрепившись, продёргиваю верёвку через оставленную наверху петлю, а то и карабин — не жалко. И так весь день. Видя, какого рода летит сверху подарок, предупреждаю криком «камень» или «чемодан», в зависимости от величины падающего предмета. Тогда все как могут прижимаются к скале. Весь день наполнен криками, свистом и грохотом, ожиданием худшего и страстным желанием, чтобы все закончилось благополучно (в памяти случай, когда моему приятелю камень снёс голову, как гильотина, на глазах у всей группы). К вечеру похолодало, стена стала затихать. В сумерках, спускаясь уже по льду, услышал снизу голос Толи: «Лёша, это последняя верёвка!»
— Не последняя, а ещё одна!
— Давай сюда, на мой голос, бегом, здесь трещин нет! Верёвку брось, не снимай!
Нет, не побегу. Эти последние метры опасности пройду спокойно. Но вверху завыло, и ноги сами понесли.
— Все! Поздравляю! — Толя протягивает руку.
Все? В самом деле? Да. Под ногами опора. Горизонталь. Можно с непередаваемым удовольствием снять с себя всю эту ременно-верёвочную упряжь.
— Что Аркадий?
— Увезли в акье. На, кури, спасатели принесли.
Обоих прорывает. Минут десять без перебоя в два голоса ругаем всех и все на свете: камни, лёд, верёвки, крючья, Аркадия, друг друга, всех вместе взятых и, обретя душевное равновесие, спотыкаясь от усталости,идём по морене в базовый лагерь, выискивая путеводные туры из камней принесёнными спасателями фонарями.
На следующий день, спускаясь по леднику в долину, останавливаюсь и долго смотрю на огромную чёрную стену Свободной Кореи, увенчанную ледяной шапкой, сверкающей на солнце. Красных скал не разглядеть, слишком далеко. Первый раз я ухожу из гор с ощущением тихого счастья. Как в русском романсе:
«Ах, как трудно дойти до вершины, Но она лишь откроет глаза, Что прекрасны поля и равнины И прекрасны её небеса».Нет вопросов, нет сомнений. Жизнь.
— Да, нелегко будет Вас сломать, — говорит Гоги, протягивая мне сигарету. — Это последняя.
— Не последняя. Ещё одна, — возражаю я.
— Ложитесь спать, Ваша очередь, — Гоги со мной почему-то на «Вы».
Глава 14, вместо тринадцатой.
Был ли сон или не был, наверно нет. Скитаясь по аравийской пустыне в желтом зное, никак не мог найти воду, мешала тянущаяся из-за горизонта лиана с длинными шипами, которые насквозь проткнули грудь, голову, руки. Видимо, поэтому не удалось заснуть на горячем песке, под шум прибоя невидимого моря. Так и лежал, глядя в бесцветное небо, пока кто-то не потеребил за плечо: «Пора меняться». Небо прояснилось, оказалось пестрым, в зените стояло светило — лампа дневного света, прибоя не было — все тот же переполненный тамбур электрички, несущейся неведомо куда. Вставать медленно, чтобы не лопнула голова. Уловить ноту, на которой можно держаться не падая в пропасть. Как, например, было с зубами. Последний год в России ознаме-новался большим напряжением и отсутствием свободного времени. От нервов «посыпались» зубы, но болеть им было запрещено: не до них. И они не болели. За границей, после выбора другого темпа и направления работы, все поменялось, стало позволительно расслабиться, и выяснилось, что оголенные нервы болят, и уже нет другого пути, как удалить половину зубов. Теперь задача серьезнее, нужно крепко держать в узде весь организм; туберкулез и гепатит на тюрьме как насморк, спидовых тоже хватает, а пневмония или какая-нибудь ангина — это и не болезни вовсе. Главное — это ходить. Шаг в одну сторону, шаг обратно — это уже что-то, а два или три — роскошь, но я ходил с упорством дикого животного в зоопарке; видимо, это было для остальных столь странно, что они слегка подвигались, давая мне сантиметры свободного пространства. Опять же — тюрьма, не запретишь. Свободен делать, что хочешь. Настолько, насколько сможешь. Сигареты кончились, но сюда, на вокзал, от решки регулярно шла «Прима», от которой быстро желтеют пальцы и чернеют зубы. Стоять, ходить, курить, несколько минут сидеть, опять стоять. Шаг вперед, шаг назад. Вентилятор иногда выключают, у тормозов сразу повисает желто-серая сырость. Здесь и унитаз, и раковина, на полочке общаковский кипятильник, и все время кто-нибудь кипятит воду. Здесь умудряются умываться и даже мыться, стирать, мыть пол, посуду. День не отличается от ночи, свет не гаснет никогда, тюрьма не спит, живет бурно, мучительно и шумно, круглые сутки. Всю ночь «забиваем шнифт», дорожник мечется на решку, гоняет грузы и малявы, телевизор орет, пока не сдохнет, но мнимая его смерть оборачивается анабиозом, и через час-другой он, скотина, реанимируется. Молодость требует шума даже в тюрьме. Рано, в конце ночи-начале утра звякнула кормушка: «Ребята, хлеб, сахар!» Баландер выдает по количеству присутствующих то, что у арестанта нельзя ни отнять, ни выиграть, ни вымутить. Пайка хлеба — это святое. Краюха черного вдва пальца толщиной и белого (не всегда) — половина того. Плюс неполная ложка сахару. Раздачей хлеба занимается в хате хлеборез. Вопрос решается тщательно, каждый обязательно получает свою пайку. Потом утренняя баланда, обычно недоваренная сечка без соли, от которой, за редким исключением, отказываются все, потому что она желудком не переваривается. Обязательно, когда появляется баландер, кто-то от решки пробирается к кормушке и шепчется с ним, если вертухай не стоит рядом. Баландер — это «ноги». С ним можно тусануть маляву в другую хату, на сборку, на другой корпус, у него же покупается за тюремную валюту — сигареты — ненормативное съестное, например несколько сморщенных сырых картофелин. Баландеры — презираемое племя той части арестантов, которые после суда отбывают срок не в лагере, а там же, где сидели под следствием. Таковые есть на хозяйственных работах, сантехники например, на больнице, на кухне и т.д. Хозбанда, одним словом. Чтобы попасть в нее, нужно, будучи осужденным на небольшой срок за нетяжкое преступление, написать заявление старшему оперативнику — «куму» или «хозяину» — начальнику тюрьмы — с просьбой оставить для отбывания срока на работах в следственном изоляторе, что само по себе означает: решившийся на этот шаг уже никогда порядочным арестантом не будет. Для принятия положительного решения по заявлению необходимо организовать соответствующему лицу взятку или проявить себя за время отсидки под следствием в сотрудничестве с кумом, т.е. участвовать в оперативно-следственных мероприятиях: стучать на сокамерников, если умом обделен, или выполнять более сложные задания, если позволяет уровень развития. «Хозбандит» часто уходит на волю досрочно, не говоря о том, что достаточно свободно передвигается по тюрьме, не голодает, спит не в камере на шконке, а в комнате на кровати, в корпусе, хотя и закрывающемся на ночь, но передвижение внутри которого не запрещено. Хозбандит, как ку-мовской сподвижник (по лагерному — красный) относительно ограждён от мусорского беспредела. Но вот незадача — приходится же хозбанде общаться с подследственными. Самая незавидная доля у баландера, он на границе двух стихий — мусорского хода, с одной стороны, и Воровского Хода, с другой, на границе двух идеологий, там, где две воды смешиваются и двуличие является нормой, в то время когда каждая сторона требует принадлежать только ей и всегда готова к карательным мерам. «Ноги», пойманные с «запретом» (водка, наркота и т.д.) или с непереданной куму малявой, уезжают общим этапом на зону, где процветавшего ранее баландера ждёт менее завидная доля. Если, конечно, нет средств откупиться. Со стороны подследственных тоже подстерегает опасность: могут, например, сунуть в кормушку под баланду раскалённую на самодельной плитке миску, на которой повиснет кусками обожжённая кожа с рук баландера. Могут плеснуть кипятком в лицо через кормушку. Вот и лавирует баландер между двух огней.
В восемь утра — проверка, приближающаяся хлопаньем дверей и простукиванием камер деревянными молотками. Заранее отодвигаются занавески на шконках и решке, откидывается полог перед унитазом. В противном случае все это срывается рукой проверяющего. Прячутся предметы, подпадающие под запрет. На проверке выясняется, соответствует ли количество присутствующих списку, нет ли пьяных и запрета на виду, киянкой простукивается решка, шконари, дубок и тормоза, арестантам задаётся вопрос, все ли в порядке. Желающие могут покинуть камеру под любым предлогом или без него, в любом случае назад не вернут, но побежит по тюремным дорогам весть, и трудно будет ломовому утаить свой поступок и ещё труднее — обосновать, уже вряд ли ему быть порядочным арестантом.
В камеру заглянул проверяющий.
— Что-то вас тут до х..! И все — ни за что, — сострил старшой. — Пошли на коридор!
По одному в шеренгу на продоле. Пока один шарит в хате, другой проходит взглядом по глазам.
— Этот — что? Пьяный? — указывает на меня, спрашивая у смотрящего.
— Нет, старшой, он болеет.
— Ладно. Значит, все нормально?
— Да.
— Заходим. Заявления есть? — давайте.
Опять стоим как кони. Смотрящий со своей пальмы подолгу вглядывается в каждого арестанта, что-то соображая. Время от времени даёт кому-нибудь жёсткую отповедь по поводу каких-либо проступков, после чего в хате на время становится тихо. На мой взгляд, отповеди справедливые. Чувствуется, парень серьёзный и не без образования в обоих смыслах — и в формальном, и в трактовке Карнеги — как способности преодолевать превратности жизни. От семи, говорит, до двенадцати лет. Я скоро на волю, а ему тюрьма и лагерь на долгие годы, и он так спокоен — вызывает уважение.
«Гулять!» — раздаётся команда, как собакам, одновременно с ударом ключа в дверь. Опять муравейник, все одеваются. Если кто замешкался на выходе, тормоза злобно захлопываются перед носом арестанта, и на прогулку идут лишь те, кто вышел на продол. Идти тяжело. В прогулочном дворике сил хватает лишь на то, чтобы стоять прислонившись к стене, наполовину освещённой солнцем. Шумная компания затевается играть в футбол. Вместо мяча — набитый тряпками носок. В момент разделяются на две команды (интересно, по какому признаку) и, как дети, шумно и увлечённо гоняют носок, радуясь забитым голам. Неужели они не сознают, где находятся? Неужели их радость искренна? Вот, например, Дима — веселится больше всех, все ему нипочём. Как это можно понять? Но что это — в разгар борьбы за мяч, вдруг, как бы заслоняясь от солнца, Дима закрывает рукой глаза, садится на корточки, лицо искажается гримасой страдания. — «Что?!» — с тревогой спрашивает еговысокий курчавый парень по имени Артём. Почти невменяемо Дима говорит лишь одно слово «мама», и через секунду, совершив внутри себя какую-то тяжёлую, трагическую работу, снова улыбается, смеётся, бросается к мячу, но игра расстроилась, внезапно, как и началась, тень пробежала по лицам и исчезла, опять весёлые разговоры ни о чем, кто на корточках, кто тусуется. Свежий воздух бьёт в голову, как громкий стук в дверь. Надо ходить. Давай, пошёл, дышать глубже, спокойней. Стоп, не так глубоко. Держаться.
— Подойди, — это смотрящий мне. — Закуривай, — протягивает сигарету. — Я гляжу, ты не в себе. Это нормально. Надо привыкать. Заехал ты сюда надолго. (Ладно! — предупреждает мой протестующий жест. — Все сначала думают, что сейчас домой поедут.) Поэтому теперь главное — беречь здоровье. У нас порядок: если плохо, не скрывать, потому что может оказаться поздно. Соседняя дверь с нашей хатой — кабинет врача, можно обратиться за помощью. Напишешь заявление, отдашь на проверке, врач вызовет. На тюрьме есть больница. Правда, попасть на неё непросто. У тебя на воле кто есть? Родные?
— На воле у меня все есть.
— Понятно. Значит, передачи получать будешь. Продуктовая раз в месяц. Вещевая раз в три месяца. Лук, чеснок — по максимуму. Лечиться здесь нечем, лекарства редкость. На прогулку надо ходить в любую погоду, иначе легко туберкулёзом заболеть. Хорошо, если передадут постельное бельё. Чистота — залог здоровья. Да и смотреть на тебя будут по-другому. Сам-то за что заехал?
— Ни за что.
— Все ни за что, — согласился Володя. — А если серьёзно? Я, например, с ворами в законе работал. А ты?
— А я, наверно, за то, что не работал.
— Кого из воров знаешь?
— Никого.
— У тебя статья тяжёлая, а говоришь неправду. Мне — не надо.
— Я правду говорю.
— Ладно, об этом потом. Сейчас о другом. Следствие — оно само по себе, а здесь другое ведомство. Куму следствие по х.., ему главное — чтобы в хате был порядок, да польза какая-нибудь. Думаешь, за здорово живёшь в хорошей хате сидим? Ты для братвы денег можешь подогнать? Опять же больше шансов, что на общак не попадёшь. Адвокат есть?
— Нет.
— Могу помочь. Например, на воле с кем встретиться, чтоб деньги передали.
— Сколько.
— По возможности. Я по 800 долларов переправляю. Здесь, если деньги есть, братва как на серьёзного человека смотрит.
— Попробую. Пока связи нет.
— Ты подумай. Главное, не молчи, если что.
Было что-то фальшивое в искреннем тоне смотрящего. Но что-то — нет. К сожалению, видимо, именно то, сколько здесь сидеть. Что за человек этот Володя? Год в тюрьме. Мыслимо ли? Да, мыслимо. Однажды в Бутырке к нашей камере на малом спецу, месту приобретаемому за деньги, за продажу сокамерников, да ещё за то, что сам являешься объектом продажи, — подошёл к тормозам некий Вася и попрощался со старожилом нашей хаты: «На волю, Нилыч, ухожу, — говорит со сдержанной торжественностью, — больше статья не позволяет». Шесть лет отсидел. Но, по слухам, рекордсмен Бутырки — восемь лет, и ещё сидит. За судом. Вина все ещё не доказана. После прогулки последовала баланда. Рыбкин суп — на редкость вонючее блюдо. — «Сам ешь свой суп! — дали от решки весёлую отповедь баландеру. — Эй, вокзал, наберите коту рыбы». Ещё не было секунды, чтоб Гоги или Алан не смотрели на меня. На сей раз рядом Алан. Скис, перестал разговаривать, взял ба-ланды, после чего пошёл блевать на дальняк, благо что рядом. Сколько же отгулов дают за день в хате? До вечера, наступление которого можно определить по баланде да по проверке, ничего знаменательного не произошло. Ни хрена все это не снится. Ты в тюрьме. Если не ограничишь круг размышлений, то сойдёшь с ума немедленно. Вот ночь позади, и день прошёл, и снова ночь. Когда стало понятно, что вот-вот произойдёт что-то неординарное, то ли с сердцем, то ли с головой, и уже наверняка, стал пробираться к решке.
Володя, ставлю в известность. Кажется, голове труба.
Смотрящий, расталкивая арестантов, метнулся к тормозам и застучал в них кулаками. Кормушка отворилась тотчас, как будто там ждали. «Срочно врача» — сказал кому-то смотрящий. Сознание ушло не сразу. Начал угасать свет, голоса стали затихать, появилось другое измерение, там не было боли, только ощущение диспропорции и несоответствия ничего ничему. Очнулся на шконке. Гоги рассказал, что меня подтащили к кормушке, через которую сделали укол.
Несколько дней история повторялась. Попытки встать приводили к тому же результату. Тем временем несколько человек ушло из хаты, стало свободнее. У кого-то нашёлся валокардин. Приступы прекратились. Возможно, не последнюю роль сыграл кот Вася. Вот уже несколько дней, как он, пробираясь от решки, где коротает время с братвой и смотрит телевизор, забирается ко мне на грудь или голову, когда я лежу и не в силах прогнать его. Вася безошибочно выбирает, что болит сильнее, голова или сердце, и от Васиного присутствия становится легче. Впоследствии я не раз наблюдал, как Вася устраивается на груди лежащего на шконке арестанта, если последний заболел или «погнал», т.е. занемог душой и разумом. Здоровому арестанту никогда не удавалось удержать кота около себя больше нескольких минут. Кот сам находил мощный источник отрицательнойэнергии, жрал её ненасытно, избавляя арестанта от страдания. Когда мутнел разум от головной боли, становилось легче после того, как обнаруживалось, что на лбу аккуратно лежит кот. Достаточно было посмотреть, кого выбрал Вася, чтобы определить, кому в хате хуже всех.
Несколько дней прошли как сумерки, в которых иногда можно различать голоса.
— Я того род е…, кто его посадил, — говорил дорожник Леха смотрящему. — Вова! Что сказал врач? — в голосе Лехи звучали требовательные ноты.
— Говорит, ничего страшного: или инфаркт, или инсульт.
— Уже?
— Нет. Говорит, скоро будет.
— Ну, суки мусорские! А в больницу?
— Сам знаешь.
Надо отметить, что моё состояние привело камеру в искреннее смятение. Громкость телевизора уменьшили, шуму несколько поубавилось. Но, вопреки прогнозам и ожиданиям, я стал вставать и включился в общий режим. В разгруженной камере (ушли и Гоги с Аланом) появилась возможность спать по восемь часов: три человека на шконку. Стал выходить на прогулку, хотя и не без помощи арестантов.
— Слушай, — сказал как-то Володя, — смотрю я на тебя и не пойму. Ты врачу собираешься заявление написать?
— А что, поможет?
— Попробуй.
Около тормозов на стене приклеена коробочка для заявлений, отдаваемых на утренней проверке. В неё и попало второе моё рукописное произведение в стенах Матросской Тишины. Первым была малява Леве Бакинскому, который пустил поисковую по централу, разыскивая знакомых, и был, оказывается, в соседней камере No 226. Написав ему маляву, я с удивлением получил ответ. Лева сообщал, сколько человек в хате, что чувствуетсебя неважно, но это пройдёт: организм к тюрьме привыкает не сразу; просил загнать сигарет и желал мне и всей шпане всего доброго. Выяснилось, что малява пишется в определённом стиле, а заявление врачу по определённой форме. «Корпусному врачу учреждения ИЗ 48/1 (Так называется следственный изолятор Матросская Тишина. Раньше аббревиатура была СИЗО, где первая буква означала „следственный“. С потерей буквы смысл не изменился, однако сделано это неспроста. Тюрьма — древнейший институт человечества с инквизиторскими традициями; может, где в других краях тюрьмы и приобрели цивилизованный вид, но не в Йотенгейме, а стало быть, основная задача следственной тюрьмы — дезориентация, запугивание и ущемление арестанта с целью выяснения его подноготной, и незачем ему напоминать, что изолятор следственный, человек и без того сразу теряет голову в этом „учреждении“, ему, по простоте душевной, может показаться, что следственный — потому что сюда следователь приходит. А в остальном, конечно, невозможно, разве в таких условиях могут быть подсадные, да они здесь и дня не выдержат. Притупляется бдительность арестанта, развязывается его язык, потребность высказаться берет своё, — а тут уж есть кому — ловят жадно каждое твоё слово, и хорошо ещё если не переврут, пока до кума донесут. В шутку скажешь — всерьёз воспримут (как на таможне). Скорее всего, стукачом окажется тот, на кого и не подумаешь. Ни пальцы веером, ни разбор по понятиям, ни тяжесть содеянного или срок отсиженного, ни высшее образование — ничто не мешает людям за облегчение своей доли продавать сокамерников. Разве можно поверить, что твой близкий, ломавший с тобой хлеб и ходивший за тебя под дубинал, за посул сокращения срока работает с тобой как хороший следователь. И совсем не придёт в голову, что сидишь в тюрьме лишь потому, что желающий выслужиться, приставленный к тебе, окатил тебя своими домыслами с головы до ног — вот и боятся тебявыпускать на свободу. А ответственности за то никакой и никому: изолятор-то следственный! Вот и умалчивает о том государственная аббревиатура.) — от подследственного Павлова А. Н., 1957 г.р., числящегося за Генеральной прокуратурой РФ, содержащегося в камере 228. Прошу оказать мне медицинскую помощь по причине ухудшения состояния здоровья. В просьбе прошу не отказать». По привычке подписал: «С уважением, Павлов». — «Так не пойдёт, — объяснили мне. — Лепила — мусорской, уважения к нему не может быть никогда, как и к любому сотруднику тюрьмы — все до одного они противостоят арестанту». «С уважением» вычеркнул. Никуда меня не вызвали. — «Я тоже написал, — сказал маленький юркий угонщик автомобилей Леха Щёлковский. — Пойду, по приколу, может сонников дадут». Его вызвали. Вернулся довольный как слон, хотя и без «сонников»: как-никак выходил из хаты, беседовал с женщиной. — «Крыса» — беззлобно оценил врача Щёлковский. Смотрящий настойчиво советовал написать ещё раз: на первое заявление обычно не реагируют. Написал. На следующий день стук ключом в тормоза:
— Павлов!
— Есть! — Я кричать не могу, за меня откликаются другие.
— К врачу.
Раскоцались тормоза, пережевав железную жвачку, и вертух сопроводил меня в соседнюю дверь.
Кинематограф. Только что была одна картина, теперь другая. В тишине за столом сидит располагающего вида блондинка в белом халате. Иллюзия поликлиники. Буднично предложила присесть на кушетку. Сейчас поговорим, и домой поеду. Нет, не поеду, — пойду. Рядышком теперь твой дом.
— На что жалуетесь, Павлов?
— Болею.
— На воле надо болеть. Там вы все здоровые, а в тюрьме сразу болеете. Что болит?
— Голова, спина, поясница, правая рука, временами сердце.
— Так уж все и болит?
— Да.
— Что болит больше всего?
— В данный момент голова.
— Давно болит?
— Две недели.
— Вас что — били?
— Да.
— Это не страшно, не вы один. У меня тоже голова болит. Давайте давление померяем. Да, высоковато. Но ничего, пройдёт. Вы, Павлов, мужчина крепкий, выздоровеете. Помочь я вам ничем не могу: в больнице свободных мест нет. Лечитесь здесь.
— Чем лечиться?
— Ну, не знаю. Лекарств у нас мало, а медицинские передачи запрещены. Ничего, сначала все болеют.
— А потом?
Тут женщина смутилась. Вопрос ей я задал спокойно и глядя в глаза.
— Вы, вот, возьмите, — почти шёпотом, косясь на маячившего за открытой дверью на продоле охранника, сказала она и сунула мне в руки три упаковки седалгина. — Только никому не показывайте. Я — правда — не могу Вам помочь.
Слова были сказаны столь искренно, что женщина спохватилась и громко сказала:
— Все! Идите! Как преступление совершать, так вы здоровы. И нечего ко мне ходить!
В камере обступили со всех сторон:
— Дали колёс? Каких?
— Никаких.
Седалгин — сильное обезболивающее с кодеином, мечта наркомана. Горсть седалгина разводят в тёплой воде и «прутся» потом по полной. Выдача мне этих таблеток — поступок рискованный. Согласно тюремнойинструкции, может быть дана, в тяжёлых случаях, одна таблетка внутрь в присутствии врача. На какое-то время седалгин дал мне подобие отдыха от боли, не устраняя, но приглушая её. Нет, нельзя здесь болеть. Рогом упереться, рогом, уважаемый. И не забудь: обвиняешься ни много ни мало в тяжком преступлении, значит, тот, кому это надо, будет стараться. Оснований для обвинений нет, но можешь тереть глаза, ущипнуть себя — оно предъявлено, длинное, устрашающее, не соответствующее действительности ни в чем. Придёт время, генералу это станет ясно, если он искренно думает, что я виноват, если же не искренно, тогда хуже, сидеть придётся дольше, и не получить бы ещё какое-нибудь обвинение. Российское законодательство устроено таким образом, что любого предпринимателя всегда можно привлечь к уголовной ответственности, было бы кому, а кого и за что — найдётся. Например, в производственной сфере, при норме выплаты налогов на один заработанный рубль — в сумму, превышающую рубль, я ещё не видел того, кто бы такие налоги платил. Или, ещё недавно, вся страна обзавелась валютой, открылись тысячи пунктов её обмена, в то время как закон все ещё запрещал иметь гражданам валюту и, если следовать ему, то можно было посадить если не всю страну, то половину наверняка, однако УК все же через несколько лет изменили, и за грехи страны по этой статье пострадали всего-навсего какие-то сотни граждан, что, при малых математических величинах, выглядит даже демократично. Как гласит русская народная мудрость, — не берите в голову (берите в рот). В новый УК ввели ранее неизвестные статьи, которые ещё понимать не научились (например, лжепредпринимательство; что бы это было на российской почве?..), но применять стали. И так далее. Подальше от соблазна месить в болотных сапогах бескрайние российские грязи. Кто занимался бизнесом в Йотенгейме, тому объяснять не надо. Нейдут из памяти застрявшие занозой слова смотрящего о том, что сидеть мне определён-но долго. Когда-нибудь это кончится. Сформулированная в таком виде мысль представляется чем-то весьма надёжным — оспорить её нельзя. Эта мысль потом была мне ярким маяком, фонариком в тумане, свечой во мгле, искрой на краю непроницаемой тьмы; она, как разум, меркла, но никогда не гасла полностью. Что-то там впереди? — за этим тягучим временем, которое то убыстряется, то замедляется, а то и вовсе отсутствует; что это за время — моё или чужое, или общее для всех. Понять нельзя, можно только прожить. «Не бояться страха» — говорит сфинкс. Он прав: есть не только страх, но и боязнь его самого. Страшат две вещи: страдания тех, кто ждёт на воле и смерть в тюрьме (человек должен умереть свободным). Страх отражается слепым светом в серых зеркалах, преломляется и множится, победить его нелегко. Но это же твоя традиция — преодоление. Так побеждай. Возьми тетрадь и зачеркни крестом ещё один день, трудный, но все-таки пройденный, в прямом и переносном смысле. За все время отсидки я не мог понять, как арестанты могут сидеть и лежать сутками. Я ходил всегда, когда хватало сил, через боль, через не хочу, через не могу.
Прошла вечерняя проверка, перекрутили день и число самодельного календаря, и зажила тюрьма особой ночной жизнью. Оживляется дорога, оживляются разговоры, и души арестантов горят и плавятся как свечки. «Таганка — все ночи, полные огня»… Пошёл пятнадцатый день в МТ, а ни с кем и разговаривать не хочется. Хочется, чтобы улей замолк. Иногда смотрящий или дорожник рявкнет на хату, чтобы звук поубавили, но через пять минут все по-прежнему: тюрьма — не запретишь. Особенно достаёт цыган, неудачно пытавшийся приделать мне погоняло. В любом коллективе находится язык без костей. Ему бы электричество вырабатывать. Молчит только когда спит, и все время просит у меня кружку, присоединяясь ко всем, кто чифирит. А отказать нельзя, таковы правила. «Что ты у него постоянно круж-ку просишь, разве не видишь, что ему неприятно тебе её давать?» — вмешался с пальмы смотрящий. То ли вообще все замечает, то ли за мной наблюдает. Порядок в этом вавилонском столпотворении — его заслуга. Какой-то человекообмен в хате происходит, кого-то забирают, кто-то приходит. Если прибывший грязен или с насекомыми, его заставляют стираться, мыться и кипятить в тазике одежду, после чего кипятильником уже не пользуются, а разбирают на части, которым всегда находится применение в скудном камерном хозяйстве. Все нужно, каждая нитка, каждая проволока. Чтобы зашить рваные тапки, пещерным способом делается иголка, нитки берутся из одежды; чтобы сделать растяжки из канатиков, в стене долбятся какими-то железяками дыры, а в них вплавляют пластиковые куски авторучек, за которые и крепят верёвки. Несколько человек все время заняты каким-либо поручением смотрящего, с тем обоснованием, что порядочный арестант вносит посильный вклад на благо хаты, а фактически ясно, что отношения с Володей могут повлиять на передвижение арестанта по тюрьме, т.е. на общак никто не хочет, ибо там якобы и жизнь по понятиям, и нет прощения ошибкам, и беспредел, и условия нечеловеческие, в которых и умирают и убивают. В общем, страх. А Вова и не скрывает, что общается с администрацией. Он, смотрящий, ведёт переговоры с кумом. У этих противостоящих (в классическом варианте) сторон задача, по сути, одна: чтобы в камере был порядок. А дальше — диалектика жизни. Потому что порядок понимается по-разному. Так что, смотрящий — фигура непростая. Володя сидит в хате 228 уже год, как и дорожник Леха Террорист, как Слава. Остальные долго не задерживаются.
— Ты как в работе — аккуратен? — задал мне вопрос Володя, вызвав к решке.
— В принципе, да.
— Тогда трудись. Вот тебе мойка, журналы, бумага. Будем облагораживать хату. Присаживайся за дубок ивперед. Время убивается очень хорошо.
Вот ведь удача, что можно посидеть за столом, где обычно сидят только во время еды.
Оклеенные картинками стены и потолок — большое подспорье. Смотришь на какой-нибудь луг в ромашках, и легче становится.
— Когда, — говорю, — нужно закончить?
— А ты куда-нибудь спешишь?
Нет, не спешу. Здесь дышится легче. В столь малом помещении в различных его частях — такая разница в температуре и влажности, что у тормозов как бы баня, а здесь предбанник. Так что я не против, я бы отсюда и не уходил до самых четырех часов ночи, когда наступит моя очередь спать. Часы у дорожника есть, но интересоваться, сколько сейчас времени, как-то странно, хотя и хочется. Когда у меня будут свои часы, выяснится, что с ними время преодолевается легче.
— У тебя почерк хороший? Нужно Воровской Прогон переписать.
Что-то Володе от меня надо.
Воровской прогон оказался документом серьёзным.
«Мира и благополучия Вам, каторжане! Счастья, Здоровья, процветания на Воровском ходу и — Свободы Золотой! Мы, Воры, обращаемся ко всем порядочным арестантам, достойным нашего Общего святого дела, с призывом донести содержание этого Прогона до каждого интересующегося арестанта. С каждого, кто будет чинить препятствия для ознакомления с Прогоном, должно быть спрошено со всей строгостью.
В последнее время усилившийся мусорской террор выбивает из наших рядов лучших представителей Воровского движения. Мы должны сплотиться перед угрозой мусорского хода, забыть междоусобные распри для достижения победы святых целей Воровского Хода. Нет ничего выше Общего, и суд Воровской — самый справедливый суд. Каждый порядочный арестант должен способствовать процветанию Общего дела, препятствуяопорочению и искажению наших идеалов и ценностей, должен следовать традиции и обычаю каторжан, независимо от национальностей. Не должно быть никогда и нигде национальной розни. С того, кто не следует этому закону — спрос. Нельзя допускать самосуда над провинившимся. Мусора только и ждут повода поссорить нас между собой и одержать над нами победу. Любые проступки должны быть рассмотрены и оценены Вором или назначенным им доверенным. Никто не может чинить препятствия к свободному обращению к Вору. Нельзя отпугивать от нас молодых, ещё не полностью понимающих наши ценности, но интересующихся арестантов, мы должны разъяснять им наше отношение к Общему, смысл и значение Воровского Хода, нужно давать возможность исправить допущенные ошибки. Нет проступка в том, чтобы привлекать, в наших целях, к нашим делам представителей администрации тюрем, лагерей и охраны, и даже самих мусоров из руководящего состава, независимо от их звания. Наоборот, надо всячески привлекать их к решению наших проблем, по возможности использовать всемерно любого их них. Напоминаем, что нет и не может быть половых наказаний, наказания хуем — не существует. В игре всегда придерживайтесь установленной нормы. Предел игры в долг — 200 долларов. Выше планки играть запрещается. Не должно быть злоупотреблений отравой при решении серьёзных вопросов. Смотрящим за положением следует обратить внимание всех арестантов на должное отношение к хлебу, за надругательство над хлебом — спрос. Призываем всех Порядочных Арестантов содействовать Общему Благу пребывающих на Кресте. Помните: больница — святое место. Память безвременно ушедшим от нас на Кресте!
На этом решили мы, Воры. С искренним пожеланием Всех Благ и скорейшего Освобождения».Далее следовал длинный список подписавших Прогон Воров в законе с различных централов и этапов.
— Оставь у себя экземпляр. Спрячь в баул получше.Если перекинут в другую хату, можно будет передать другим, — посоветовал Володя.
Нет, с этим я спешить не стану. Во-первых, не моя стихия, и любить её мне не за что. Во-вторых, ещё один удар по позвоночнику — и я инвалид, в лучшем случае. Впрочем если по голове, то, наверно, тоже. Кроме упорства, есть пределы прочности материала. Так что храни свой прогон у себя.
— Зачем рисковать лишний раз, если в каждом бауле будет по прогону. Когда перекинут в другую хату, тогда и возьму.
— Можешь не успеть. Или я буду на вызове.
— Во-первых, успею. А если тебя в хате не будет, то у Щёлковского возьму, у него же есть копия.
Настаивать Володя не стал. Обоснованный и решительный ответ сомнению не подвергается. В чем-то, самую малость, я Вову разочаровал, зачем-то ему хотелось, чтобы прогон был у меня, может для шмона грядущего?.. Правда и ложь в тюрьме, как и на воле, идут взявшись за руки, редко кто рискует их разомкнуть, почти все гнусные дела творятся под высоким знаменем идеологии: воровской, советской, мусорской или какой-нибудь ещё, не менее возвышенной и безусловно самой человечной. Хорошее, так называемое доброе дело не может быть результатом воззрений, а только проявлением внутреннего существа. Взгляни свободно, и не надо теорий, сразу увидишь, каков он есть на самом деле, человек. Можно годами обжигаться на людях, пытаться различить — и не различать, но вот тюрьма: заходит в камеру арестант, и даже говорить с ним не обязательно: он ясен весь. Этот тюремный феномен известен давно, недаром придумали в интересах следствия пользоваться услугами самих арестованных. Другое дело — доказательства. Но это следствию не страшно, много существует в русской тюрьме способов доказательства, а перебравши их по очереди, глядишь, товарищ следователь, уже и имеешь ты королеву всех доказательств — при-знание обвиняемого. На дыбу, конечно, не подвесят (нету дыбы), но к водопроводной трубе на наручниках — могут (видел я шрамы на запястьях, у того же Левы Бакинского), кнутами тоже бить не станут (нету кнутов), но резиновые дубинки, ласково именуемые дубинал-натрием, — тоже хорошее снотворное; нет, не дождётесь нарушения прав человека (нет таких прав), не вобьют вам клин в испанский сапожок, не беспокойтесь, всего-навсего зажмут аккуратно пальцы в ящике стола, за которым кум угощает чаем твоего следователя, да полиэтиленовый пакет на голову — не бойтесь, не насмерть — на время, чтоб оценил и понял: бесплатно кислородом дышишь; а уж пытки электрическим током только самые безбашенные мусора допускают, и то редко (я сам всего лишь от четверых прошедших через это слышал, да и выдумщики они, наверно! Как и сам я выдумщик этих правдивых, но никак не возможных в наше просвещённое время историй). Есть ещё разные мелочи, например нечеловеческие условия содержания под стражей. — «Но это уже и не пытка — просто испытание. И что такое „нечеловеческие“ — живут же арестанты, и почти все выживают» — так скажет любой следователь. — «Просто — это жопа, — ответит ему арестант. — Конечно, нет, не будет и быть не может прощения российскому менту, только последняя мразь может принять этот облик. Нет, положительно, никакой возможности не согласиться с утверждением „всех ментов в гробы“. Если же найдётся хороший мент, то и гроб для него тоже может быть хорошим».
«Где факты?!» — спросит возмущённый читатель. Отвечу уклончиво, на правах автора лирического отступления: «Да там. Где каждый четвёртый россиянин. Где все мы творим свою жизнь по своему разумению. Россия — странная страна…»
Глава 15. АДВОКАТ
— Павлов! На вызов!
Обыскав на продоле, вертухай повёл меня куда-то по тюрьме тихими коридорами, озирающимися огромными металлическими дверями, за которыми не слышно ровным счётом ничего; на некоторых наклеены бумажки с надписями: «строгий карантин — гепатит», «строгий карантин — менингит», «ВИЧ», мимо таких идти жутко. Но и без них не радостно: будут ли бить, предстоят пытки или обойдётся. Не отстать бы от вертуха. Этот, как молодой козлик, скачет по этажам, как бы в забаву хлопая дверьми и стуча ключами по всему железному. Заперли в маленький тёмный бокс, можно только сидеть или стоять, последнее лучше: слишком негигиеничный боксик. А ещё могут запереть в «стакан», в нем можно только стоять, похуже карцера будет, но в него редко больше чем на сутки запирают. Стакан хорошо воспи— тывает терпение. Нетерпеливому в тюрьме вообще трудно, терпение на грани равнодушия неизменно потребуется арестанту, чтобы не сойти с ума, не быть избитым до смерти, не разбить в отчаянье о тормоза голову, не потерять окончательно человеческое достоинство. Окончательно — потому что тюрьма лишает любых прав, кроме одного — попробовать это пережить, и с достоинством человеческим получается как-то относительно.
После бокса свет режет глаза. Привели в коридор с обычными, дверями, некоторые из которых приоткрыты, чего, кажется, уже и не бывает. Посередине за столом дежурная тётенька. Следственный корпус. Здесь встречаются с адвокатами, которые, как правило, хорошо одетые, сытые и уверенные, холёные и спокойные, поджидают своих клиентов здесь же. Мы же проходим куда-то насквозь, наверх, в небольшой коридор. Робко постучавшись, вертухай так же робко сообщил, что вот, мол, Павлова привёл, примут или подождать. Небольшой ка-бинет, за окном с белой решёткой виден жилой дом. Окно висит на стене, как картина, символизирующая притягательность и недоступность нормальной жизни. Мне предложен стул посреди комнаты, а за столом двое в костюмах и галстуках, оба сосредоточенно листают бумаги, делая пометки.
— Так вот как Вы выглядите, Алексей Николаевич. Совсем неплохо. Я думал, Вы гораздо старше. Я — следователь Генеральной прокуратуры Ионычев Вениамин Петрович. У нас начинается с Вами интенсивная работа: допросы, множество очных ставок, экспертизы. Все это потребуется для оформления доказательств Вашей виновности, которая у нас не вызывает сомнения. У Вашей жены есть подруга Нина?
— Я не женат.
— Но Вы же знаете, кого я имею в виду.
— У того, кого Вы имеете в виду, вполне возможно есть подруга Нина.
— И она могла обратиться к помощи адвоката для Вас?
— Не исключено.
— Дело в том, что в делопроизводство по уголовному делу, в котором Вы являетесь главным обвиняемым, вмешался адвокат, к которому Вы не обращались, — Ионычев, как бычок, повёл головой. — И Вы, Алексей Николаевич, не возражаете против его участия?
— А сколько я имею право иметь адвокатов?
— Вопросы, гражданин Павлов, буду задавать я. От Вас требуются только ответы.
— Теперь, — вступил в разговор второй в костюме, — я полагаю, Вы дадите нам возможность побеседовать вдвоём?
— Алексей Николаевич, это Ваш адвокат — Косуля Александр Яковлевич, — с сожалением отозвался Ионычев и вышел из кабинета.
— Алексей, тебе привет от человека с Бермуд.
Этого можно было ожидать меньше всего. Сколько лет прошло. Обвинение, предъявленное мне, если и имеет основание, то, скорее всего, по отношению именно к нему — человеку с Бермуд, потому что он стал после меня хозяином банка и известен как специалист по финансовым операциям, проходящим по граням законов. Встречались мы с ним в «Треугольнике» — кафе, которое прозвали меж собой Бермудами. Больше ни с кем там я не встречался, сомнений нет, речь идёт о нем. Но мы давно не друзья: в бизнесе их не бывает. В чем же дело, и как он узнал обо мне. Неужели память о дружбе — не полная иллюзия? Что это — помощь от него, или у него самого неприятности, и это — провокация?
— Признаться, я не знаю, о ком Вы, Александр Яковлевич.
— Я сам не знаю. Мне позвонила какая-то Нина, представилась подругой твоей жены и попросила тебя защищать. И привет передала. Ещё сказала, чтобы ты забыл человека с Бермуд. Как будто его не существует. И не только Нина просила. На, читай. Быстро! — Косуля дал мне прочитать, не выпуская из рук, записку, после чего сжёг её.
Как бы там ни было, а приходилось верить. Теперь понятно. Адвоката Косулю я видел однажды с этим самым человеком с Бермуд — это раз. Мой зарубежный адрес для него не тайна — это два. А главное, когда-то очень хороший знакомый стал сегодня мне смертельно опасным врагом, явившись под личиной друга к моим близким и родным, которые не подозревают, что стали заложниками. Что-то стало сильно мешать. Это подступили большие геометрические фигуры и под колокольный звон стали наполнять тело и сознание, голову обволокло тошнотворное чувство бесполезной попытки укусить огромный шар.
— Ты должен отказаться от любых показаний, — шипел на ухо Косуля. — Это приказ. И ни при каких обстоятельствах, ни следователю, ни в камере, не должен ничего говорить. Иначе — ты не маленький и все пони-маешь.
— Не бойся, — уже громко говорил адвокат, — статья у тебя благородная, никто тебя не тронет, тем более что я буду тебя защищать, со мной считаются.
— Мы тебе поможем, — опять зашептал Косуля. — Если что будет плохо в камере, имей в виду — там есть такой Славян, он связан с кумом, через него можно передать.
Глава 16.
Что передать? Кому?..
Итак, все связаны со всеми, а сидеть мне долго, рассчитывая лишь на себя, и не только пользоваться правом молчать, но и быть обязанным это делать, в противном случае не только моя жизнь ставится под сомнение. На сегодняшний день человек с Бермуд — фигура сильная и опасная, здесь и политические, и финансовые, а равно и уголовные круги плавно растворяются в российских спецслужбах, я-то знаю не из газет. Однажды отказавшись участвовать в этом мутном водовороте, я думал, что, лишившись банка, стал свободен, и ошибся. Ничто не остаётся без последствий. Один мой знакомый, высокопоставленный госчиновник в Японии, человек исключительно осторожный в высказываниях, узнав, что я организовал банк, сказал, что в России банк без мафии существовать не может. Горячо возразив ему, я отметил, что банк слишком мал, чтобы привлечь особое внимание, что я — его единственный хозяин и все контролирую. «Вы совершаете большую ошибку» — сказал японец.
Пришедший с вызова становится в хате предметом живого интереса: у кого был (у адвоката, кума, следака, врача и т.д.), о чем шла речь, что принёс. Адвокат — это «дорога» на волю, через него передают письма, просьбы, поручения, от него приносят кто что, от иголки до нар-котиков. Вызов к адвокату — это движение. Все события, действия и поступки на тюрьме обозначаются этим словом; если же их нет, то говорят: «Движуха на нуле». До сих пор к адвокату ходили Вова, Слава и Артём. Володя, перед тем как пойти, одевался в костюм с галстуком, чем поражал вновь прибывших, потому что у большинства трусы — и те последние. Возвратившись, Володя извлекал из своих бумаг и карманов невероятные вещи: ножницы, скотч, перец, иголки, порошок от тараканов, одеколон и т. д. Выходит, его не обыскивали. Слава удивлял сокамерников порнографическими журналами. Артём, вернувшись с вызова, долго боролся на дальняке с проблемой заглублённой торпеды. Артёма обыскали тщательно, заглядывая даже в рот, но в задний проход заглядывают редко, и Артём удачно пронёс свёрнутые трубочкой запаянные в полиэтилен деньги («лавэ», или LV при упоминании в малявах). Пронёс — твоё, можешь даже задекларировать у воспета (есть такая тюремная должность — воспитатель) и положить на личный счёт. Я же не принёс ничего, как тот рыбак, что пел «эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего», чем разочаровал многих (даже разрешённой пачки сигарет не взял). Вспыхнувший общий интерес погас, но скоро позвали к решке. Отчитаться у братвы — обязательно; опять же, может, у кума был, посмотрят, будешь ли скрывать, а скрыть-то как раз и нельзя, особенно от тех, кто давно сидит, все равно как отрицать возможность рентгена.
— У кого был? У следака или адвоката?
Хорошо они здесь живут. Если сравнить камеру с горячей сковородкой, то здесь будет её ручка: худо-бедно обмотал тряпкой, можно взяться. Тянет вздохнуть поглубже, у решки есть чем, так, по крайней мере, кажется. Кстати, откуда такая дурацкая образность мысли? А, вот откуда: на полу разложен разогнутый кипятильник, превратившийся в электроплитку, на нем миска с кипящим маслом, сейчас колбаску будут жарить.
— У обоих, — отвечаю.
— Ты же говорил, у тебя нет адвоката, — заметил Володя.
— Появился.
— Откуда?
— Трудно сказать.
— Понимаю, — кивнул Слава. — Ты не напрягайся. Не хочешь говорить — не говори, никто заставить не имеет права. Мы чисто по-свойски, может чем помочь сможем. Может, ты поможешь. Адвоката-то кто нанял?
— Погоди, Славян, — встрял Володя, — человек сказал: не знает.
— А следак что говорит?
— Пока ничего.
— А ты?
— И я ничего.
— Значит, в отказе. Зря. Если не виноват, чего молчать. Надо доказывать, что не виноват.
— А по-моему, не надо.
— Можешь, конечно, ничего не говорить, — философски развёл руками Славян. — Так и будешь сидеть.
— Я не спешу.
Здесь я, конечно, соврал. Пешком и голый домой идти согласен.
— В шашки, шахматы играешь?
— Всегда и в любом состоянии.
— Хорошо играешь?
— Нет, но с удовольствием.
— Заходи попозже, сыграем.
Стало быть, это и есть Славян. Получил семь лет за мошенничество, написал касатку, ждёт ответа. В Матросске сидит три года, говорит, привык. В шахматы и шашки резались до утренней проверки, с перерывами на допрос. По характеру вопросов, довольно искусно вплетаемых в разговоры о разном, стало понятно: или меня всерьёз подозревают во всем на свете, вплоть до убийства, или твёрдо решили пришить хоть что-нибудь. Хуже всего, что вероятно и то и другое, как по отдельности,так и вместе. «Следи за каждым словом» — вспомнился совет Бакинского. Но надо как-то бороться. Чем руководствоваться, на что опереться в тесной невесомости? Ответ поразил ясностью и ёмкостью, — как о само собой разумеющемся, мимоходом кому-то сказал Вова: «Главный принцип в тюрьме — не верь, не бойся, не проси». Может, читающему эти строки ничего не покажется особенным в этих словах, но он вспомнит их, если, не приведи случай, занесёт его в ярко освещённый гроб, набитый шевелящимися покойниками, — йотенгеймскую тюрьму. Шашки и шахматы со Славяном стали обычным делом. Слава рассказывал истории о своих преступлениях, пытаясь разговорить и меня, а Володя приглашал для корректных бесед, предложил книги, неведомые ранее — УК, УПК, комментарии к ним, методические рекомендации в помощь следователю; даже текст Конституции оказался к месту. Можно было сожалеть, что предмет в целом не знаком и образовываться приходится в бедламе, но занятие появилось. Володя охотно всем давал советы, как вести себя со следователем, советы не лишённые здравого смысла, которого в хате определённо чувствовался недостаток.
— Тебя приглашают в семью, — сказал смотрящий. — Знакомься: Артём, Леха Щёлковский, Дима Боев. Мы посовещались, они не против. Я правильно понял?
— Да, мы — за, — отозвался Артём.
С ним мы уже нашли отвлечённые темы для разговоров. Было что-то человечески располагающее в этом парне, обвиняемом в убийстве в составе организованной группы. Трудно сказать, почему, но со временем стало ясно: мы готовы поддержать друг друга. С Щёлковским симпатий не было, но и антипатий тоже. За ним — организация банды несовершеннолетних, угоны машин («28 картинок в делюге»). Дима Боев — личность неприятная, всех разговоров — как наркотой одурманились да очередную квартиру взяли, но не до симпатий нынче. Зато теперь шконка в средней части хаты, спать можнопо шесть часов и голодать не придётся: кому-нибудь да придёт передача. — «Ты, — говорит Дима, — интересуешься тюрьмой, это видно. Вова предложил, мы согласились». Вдруг стало трудно постичь, как коротались времена у тормозов; казалось бы, это рядом, в трех шагах, а на самом деле далеко; вон где-то там, на горизонте, толпится народ в вонючем сыром облаке; здесь же климат умеренный, и есть несколько человек, которые друг за друга. В общем, жизнь наладилась. Вроде никого не бьют, не пытают. Поговорив с семейниками, узнал, что в ментовке досталось всем, там это обязательная программа, здесь же, говорят, бывает, но редко, и если не покалечили сразу, то, скорее всего, обойдётся. Главное — не гони. — «Я, когда гнал, — рассказал Артём, — одиннадцать суток не спал, чуть не сошёл с ума». Конечно, я ему не поверил: с точки зрения науки, это несколько смертельных доз. Позже, в Бутырке, довелось мне недужно бодрствовать шесть суток, и уж тогда я поверил. «Гонки» — процесс примечательный. Случается с каждым. Вдруг человеком овладевает возбуждение и отчаянье, и, если он недавний арестант, то начинает красноречиво защищать себя, как в суде (любой адвокат позавидует), да так, что всю хату на уши поставит. Давний арестант гонит молча, и только слышно, как плавится металл: смотреть страшно и подойти боязно. А если погнал и потерял голову, тут как тут доброхоты с расспросами.
После вечерней проверки смотрящего обуревала жажда деятельности: то объявлялась генеральная уборка и наступало вавилонское столпотворение с доставанием из-под шконок баулов, мытьём полов, стиркой занавесок и тряпок, дающих неизменно коричневую воду, выскабливанием кусками стекла дубка, гомоном и матерщиной, то сам Вова брался за какую-нибудь благородную работу по косметическому ремонту или вырезал и клеил, тщательно, с умыслом, «обои» из картинок и журнальных листов (так у меня перед носом появилась статья обучастии известного вора в законе, ныне официально называемого на телевидении известным предпринимателем, в деле, по которому, похоже, обвинён я; а Вова внимательно следил за моей реакцией при чтении), то устраивал череду собеседований, подыскивая ключ к каждому. Вспышки активности заканчивались тем, что взгляд у Вовы становился блестящим, потом тускнел, речь замедлялась, становилась бессвязной, и, едва забравшись на пальму, он засыпал. Компанию по приёму внутрь колёс всегда составлял ему Славян, иногда прихлёбывая таблетки бражкой, изготовленной из сухофруктов и сахара. Иногда в подобном состоянии оказывался кто-то ещё, чаще Артём, что не удивительно: в его делюге нет доказательств, а колёса с бражкой — подспорье на пути к их получению. К тому же пьянка есть пьянка, и этим все сказано. — «Володя, а если спалитесь, что тогда?» — «Дубинал. Могут хату раскидать. Смотря кто дежурит на продоле. Запал раз в два месяца — это обязательно, — с удовольствием пояснил Вова. — Держи, это тебе. Только сразу ложись спать. В тюрьме должна быть какая-то разрядка. Героин в хате я не разрешаю, а колесо — выпил, и все нипочём». Две крошечных таблетки, бережно отсыпанных из беспалой ладони Вовы, как от сердца оторванных, я принял с благодарностью и втихаря спустил в унитаз на дальняке.
Один человек в хате, казалось, живет отдельной самостоятельной жизнью — Леха Террорист. Брагу не пьет, колес не ест, весь день спит, на прогулку ходит редко, ночь напролет колдует на дороге. Дорога — это святое. По ней переправляют малявы, сигареты, шахматы, наркотики, одежду, еду, деньги, бумагу, лекарства, магнитофонные кассеты и т.д. Реснички на решке в каком-то месте обязательно разогнуты так, чтобы проходила рука. Как удается их разогнуть, предположить трудно, они толстые, но арестанты чего только не придумают, иначе как объяснить, например, что в хате имеется огромная металлическая кувалда, предмет, за кото-рый можно поплатиться. Или канатики. Безусловно, они — запрет, но, сколько ни отбирай, все равно они появляются. Уметь плести канатики — несложное, необходимое и уважаемое дело. Из пары тонких носков можно сделать несколько метров веревки. Носки распускают на нити, нитки закручивают подвешенным на них фанычем. Из свитера получается довольно длинная веревка. Обычно к решетке прикреплена «контролька» — нитка, ведущая к веревке. С наступлением вечера ниткой подтягивается веревка и — дорога в работе. К нам дорога идет сбоку, все время на контрольке, от нас — вниз. Дав «цинк» несколькими ударами в пол и получив положительный ответ (один удар — «расход», т.е. сейчас нельзя, опасно), Леха взлетает на решку, кричит: «Кондрат, держи коня!» — кидая на веревке груз (например, пластиковую бутылку с водой). Конь грохочет о жестяной козырек над нижней решеткой (эти козырьки над решетками, дополнительное средство изоляции арестантов, раньше называли то ли ежовскими, то ли ягодовскими), кажется, на этот звук сбегутся все менты, но этого не происходит, дорожник внизу улавливает удочкой (палка или бумажная трубка с крючком) веревку, и посылка пошла. Два раза в неделю налаживается БД (Большая Дорога) на больничный корпус, до которого несколько десятков метров. Из газет изготавливается «ружье» — длинная трубка, под него делается коническая бумажная стрела, в которую вкладывается тонкая нить, стрела вставляется в ружье, и кто-нибудь, у кого легкие сильные, выстреливает стрелой в окошко на больничном корпусе (там окна без ресничек), где уже готов «маяк»: держат на вытянутой на улицу руке удочку, чтобы поймать пущенную на нитке стрелу. После того как удается «застрелиться», иногда через несколько часов бесплодных усилий, по нитке переправляют веревку, а по ней — грузы, предназначенные на больницу ( т.е. Общее, собранное со всего корпуса), а также малявы, посылки знакомым, поисковые. Менты об этом знают, но Общее — это святое, на него не посягают. Возможно, есть договоренность между администрацией и Ворами о беспрепятственном передвижении Общего по тюрьме, скорее всего в обмен на какие-то уступки. Во всяком случае, за год в двух тюрьмах я не видел и не слышал, чтобы Общее было под угрозой изъятия. Перед отправкой в хате скапливается довольно большое количество сигарет, «глюкозы» (сахар, конфеты), все тщательно расфасовывается в полотняные мешочки, подписывается и уходит с сопроводом — списком камер, через которые груз прошел, и адресом, куда и кому. Немного странно, с какой серьезностью Леха занимается дорогой, потому что никто из нас не остается голодным, независимо от симпатий, антипатий или состава семей, все так или иначе друг друга поддерживают, и передачи приходят, и всем хватает, создается впечатление, что так везде, а слухи о голоде преувеличены. Леха живет своей дорогой. Любые попытки заговорить с ним о его или чьей-то делюге пресекает на корню, но со временем выясняется, что и он пережил период бурных объяснений с участливыми сокамерниками. Молчи, грусть, молчи! Молчи и ты, арестант! Не забывай: дуракам закон не писан; если писан, то не понят; если понят, то не так. Живешь-то в стране дураков. И сам такой же. Как сказал «порядочный арестант» с высшим образованием, «смотрящий» за хатой 228, добровольный и неглупый соратник кума, тонкий психолог (как ему самому кажется), в миру, наверно, неплохой парень Вова Дьяков, — умные в тюрьме не сидят. Да, пережил Леха свои гонки, понял ситуацию, только вот незадача: получил по своей статье максимум возможного. Надо думать, благодаря Славяну или Володе. Но это было потом, а пока, глядя на Леху, я корректировал свое поведение. Одним молчанием обойтись, оказалось, нельзя. К примеру, из вопросов, заданных Славяном, понял, что убит банкир, которого я знал, а мне готовится обвинение в его убийстве. Пришлось изложить подробно, где я был во время убийства, и чеммогу это доказать. А был, к счастью, не в России, и доказать это нетрудно. Ладно, дальше легче, но тоже экзотично: а что я делал в Америке с украденными миллионами. Что ж, был я в Америке. Только давно. Десять лет назад. И это доказать могу. Хотя уже хватит. А то как-то Вова, наглотавшись колёс, с грустью поведал мне: «Ты лучше вообще молчи. Думаешь — все в ёлочку, а объебон получишь — будешь улыбаться». Это правда. Уезжает арестант на суд, думает, получит три, максимум пять. Возвращается в хату — и, действительно, улыбается: десять. Или двенадцать. Странный ты, Вова, человек, но, что бы там ни было у тебя на уме, благодарю за совет. С Лехой или Артёмом проще, они если идут на разговор, то ни о чем. Приятно понимать, что человек без задних мыслей. Стоп. Приятно? Значит, не все так плохо. Впрочем, надо быть начеку неустанно. Тюрьма подстерегает неожиданными опасностями. Например, вновь прибывшим в камеру дают возможность отдохнуть сразу, потому что человек с этапа, со сборки, но, несмотря на то, что ты, может быть, не спал и не ел несколько суток, надо зайти в хату бодро, чтобы хватило сил на беседу с братвой, от этого зависит, как минимум, где первоначально устроишься. Мелькнёт на лице у вошедшего чувство неуверенности, ещё хуже — страха, и тут же следует провокация.
— Ты какой масти? — допытывается Цыган у только что прибывшего юнца. Тот хорохорится:
— Нормальной!
— Какой нормальной? — не унимается Цыган, — красной?
— Не красной.
— Значит, чёрной?
Замешкался новичок. Знает, наверно, что красные — это кумовские, а вот чёрные…
— Какой чёрной? — буксует парень.
— А какие ещё бывают? — экзаменует Цыган.
— Ну, мужик-там.
— Не там, а мужик. Мужик — он какой масти? Ты — мужик?
Все, парень потерялся. Беда его в первом же ответе. Сейчас ему укажут и рост его и вес. Долго ему у тормозов тусоваться. Выручает парня смотрящий:
— Что там за масти? Ты собак сортируешь, или ещё о чем. Давай сюда, к решке.
Новенький протискивается с баулом.
— Ты куда собрался? — интересуется Вова.
— Сюда, — угловатый молодец уверен, что победил.
— Присаживайся, коли сюда, — соглашается Вова.
Парень ищет глазами свободное место:
— Куда вещи поставить?
— Подержи у себя. По воле чем занимался?
— Я грабил. В электричках.
— Заехал за что?
— За кражу.
— Что украл?
— Магнитофон и шубу. В квартире. Я свой.
— Работал?
— Работал. На муниципальной стоянке контролёром.
— Значит, на муниципальной?
— Да.
— То есть на ментовской.
Угловатый мнётся, что-то предчувствуя:
— Нет, на муниципальной.
— Муниципальная милиция. Муниципальная стоянка. Красная. Так какой ты масти?
Угловатый, с достоинством и обидой, решил разом разрешить все сомнения:
— Да жил я этой жизнью!
— Этой — это какой? — уточнил Славян, — половой? А в пилотку нырял?
— Что значит, в пилотку?
— Ну как, что. Если половой жизнью жил, значит, девушка у тебя была?
— Была, — подтвердил угловатый.
Славян же ровным голосом продолжал, как бы признав своего и помогая ответить правильно, да, мол, все понимают: девушка была, в пилотку, стало быть, нырял:
— Если была, значит, нырял. Или вы с ней не по-взрослому?
— По-взрослому.
— Значит, нырял?
— Нырял.
— Вот и договорился, — констатировал Вова. — Возьми свой баул, иди к тормозам. Там тебе разъяснят про пилотку.
Тем временем в хате стало почти тихо. Отовсюду, как серые блины, поблёскивали лица.
— Скажи спасибо администрации тюрьмы, что таких, как ты, сначала на спец направляют. На общаке тебя уже сделали бы петухом. Образовывайся. Будешь из себя меньше корчить, больше интересоваться — может, поумнеешь. Иди.
Надо сказать, наука тюремных понятий несложна, и знать её необходимо. А то попутаешь все на свете на свою голову. Интересуйся, не строй из себя умника. Тюрьма нас всех одной крышкой придавила.
— Артём! Как быть-то на общаке? Как себя вести?
— Как здесь, — ответил Артём и продолжил вполголоса: «Ты с Вовой аккуратно. Он не умный, он хитрый. А повлиять на передвижение по тюрьме может».
— Артём, сколько ты в тюрьме?
— Шесть месяцев.
— И все на спецу?
— Да. Пока тобой интересуются, маловероятно, что на общак отправят. Но могут.
— Как ты думаешь, на общем сильно хуже?
— Думаю, так же, только теснее. Говорят, там даже на боку спят.
Перспектива съехать на общий корпус открылась перед большинством обитателей хаты, потому что хоть онаи не резиновая, но народу набилось столько, что коту Васе стало тесно, и стало ясно, что скоро раскидают. Дима Боев из кожи вон лез, чтобы угодить смотрящему, изображая бурную деятельность на благо хаты, но вот начали вызывать с вещами, и не удержался Дима на спецу. К майским праздникам на общак съехали почти все, стало неожиданно просторно, у каждого по шконке. Если к плохому человек привыкает постепенно, то к хорошему — сразу, тут же кажется: так будет всегда. Одно неприятно: выходные. Любой нерабочий день — тягучий застой. Не любят арестанты ни выходных, ни праздников, которые не сулят никакого движения, и каждый считает дни, зачёркивает клетки в своей тетради, надеется на завтрашний день. — «Ты так с ума сойдёшь, — сказал Вова, увидев, как я старательно вывожу крестик на числе 1 мая. — Лучше зачёркивать неделями: дни тянутся медленно, а месяца бегут». Думал, шутит. Оказалось, правда. Бывает, начинаешь секунды считать, а глядишь — месяц пролетел. Но это понимается позже. Потому что трудно сидеть только первые полгода.
Несколько дней праздников получились как передышка в бою. Время зализывать раны. Начался конъюктивит. Дорожник Леха рассказал, как его возили на вольную больницу, когда у него было то же самое. Мне же, после очередного заявления, корпусной врач, добрая тётенька, разъяснила, что гнойный конъюктивит болезнь нестрашная, просто выглядит неприятно, пройдёт. Выручила глазная антибиотиковая мазь, купленная по моей заявке ментом в ИВСе, да чайные примочки.
В ночь на первомай в камере стояла забытая тишина. В музыкальной шкатулке случилась пауза. Обожравшаяся браги и колёс хата спала крепким сном. Даже дорога притихла: Леха дал всем расход и выключил телевизор.
Глава 17. ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ ХАТЫ ДВА ДВА ВОСЕМЬ
Удалось справиться и с ангиной. Сама прошла. Головная боль и позвоночник беспокоить перестали: чего беспокоиться, если это бесполезно. Болит себе и болит, терпеть можно — и хорошо (к счастью, диагноз мне не был известен). Имел склонность к преодолению — получи. Как способ самосовершенствования. Тот, кто сказал, что учиться никогда не поздно, был не без юмора. Но самая плохая игра та, в которой нет плана, и таковой был определён. Приходил адвокат Косуля. Сказал, будет посещать раз в неделю. Сидя неподвижно, как памятник, подолгу молчал. На все вопросы — один ответ: надо ждать, дело ведёт Генеральная прокуратура, и неизвестно, на какое время санкционировано содержание под стражей, может на месяц, может на полгода. Враньё откровенное; начитавшись УПК, я уже знал, что первый срок — не более двух месяцев, а дальше — отмена или продление; знал и то, что именно в первые два месяца больше всего шансов уйти на волю. Поэтому и написал в Преображенский суд, в ведении которого находится Матросская Тишина, заявление на необоснованность ареста с просьбой изменить меру пресечения. Узнав об этом, Косуля как с цепи сорвался, на памятник похожим быть перестал, горячо разъяснял, что без него я ничего делать не должен, а я, в свою очередь, зондировал минное поле: есть ли возможность сопротивляться. Похоже, такая возможность была. Сволочь всегда поступает соответственно и считает, что другие — такие же сволочи. Сильно побаивался Косуля, что пренебрегу я уздой, на меня наброшенной. Здесь и есть зазор, где надо пилить. Кажется, дядька на все согласен, лишь бы я сидел молча. Таким образом, для начала, тысяча долларов была передана на воле жене нашего смотрящего Вовы, после чего в хате два два восемь произошли существенные изменения. С вызова Вова пришёл в своём костюме торжест-венный и несколько напряжённый: принёс от адвоката мои деньги, которых, впрочем, не показал. Потом пришёл с проверкой, в сопровождении нескольких вертухаев, старший оперативник в форме с погонами, т.е. самолично кум и, глядя по сторонам бабским, мордовского типа лицом, осведомился, в том числе и персонально у меня, как дела. На что получил вежливый ответ: «Как в тюрьме». Удовлетворённо крякнув, ушёл. Теперь, что на утреннюю, что на вечернюю проверку, выгонять на продол совсем перестали, только, заглянув в хату, спрашивали: «Сколько?» Получив ответ и сверив с записями, захлопывали тормоза. Внимание вертухаев к нашей хате явно ослабло. Шнифт забивать стали скорее на всякий случай, чем из необходимости. Иногда с продола, по-свойски, будто мужики во дворе общаются, предупреждали: «Ребята, уберите дорогу». Значит, будет внеплановая проверка или шмон. И началась тюремная лафа. Для порядка ещё несколько человек закинули в хату, на 10 шконок получилось 13, на том приток остановился. В хате появился магнитофон, общее напряжение спало, злоупотребления брагой и колёсами стали ежедневными. Обещанная следователем активная работа со мной не начиналась, обо мне забыли. На заявления, написанные мной в адрес следствия с просьбой ознакомить меня с документами, обосновывающими мой арест, с целью их переписать, ответа не было. Оставалось ждать суда, на который, по закону, должны вывезти в течение месяца. На всякий случай, написал в суд повторно и ещё в спецчасть с просьбой подтвердить отправку моего заявления — мера нелишняя: на лестнице, по пути на крышу в прогулочные дворики стоят бочки для мусора, в которых можно заметить разорванные или смятые заявления арестантов, и можно предположить, что не все выброшены самими арестантами. Выходящая на прогулку хата прихватывает пакет с мусором. В обычной суёте, когда на продол выскакивают как на пожар, чтоб нос не прищемили тормозами, про мусор забывают, и каждый разпоследний выходящий возвращается и говорит: «Старшой, секунду! Сор вынесу». Сказать «сор» — признак хорошего тона, старшой благосклонно подождёт секундочку. Если же сорвётся с языка не «сор», а «мусор», то сору быть в избе, а арестанту без прогулки.
Следующим днём смотрящий объявил: на прогулку пойдут двое, он и я. Засобирался было и Славян, но Вова его решительно пресёк: «Ты — завтра пойдёшь, а я знаю, что делаю». В прогулочном дворике, закурив и внимательно осмотрев стены, Вова заговорил доверительным полушёпотом:
— Все в порядке. Деньги здесь. Вижу: ты слово держишь. За добро отвечу добром. Хорошо знаешь своего адвоката? Так вот осторожно. Я говорил со своими, у меня их два, а они там все друг друга знают. Знают и твоего. Если хочешь, они сделают тебе на воле историю болезни, потом съедешь на больничку, а потом или меру пресечения изменят, или, если дойдёт до суда, по делюге получишь меньше меньшего — есть такая формулировка, на усмотрение судьи. Все будет стоить недорого, от пятидесяти до ста тысяч долларов. Я с ними предварительно переговорил. Если ты согласен, то организуем назначение моего адвоката тебе.
— Я-то согласен. Только дело в том, что история болезни у меня уже есть, настоящая. Изменить меру пресечения мне должны по-любому: я не виноват, арест незаконен, и никакой суд доводов следствия не примет. Поэтому мне нужна обычная, если можно так выразиться, честная защита. Вопрос цены обсуждаем. В случае удачи твоё посредничество оплачивается.
Вова согласно кивнул:
— И ещё. Когда-нибудь это кончится. Сиди тихо. Ты видишь: за деньги здесь можно жить. Даже на больницу отдохнуть можно съехать на две недели, тысячи за три. А если будешь шуметь, могут пустить под пресс. Посадят на баул. Это значит — каждый день в новую хату, без еды, без курева, на одной баланде. Могут к петухамбросить или в беспредельную, так называемую пресс-хату. Тогда тюрьма со спичечный коробок покажется. А так у нас здесь все будет, от гондона до батона. Кум в курсе, он не против. Со Славой лучше вообще не говори. Слава — он не просто так. Да ты, наверно, уже понял. Здесь все не просто так. Впрочем, разберёшься. Тебя будут на показания ломать — не давай. Вон Петрович у нас недавно с суда на волю ушёл. Три года сидел, и ни слова показаний с момента ареста. Только поэтому и соскочил, а грозило десять. Я сам жалею, что дал первые показания, да очень уж долго били. Сейчас отказался, но это уже хуже. Если сюда попал, каждое твоё слово, в американских фильмах может, а у нас — будет использовано против тебя. Я сижу почти год, знаю. Это — от души. А там сам смотри. Я тебе ничего не говорил.
— Володя, сколько возьмёшь за адвоката?
— Сам будешь решать.
— Добро. Давай расценки. Обсудим.
Разумеется, пользоваться услугами Володиных адвокатов я не собирался, но это неважно. Главное, что Вова прав: давать показания — только себе вредить. В любом случае. Запомни это, житель Йотенгейма.
На следующий день прогулка состоялась опять для двоих. На сей раз беседовали со Славяном. Этот попросту заявил: «Ну, давай, рассказывай» — и перечислил ряд вопросов, уже знакомых. Терпеливо, как больному, объяснил Славе, что на Марсе не был, языка инков не знаю, крепости не разрушал, к живому отношусь бережно и беспонтовых разговоров вести не желаю. Если арестант определяет беседу как беспонтовый разговор, значит у него основания столь веские, что лучше общение прекратить. Более категоричной, и даже угрожающей, формулировкой может быть только слово «расход», после которого или в разные стороны, или конфликт. Разумеется, при паритете сторон. После прогулки Слава пошушукался с Вовой, загрустил, вечером наглотался колёс, сутки проспал и больше мне не докучал никакимивопросами. Часами, сидя на решке, прилаживал так и сяк провод антенны, высунутый на улицу на швабре сквозь разогнутые реснички, постоянно сбивая телевизионное изображение. — «Крыша поползла, — сказал Леха Террорист, — тюрьма».
Итак, Слава отстал. Вова нет. Затевая искусные допросы, однако, вдруг грубо проговаривался, акцентируя то, к чему в данный момент у следствия наибольший интерес. Видимо, в камере возможно прослушивание, а может перед Славой план выполнял, но и ему это, видать, надоело, и хата зажила по-босяцки: бесхитростно и буйно. Дело в том, что для тюрьмы тысяча долларов — огромные деньги. Как выяснилось позже, за сто долларов в месяц в Бутырке можно жить в камере медсанчасти не зная горя. Но — кто везёт, на том и едут. Заканчивая хитрожопые беседы с Вовой или Славой, возвращаешься к семейникам как домой. Они вопросов не задают. Щёлковский — закадычный друг Артёма (тоже вот непонятно, почему, а прониклись люди друг к другу доверием; поиск человеческих отношений — это неистребимо) — никогда не унывающий парень — всегда чем-то занят: починкой кипятильника, изготовлением иглы для шитья, заваркой чифира, и — легче становится, глядя на него. Ему дадут не меньше десяти, а парень не теряется. — «Ничего, — шучу я, — ты в сорок лет точно будешь на свободе, а я в сорок только заехал. Преимущество явно на твоей стороне». Шутить следует осторожно, шутка должна быть однозначной, беззлобной, и, лучше всего, безадресной. Тогда и отклик благожелательный. Образец шутки, кочующей по тюрьмам, — когда один спрашивает, кто испортил воздух, а другой отвечает: «Х.. кто признается! Тюрьма-то следственная». Мы с Щёлковским почти не говорим, нас объединяет то, что оба нашли нечто общее с Артёмом. Так и приглядываем все друг за другом. Глядишь, загрустил приятель, предложишь закурить. Это лечит. Когда тебе предлагают закурить — это реальная помощь, даже если естьсвои сигареты. Или чифирнуть — тоже большое дело. Это — объединяющий ритуал во славу надежды на лучшее. На спецу чай есть всегда. Тому, кого заказали с вещами, дают с собой с камерного общака чай, сигареты, что-нибудь поесть, потому что человек наверняка окажется на сборке, и неизвестно, сколько ему там быть. На сборке встречаются знакомые или собирается стихийный коллектив, тогда и чифирнуть — первое дело. По правилам, в заварке на замутку отказать нельзя. Если, конечно, спрятать в баул поглубже, никто туда не полезет, но если сказал, что нет, лучше потом не доставать, иначе общее презрение обеспечено, а при разборе своих вещей — ой как много глаз наблюдает; если ты не в кругу семейников, тут сразу и просьбы: «подгони мыло», «я у тебя носки видел лишние», «у тебя паста есть?» и т.п. Редко кто ничего не просит. Босяцкое арестантское братство невозможно без чифира, однако если кто не чифирит вообще — принимается с уважением, типа как если человек не курит. Поначалу я с опаской поглядывал на этот адский напиток, потом приобщился. То, что чифир «варят» — вольное заблуждение. На самом деле в кружку (обязательно железную; других, впрочем, нет) засыпают поверх крутого кипятка заварку с горкой, не размешивая, накрывают и дают настояться, пока вся заварка не осядет, т.е. не кипятят, а запаривают. Через несколько минут получается напиток гораздо более крепкий, нежели если кипяток лить на заварку. Горячий чифир сливают в другую кружку, чтоб не было нитфелей, и, пока чифир обжигающе горяч, пускают кружку по кругу. Обычно по два глотка. Можно с кусочком шоколада, конфеты или сахару, но это считается сильно вредным для здоровья. Впрочем, полезным назвать чифир трудно: чистый наркотик. После него минут на сорок проходит головная боль, но сердце грохочет как молот, позже становится хуже, чем было до, но передышка достигнута, а она важнее всего. С тем, кого арестант не уважает, чифирить не станет. Это как трубка мира.
Долго не приходила передача от родственников. Но однажды прозвучала за тормозами моя фамилия. Сначала вручили письмо, потом две передачи, продуктовую и вещевую. Письмо несколько успокоило, а передачи пришлись вовремя, уже давно сижу на харчах Артёма и Щёлковского; правда, удалось кое-что на оставшиеся деньги заказать в тюремном ларьке, так что сиротой казанской не выглядел. Передачу и заказ выдают через кормушку, как зверям в зоопарке. При этом почти всегда стараются не додать что-либо. Оно, конечно, понятно: государство, порядок, но, чисто визуально, без философии, люди, сидящие в тюрьме, не хуже тех, кто на свободе, и странно, как находятся такие, кто берет на себя труд лишать таких же, как он сам, свободы и присваивать себе право судить людей. Но в тюрьме, чтобы не повредиться умом, лучше держаться подальше от проблемных размышлений о том, чего не в силах изменить. Лучше думать о доступном, например о том, что наступит твоя очередь спать.
Чтобы сходить в «баню», оказалось, нужно вручить вертухаю пачку сигарет за то, что он позовёт «банщика», последнему дать 15-20 рублей, и можно мыться довольно долго. — «Может, пора в баню?» — вопрошает Вова. Все всегда за. Одевшись полегче, чтобы не уронить в бане чего-нибудь из вещей на пол, в шлёпанцах на босу ногу идём по лестнице вниз, на другой этаж. И вот первая встреча с теми, кто на общаке. Почему их привели сюда, неясно, может, на общем корпусе нет воды, но сколько же их — человек сто, бритых под ноль, голых по пояс, мрачных и страшных, у всех руки за спину, и все из одной камеры (вот уж, думаешь, точно уголовники, к таким попасть не хочется. Потом, со временем, начинаешь замечать: все из других хат страшные уголовники, а в твоей камере — нет) — молча идут один за другим. Неужели столько людей может жить вместе. Мы на их фоне смотримся компанией с пикника. Да и где они мылись, неужели здесь. Наша душевая — три кранав полутёмной (лампочки, конечно, нет) каморке со стенами в грязной слизи. Тусклое оконце из стеклянных кирпичей освещает не проходящую в засорённый водосток серую мыльную воду на полу, в которую приходится с отвращением погружать ноги. На стене вешалка, на неё насаживается развёрнутая газета, чтобы не испачкать о стену вещи. Потом прочищаем водосток, копошась в мыльной мерзости, и начинается регулировка воды. Заплатил банщику — горячая и холодная есть. Если же баня плановая, без денег, значит вода будет или только горячая, или только холодная, к тому же недолго, хорошо если успеешь намылиться. Мы, как хата при деньгах, на коне, мойся, пока не надоест, успеешь и постираться, благо народу немного: тех, кто проживает на вокзале, Вова в неплановую баню не берет. Потом надо погрохотать кулаком в железную ржавую дверь, придёт банщик в грязном белом халате, проводит нас на этаж, где тормоза приоткроются, насколько позволит ограничительный трос, и мы боком, по одному, проникнем «домой», в нашу яркую калейдоскопическую пещеру. Здесь, на радостях, Леха Террорист слегка огорчит Васю за попытку к бегству, Вова сделает выговор («Вы что тут расчувствовались!?») тем, кто не вымыл пол, все, конечно, закурят, зачифирят и закупцуют (купец — крепкий чай), потом сходят на прогулку, дождутся вечерней проверки и — Таганка! Все ночи полные огня. Магнитофон будет орать как на дискотеке, но на продоле вертухаи как вымрут. Когда Васе насильно засунут в глотку колесо, значит веселье достигло апогея; скоро бедный кот начнёт орать не своим голосом, сбиваться с курса на потеху публики, а хата во всю глотку будет горланить, вместе с известным певцом Ляписом Трубецким:
Ты — мелодия, я — баян, Ты — Роксана, я — Бабаян;Значит скоро бесчувственного Славу за руки, за ноги водрузят на шконку, и к утру он опять обоссытся не про-сыпаясь, значит опять все будет правильно, если Артём не грохнется во сне с пальмы на дубок, а Вова, путая слова, шаря руками, как космонавт, отыщет дорогу к подушке, и заснут старожилы хаты 228 под завистливые взгляды арестантов с вокзала, обвиняемых в нетяжких преступлениях, думающих, наверно: «Вот она, настоящая братва». Только будет слышен с решки крик дорожника: «Кондрат, держи коня!» — это Леха славливается с нижними. Или: «Афоня, давай прокатимся!» — это переходят с контрольки на канатики с соседями по этажу, обладателями этих забавных псевдонимов.
Кончиться добром все это не могло, потому что добром не кончается ничто. (Даже когда говорят, что свадьба — счастливый конец любви). В один прекрасный вечер брага текла рекой: у Вовы была днюха — годовщина отсидки. Начиналось все чинно. Всем без исключения виновник торжества выдал по колесу. Пошли воспоминания. Как арестовали, как били, как посадили. — «Все от жадности, — глядя куда-то за стены, говорил сам себе Вова. — Говорила мне бабушка — не переходи дорогу на красный свет. Эх, ебать того Тараса, как заебала эта тюрьма…»
— А если бы в тюрьму не попал, пожалел бы? — поинтересовался Щёлковский.
— Если бы у бабушки был х.., она была бы дедушкой, — очнувшись, резонно ответил Вова.
— Тебе хорошо, — возражал Слава, — тебя выкупят.
— Я что — рысак орловский, чтоб меня выкупали? Слава, у меня днюха. Отдыхай.
В общем, и бражки я хлебнул, и пару колёс съел. Помню, почувствовал себя здоровым и счастливым. Правда, в тумане, но в тумане тоже бывает счастье; помню, как кричал: «Долой мусорской ход!» — и кто-то расчувствовавшийся жал мне руку. Как лёг спать, можно сказать, и не помню. Проснулся я перед утренней проверкой как огурчик, т.е. ещё пьяный, но без головной боли. Не открывая глаз, блаженно слушал, как трещатдрова в камине. Ремонт в квартире сделан недавно, большая удача, что в стене обнаружился каминный дымоход, теперь во всем большом доме восемнадцатого века постройки в центре Лиссабона только в нашей квартире и есть камин. Если дрова ещё не прогорели, значит долго вчера сидел у огня. Видать и виски выпил немало. Как хорошо дома. Сейчас будем все вместе пить кофе. Я, как самый злостный в семье лентяй, опять проспал, наверно, часов до девяти. Хорошо, что купили такую широкую кровать, можно разлечься как душа пожелает, хоть вдоль, хоть поперёк, вот так например. Больно ударившись ногой о что-то железное, открыл глаза. Это не Лиссабон. Однако феномен головы, которая не болит, так удивил и обрадовал, что оказалось необходимым растолкать Артёма, вопреки положению, что без серьёзной причины арестанта будить нельзя, и поведать ему, что жизнь прекрасна. Артём меня поддержал, ещё не сообразив, о чем я, и хата наполнилась нашей оптимистической суетой на ниве приготовления чая. Лежали бы тихо на шконках, никто бы нас, скорее всего, не тронул. На проверяющего, заглянувшего в хату с вопросом «сколько?» мы не отреагировали никак. Просто не заметили. А просто — это, как известно, жопа…
— А ну-ка, все на коридор, — хищно улыбаясь, сказал проверяющий.
Добудиться спящих оказалось нелегко, особенно Славу (за ночь он, конечно, обоссался). На этом золотое время хаты 228 закончилось.
Глава 18. ХАТА 226
Построившись в шеренгу на продоле, хата 228 взирала на оперативников и вертухаев.
— Ты, — указал пальцем на меня старшой, — сюда. Ты и ты, — Слава и Артём тоже перешли напротив шеренги. Зрелище хата являла собой колоритное. Арестан-ты старательно придавали лицам невинное выражение и весьма походили на школьников. Выделялось трезвое, с искорками усмешки, лицо Лехи-дорожника и блестящие наркотические глаза на улыбающемся лице Вовы, глядящего на старшого весело и уверенно. Палец оперативника уже поднялся было в направлении нашего главаря, но, по краткому размышлению, опустился.
— Вся хата — с вещами. Эти трое — со мной.
Сборка оказалась знакомой. Рассадили в одиночные боксы, в соседнем Артём, напротив Слава. Началось томительное ожидание. Невразумительные короткие разговоры поддержки не дали. Сошлись на том, что следует все отрицать. Слава настроен философски-обречённо, Артём — зло и мрачно, я — и определить трудно. Сидя в мышеловках, молча ждали кошку. Она пришла. Лязгнула дверь, открылся боксик Славы.
— Ты что же это, гад, делаешь? Что делаешь? — послышался какой-то знакомый шипящий голос.
— Да все нормально, начальник! Ну, бражки немно… — Слава не договорил: клацнули от удара зубы. — Ты что, начальник? Начальник! — слышно было, как задышал Слава, и снова клацнуло, и ещё.
— Я те дам — начальник. Гад! Сволочь! Тварь! Ты мне всю картину ломаешь! А ну-ка иди сюда, гад, я те дам, как следует! — Последовали глухие удары, надо полагать в живот, и хрипы Славяна. Прямо как в ночь по приезде на тюрьму. Оставалось одно — приготовиться к худшему. Хорошо бы сберечь спину и голову. Тем временем за дверью что-то изменилось, инициатива каким-то образом перешла к Славе. Задыхаясь, но довольно уверенно, он говорил:
— Да я понимаю, начальник, у тебя не выдержали нервы. Ты вникни, а после бей.
— Я те вникну, — уже без запала шипел кум. — В карцер пойдёшь.
— Хорошо, в карцер так в карцер. Только без меня у вас все равно ничего не получится. Его только не трогай,он не пил, он вообще не пьёт.
Славу увели. Ещё с час прошёл в тишине.
— Артём!
— Да.
— Как думаешь, какие движения?
— По ходу, обошлось.
— А дальше?
— Дальше — на общак.
— Что нужно, чтобы оставили на спецу?
— Отказаться. Потом дубинал. Тогда оставят, но, скорее всего, в другую хату поднимут.
— Что будешь делать?
— Я остаюсь.
— А как понять, что на общак?
— Посмотрим. Нас ещё за вещами должны поднять.
По виду старшого, открывшего наши двери, стало понятно — гроза миновала. Мы опять в хате 228. Здесь разруха. Сначала всех опустили на сборку, потом подняли в хату, и, после переговоров Вовы с кумом, стало ясно: хата переезжает в полном составе в другую камеру, а именно в 226. Достигнутое кропотливым трудом ликвидируется: с треском отдираются обои из простыней, коробочки со стен, срываются занавески, канатики, вентилятор с тубусом, хата сидит с баулами на свернутых матрасах. На коленях у Лехи Террориста, не шевелясь, с окровавленной мордой лежит кот Вася, ставший невинной жертвой и козлом отпущения. Когда нас увели (а никто почему-то не сомневался что меня и Артема пустят под пресс), Леха пришел в ярость, плевался, шипел, клял мусоров и кидал Васю об стену. Теперь же, полный раскаянья и жалости, Леха гладил Васю и возмущенно восклицал: «Вася! Ты что — обиделся?! Вася!..» Вскорости, мимо шеренги отъявленных уголовников на продоле, среди которых узнаю Леву Бакинского, заходим в хату 226. Наказание оказалось минимальным: хаты 228 и 226 поменяли местами, однако последняя выглядела неблестяще: закопченные, покрытые плесенью стены, по-толок со свисающей лохмотьями истлевшей штукатуркой, сиротливая тусклая лампочка, покосившийся грязнейший унитаз в луже воды, едва держащаяся перекошенная раковина с незакрывающимся краном, выбоины в стенах и полу, засаленный полусгнивший дубок с металлической рамой для лавки без доски и шесть шконок, т.е. этакий спичечный коробок метра два шириной и метра четыре в длину. Вдобавок очень холодно. Голимая сборка. Не успели все одеться потеплее, как стали открываться тормоза и заходить люди. К вечерней проверке стало 18 человек. Пришел и долго отсутствовавший Слава. Он, Вова и дорожник заняли три шконки и добрую половину хаты. На оставшуюся часть пришлось 15 человек. С учетом того, что на верхней шконке больше одного не бывает, а за дубком не сидят без дела и не спят (незыблемое правило), нетрудно представить получившуюся степень свободы: можно взвыть волком уже через 10 минут. Нам предстояло здесь жить. Даже мысли не было что-то изменить. Зачем, если в любой момент могут кинуть на общак. Нужно быть уверенным в долгом пребывании в хате, чтобы ее благоустраивать. Вова, видимо, был уверен, потому что сразу приступил к руководству ремонтными работами. Хата превратилась из следственной в исправительную. Ободрали стены и потолок от рыхлой штукатурки (все стали как серые снеговики в пыльном тумане), потом началось отскабливание грязи, мытье шконок, пола, унитаза, отмачивание и стирка простыней, бывших обоями, оклеивание стен и потолка газетами, навеска ширмы на дальняк, изготовление и крепление чопиков под канатики, ремонт тубуса вентилятора, цементирование и заделка выбоин, ремонт сантехники, дубка; вся эта катавасия растянулась незнамо на сколько дней и слилась в долгий мучительный отрезок, во время которого все забыли решительно про все, кроме этого безумного ремонта. Страх попасть на общак сподвигал большинство стараться на пользу хате, а по сути лишь для троих, кому общак не грозил. Надголовами передавали какие-то предметы, передвигались по головам, в самых неудобных положениях что-то долбили, ковыряли, резали, точили, стирали, клеили. Спали чуть ли не стоя — все в клубах пыли и табачного дыма. Под диктовку Вовы и смех арестантов (думали, прикол) написали заявление некоей сестре-хозяйке с просьбой прислать столяра и сантехника, «в связи с тем, что состояние стола, лавки, унитаза и раковины создает в камере антисанитарию, способствует развитию различных заболеваний и в корне противоречит основным положениям гигиены, жизненно важной в условиях следственного изолятора». Прикол приколом, а сантехники и столяр из хозбанды пришли в сопровождении оказавшейся реальной штатной единицей сестры-хозяйки, бойкой женщины в белом халате и телогрейке поверх. Сестра-хозяйка, заглянув в хату, разразилась длинной беззлобной матерщиной, после чего, оценив таким манером обстановку, приступила к делу: «Ну, что у вас там?» Хозбандиты намекнули, что нет у них крана, досок, инструмента, но, получив по пачке сигарет на рыло, все нашли, и несколько часов тормоза были открыты (а это событие, это приятно), работы прошли весело и с матерком. Работают хозбандиты старательно (их лица всегда отмечены печатью страха перед арестантами и возможностью уехать на этап), у них же хата разжилась гвоздями, цементом и старыми газетами. Первый, да и второй тоже, слой наклеенных газет отвалился с прилипшей трухой, и только третий, а местами и четвёртый и пятый, пристал прочно. Когда газет не хватало, Леха писал малявы в соседние хаты с просьбой загнать — и загоняли. Клеил, в основном, Вова, мало доверяя другим, и безжалостно требовал отдирать недостаточно плотно приклеенные газеты или простыни. Клейстер готовился из хлеба. Чёрный хлеб тюремной выпечки размачивается и протирается кулаком сквозь растянутую тряпку, — занятие муторное и трудоёмкое; помазком для бритья (предмет роскоши) клей наносится наповерхность. Когда наш гробик приобрёл подобие предыдущего, все вздохнули облегчённо и стали не спеша клеить картинки, прилаживать занавески, укреплять розетки, замуровывать и заклеивать оголённые провода, оттирать до первоначального цвета принесёнными с прогулки камешками узорчатый кафель и т.д. Вова сходил на вызов и вернулся с мотком шнура для антенны. Подлый телевизор опять стал орать круглосуточно. Жизнь наладилась, исправработы завершились. Несмотря на несколько приступов с потерей сознания, работать удавалось на равных со всеми, исключая лазанье по второму ярусу. Среди так называемой братвы (Вовы — Славы) стал дискутироваться вопрос, как, по понятиям, западло или нет спать под шконками и дубком. Решили, что, учитывая душняк, создаваемый администрацией, количество народу и чистоту в хате, — незападло. Никого же не загоняют под шконарь (есть такое наказание, грозящее, например, за крысятничество — воровство у сокамерников), и народ устроился под шконками, под дубком. Полметра свободного места в углу под решкой Вова предложил занять мне. Лежбище получилось классное — ноги под шконку, по пояс — наружу. Плюс под решкой микроциркуляция свежего воздуха. По очереди с Артёмом залегали в берлогу (Щёлковского тусанули в другую хату) и чувствовали себя лучше всех; барьер перед решкой был преодолён, больше не надо было тереть шкуру у тормозов. Хата запестрела картинками, заработал вентилятор, по стенам во множестве появились полочки, растяжки для одежды паутиной опутали хату, решётку украсили элегантные деревенские занавески. Тусклую лампочку выворачивали и встряхивали так, чтобы порвалась спираль, до тех пор, пока на коридоре не поняли, что дешевле выдать на замену более мощную (темнота в хате не допускается). Для полного счастья оставалось не съехать на общак. Через Косулю опять удалось перегнать Вове ещё 500 $. Пришёл с проверкой кум. Восторженно оглядел хату:
— Это ты, Дьяков, сделал?
— Все понемногу, — скромно отозвался Вова.
— А этот как? — указал на меня кум.
— Болеет, — ответил Вова.
— На общак его, — довольно промолвил кум.
И начали вызывать с вещами. С замиранием сердца слушает первоход, не назовут ли его фамилию, когда звякнет о тормоза ключ. Нет, меня не назвали. Осталось в хате 12 человек, и Вова со Славой взялись за старое, но меж ними как чёрная кошка пробежала, и чувствовалось напряжение. В карцер на тюрьме очередь, дошла она и до Славы, сдержал кум обещание. Славу увели — как занозу вытащили. Место у решки закрепилось за мной, мне — в поддержку, Володе — удобно для допросов. Преследуя несколько целей одновременно, он сам, видно, запутался, часто напряжённо думал, прежде чем подступиться ко мне. — «Твой адвокат — мусорская рожа!» — как-то раз в сердцах ни с того ни с сего сказал он. — «Не исключено» — ответил я. Не объяснять же, как обстоит дело; и знаю ли я, как оно обстоит на самом деле; и кто ещё, кроме адвоката, мусорская рожа. Косуля, может, сам не понимает ситуацию правильно, иначе к чему допытывался, куда я дел копии документов, подделку которых инкриминирует мне следствие, а когда услышал, что я об искомых документах не имею понятия, потерял дар речи и смотрел укоризненно: мол, что же ты врёшь, я-то знаю. Правда, и здесь мусорская прокладка не исключена: в кабинетах есть и прослушивание, и телекамеры, хотя заметить их невозможно, а по простоте душевной и предположить их наличие нельзя, слишком уж запущенными и грязными выглядят эти кабинеты. Видать, масла в огонь мой бермудский приятель подливает от души. С Генпрокурором, сколько помнится, они знакомы не формально. В общем, беда, и нешуточная. Следователь запропастился. На суд не вывозят. Врач не принимает. Услышав от представителя гуманной профессии фразу: «Как же мы Вам, Павлов, будем медпо-мощь оказывать, если у нас нет документального подтверждения, что Вы больны?» — я все понял окончательно. В мягко-ультимативной форме объяснил адвокату, чтоб попросил моих родственников съездить к врачу за выпиской из истории болезни. Не прошло и месяца, как Косуля принёс ксерокопию. После многократных заявлений в адрес корпусного врача, на моё имя завели медицинскую карточку и приобщили копию выписки, пояснив, что она ничего не значит: это не оригинал, данные давние, рассчитывать на больницу не стоит. Не умираю же.
«Павлов! На вызов!». Минуту на сборы, минуту на шмон, и пошли. Сначала на общий корпус (корпуса соединены переходами, в том числе и подземными). Заглянуть в чужую хату не удаётся, вертухаи за этим следят строго, обязательно дождутся, пока тебя проведут мимо, прежде чем открыть тормоза. С полчаса бродим по тюрьме, собирая группу на вызов. Перед следственными кабинетами ещё раз обыск и — в боксики. Нет, на сей раз открыли маленькую комнату, а там людей как селёдок в бочке, и дым валит как из печной трубы: все курят. «Заходи» — говорят. Зашёл, стараясь не налегать на стоящих и чтоб по затылку дверью не дали. Курить можно без сигарет. — «Сегодня баня была, — продолжил кто-то начатый раньше разговор, — отмылись от души. Две недели не мылись. А зашли в хату, залез на пальму, пот струйкой со лба так и потёк. Вся баня пропала». — «Это где?» — поинтересовался кто-то. — «На общаке. Душняк. На шмоне бражку отмели. Курить нет, пить нечего». — «Пьёшь?» — «Пью». — «Так пей спирт» — наставительно прозвучал голос. Повисла сизая тишина. Одни задумались — почему некоторые хотят и не пьют (на общаке в некоторых хатах варят самогон), другие — как этого достичь. Вызывают пофамильно, запускают новых. Часа через два, когда все уже сменились не раз, позвали и меня. Все, арестант горячего копчения готов. Все помутилось до тошноты.
В кабинете Ионычев и Косуля.
— Здравствуйте, Алексей Николаевич. Что же Вы не здороваетесь? Как себя чувствуете?
— Как в тюрьме.
— Хм. Начинаем допрос. Назовите свою фамилию, имя, отчество, дату и место рождения.
— Я отказываюсь от дачи показаний.
— На каком основании?
— Оснований много.
— А именно? 58-я статья Конституции?
— Нет.
Насколько мне известно из камерного ликбеза и из содержания этой статьи, она годится как обоснование отказа давать показания для тех, кто явно будет признан виновным и опасается усугубить свою вину. То есть бумерангом может дать по голове. Мусорская прокладка на государственном уровне.
— Какие же ещё могут быть основания!? Других не может быть.
— Не должно быть. Но есть. Необоснованный арест, незаконное содержание под стражей, непредоставление мне следствием возможности ознакомиться с ранее подписанными мной документами, в частности с факсимильным сообщением, на основании которого я был задержан, отказ в медицинской помощи и плохое самочувствие.
— Напротив, Алексей Николаевич, арест Ваш обоснован постановлением о привлечении Вас в качестве обвиняемого и постановлением об аресте, на который получена санкция заместителя Генерального прокурора Гадышева. Вы сами расписались, что ознакомлены с этими документами, помните? Следовательно, все законно. Что касается факсимильного сообщения, то я не понимаю, о чем Вы. В уголовном деле никаких факсимильных сообщений нет. Ваши претензии необоснованны, кроме, может быть, состояния здоровья, но это уже не к нам, это — Ваше здоровье, а не моё. Так пишемпятьдесят восьмую статью?
— Нет.
— А что?
— Вышесказанное.
— Что именно?
— Все.
— Плохое самочувствие? Вы утверждаете, что плохо себя чувствуете?
— Да.
— Так и напишем.
— Я сам напишу.
— Вы отказались от показаний — как же Вы напишете?
— Моё право — написать отказ собственноручно.
— Кто Вам сказал?
— Спросите адвоката, — поглядев на Косулю, я увидел памятник. — Моё право — написать отказ от показаний собственноручно, и в моей, а не в Вашей формулировке, моё же право — ставить или нет свою подпись. В соответствии с УПК.
— На УПК Вы можете ссылаться только с указанием статьи, а таких статей в УПК нет.
— Во-первых, это неправда. Во-вторых, — ответил я, раскрывая тетрадь, — вот статьи.
Отказ я написал собственноручно, длинно и обстоятельно.
— Подпись ставить будете? — осведомился Ионычев.
— Буду.
— Вот здесь, — доброжелательно указал следак на графу, где полагается подписываться под показаниями, — и на каждом листе.
— Я пустые листы не подписываю.
— Так положено. Это процедура. Ещё нужна фраза «написано собственноручно», Вы же сами писали.
«Отказ от показаний написан собственноручно» — написал я. Прочитав, Ионычев изменился в лице и нажална стене красную кнопку. И нажимал её с остервенением до тех пор, пока не пришёл охранник с дубинкой и красной повязкой на рукаве и лениво спросил: «Что тут у вас случилось?»
— Акт симуляции. Немедленно вызовите врача для освидетельствования состояния подследственного, — и мне: «Сейчас мы, Алексей Николаевич, составим акт, и Ваше положение усугубится до неузнаваемости».
Для освидетельствования отвели к корпусному врачу. Врач молча померяла давление, температуру, прослушала сердце.
— Ну, что? — спросил приведший меня дежурный.
— Ничего, — зло ответила женщина. — Можно вести в камеру.
— Как в камеру? Его следователь ждёт.
— Подождёт ещё.
— Он спрашивает, может ли участвовать в следственных действиях.
— Конечно, нет.
— Но тогда нужно написать справку, — недоуменно возразил сопровождающий таким тоном, что стало понятно: этого врач сделать не посмеет.
— Сейчас напишу, — спокойно ответила врач.
Позже мне удалось ознакомиться с результатами осмотра: Давление 160/120, сердечная аритмия, частота пульса 120-130 ударов в минуту, температура 38,4. Диагноз: «Нитроциркулярная дистония. В следственных мероприятиях участвовать не может».
В камере отлежался под решкой на свежем воздухе, пришёл в себя.
— Кто был, — следак?
— Да.
— И что?
— К врачу отвели.
— Что врач?
— Температуру мерял.
— Сколько?
— Тридцать восемь и четыре.
— Как нагнал?
— Усилием воли.
— Правда, что ли? — в голосе Вовы сомнение.
— А я экстрасенс и ясновидящий.
На удивление, Вова не принял это за шутку:
— Сколько там орехов? — спросил он серьёзно, указав на пластмассовую банку с арахисом.
— 316, — не задумываясь сказал я.
— Цыган! Иди сюда. Помой руки, садись за дубок, посчитай орехи.
Цыган посчитал. Триста шестнадцать. Бывают же совпадения. Отогнав надоевшего кота Васю, я отвернулся в своей берлоге к стене и заснул. Утром опять на вызов. Пришёл Косуля.
— Как тебе удалось справку достать? — звенящим от негодования и изумления голосом начал он, разве что вслух не добавив: «Сволочь!» (Интонации те же, что у кума, когда тот делал внушение Славяну: «Гад! Ты мне всю картину портишь».) — Я написал следствию ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Отзывы о тебе сокамерников и отношение следователя позволяют надеяться на успех. Кстати, что это за фокусы — почему твои письма получают на воле не через меня? Через кого передаёшь? Ты с ума сошёл? Что ты написал? Кому?
— Вас же не было долго, Александр Яковлевич, вот и передал, тут много через кого можно это сделать, — невинно ответил я. — Все так делают. Я и написал родным, знакомым разным, а то ведь многие ничего не знают.
Косуля задышал в шоке. Что ж, это правда, удалось мне переправить одну маляву на волю. Теперь игра не в одни ворота. Во всяком случае, опасность теперь грозит больше мне, а не тем, кто раньше этого и не подозревал. Как я предполагал и надеялся, маляву Вова через своего адвоката передал, для того чтобы получить от меня кре-дит доверия; кумом она наверняка прочитана, только до Косули её содержание дошло поздно, иначе бы перекрыл кислород любыми средствами.
— Да Вы, Александр Яковлевич, не беспокойтесь. Я понимаю, как Вы заняты, а в моем деле гласность — это главное. Вот я и попросил разных друзей и знакомых помочь. Вам одному трудно, а они найдут ещё адвоката. Кстати, Александр Яковлевич, если я не буду иметь еженедельных письменных подтверждений от моих родных и близких о том, что у них все в порядке, я буду плохо себя чувствовать, могут и нервы не выдержать. Пора бы на свободу. Какие у нас в плане действия?
— У тебя с головой все в порядке? Ты ничего не перепутал? — тихо и совсем не по-адвокатски прошипел Косуля, громко шурша целлофановым пакетом.
— Движение — это жизнь, Александр Яковлевич. Прогресс на месте не стоит, и компромисс есть примирение противоречий. Давайте не будем ссориться. Кстати, недавно по телевизору показывали документальные кадры: в здешних кабинетах столь чувствительные микрофоны, что если я услышал, то они подавно.
Так. Держать инициативу. Больше уверенности и тумана, пусть думает, ему полезно. Если противник тебя хотя бы немного боится, он сам додумается до таких твоих преимуществ, которых ты за собой не только не замечаешь, но и вообще иметь не можешь.
— Что ты собираешься делать? — металлическим голосом осведомился Косуля, и опять буквально обозначилось в воздухе нехорошее слово.
— План у меня есть, — задушевно ответил я.
План, действительно, был, и я его изложил: последовательное обращение в ряд надзорных, судебных и общественных организаций, от тюремной администрации до комитета по защите прав человека при Президенте РФ.
— У вас в камере есть кто-то с юридическим образованием? — недоуменно спросил Косуля.
— Нет. Карнеги говорил, что образование — это способность преодолевать жизненные трудности.
— Я тебе, Алексей, не помощник. Все, что ты задумал, нереально. Ты плохо знаешь нашу систему, в ней некоторые законы не работают. Есть теория, а есть практика.
— Александр Яковлевич! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. — От такого высказывания Косуля против воли просветлел. Кажется, я на правильном пути. То есть в начале лезвия ножа.
Возвратившись в камеру, принято делиться впечатлениями от встречи с адвокатом или следователем. Тут я и поделился. Накопленные эмоции не испаряются — либо трансформируются, либо находят выход. Моё преимущество в том, что скрывать мне почти нечего, поэтому моя гневная, лишённая морально-этических границ речь произвела на камеру впечатление, тем более что мой русский язык ранее отличался отсутствием крепких выражений, услышать их в моем исполнении не ожидали. Наверно, кто-нибудь из стукачей написал в отчёте что-нибудь типа «в красочных нецензурных выражениях цинично обливал грязью сотрудников следственного изолятора, особенно всех начальников, включая начальника спецчасти, следователя, генерала Сукова, Генерального прокурора и адвоката». Хата притихла, а кое-кто делал вид, что не слышит. Что ни говори, а мусоров поругать все горазды, да только абстрактно — страшно все-таки. Разрядив ружьё, я решил плавно перейти на шутку. Первым это понял Леха Террорист, проснувшийся от необычной речуги, — и весьма удачно, мне в тон, неожиданно заоравший на всю тюрьму:
— Свободу Лехе-альпинисту!!!
Дружный хохот сгладил возникшую было неловкость.
— Бери весло. Я супчика запарил. Пока тебя не было, мне дачка зашла. Перекусим? Я твою шлемку взял, ничего? — Артём успокоил окончательно.
— Давай, Артём, сначала чифирнем.
— Чифир и еда несовместимы. Может, попозже чифирнем?
— Давай попозже. Прогулка была?
— Да. Ты пропустил.
— Ничего, не последняя. Это тебе. Подгон босяцкий. У адвоката взял.
— От души. У меня такой ручки ещё нет. Знаешь, какая-то страсть к собиранию ручек появилась, — как бы признаваясь в чем-то запретном, поведал Артём. — Хочешь, покажу свою коллекцию?
— Обязательно. Но сначала суп. Остынет.
Комментарий к УПК из хаты исчез, юридическая литература тоже. Вова стал настаивать: на допросах молчать нельзя, а то — на общак. Я же перестал на это обращать внимание. За жизнь поговорить — пожалуйста, в шашки и шахматы — тоже, картинки повырезать — с удовольствием, а с этими вашими хитростями пора завязывать, надоело. Юридические конспекты есть, адреса организаций тоже, по тюремным законам имею право о делюге вообще не говорить. Как-то раз после долгого раздумья Вова воскликнул:
— Так что же это? Получается, ты к делу вообще непричастен?
— Володя, — говорю, — ты очень проницательный человек, тебе удаётся понять то, что генералу не под силу.
— Это шутка? — с угрозой отозвался Вова.
— Нет. Искренно как никогда. Так что насчёт твоего адвоката?
— Подожди, пока не получается… Но ты — здесь, значит, это кому-то нужно!
— Володя, ты по-прежнему на высоте.
— Кому? — встрепенулся Вова.
— Следователю.
— Понятно, — улыбнулся Володя и надолго оставил меня в покое.
Май 1998 года был тёплым и солнечным. На воле зацвели тополя, белый пух метелью кружил над столицей, пробираясь в камеру. С изменившимся моим положением в хате появилась возможность лазать на решку, чего не очень одобрял Леха Террорист, видя, с каким напряжением мне это даётся, и опасаясь, что упаду. В узкую щель в ресничках можно было наблюдать тюремный двор, свежую зелень тополей за кирпичным забором с колючей проволокой. Объяснилась загадочная фраза Вовы, который иногда, залезая на решку, говорил: «А хозбандиты опять в волейбол играют…» То есть это была правда. Что бы ты сейчас отдал за то, чтобы побродить по двору, хотя бы и тюремному? Или за баню, настоящую, с парилкой? Эх, ходить на все прогулки — это правильно, но видеть синее небо через решётку, пасущих где-то над головой мусоров — издевательство. Чтобы вынести одеяло (вся хата выносит одеяла и вытряхивает их во дворике от неизвестно откуда берущейся пыли, отчего стоит туман, будто трясут половики), нужно им обмотаться под верхней одеждой, и тогда вертухай не будет иметь претензий, хотя и выглядит хата как сборище толстяков. Стоит только попробовать пронести одеяло в руках, обязательно остановят и разъяснят: не положено. Салтыков-Щедрин говорил, что строгость российских законов смягчается необязательностью их применения. Для полноты описания правового поля Йотенгейма не стоит забывать и пословицу: закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Что в большом, что в малом. Для лишённого всех человеческих прав арестанта разницы нет. В одном из прогулочных двориков через отверстие для стока воды у самого пола можно увидеть город, набережную Яузы. Чтобы отвели в этот дворик, нужно дать дежурному пачку хороших сигарет. Тюремщики с их нищенскими зарплатами насквозь продажны и оскотинены, даже вонючее мясо в баланде до арестантов почти не доходит, его вылавливает из бачков и пожирает обслуживающий персонал, включая офице-ров. Сколько раз я проезжал по этой набережной, не зная точно, где тюрьма, но всегда испытывая неприязнь к этому району. Не замечал и того, что за рекой огромную площадь занимают корпуса каких-то ржавых заводов. Десятки лет ездил мимо и не видел. Странная особенность человека — смотреть и не видеть. Взволновала неожиданная мысль: солнце одновременно видят люди, разделённые тысячами километров. Кончится же это когда-нибудь.
В камере с большим трудом удаётся думать, каждую мысль приходится прорабатывать, складывая логические звенья, как тяжёлые камни. Нужен целый день, чтобы написать недлинное заявление. Просматривая написанное, замечаешь много ошибок, пропусков. Каждую мысль проталкиваешь до стадии формулировки сквозь звон, туман и какое-то немыслимое вращение, ощущение которого не исчезает и с закрытыми глазами, отчего укачивает, как на карусели. Почерк получается незнакомый, как курица лапой. В довершение всему, песни по телевизору, которые на воле, может, и не привлекли бы внимание, здесь рвут душу на части, наподобие того, как арестанты на сборках рвут полосами полотенца, поджигают их и кипятят воду для чифира. Каждая мысль, каждое чувство становятся обособленными, почти дискретными, трудно сменяемыми. От некоторых стараешься избавиться, а к другим возвращаешься как домой, к таким, например: «скорей бы заснуть», «когда-нибудь это кончится». Расплылись воспоминания, забылись лица, даже увиденное в узкую щель с решки гасло тотчас, стоило лишь отвести взгляд. Лучше всего было бы заснуть и не просыпаться до самого освобождения.
— «Павлов!» — «Есть!» — крикнет кто-нибудь. — «На вызов!» Назовут твою фамилию, и подпрыгнет сердце в тот напряжённый миг, пока следующая фраза за тормозами не внесёт некоторую ясность: «на вызов», «с вещами» (самые волнующие слова), «по сезону» (выезд за пределы тюрьмы, на следственный эксперимент,вольную больницу и т.д.), «к врачу», ещё может быть письмо, вещевая или продуктовая передача, ларёк, сообщение из спецчасти (ответы на жалобы, информация об отправленных письмах, ходатайствах, продление срока содержания под стражей, бухгалтерия и т.д.). Что-то ждёшь со страхом, что-то с надеждой. Страх — порок, от которого трудно избавиться. Трудно, но можно. Арестант, победивший страх, становится неуязвим. Но до этого ещё далеко.
На следственной сборке (знакомая прокуренная, набитая людьми комната), а теперь перед допросом или встречей с адвокатом помещают только туда, про отдельные боксики остаётся только мечтать.
— Какая хата? — интересуются сразу, как зайдёшь.
— Два два шесть.
— Спец?
— Да.
— Бакинский у вас?
— Нет, он в два два восемь.
— А был в два два шесть.
— Хаты тусанули. Их к нам, нас к ним.
— Почему?
— За пьянку.
— Ясно. Словишься с Бакинским, — передай от Вахи привет, скажи, я на общаке. Маляву тусанешь? От нас дорога долгая.
— Могу, но не ручаюсь: обыскивают досконально.
— Статья тяжёлая?
— От пяти до десяти.
— Ясно. Не надо. На словах передай.
В широком, как площадь, коридоре следственного корпуса ходят холёные адвокаты, старающиеся быть подчёркнуто серьёзными, за приоткрытыми дверями кабинетов мельком можно увидеть выразительные картинки: арестант, следователь и адвокат, каждый со своим, характерным выражением лица. «Павлов? Кабинет такой-то. Вон там, в конце коридора» Идёшь себе, как вольный человек, метров 10-20 без сопровождения (а куда ты с подводной лодки денешься), и это, безусловно, отдых. В кабинете Ионычев.
— Здравствуйте, Павлов. Сегодня Вы себя нормально чувствуете?
— Как в тюрьме.
Ответ сразу выводит следователя из равновесия:
— Ты что меня за дурака держишь!! — кричит он.
— Я Вас, Вениамин Петрович, не держу.
— Нет, держишь! А как иначе?
Похоже, мой следователь действительно дурак. Хорошо это или плохо…
— Я отказываюсь от показаний.
— На каком основании? Здоровье? Я Вам не верю. Да, у нас есть тут справка, но так Вы же могли и нагнать давление. Так какие основания Вы предъявите сегодня?
— Прежде всего, отсутствие адвоката.
— Он мне звонил, он опоздает. Начнём без него.
— Без него мы уже начали. На этом и закончим.
— Сколько у вас в камере человек?
— Не считал. Вам лучше знать.
— А знаете, какие ещё камеры есть? Туда хотите?
— Это я уже слышал.
— Ладно, хотите, просто поговорим?
— Не хочу.
— Почему?
— Потому что просто — это … — я осёкся. Однако Ионычев больше не стал спрашивать, почему.
— Вы хотите, чтобы мы показали Вам документы, на основании которых Вас арестовали? Вот постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Подпишите.
Трудно было понять, что это, сон или прикол. Сто двенадцать миллионов превратились в 237 миллионов. Долларов. На листе, кроме текста, ни подписей, ни печатей. Похоже на неореалистическое кино, в основе которого абсурд лежит как творческий метод.
— Вениамин Петрович, мне кажется, хотя я могу иошибаться, что за дурака меня держите Вы, а не наоборот. Я ничего не подпишу, даже не надейтесь.
— Но это необходимо по правилам делопроизводства. Подписывайте, Алексей Николаевич, это в Ваших интересах.
— До тех пор, пока я не получу ответа, причём положительного, на требования, изложенные мной в письменных ходатайствах в адрес следствия, ни о чем нам с Вами говорить смысла нет.
— Вы написали ходатайство?
— Ходатайства. Несколько. Давно.
— Не знаю, я их не получал.
— Значит, будем ждать, когда получите.
— Может, у Сукова есть, так это к нему надо обращаться.
— Каким образом?
— Напишите на его имя, что желаете дать показания. Вот Вам бумага. И постановление подпишите, — опять придвинув ко мне листок со сказочным текстом, невозмутимо произнёс Ионычев.
— Вениамин Петрович, пошёл я в камеру.
— Нет, пока не подпишите, никуда не пойдёте.
— Плохо. Значит, и Вы не пойдёте, — разговор упал до меланхолических тонов.
Вдруг Ионычев подпрыгнул и заорал:
— Ты будешь подписывать или нет!?
Пообещав показать мне, где раки зимуют, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации ушёл.
На следующий день, в присутствии памятника известному адвокату А. Я. Косуле, картина, в целом, повторилась. Ещё через день — опять, а ещё несколькими днями позже странное поведение следователя отчасти объяснилось. В следственном корпусе я был препровождён туда, где проходят очные ставки и вообще особые действия. С места в карьер Ионычев поорал на меня, угрожая ухудшением условий содержания, потом с на-стойчивостью больного предлагал подписать его «документы», но ушёл ни с чем. Появился некто, представившийся сотрудником особого отдела следственного изолятора (не знаю, существует ли по нынешним временам такой отдел) и спросил, моя ли подпись стоит на постановлении об аресте. Затем пришёл Ионычев, и особист ему строго задал вопрос, существует ли второй экземпляр постановления, если да, то где он, потому что их должно быть два: в уголовном деле и в следственном изоляторе. — «Что мне делать? Посылать подпись Павлова на экспертизу?» — вопрошал особист, строго глядя на Ионычева. Конечно, я не понял, где начинается спектакль и кончается закон, иначе бы заявил, что подпись не моя, что повлекло бы за собой (в идеале) разбирательство в законности процедуры моего ареста и заключения под стражу, но я ответил утвердительно: да, подпись моя. Если бы… Боюсь, не изменилось бы ничего. Бабушка осталась бы бабушкой, а дедушка дедушкой. В любом случае, так и вышло. Компромисс следствия с администрацией тюрьмы был найден в неожиданной, юридически несостоятельной, но все же форме. Привели двоих арестантов, которые в качестве понятых подписали акт о том, что я отказываюсь подписать предъявленные мне два месяца назад постановления о привлечении в качестве обвиняемого и аресте. Паскудность есть основа государственной системы Йотенгейма. Видно, не за заслуги былые довелось родиться в этой стране.
Вернулся из карцера Славян, хату опять разгрузили, я остался на своём месте, уже не представляя жизни без глотка свежего воздуха под решкой. Косуля принёс долгожданное письмо, и не сильно противился против следующих.
«Павлов! Спецчасть». К звякнувшей кормушке устремился Вова. Открывшаяся кормушка — это движение как правило безопасное. Бывает, что в неожиданно открывшееся окно заглянет вертухай и потребует отдать подсмотренный в шнифты запрет, чаще всего заточку,нож или его подобие, изготовленное из куска какого-нибудь металла, от консервной банки до струны (между прочим, некоторым количеством моек можно перепилить толстое железо). Но чаще всего через кормушку попадает нечто позитивное, от баланды до пойманного на продоле кота Васи. Любой разговор через кормушку — тоже движение. Недавно заглянула явно заскучавшая вертухайша:
— Вы что кота мучите? Не трогайте его.
— Кто его мучит, старшенькая, — дружелюбно отозвался Володя. — Сама подумай, зачем нам его мучить.
— Пусть лошадь думает, у неё голова большая! — парировала вертухайша и захлопнула кормушку.
— Во наблатыкалась! — мечтательно произнёс Вова и задумчиво повторил: «Пусть лошадь думает…». Слыхали? Передайте сюда шоколадку! — застучав кулаком в тормоза, позвал: «Старшя! Старшя! Подойди к два два шесть!»
На этот раз сотрудница спецчасти говорить с Вовой не стала: «Павлова давайте. Продление срока содержания под стражей. Распишитесь». На бланке Генпрокуратуры напечатано, что по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Сукова и решению заместителя Генерального прокурора Холмогорова срок содержания под стражей следственно-арестованного Павлова продлён на три месяца. Печати нет. Число сегодняшнее, а два месяца истекли вчера. По закону, бумага недействительна, обязаны освободить. Для верности, не веря глазам от волнения, попрепиравшись с тётенькой, не желавшей дать мне документ в руки, получаю-таки его и переписываю досконально, можно сказать зарисовываю, после чего от подписи отказываюсь. Несколькими днями позже буду мучительно жалеть, что не догадался поставить подпись прямо на этот документ, за что, конечно, был бы наказан, но заменить его было бы уже труднее. (Забываешься, арестант, не станет бабушка дедушкой). Остановить охватившее душу и разум возбуж-дение не представлялось возможным. Все, теперь только на свободу.
— Володя! — вопрошал я, выразительно предъявляя ему переписанный текст, — ты сам видел — нет печати. Подтвердишь, если напишу жалобу?
— А до этого ты много ответов получил на свои жалобы? — от перспективы потерять лицо порядочного арестанта в случае отказа или пойти против власти в случае согласия восторга Володя не испытал и незаметно отодвинулся на задний план.
— Алексей! Ты-то подтвердишь? Не боишься? — избрал я новую жертву в лице дорожника.
— Не боюсь. Но я не видел бумагу.
— Артём! — в отчаянье бросился я к последней надежде, — ты — видел?
— Я видел, — сочувственно отозвался Артём. Вид погнавшего товарища произвёл на него удручающее впечатление.
— И что ты думаешь? — гневно воскликнул я, видя, что остальные в хате стали как бы прозрачны.
— Должны освободить.
Начался бунт одного арестанта против системы, раскинувшейся от Москвы до самых до окраин. Заявления начальнику спецчасти, начальнику следственного изолятора, прокурору по надзору, заместителю Генерального и Генеральному прокурору (светло-коричневой его памяти, товарищу Шкуратову), начальнику Главного управления исполнения наказаний, следствию, вызов ДПНСИ, старшего оперативника, очередное заявление в суд — ничто не дало не только результата, но и какого-либо ответа, кроме того, что хата 226 решительно была поставлена на уши, все были детально посвящены в содержание соответствующих случаю статей Уголовно-процессуального кодекса и при появлении любого сотрудника тюрьмы дружно информировали его о том, что в хате незаконно содержится арестант Павлов. Косуля благоразумно пропал. Так, в шумных протестах ночью иднем, прошла неделя, за которую из-под моего пера вышло огромное количество, надо заметить обоснованных, заявлений с требованием немедленного освобождения. Последним заявлением я уведомлял начальника тюрьмы о предстоящей, в случае дальнейшего игнорирования моих ходатайств, голодовке протеста и обещание приложить все возможные усилия для огласки случая прессой.
Звякнула кормушка. «Павлов! Спецчасть». Сотрудница спецчасти, уже не та, что в прошлый раз, по-матерински стала меня журить:
— Что же Вы, Павлов, заявления повсюду пишите, шумите. В чем дело? Мы проверили Ваши претензии, они необоснованны, не надо больше писать никому.
— Что значит, необоснованны?
— А то и значит, Павлов. Вы пишите, что на уведомлении о продлении срока содержания под стражей нет печати и дата позже, чем положено. Я сама проверила. Вы ошиблись. Вот, смотрите сами, ещё раз.
Уведомление было похоже на предыдущее, только дата — в пределах срока, установленного законом, и круглая печать Генпрокуратуры при ней. Сравнив со своей зарисовкой, я обнаружил, что исходящий номер — тот же, хотя и написан в другом месте.
— А как быть с этим? — я показал полученное в процессе своих протестов подтверждение её же ведомства о том, что в положенные сроки уведомление о продлении в тюрьму не поступало.
— А это ошибка. Девочки напутали. Печати же нет.
— А разве вы ставите печати?
— Нет, не ставим.
Оставалось развести руками или разбить голову о тормоза. Предпочёл первое. Безумная нервная активность подорвала силы. Началась депрессия. Мне бы адвоката. Обычного, не знаменитого. Договорился с Артёмом, чтобы он своего ко мне направил, но Артём, придя с вызова, только помотал в отчаянье головой и сказалшепотом: «Труба дело». Пришлось в тетради написать ещё несколько столбиков чисел, которые предстояло зачеркнуть. Странное удовольствие стала доставлять попытка решить геометрическую задачу, не имеющую решения. Как-то раз, будто вынырнувший из небытия Славян объявил, что отдаст весь запас своих сигарет тому, кто, не отрывая карандаша от бумаги, нарисует такую фигуру:
Хата обрела занятие. Никто задачу не решил. Вова, свысока посматривавший на всех, заявил: делать нечего, упражнение для детей, но был обескуражен, не доказав этого. Слава заявил, что Архимед эту задачу решил. Если арестант сказал, ему нужно верить, если он не фуфлыжник. Фуфлыжником же Славу никто не объявлял, в отличие от некоего Карабаса с большого спеца, по поводу которого прошёл прогон за подписью смотрящего за корпусом; в прогоне ясно говорилось, что коллегиальным решением Братвы, с ведома и согласия Вора, Карабас из хаты 218 объявляется фуфлыжником, со всеми вытекающими по понятиям последствиями. Обсудив с Артёмом, решили: коль задача не решается в одной плоскости, можно попробовать искривить пространство — свернуть лист бумаги гармошкой и в определённый момент рисования, не отрывая карандаша, распрямить бумагу, вытянув за край ту часть начатого рисунка, которая сначала мешает, а потом необходима для завершения фигуры. И это удалось. Славе показали решение. — «Нет, не складывая листок» — грустно сказал он.
— Слава, а ты это говорил? Твоё условие — не отрывать карандаш от бумаги. Так? — строго задал вопрос Артём.
— Вы не спрашивали.
— Слава, ты три года сидишь. Спрашивают за проступки, а мы интересуемся.
Сигарет Славиных мы брать не стали. Но решить задачу, не складывая листа бумаги, зная о невозможности решения, показалось заманчиво; погружение в абстрактные рассуждения и логические доказательства несостоятельности вариантов позволяло забыться, а среди множества схем с цифрами получилось незаметно записать номера телефонов — на память уже рассчитывать не приходилось. После истории с несостоявшимся освобождением в хате стало необычно спокойно. Разговоры только за жизнь, и ни слова о чем-либо напоминающем закон. Появилась колода новеньких карт. Азартная игра и тюрьма — вещи весьма совместимые. Тюремная карточная колода — стос — изготавливается из чистых листов бумаги, искусно склеенных в несколько слоёв, и разрисовывается тюремно-лагерной карточной символикой, отличающейся от общеизвестной и не позволяющей официально признать набор узоров за игральные карты, что может иногда помочь их обладателю избегнуть карцера или ШИЗО. У нас были обычные настоящие карты. И начали мы резаться в дурака и в двадцать одно (серьёзно ошибётся арестант, сказавший что-нибудь типа «мы играли в очко») на сигареты, от зари и до зари. Поняв безмерное честолюбие Володи, я проигрывал ему и тогда, когда мог выиграть, чем приводил его в прекрасное расположение духа и, как мне казалось, можно было оттянуть момент ухода на общак. В дурака играли «без интереса», т.е., по вольной терминологии, именно на интерес. Нечто весёлое, жизнеутверждающее и непринуждённое появилось в атмосфере хаты. Опять про нас забыли коридорные. Играли не таясь, слушали лагерные песни из магнитофона (где ещё их так прочувствуешь). Не тюрьма, а санаторий ВЦСПС. И что наша жизнь? — игра.
Много народу прошло через хату, лица слились в одно. Обыкновенно я и не запоминал, как кого зовут, неделая из этого проблемы: «Извини, братан, не в огорчение будь сказано, забыл, как тебя зовут» — и затруднений нет, хотя и странно, что на площади всего в несколько квадратных метров можно кого-то помнить, кого-то нет, с кем-то общаться, а кого-то не замечать. Камерную идиллию подпортил петух. Вошедший в хату маленький чернявый, необычайно вонючий парнишка под строгим взглядом Вовы рассказал, как на общаке пошёл на поводу у двоих, обещавших, что все будет тайно, а когда тайное стало явным, т.е. сразу, на поводу пошёл уже… в общем, и со счета сбился. Место для жизни Максиму отвели, как и положено в таких случаях, между тормозами и первой шконкой, в углу, где мусорное ведро, напротив дальняка. Места совсем мало, но таков статус. Вова провёл инструктаж. За кран с водой петуху браться можно, за половую тряпку и веник тоже. К остальному не прикасаться. Если петух взял в руки чей-нибудь предмет, последний выбрасывается. Наказать петуха можно фанычем по голове (фаныч на выброс) или другим предметом. Мыть пол и дальняк — обязанность петуха. Можно давать ему сигареты или поднести горящую спичку, главное — не прикасаться, исключая половой контакт, но это не здесь, а там, на беспредельном общаке. В этот же вечер пришла малява-оповещение: из такой-то хаты выломилась машка, отзывается на кликуху «Максим», была одета так-то, описана внешность. Трудно ломовому засухариться. Неприятный гость, но он же и незваный. А в остальном — опять лафа, народу мало, без места всего лишь человека четыре.
В это утро на проверке спящих не будили. Наигравшись в карты, Вова, Слава и Артём спали. Я же проснулся, чтобы отдать на имя начальника следственного изолятора товарища Прокопенко заявление о том, что начинаю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного ареста и содержания под стражей. Мои требования — встреча с прокурором, оказание мне медицинской помощи, освобождение из-под стражи. «Алек-сей объявил голодовку» — оповестили Вову, когда тот проснулся.
— Лех, правда, что ли?
— Правда, Володя.
— Вот так-то, Слава! — сказал Володя тоном человека, которому надоело притворяться, и добавил с нотой презрения: «А ты бы так смог?»
— Конечно, смог. Мажем, что могу? — азартно, но неубедительно отозвался Славян.
Вова не ответил.
— Лех, голодать будешь всухую?
— Нет, буду пить кипячёную воду.
— Голодовку могут не засчитать.
— Я не голы забиваю.
— Когда начинаешь?
— Уже начал, в девять ноль-ноль.
Арестанты смутились, не решаясь завтракать.
— Не обращайте на меня внимания, ешьте, пейте, живите спокойно, — сказал я хате, и все уладилось.
— Я тебя буду потихоньку подкармливать, — шепнул Артём.
— Нет, Артём. Во-первых, я против, во-вторых, глоток сладкого чая — это уже сахар в крови, возьмут на анализ — все пропало. Буду питаться курятиной.
— Какой курятиной? — брови Артёма недоуменно взлетели.
— «Примой», «Явой», «Мальборо».
— Знаешь, — виновато сказал Артём, — я не могу при тебе есть. Давай я тоже объявлю голодовку, но больше трех дней я не смогу.
— Артём, от души за поддержку, но не надо. Мне, наоборот, приятно смотреть, как вы трапезничаете.
— Добро. Вот твоя кружка на дубке, в ней всегда будет кипячёная вода. Сам можешь не кипятить, только скажи, мы сделаем. Вот этот кипятильник будет только твой. Всегда по зеленой.
— Чтобы голодовка была действительна, — удручённо сказал Слава, — надо написать отказ от пайки.
— Я в курсе, Слава. Написал.
— Чего ты добьёшься! Кинут на общак — и все.
— Посмотрим, Слава.
— Тебе надо старшему оперативнику написать.
— Если не ошибаюсь, Слава, ты говорил, что порядочному арестанту западло х.. сосать, куму писать, на продоле убираться, в жопу е…… и голодным остаться?
— Именно голодным остаться.
— Слава, — разделяя слова, задал вопрос Артём, — ты хочешь сказать, что голодовка — западло?
— Нет, не хочу, — поняв, что выбрал зыбкую стезю, закончил разговор Славян.
В первый день голодовки двое ушли из хаты, зашёл один. Как у всякого душевнобольного, каковым я себя отчасти уже чувствовал, обострилось чувство справедливости, не стало сил скрывать своего отношения «к общественной лжи и фальши». В пухлом самоуверенном Вите с первого взгляда угадывался ломовой и стукач, мыслью о чем я и поделился с дорожником.
— Нельзя говорить бездоказательно, — мягко возразил Леха.
— Артём, — подступился я к семейнику, — по ходу, к нам стукача закинули.
— Ты что! — испугался Артём. — Пока нет полной уверенности, о таком молчат. Никому больше не говори. Ошибёшься — греха не оберёшься. Это — тюрьма.
— Артём, не пройдёт трех дней, как всем все будет ясно. Веришь?
Артём глянул на меня, оценивая, в своём ли я уме:
— За три дня никогда ничего не бывает ясно.
— Увидишь.
— Хорошо, только больше об этом ни с кем не говори.
Потянулись длинные минуты, из множества которых складывались сутки. Вода и сигареты. Сигареты и вода.
— Что ты так много куришь! — восклицал Вова, и получал ответ:
— Очень люблю курить.
Вова возражал:
— Нам покойники в хате не нужны.
Походило на игру в дразнилки:
— Тюрьма, Володя, — не запретишь. Следак тоже интересовался, почему много курю, наверно в шнифты пасёт.
Вова качал головой и замолкал. А когда узнал, что я по-прежнему в двадцать одно со всей готовностью — обрадовался, и жизнь опять потекла азартным образом.
Через сутки в хату зашёл крутой. Обвиняется в нескольких убийствах, бандитизме, рэкете (попрошайничестве, как он выразился). А в общем, дружелюбный парень, бывший спортсмен-боксёр с высшим медицинским образованием, в глазах которого крупными буквами написано, что готов любыми средствами скостить себе срок. Пришёл, говорит, с корпуса ФСБ, оттуда же, что и предыдущий новенький. Осведомился, кто на спецу смотрит за положением, где собирается общее. Обрадовался, что Вор на тюрьме — якобы его знакомый, тут же отписал ему и сам отправил маляву по дороге вкупе с презентом — блоком «Мальборо».
Не знаю, кто ставил режиссуру комедии, неспешно протекавшей в нашей камере, но хата не скучала. От очередных денег Вова отказался, что означало одно: общак. Оставалось радоваться жизни, пока есть возможность.
— А это кто на верхней шконке? — поинтересовался Валера.
— Новенький. Вчера зашёл. Витя Мыртынянский. Мошенник.
— Витя Мартынянский? — подпрыгнул Валера, — мошенник? Да он, в натуре, серийный убийца. Наших завалил сколько. Его на общаке опустили. До воли не доживёт.
Валера подошёл к Вите, который заблаговременноулегся на шконке лицом к стене.
— Витенька, — ласково позвал Валера. — Открой, красавица, личико, тебя с заду не узнать.
Витя повернулся, изображая сонного.
— Здравствуй, Витя. Вот и свиделись нежданно, — ворковал Валера. И вдруг заорал, раздирая на груди рубаху:
— Попишу гада!!!
Если кто видел, как кошка играет с мышкой, прежде чем её скушать, то сможет представить, что выглядело именно так. Мышка убегает, кошка ловко, одним коготком, возвращает её на место. Мышка замирает в смертельном ужасе, кошка одним коготком придаёт ей ускорение. Так Валера невидимым коготком игрался с Витей, а когда показалось, что все, кончится сейчас весь Витя, вступил в роль Вова:
— Ясность полная. Валера, оставь его. Витя, вставай на лыжи. Через пять минут я ложусь спать и ничего не слышу. Время пошло.
Витю как ветром сдуло к тормозам, обеими руками, и даже ногами, он заколошматил по двери и закричал:
— Старшой! Скорей сюда!
— Ты, сука, если пишешь, пиши, что слышишь, а не то, что думаешь. Твоя же писанина, падла ты сумеречная, мне в уголовное дело ложится! — наставлял его Валера, пока скрипели замки открывающихся тормозов.
На следующий день в прогулочном дворике, закуривая, тихо говорю Артёму:
— По ходу, Валера — тоже стукач.
— Ты уж пока не говори никому, — улыбнувшись, ответил Артём.
— И Вова со Славой.
— Да, я понял. Только поздно.
Вдруг Артём странно посмотрел на меня.
— Нет, Артём, я — нет, ты же знаешь: я экстрасенс и ясновидящий, — улыбнулся я.
— А откуда ты узнал про орехи? Только честно.
— Случайность, Артём. Как проявление и дополнение необходимости.
— Меня не сегодня-завтра повезут по сезону. Хочешь, спи на моей шконке.
Артёма в самом деле увезли «по сезону». Честь семьи в «двадцать одно» остался отстаивать я один, однако процесс был важнее результата, помогая, вкупе с водой и сигаретами, отвлечься от голода. Каждый второй день голодовки — кризисный, особенно с учётом того, что продукты под рукой, и едят на твоих глазах, но все терпимо. Голодающему положена встреча с прокурором. У меня её не было. Валера, Слава, Володя не спуская глаз следили за мной. Валера, бедняга, почти без сна. Стоит затеять негромкий разговор, он тут как тут, уши греет.
Через пару дней вернулся Артём, возбуждённый, радостный:
— На Петровку возили, на очную ставку. Меня пострадавший не узнал! Как пальцем показал на другого, так у меня и отлегло. А я думал…
— Артём! — обрываю на полуслове. — Дело есть.
Присели в моем углу под решкой.
— Артём, ты понимаешь, что говоришь?
— Что?
— За пять минут, сам не замечая, ты такого наговорил, что, наверно, пару лет себе набросил.
— Да я сюда после Петров как домой приехал! По-моему, я ничего такого не сказал.
— Эх, Артём, помолчал бы лучше. Со стороны виднее.
— Пожалуй, ты прав. Переволновался я.
— Кулаки-то чего разбиты?
— Драться пришлось.
— С кем? С мусорами??
— Нет. Посадили сначала с сумасшедшим, но, по-моему, он косит. Всю ночь по хате на мотоцикле ездил. С ним и повздорили. Потом к спортсмену перевели.Между прочим, он тебя знает, тебе от него привет. Артамонова из альплагеря «Эльбрус» помнишь?
— Конечно.
— Это он. Удивился, что ты в тюрьме.
— А он почему на Петровке?
— Тоже какие-то большие деньги, я особо не интересовался. Этапа на Украину ждёт.
— Вот, Артём, и знакомые пошли. В общем, хорош делиться впечатлениями. А то ты как первый день заехал. Чифирнем и в бой? Без тебя азарта нет.
— Согласен. А ты что, чифиришь?
— Нет, я вприглядку.
И полетели масти перелётными птицами.
Всемогущее время лечит. Сидя за письменным столом перед широким окном с видом на самый красивый на земле город, держа в руке «Паркер» с золотым пером и описывая тюремные дела, ловлю себя на том, что шире и светлее представляются камеры, в которых сидел, настойчиво чудится в них дневной свет и солнце. А между тем, неправда это. Страшна и неприемлема человеку йотенгеймская тюрьма. Серьёзная, господа, школа.
Голодать оказалось не так трудно, как ожидал, соблазна съесть что-либо тайком не возникало. Один лишь раз не удержался и положил на язык одну крупинку соли. Увидев, как я зажмурился от удовольствия, Артём сокрушённо покачал головой и не сказал ничего. С удовольствием вдыхая запахи, помогал Артёму резать колбасу, хлеб, чистить лук, что было вовсе не мучительно. Вова несколько дней что-то помечал в тетради, всякий раз глядя на часы. Наконец объявил мне:
В среднем за сутки, с учётом времени сна, ты выкуриваешь одну сигарету за 12 минут. Это невозможно. Надо завязывать.
— Володя, — отвечаю дружелюбно, — кому надо? Ты забыл: страсть как люблю курить. Покурим?
Вова только рукой махнул:
— Между прочим, на общаке с куревом вообще голяк.
— А я могу и не курить.
— Правда, что ли?
— Правда. Только не хочу. Обстановка не та.
— То есть?
— Воняет очень.
— Ты на что намекаешь?
— Володя, разве тебе так показалось?
— Ты сказал.
— Как есть, так и сказал.
— Не всегда нужно говорить как есть.
— Кто-то знает, когда?
Такого рода разговоры — пример тюремного скандала: основной смысл в подтексте, не за что ухватиться. А ошибёшься — беда. Но и в этом случае есть выход: демагогия и словоблудие. Недаром они выручают даже государственных руководителей. Если же не умеешь пользоваться такими инструментами — не ошибайся. — «Ты что, блядь, делаешь, собака!» — орёт один арестант на другого. Оскорблённый тут же возвышается в самоощущении и обращается к хате:
— Вы слышали? Он меня блядью обозвал.
(А за это спрос.)
Но обидчик невозмутимо говорит:
— За напраслину — ответишь?
(И за это тоже спрос.)
— Отвечу. Все до единого слышали, как ты меня обозвал.
— Я тебя не обзывал.
— А «блядь» говорил?
— Говорил. Для связки слов. А обзывать не обзывал.
— А за «собаку» ответишь?
— За то, что назвал тебя по имени доброго и умного животного? За это спроса нет.
— Таким тоном только оскорбляют!
— Тебе показалось, братан.
«Павлов! На вызов!» Думал, к врачу. Пятый день го-лодовки, а на заявление никакой реакции. Оказалось, к врачу, но другому. Где-то на следственном корпусе оставили одного в пустой комнате с чистым деревянным крашеным полом. Сквозь решётку без ресничек льётся свет спокойным солнечным потоком, и так хорошо в тишине, что вспоминается детство. Даже курить взялся как будто украдкой. И очень долго никуда не зовут. Наконец вызвали в соседнюю комнату на «пятиминутку» — предварительную судебно-психиатрическую экспертизу. Среди вопросов, заданных мне психиатрами, особо рассматривались два: признаю ли себя виновным, и почему на тюремной карточке стоит не та статья, по которой мне предъявлено обвинение. На первый ответил отрицательно, на второй «не знаю». Косить не стал, хотя соблазн был. Видимо, и без того направят на Серпы. В своё время успешно удалось откосить от Советской Армии. Правда, далось нелегко. Два раза статья «годен к нестроевой в военное время» была опротестована призывной комиссией, но из больницы имени Кащенко, куда направляли на экспертизу, я возвращался с победой. Школьное увлечение психологией и психиатрией дало некоторые знания и такой вот результат. Разумеется, справки для спортивных соревнований о том, что здоров, я брал в врачебно-физкультурном диспансере, где медкомиссия не связана ни с поликлиникой, ни с военкоматом. Дела давние, но тут, конечно, раскопали. Несмотря на то, что в психоневрологическом диспансере по месту жительства числюсь как выздоровевший (это в своё время настала пора получать водительские права), — никто из врачей не рискнёт утверждать на пятиминутке, что я здоров, тем более что редкого арестанта можно назвать психически здоровым, если он провёл в Матросске или Бутырке больше одних суток. Лучше послать на стационарную экспертизу в институт им. Сербского, чем брать на себя ответственность. Получилось иначе. Пришли Ионычев с Косулей и ознакомили меня с постановлением о назначении экспертизы («пятиминут-ки») (то, что она уже состоялась, не смутило обоих), а заодно ознакомили с постановлением этой экспертизы: «Установить вменяемость не представляется возможным. Направить на стационарную экспертизу в институт имени Алексеева» (переименованная больница Кащенко). Редчайший случай, когда больница берет ответственность на себя.
Врача, председателя комиссии на пятиминутке, я помню. Хорошо помню. Когда решался вопрос, служить ли мне в Советской Армии, она спросила меня (сколько лет назад это было…), хочу ли я в армию. Тогда, почувствовав в ней нечто нормальное и разумное, я сказал: «Вы знаете, нет. Я хочу учиться». — «А Вам не помешает статья?» — «Нет». Далее, здесь же, при мне, под смущённые улыбки членов комиссии, она объявила, что данные, полученные в результате стационарного обследования, не позволяют мне служить в Советской Армии в мирное время; только в военное. И вот мы встретились вновь. Она меня, наверно, не помнит. Тогда она была моложе. Одним словом, я почувствовал, что мой вопрос решён. Чем гнить в тюрьме, лучше стать невменяемым. В этом случае уголовное преследование прекращается, назначается принудительное лечение (а это, в случае экспертизы в Кащенко, — там же, т.е. почти что на вольной больнице), и через полгода я выйду на свободу под надзор врача по месту жительства. Методику психиатрического освидетельствования в Кащенко я знаю хорошо. Практически не напрягаясь и не строя из себя сумасшедшего, выдам все, что нужно для диагноза. Можно МДП, можно вялотекущую. Вторая проще и ближе мне по духу, если руководствоваться шкалой Кречмера. Выздороветь тоже не составит труда.
«Все, идите, Павлов, — закончила женщина наш разговор, — нет, стойте. К прокурору обращались?» — «Да». — «И что?» — «Ничего. Тишина». — «Как долго будете голодать?» — «Сколько смогу». — «Хорошо, идите». — «До свиданья». — «До свиданья».
«Я обязательно выйду отсюда» — говорил я себе, куря сигареты и вспоминая столь необычную встречу. Видимо, есть люди, которым не нужны доказательства, потому что у них есть глаза.
— У врача был? — поинтересовался Вова.
— Да.
— Что нового?
— Ничего. Все старое.
— Ты думаешь, тебе кто поверит, что ты умереть хочешь? Тебе не дадут умереть. Чего ты хочешь добиться голодовкой! Не надо пыль в глаза пускать.
— Володя, давай по порядку. Первое: умереть не есть моя цель. Моя цель жить. Второе: если мне не дадут умереть, это будет кстати. Третье: голодовкой я хочу добиться соблюдения закона. Четвёртое: в отличие от некоторых арестантов, мои слова не расходятся с делом; если в хате найдётся хоть один, кто считает иначе, — пусть обоснует.
Володя задумался. Наверно, нелегко ему согласиться, что правду можно говорить вслух.
Неожиданно ушёл на волю пожизненный арестант — кот Вася. Сошёл с ума. Стал гадить где попало, рычать по-собачьи и бросаться на людей. Как будто в него вселился бес. Зрелище, поначалу смешное, стало жутковатым. С Васи сняли ошейник, и за пачуху сигарет вертухай отнёс Васю на улицу. Иной ценой Васе никогда не удалось бы освободиться.
Шёл седьмой день голодовки. Глубокой ночью, когда мы с Вовой и Артёмом резались в карты, а Слава отключился, наглотавшись колёс, Валера, замученный сторожевой бессонницей, воздел руки и в тоске воскликнул: «Ничего не понимаю! Голодает. На прогулку ходит. В карты играет. Смеётся. Курит»…
— А он вечный, — оторвавшись от игры, позлодействовал Артём. — Ложись спать, Валера, не гони.
Утром началась и долго продолжалась спокойная, полная намёков перебранка Вовы со Славой. — «Шила вмешке не утаишь» — говорил Вова. — «Не надо думать, что ты самый умный» — отвечал Слава. — «С сегодняшнего дня, Слава, — примирительно сказал Вова, — я буду жить отдельно, и ты ко мне, пожалуйста, не обращайся. Забери свои продукты из моей коробки и — расход». Слава молчал. Много прошло времени, прежде чем он спросил: «Вова, ты пошутил?» — «Нет, Слава, я сказал». Прошло ещё больше времени, и Слава снова подал голос, прозвучавший неожиданно жалко, напоминая тон Максима-петуха, когда тот плакал у тормозов и просил дать ему «покушать сала»:
— Вова, и я больше не смогу пользоваться твоими продуктами?!
Вова не ответил.
Тягучий тюремный день прошёл под знаком размолвки между ними. В хате установилось затишье, изредка прерываемое Володиными отповедями. — «Я тебе разрешал брать пепельницу? — грозно спрашивал Вова вжавшего голову в плечи Диму-убийцу. — Три дня тебе сроку, чтоб вернул мне такую же. Где взять? Где хочешь. Пиши малявы, договаривайся с баландером. Три дня тебе, и ни минуты больше. Почти все в хату занёс я. Ты что-нибудь сделал для хаты?» Дима-убийца испуганно хлопал глазами и даже не пытался подтянуть до отвращения низко сползшие штаны. Найти такую же стеклянную банку, как он разбил, ему не под силу. — «А ты, сукотина, что здесь делаешь, твоё место у дальняка» — закипел Вова и, не удержавшись, ударил Максима локтем в грудь. Петух полетел в угол. — «Кто тебя, гадина, таким именем наградил. Моего сына Максимом зовут. Ты имя человеческое опозорил!»
Ближе к ночи у Славы начались неприятности. Отозвавшись резко на какое-то замечание Вовы, Слава неожиданно получил предъяву в вероломстве и стукачестве:
— Слава, подлость твоя неизмерима. Больше года мы жили с тобой бок о бок, а ты все это время мне га-дил. Если бы не ты, я бы уже осудился.
Дело принимало серьёзный оборот.
— Докажи, — резонно ответил Слава.
— Нечего доказывать, Слава. Ясность — полная. Мой адвокат, а ты знаешь его возможности, сказал конкретно: весь год показания на меня писал Крюков, т.е. ты. И с больницы меня вернули потому, что ты написал, что я на самом деле здоров. И Лехе не дал помочь.
Это уже обо мне. Начиналась гроза, потому что Вова, глядя в пространство слепым ненавидящим взглядом, тихо и с неподдельным сожалением сказал:
— Если бы ты, Слава, знал, каких денег ты меня лишил. Каких денег…
— Это всего лишь слова, — философски отозвался Славян. — Твоего адвоката здесь нет, и кто знает, что ты говоришь правду?
— Леха, — повернулся ко мне Вова, — было такое, что твой адвокат что-нибудь говорил про кого-нибудь из камеры?
— Было.
— Можешь сказать, что?
— Могу. Адвокат сказал, что в хате есть Славян, который связан с кумом.
Для Славы это оказалось ошеломляющей неожиданностью. Делавшие вид непричастных Артём, Дорожник и Валера сразу включились в действие.
— Слава, это правда? — несколько удивлённо (каждый в тюрьме артист) спросил Артём.
Славян замялся:
— Отчасти.., — и спохватился, — только это неправда.
— Значит, я говорю неправду, и Леха говорит неправду? — Володя рассчитал верно, что я в стороне не останусь.
— Отчасти…
— Слава, два раза отчасти это уже часть. Ты стучал на сокамерников и гадил не только мне. Только тебе Ар-тем говорил про эпизод, по которому его возили на Петры. — Вова неплохо подготовился.
— Ты говорил с Артёмом о его делюге? — как о чем-то невозможном, спросил Славу Леха Террорист, после чего демонстративно дал всем на дороге расход и приглушил телевизор.
— Интересоваться делюгой, — лицедейски промолвил Валера, — это, Слава, ты знаешь, что такое. Придётся отписать Вору.
Слава достал горсть таблеток и закинул в рот.
— Нет, Слава, — продолжил Валера, — ты этого не делай, ты трезвым вышел на базар и за пьяного не проканаешь.
Вова, не в силах сдержать наболевшее, разразился обличительной речью.
— Целый год, Слава, я тебя кормил. У тебя за душой ни гроша, ни нитки. Целый год я ломал с тобой хлеб, как с порядочным арестантом. Я тебя отмазал, когда ты десять штук баксов проиграл в карты. Ты понимаешь, что для тебя это значило? Моя жена собирает тебе посылки, беспокоится, пишет, что Славе нужна тёплая одежда на этап, а ты поступаешь как неблагодарный негодяй. Нам дают под защиту людей, пусть падших, но слабых, а ты как стервятник. За что ты отпидарасил Данилку? Он же был как одуванчик беззащитный: дунь и облетит. А Максим? Никто в хате ни сном ни духом не помыслил, а ты взял и отхуесосил его. Какая низость, Слава!
— Надо было тебя тыкнуть, пока ты пьяный валялся, — заявил Леха Дорожник, — и к Максиму в угол, чтоб дальняк мыл и молчал как собака. Думаешь, я не знаю, что ты про меня написал? Я тебя, Слава, на воле найду.
— Все, что вы говорите, нужно ещё доказать, — твёрдо заявил Славян.
Последнее средство защиты — демагогия — длилась несколько часов, уже показалось, что сейчас всем все надоест, и конфликт кончится ничем, как это часто бывает в тюрьме, но долго молчавший Леха Террористближе к утру вдруг оборвал Славу:
— Если ты, сука, не заткнёшь свою пасть, я тебя заткну сам.
Слава поверил сразу:
— Что же мне делать?
— Вставай на лыжи, — ответил Вова. — Баул можешь не собирать, а то у кого-нибудь не хватит терпения. Твоё барахло сдадим на проверке.
Слава пошёл к тормозам: «Старшой! Подойди к два два шесть!» Старшой подошёл, но выпускать Славу не хотел, утверждая, что одного желания выйти недостаточно. — «Что же мне делать?! — воскликнул Слава. — Брать мойку и вскрываться?» Такой аргумент на старшого подействовал, и тормоза заскрипели. Через час пришёл какой-то начальник и, внимательно глядя всем в глаза, попытался выяснить, что произошло. — «Ничего, — спокойно ответил Вова. — Человек захотел выйти. Почему? Не знаем».
«Чувствуешь, как легко стало в хате?» — сказал Леха Дорожник. В самом деле, будто зловонное облако рассеялось. — «Легче, — ответил я. — Кстати, почему ты Дорожник — понятно. А почему Террорист?» — «Славе спасибо. Сижу за пистолет. А он написал, что я взрывал в Москве троллейбусы — помнишь, перед чеченской войной было, все газеты писали. Так бы уже на зону ушёл, а тут почти год с троллейбусами мурыжили. Троллейбусы отпали, погоняло осталось».
Наутро полхаты заказали с вещами, осталось человек семь. Дима-убийца радовался как ребёнок, что уходит на общак. Показалось, что наш гробик не меньше Дворца съездов.
В ночь на десятые сутки моей голодовки играла музыка. Справляли день рождения Вовы. Все пригубили бражки, я поднял кружку с водой. Красочные рассказы именинника о свободе (как водил машину, как пил коньяк в Париже, как строил дачу) привели народ в лихорадочное возбуждение, требующее выхода. Но посколькунад тормозами красовалась надпись «нет выхода», развернулось театрализованное представление под названием «Развод лохов или курс молодого бойца».
— Денис, думаешь, на общаке не поймут, почему у тебя правое ухо разрезано? Надо второе порезать, чтоб не догадались, — подначил парня Леха Террорист. Накануне Денис проявил отвагу, узнав, что проколотое под серьгу правое ухо говорит о принадлежности к геям, и располосовал ухо мойкой, да так, что еле остановили кровь.
— Ты думаешь? — озадачился Денис.
— Конечно. Но и второе ухо тебя не спасёт. Тебя спросят, какой ты масти, ты задумаешься, а тут врасплох про ухо, ты растеряешься, подумают, что ты за собой что-нибудь чувствуешь. Вот ты уже и растерялся.
— Да нет, не растерялся.
— В зеркало посмотрись. Растерялся. Значит, за собой что-то чувствуешь.
— Нет, не чувствую. — Денис насторожился, видимо, вспомнив стремительное развитие истории со Славой, уже не понимая, шутят с ним или нет.
— А что расчувствовался? — поддержал Леху Вова. — Тебе тюрьмой интересоваться надо, а ты булки греешь.
— Алексей, я интересуюсь!
— Проверим. Решишь задачку?
— Не знаю. Попробую.
— Значит, согласен?
— Да.
— Ты убегаешь от медведя в лесу. Видишь две бочки. Одна с дерьмом, другая с мёдом. В какую прыгнешь?
— Не знаю, — чувствуя подвох, сказал Денис.
— Задачку ты не решил. Тебе дачки заходят?
— Да.
— Следующую дачку отдашь мне.
— Почему?
— Сам сказал: решишь за дачку. Не решил. Дачкудолжен.
— Алексей, — погрустнел Денис, — научи отвечать. Что надо ответить, чтобы было правильно?
— «Дальше побегу». Вторую задачку решишь?
— Нет, не решу, Алексей.
— Ты не хочешь со мной говорить? Порядочному арестанту всегда есть что сказать.
— Хорошо, попробую.
— Почему на малолетке колбасу не едят?
— А разве не едят?
— Не едят. Почему?
— Потому что нет, наверно… Не знаю.
— Так. Вторую дачку ты мне тоже должен.
Казалось, Леха давно не шутит, но Денис не пал духом:
— Алексей, как правильно отвечать? Научи, пожалуйста!
— Значит, так. Запомни принцип малолетки. Если мать пришла на свиданку в красном — не ходить. Колбаса — на хуй похожа. Сыр — пиздятиной воняет. Рыбы — в озере ебутся. Понял?
— Понял.
Повтори. Громко. Три раза. С выражением. Стихи в школе читал наизусть? Давай.
— Колбаса на х.. похожа! — заорал Денис, — сыр п……… воняет! Рыбы в озере е…..!
— Чего орёшь?
— Ты сам сказал.
— Порядочный арестант на поводу не пойдёт! — рассвирепел Леха Террорист. — Что на это скажешь?
— Что же мне сказать? — обратился вдруг ко мне Денис, — Лёша, помоги. Что сказать?!
У меня самого закралось беспокойство. Дорожник — классный парень, но, как говорит Вова, одни преступники собрались. Нарочито значительно и меланхолично я вышел на середину, повернулся лицом к решке, хмуро указал на Леху, Вову, Артёма и Валеру:
— Им, что ли? Чего им говорить! — предъяви им.
Получилось в десятку. Леха Террорист переломился пополам от хохота. Смеялись все, долго и до слез. Дорожник, справившись с приступом смеха, с упоением повторил: «Предъяви…» — и снова зашёлся.
Поставили кассету «Abba». Грянула музыка, лирическое облако окутало хату. Зажмурившись, явно представляя, что он в ночном клубе, в жизнеутверждающем ритме танцевал Вова. Мотая головой в нахлынувшем потоке фантазии, танцевал Леха Террорист. Танцевали Артём, Валера, Денис, кто-то ещё, и даже Максим у тормозов отрывался, как на дискотеке, забыв, что он петух.
Глава 19. ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ. ХАТА ОДИН ТРИ ПЯТЬ
На одиннадцатый день голодовки запланировано принудительное кормление. Так сказал Вова и подтвердил Валера. Будут через металлическую кишку вводить в пищевод манную кашу. Процедура небезопасная и негигиеничная. Могут поцарапать пищевод. Поэтому на утренней проверке отдал пачку заявлений с прежними требованиями и одно с оповещением администрации о временном прекращении голодовки. Поставил в курс хату. Вова обрадовался. Валера, как врач, стал давать советы по правильному выходу из голодовки. Советы я выслушал, и с удовольствием нажрался колбасы и сала с хлебом. Опять же с крепким чаем, и без каких-либо проблем.
Тут вызвали к врачу.
— Вы что, Павлов, голодаете? — у нас тут Ваше заявление, — корпусной врач держала в руках одно из моих заявлений. Чтобы не дать возможности администрации тюрьмы не зафиксировать голодовку, приходилось каждый день информировать о ней всех: следствие, про-курора, начальника тюрьмы, начальника спецчасти, врача, начальника ГУИН, комитет по правам человека при Президенте Борисе Ельцине, с указанием, когда голодовка начата, какой идёт день, какие предъявляю требования, и какие приняты меры (т.е. никаких). Заявление в руках врача, адресованное начальнику спецчасти, менее других имеющего отношение к моим требованиям, было наиболее кратким.
— А остальные заявления?
— У нас одно. Вы писали ещё?
— Да, минимум по семь заявлений ежедневно.
— Ну, и как Вы себя чувствуете?
— Сегодня голодовку закончил. Скажите, пожалуйста, на какой день начали бы кормить принудительно?
— Сегодня бы и начали. Я Вас спросила, как себя чувствуете.
— Как в тюрьме.
— Понятно. С такими ответами не удивительно, что стационар назначили.
Ага, значит, скоро в Кащенко. Так это ж дом родной. Помню, на военной экспертизе, один псих в коридоре поймал двух других, возложил им руки на плечи и, сияя от счастья, заявил: «Все здесь такие родные! Кащенские!» Что ж, я не против.
Вернулся в камеру. Опять на вызов.
— Ты шустрый, — сказал Косуля. — Кащенко не будет. Будут Серпы.
— С какой стати, Александр Яковлевич? Есть постановление комиссии и следствия.
— Не беда, я написал протест. — И шёпотом: «Я уже понял: можешь. Но надо наверняка. На Серпах у меня завязки хорошие. Вообще ничего не надо делать, поставят диагноз автоматически. Нужно только заплатить. Твоя жена уже передала деньги».
Снится или кажется? Нет, вот сидит напротив за столом в безупречном костюме известный адвокат… Не удивительно, что газеты иногда сообщают: на улице из-бит адвокат такой-то. Этого бы не грех прямо здесь придушить.
— Какие, в баню, Серпы! Только в Кащенко! Отзывайте свой протест.
— Поздно, Алексей. Поздно. Но ты не беспокойся. Я обещаю. Вот и письмо принёс, как обещал.
Один человек, читая рукопись этой книги, спросил меня: «Неужели все было так плохо? Неужели не было светлых переживаний, какой-то внутренней жизни, чего-то такого, что отвлекало бы от обстановки?» Конечно, было. Письма. Они могли составить отдельную главу, но не сохранились. Восстановить их не представляется возможным. Неточности были бы кощунством.
Насмешка судьбы в том, что письма приносил Косуля. Вернувшись в хату, я увидел Вову и Валеру.
— Куда все подевались? На прогулке?
— На прогулке… — задумчиво повторил Вова. — С вещами всех заказали. Тебя тоже.
— Шутишь?
— Нет.
Удар ключа о тормоза: «Павлов — с вещами. Готов?» — «Погоди, старшой, он только с вызова. Через пять минут».
— Давай, Леха, прощаться. По воле свидимся. Адрес помнишь? С общака отпиши, как определишься. Если что не сложится, поддержим. Вот квитанция, мы тебе на счёт тридцать рублей положили. Слава был против, но мы настояли.
В коридоре перед сборкой висело горячее напряжение, возбуждённые оперативники с дубинками и красными повязками на рукаве с надписью «резерв» ещё не остыли от боя. Двое здоровенных молодцов враждебно двинулись мне навстречу. Их опередил другой, в котором я признал Руля, принимавшего меня на тюрьму. — «Я тебя помню, Павлов, — тихой скороговоркой сказал он. — Молчи, ни слова, а то хуже будет».
— Ребята, не надо, этот от врача, пусть идёт на сбор-ку, — встав между мной и резервниками, сказал Руль и открыл дверь.
Так называемая чёрная сборка. Сколько тысяч полотенец сожгли здесь арестанты, прежде чем когда-то белая штукатурка приобрела такой вид. Лавок нет. Посередине подле баулов стоят Артём и Леха Террорист.
— Давай сюда, становись к нам, ставь баул рядом, — забеспокоился Артём. — Ты в порядке?
— Я в порядке, а вы? Что случилось?
— Через дубинал прогнали. Дениса унесли. Сказали, сейчас ещё придут: мы на общак отказались. Что же тебе делать. Тебя нельзя бить.
— Я тебя бить не дам, — спокойно сказал Леха Террорист.
— Я тоже, — отозвался Артём. — Скажу: меня бейте, а его не трогайте.
(Честно говоря, трогательно до слез.)
— Нет, вы, давайте, за себя. Я пойду на общак. А то останусь на спецу, да навсегда.
— Павлов, пошли, — позвал в открывшуюся дверь Руль.
С Лехой и Артёмом обнялись по-братски. Расстались молча. Что скажешь?..
Мимо агрессивных резервников Руль провёл меня до конца коридора, сдал на лестнице вертухаю, и тот повёл дальше. До последней секунды я наивно надеялся, что путь мой теперь только на больницу, Кащенко ли, здешнюю или какую ещё, но не на общак.
Перед металлической дверью No 135, почему-то покрытой каплями воды, вертухай, заглянув в карточку, весело сообщил: «Первоходы-тяжелостатейники. Заходи». И раскоцал тормоза. «Тормоза!» — послышался крик за тяжко открывающейся дверью, а на продол, где весьма прохладно, повалил пар, как из бани. Шаг в хату был каким-то обморочным. Сравнение с баней неверно: она и есть. Примерно 40 градусов воздух, 100 % влажность. В жёлтом горячем мареве стеной стоят в однихтрусах и тапочках потные люди, покрытые сыпью и язвами, смотрят враждебно и чешутся. Наверно, так себя почувствовал бы человек, которому пришлось шагнуть… куда? — право, затруднительно сказать. Грохнули за спиной тормоза. Рубаха немедленно стала мокрой от пота. Сердце застучало в голове. Одним словом, шок. До какой степени государство должно презирать человека, если помещает подследственных, вина которых не доказана, в такие условия. Такое государство не имеет право на существование. Но существует. Этот факт нельзя не принять во внимание, когда стоишь у тормозов с баулом и тщетно стараешься задержать дыхание, чтобы не чувствовать горячего запаха общественного туалета, приводит это лишь к тому, что вдыхать приходится с большей силой. Перед тобой два ряда шконок в два этажа, в общем количестве 30, уходящих к неясному горизонту и теряющихся в тумане; нижние ряды завешены простынями. По левую руку за грязной занавеской смердящий дальняк, по правую умывальник. Узкий проход между шконками упирается в дубок, где-то высоко маячат два окна с решётками. От решки орёт на полную громкость телевизор. Плюс неописуемый гул голосов (70 человек) и вентиляторов, совершенно не справляющихся с работой. Арестанты трутся друг о друга, пробираясь кто куда. — «Осторожно — кипяток!» — кричит один, неся от умывальника кружку, и все дают ему пройти. — «Дальний! Свободно?» — кричит другой, пробираясь к дальняку. — «Хата! Шнифты забейте!» — кричат с дороги. — «С веником!» — зовут с пятака (место между дубком и решкой), и парень с вокзала пробирается к решке (это его работа, за уборку он получает сигареты). Все преимущественно жёлто-коричневого цвета. Голые тела в грязных трусах пугают язвами, воспалёнными татуировками и единообразием лиц (мечта правителей Йотенгейма), выражающих ожесточение, страдание и терпение. Как говорится, мест нет. Везде люди. Кишат как черви. В глазах мелькает от движу-щихся коричневых точек. Не сразу доходит, что это тараканы. Их полчища. Происходит странная вещь: звуки отстраняются, я вижу: кто-то обращается ко мне с какими-то вопросами, но я их не понимаю. Я не понимаю ничего. Пробираясь к лампам дневного света на потолке, тараканы не удерживаются и, как парашютисты, дождём летят вниз, на головы арестантов, которые на ползающих по их телам тараканов почти не обращают внимания. Никакие рассказы не могут дать об этом представления. Разве это возможно? Стоп. Все возможно. Прежде всего, упереться рогом.
Кушкая — это классика. Уважаемый читатель, гражданин России, ты обязательно бывал в Крыму. Ты знаешь Ялту и Алупку, Симеиз и Севастополь, ты знаешь благотворную атмосферу прибрежных санаториев, и что такое отдых, ты знаешь лучше всех. Но что делают эти молодые люди под названием «скалолазы», тебе понять трудно. Проезжая на автобусе по верхней, под самыми скалами, дороге ЮБК, ты видел прилепленные к отвесным стенам цветные фигурки, от которых тянутся паутинки верёвок, и спешил отвести взгляд: вдруг упадут прямо сейчас.
Нам же все, кроме санаториев, было понятно изначально. В краю, где природа дышит покоем и морем, есть скалы невероятной трудности и красоты, а значит есть возможность в течение одного дня испытать страх смерти, радость удачи и утопить их в Чёрном море, лазурном и солёном, или в золотом и крепком прибрежном вине. Кто был скалолазом в Крыму, тот помнит. Золотое время. Сравнимое с мечтаниями детства. Не понимая в жизни ничего, без мировоззрения и почти без денег (спасибо моей маме, дай ей Бог здоровья, терпеливо пережившей моё легкомысленное увлечение и обеспечившей мне необходимое) — приехал я в Крым. Куда влекло меня в золотистом сиянии непрожитых лет? Ввысь. Вот высь. Над уровнем моря немного, метров 300 — 400, но скалы трудные и красивые. Все, что нужно для жиз-ни, есть, это — крючья, закладки, обвязка, верёвка (богатство!), карабины, скальный молоток, совдеповские калоши с острым носом (их носят чеченские женщины во дворе своего хозяйства, а мы, скалолазы и альпинисты, приделав к ним завязки, используем уникальную обувь для лазанья по скалам — западных скальных туфель мы ещё и не видели). В этот раз я не знал, куда зовёт меня мой друг, и хорошо, иначе бы страху было больше, чем нужно.
Скалы стали круче, закончился кустарник, упорно взбирающийся на стену (наверно, тоже хочет ввысь), перед лицом возникла вертикаль. Отсюда начинается «корыто» — маршрут высшей категории трудности. Эти несколько сотен метров свободным лазаньем без искусственных точек опоры до сих пор прошли только два выдающихся скалолаза — Витя Артамонов и киевлянин Фантик — фанат, прославившийся одиночными восхождениями по труднейшим маршрутам. Используя шлямбурные крючья и лесенки, пройти можно легко, но это индустрия, не лазанье, ценности не имеет.
— Давай, вперёд, — предложил Толик мне почётную возможность. Он в курсе моих амбиций на экстремальные восхождения, о которых не раз говорилось на кухне в Москве. Наглядный урок. Шершавая, как старый асфальт, стена, может быть, идётся свободным лазаньем, но зацепки такие маленькие, что с трудом верится, что на них можно удержаться.
— Нет, Толя, я не готов, иди ты.
Толя, злобно сплюнув, распаляя себя, как боксёр перед боем, выдал экспрессивную тираду и полез, чуть тяжело, в альпинистской силовой манере (в спор-тивном скалолазании все изящнее — там страховка верхняя, срыв не страшен), но — надёжно и на удивление быстро, и лишь метров через сорок забил крюк, завис:
— Давай сюда! По скале будет долго, лезь прямо по верёвке!
Дело нехитрое. Метров пять-десять на руках по ве-ревке, потом, зацепившись за скалу, дать возможность Толику выбрать провисшую верёвку, и опять вверх. Был бы жюмар — вообще не вопрос, но у нас девиз — меньше индустрии. Через несколько верёвок смотреть вниз стало неприятно. В больших горах ощущение глубины скрадывается ледниками и снегом внизу, в Крыму пара сотен метров пугает больше, чем километр на Памире, посмотришь вниз, и голова кружится. На соседнем маршруте методично царапается вверх группа альпинистов МВТУ, все время слышен звон забиваемых крючьев. — «Вася Елагин с вами?» — кричит Толик. — «Нет, он завтра приедет, — отвечают ему. — А вы откуда?» — «Мы снизу!» — отвечает Толик, чем подразумевается, что ещё посмотрим, какое спортобщество выдвинет нам достойное предложение. — «Понятно. Красиво смотритесь». — «Стараемся».
На середине стены подбираюсь к Толику. — «Ну, вот, Леха, корыто мы прошли. Классический путь — правее вверх». С удовольствием отмечаю, что путь не выше пятой категории. — «Но мы, — продолжает Толик, — попробуем вариант „через пятно“ — это левее». Ёлки-палки, какой левее, там же карниз, да такой, что только больной на голову полезет, там же не только крючья бить некуда, но и взглядом не зацепишься. Но… — назвался груздем — полезай в кузов. Пока добирались до карниза, появилось состояние отрешённости. Непонятно, за что цепляется Толик. Прошибает страх при виде закладки, которую он пристраивает в ненадёжных неровностях скалы, и не только доверяет ей вес своего тела, но и вытягивает через плечо верёвку, помогая мне сократить лазанье по ней, потому что круто и ноги не всегда достают до скалы. Чем-то недобрым веет от этого карниза. Свободным лазаньем он непроходим, даже если бы была верхняя страховка, я в этом уверен и жду, когда это признает Толик. Однако лишь я заикнулся, что, мол… как Толик обложил меня многоэтажным матом и приказал быть внимательным на страховке.
Внимательным можно быть до синевы, но падать ему несколько десятков метров, и единственная закладка, на которой я вишу, она же и единственная точка страховки, рывка не выдержит, без вариантов.
Чудеса бывают. Общение Толика с карнизом выглядело драматично. Казалось, он гладит руками карниз, в то время как кто-то невидимый подпирает ноги Толика, лишь острыми носками калош касающиеся стены, а карниз, выпуклый, непомерно большой, гладкий и мрачный, лениво отталкивает назойливого гостя. И ни сантиметра вверх. По гладкой отрицательной поверхности могут лазать только ящерицы, но здесь, мне кажется, ящерица не пролезла бы. Сколько длилось это безумие, не знаю, но так долго, что появилось убеждение в том, что жить все-таки было бы лучше, но, видимо, уже не придётся. Поглядев вниз, отчётливо представил на нижних пологих скалах два красных пятна. Жевательная резинка во рту рассыпалась в сухой порошок. Ни крючьев забить, ни вернуться лазаньем Толик уже не сможет, в этом подкарнизном танце силы его на исходе, это видно. И вдруг он безостановочно полез на карниз, в лоб. Вот он теряет сцепление со скалой, но судорожно и невероятно удерживается, отчаянно крича: «Леха!! Ручки есть?!!» Он ждёт спасительных слов, что да, есть зацепка, справа или слева, что эта спасительная зацепка обязательно есть, просто он её не видит, но вижу я и, конечно же, крикну ему, где она. В предчувствии катастрофы я гляжу в небо. Оно синее и чистое. Странный парень, право, этот Толик. Чего он, дождя, что ли, боится. И я кричу: «Нет, Толик, тучек нет! Погода хорошая!» Прохрипев какое-то ругательство и издав крик, похожий на львиный рык, Толик рванулся вверх. Не знаю, в чем он нашёл опору, но исчез за карнизом и в поле зрения не появился, а верёвка поползла вверх. Это значило, что мы будем живы. Поднимаясь по верёвке, я не отметил ничего, за что можно было хоть как-то зацепиться. Над карнизом пошли настолько пологие скалы, что мы, собравверевку в кольца, одновременно побежали вверх под осуждающими взглядами каких-то очень правильных альпинистов, вылезших откуда-то сбоку и с комичным напряжением забивающих крючья рядом с нами. Убирая верёвку в рюкзак, Толик говорил: «Ничего, нормально. Психика у тебя крепкая». Это значило, что над техникой ещё надо работать. Обходная тропа вела к морю. У костра ждал Витя Артамонов, сильный как медведь и ловкий как обезьяна, фанатично преданный альпинизму парень. При обсуждении маршрута Витины глаза лучились счастьем: «Я же говорил, можно его пройти. Есть там ручка, есть!» От рассказа о ручках и тучках все покатываются со смеху. Много лет спустя, уже закончив заниматься альпинизмом, я приехал в Крым, пришёл под Кушкаю, чтобы посмотреть на «корыто через пятно». Посмотрел. Безумие. Наверно, там был не я.
— К братве подойди на вертолёт! — наконец разобрал я слова улыбающихся моей непонятливости арестантов.
«В натуре, уголовники. Где их только искали, чтоб собрать в одном месте» — подумал я и двинулся сквозь толпу и кошмар. На спецу шконки стоят параллельно стенам, на общаке перпендикулярно, вплотную друг к другу, иногда с разрывом — привилегированные места. Нижний ярус завешен простынями, получаются как бы отдельные палатки, в каждой из которых собирается определённый круг знакомых и протекает своя особенная жизнь; к проверке пологи поднимаются, обнажая ячеистое нутро камеры. За одной из таких занавесок в проёме между шконками за крохотным столом собралась братва. Страшные рассказы Вовы Дьякова о зверствах на общаке — враньё, это стало ясно с первых же слов знакомства. Предложили чаю, сигарет: «Кури, Алексей. Будут проблемы, подходи, всегда поможем». Целую бурю вызвал ответ на вопрос, сколько денег украл:
— Это понятно, что ничего не крал, но статья у тебя тяжёлая. Сколько вменяют?
— Несколько миллионов долларов, — говорю осторожно. — Сколько точно, ещё сам не понял.
— Расскажи! Расскажи! — возбудилась братва.
— Я, — говорю, на всякий случай избегая обращения «мужики», — со всем уважением за положение, за Общее, но, не в огорчение будь сказано, о делюге — вообще ни слова.
— Нет, мы за делюгу не интересуемся. Мы думали, научишь чему-нибудь, — разочарованно ответил кто-то.
— Понимаю. Но не мне вас учить, — (одобрительные кивки).
— Ты бы баул пристроил на свободное место.
— Да где ж тут свободное место. Буду благодарен, если поможете.
— Поможем. Давай пока сюда, к нам, вот здесь, с краю. Потом к смотрящему подойди, он сейчас отдыхает. К дорожникам зайди, познакомься. На вертолёт заходи по зеленой, у нас для всех открыто.
Это правда лишь отчасти, так же, как на воле: новым соседям всегда говорят: «Заходите в любое время». А там как сложится.
Между дубком и «телевизором» (металлический высокий шкаф, в который складывают шлемки, часто с недоеденной баландой — чтобы доесть потом то, что останется после тараканов; на «телевизоре» стоит собственно телевизор) «на пятаке» снуют дорожники. Их шатёр справа. Слева на отдельной шконке, над которой нет пальмы, спит смотрящий; трудно понять, принадлежит ли это неподвижное могучее тело, лежащее на спине и одетое лишь в старые трусы, живому человеку: застывшее лицо с закрытыми глазами никак не реагирует на невыразимый гвалт, и только пот на теле свидетельствует о том, что это живой человек. Покрытый застарелой экземой парень по прозвищу Кипеж цинкует условным сигналом по батарее хозяйкой, после ответа прижимает кружку к батарее, прикладывается ухом к её дну, как к телефонной трубке, закрыв ладонью другое ухо, потомпереворачивает хозяйку и, прижав её уже дном к батарее, приникает к кружке, как к роднику, и натужно говорит в неё, закрывая зазор ладонями. Такой вот телефон с соседней хатой. Работает. Забраться на решку под высоким потолком трудно, но дорожники делают это виртуозно, используя трубу батареи и «телевизор». С удивлением отмечаю на дороге солидный клубок альпинистского репшнура (выдерживает 600 кг). На решку дорожники мечутся поминутно. — «Хата! Шнифты забейте! На пальме! Кто не спит — подорвались к тормозам!» И вот толпа ломанулась к тормозам. Расчёт на то, что если влетят мусора на перехват груза, преодолеть заслон им быстро не удастся. За это время важная малява или запрет ликвидируется, прячется или уходит по дороге. На пятаке есть к— под кафельной плиткой дыра в нижнюю хату. Какой-то чернявый с языком как помело (это наказание какое-то! — везде есть такие) громко и безостановочно вещает, как на каком-то централе была у них к— Юра Казанский. С ним грузин Михо:
— Вот, Юра, новенький зашёл. Я его от дорожников вытащил. Как зовут? Алексей? Алексей, они у тебя что-нибудь просили? Сигареты? Сколько отдал? Блок?! Юра, ты понял? — блок.
— Мне не жалко, Михо. А что так много людей на дороге?
Ответил Юра:
— Они, дорожники, вообще все на свете попутали. Ты смотри внимательно, что к чему. Я объяснять не стану. Если сам разберёшься, значит разберёшься, отношения в хате сложные. А не разберёшься… — Юра развёл руками.
— Постараюсь, Юра. Тут у меня мыло, паста, «Мальборо» — на общее камеры.
— Мыло, пасту оставь для себя. А сигареты давай. Я обещал соседям подогнать хороших. А что ты все время переспрашиваешь? У тебя плохо со слухом? Что же вы все со спеца такие глушеные приходите!
— Я после голодовки.
— Сколько голодал?
— Десять дней.
— У нас тоже полхаты на голодовке, этим нас не удивишь. Ты где в хате отдыхал?
Зачем Юра сказал про полхаты, трудно сказать, потому что ни одного голодающего впоследствии я не заметил. Голодных — да, почти все, а голодающих — нет.
— У решки.
— У решки? — недоуменно посмотрел Юра.
— Да.
— Статья какая?
— 160.
— Часть?
— Третья.
— Ясно. Старый жулик?
— Я не по этой части.
— На воле кем был?
— Много кем.
— Например?
— Например, учителем русского языка и литературы.
— В хате близкие были?
— Конечно.
— Кто?
— Из братвы.
— Из братвы?
— Да. Можно отписать.
— Нет необходимости. Толстый! Иди сюда! — С краю пальмы слез одутловатый парень.
— Толстый, будешь спать с ним.
— Юра, я на кумаре. Пусть спит в другом месте.
— Но ты же один на шконке, а другие по трое.
— Ну и что. Я против.
— Слушай, Толстый, я сказал: вы будете спать на одной шконке. О времени договоритесь сами. Все, Алексей, осматривайся, общайся. Если от адвоката лавэ занесёшь — честь и почёт. Может, сможешь на хату телевизор загнать? Я уже третий загнал. Горят от сырости.
Кажется, для такого глушеного карася, как я, это удача. Крайнее место на пальме у решки — ближе всех к вентиляторам, можно надеяться на какую-то циркуляцию воздуха, и тараканов здесь поменьше. Не грохнуться бы только на парус, под которым штаб дорожников. Толстый свернул свои простыни, я застелил свои. Матрас мокрый, как после дождя. Не говоря о том, что вонючий. Но заснуть удалось.
От первого пробуждения на общаке можно сойти с ума. Впрочем, как от любого последующего. С новой силой на тебя обрушивается видение, перед которым хочется закрыть глаза. Первым делом стряхнуть с себя тараканов, закурить. Целиком выкурить сигарету не получается, тут же кто-то обращается: «Покурим?» Ответов два. Или с кем-то уже курю, или положительный. Оказывается, выражение «париться на нарах» может быть и не в переносном смысле. Потеешь круглые сутки, даже во сне, за исключением прогулки или вызова. Если бы не высокий жёлтый потолок, взгляд всегда упирался бы в людские тела. О, как их ненавидишь после первого пробуждения на общаке! Как парадокс воспринимается вон тот парень на пальме напротив, читающий книжку. Ноги покрыты гнойными язвами, а он читает. У кого цветные татуировки, тем труднее, красные и зеленые воспаляются сильнее, чем синие, набухают, как нарывы; драконы, церкви, русалки, изречения кажутся рельефными, как бы приклеенными к телам. На одном написано: «Избавь меня, боже, от друзей лукавых, а от врагов я избавлюсь сам». У дубка вспыхивает спор. — «Ты почему взял мой фаныч без спросу? Надо интересоватьсяфанычем!» — «И поглубже» — уточняет парень, запрятав в ответе иронию, боль, отчаянье и беспросветность своего положения. Пожалуй, так жарко не было даже в ИВСе. Из телевизора слышится романтическая песня:
Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, В этой забытой богом стране.Некоторые лица выражают крайнее напряжение. Кажется, сейчас человек потеряет самообладание и начнёт крушить все и вся. Смотрящий передаёт на дубок горсть «Примы», народ подтягивается, на несколько секунд тормоза оказываются не заслонены. (Круглые сутки у шнифтов посменно дежурят люди, ловя каждый шорох. Это общественная работа на благо хаты, дабы вовремя предупредить движения с продола.) Над кормушкой, как нос корабля, в хату вдаётся вваренный в металл угол с шнифтами. Несколько секунд хватает какому-то арестанту для стремительного рывка к тормозам. Наклонив голову, он врезается ею в нос корабля и молча падает. Когда парня с кровоточащей вмятиной в черепе уносят из камеры мусора, стоит подавленная тишина. Через пять минут гвалт возобновляется. Дежуривших у шнифтов подтягивают к смотрящему: и у него, и у них, видимо, будут трудности. Нет, не жалко никаких денег, только бы выйти отсюда. Тусуясь от дубка до тормозов, с трудом расходясь с арестантами, не имея по полсуток возможности присесть больше чем на минуту, понимаешь отчётливо, будто с помощью наглядного пособия, что действие закона носит какой-то обобщённо-упрощённый характер и осеняет своим крылом пространство где-то в другом месте, не в хате один три пять. И мелькает соблазнительная мысль…
— Лёша, привет! Помнишь меня?
Нет, не помню этого худого улыбающегося парня.
— Матросов я! Саша!
Теперь вспомнил. Он зашёл в хату 228 чуть позже меня. Вместе тусовались у тормозов. Там он был толстым, обрюзгшим и надменным, писал дурацкие возвы-шенные стихи и требовал от меня рецензий. Сейчас не узнать. Худой как щепка.
— Тебя, Саша, не узнать.
— Я тебя тоже не сразу узнал. Как там Володя Дьяков поживает? По-прежнему пугает всех общаком? Ничего из того, что он говорил про общак, не верно. А вот наш смотрящий — классный парень!
— Ну, и как ты тут? Как тебе удалось сохранить кожу?
— А я и не сохранял. Уже на второй день покрылся экземой, а потом два раза в день хозяйкой намыливался с головы до ног, на дальняке ополаскивался. Все прошло, как видишь. Здесь все покрываются, а у меня прошло. Так что, чуть начнётся — сразу хозяйкой, может и у тебя пройдёт.
— Пока не начиналось.
— Начнётся. У всех начинается, не у всех проходит! — Саша смотрел весело и с вызовом. Может, потому и прошло. Даже вши заводятся в основном у тех, кто пал духом.
Шли дни, а кожные проблемы меня почему-то не коснулись.
Поначалу все старались завести беседу. Некоторые не первый год в хате парятся, оторванные от света, новый человек для них — это, быть может, новые возможности. Но я взял тактику отстранения. Необходимый минимум ответов, и все. Постепенно про меня забыли. Только армянин с длинным вертикальным шрамом на животе (след тюремной операции) подошёл и сказал:
— Меня зовут Армен. В хате сижу три года, за вычетом двух месяцев на больнице. Моя шконка внизу, вон там. Подходи в любое время, можешь всегда прилечь. Там есть вентилятор. Дело в том, что в хате не с кем поговорить, а с тобой можно, это видно. К тому же хату ты ещё не знаешь, оберут до нитки под благовидным предлогом, а со мной, хоть я и сам по себе, считаются. Можешь баул ко мне поставить. Если что-нибудь будет нужно, а я сплю — буди без стеснения.
Очень дружелюбен. Отвечаю жёстко. И тусуюсь до бесконечности сквозь тараканий дождь, считая секунды, в ожидании очереди лезть на пальму. Ни Косули, ни следака, ни передач. Крик «хата, баланда!» вызывает голодный рефлекс, и скоро баланда перестаёт быть вонючей, и рыбкин суп кажется приемлемым. Хлеба совсем мало, белый часто не дают вовсе. Растянуть пайку на сутки не хватает терпения, она съедается сразу, чувство голода переносится легче, когда знаешь, что у тебя нет ни крошки. Неполный спичечный коробок сахару — суточная норма — тоже исчезает сразу. Из восьмидесяти с лишним арестантов (хату уплотнили: зашло ещё с дюжину арестантов; кума бы сюда на денёк) большинство абсолютно неимущие, и с воли их не поддерживают, поэтому редкая передача растворяется в хате моментально. Иметь две рубашки неприлично. Армен был прав: роздал все. За свитер, что дорог как память, встал грудью, но уступил под натиском идеологии святости дороги, и расплели мою память на нитки и свили из них канатики.
За дубком круглые сутки играют в шахматы на победителя. Вместо доски грязная тряпка с нарисованным полем. Однажды, одурев от боли в спине, сел сыграть с камерным чемпионом. Проиграл сразу. Башка-то тоже болит и кружится, поди сосредоточься. Другой возможности сидеть в хате нет (позже, подружившись с Арменом, такую возможность я получил), а силы на исходе, но меня даже в очередь не хотели ставить. Добравшись, наконец, в полуобмороке до «шахматной доски», долго пытался отдышаться. — «Ходи, не занимай попусту место!» — сказал азиат, начисто обыгрывающий всех, по-королевски сидящий за дубком столько, сколько хочет. Это стоило напряжения, но стимул был. С треском раздавив конём проползавшую по шахматному полю жирную неторопливую вошь, я взялся за игру. Через несколько дней я сидел за дубком когда хотел. Выигрывать было необходимо, и я выигрывал. Во сне разбиралсыгранные партии с недоступной наяву длиной вариантов. Жизнь превратилась в шахматы. — «Ты, наверно, сначала прикидывался» — смущённо сказал азиат, сдавая очередную партию. Опять меня сломать не удалось. Начал понемногу общаться со старожилами. — «У меня по делу свидетели — менты, а они на суд не являются. Похоже, буду сидеть, сколько статья позволяет» — говорил Армен. Это означает, для примера, что если статья, по которой обвинён я, подразумевает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, то в случае передачи моего дела в суд последний может двигаться к своему решению в течение десяти лет с момента моего ареста, и никакая сила не сможет суду поставить за это на вид. Позже, в Бутырке, общаясь на сборке с судовыми, встретил арестанта, обескураженного решением очередного заседания Тушинского суда: назначить новое заседание, в связи с загруженностью суда, через год. Так что, Алексей Николаевич, с учётом того, что в деле, если верить Ионычеву и Косуле, есть уже 300 томов, и собираются довести до пятисот, в случае передачи дела в суд можешь считать, что ты в могиле, там уже и захочешь — не попадёшь на зону. Вон сосед Армена, Саша, сидит в хате четыре года за судом. Шестьдесят четыре заседания, а воз и ныне там. — «Уходят, — говорит Саша, — люди из хаты в основном на тубонар, такая уж хата, одна из самых тяжёлых на тюрьме. Прошлое лето в Москве было жарким, а в хате 120 человек. Чтобы пробраться от решки к тормозам, сорок минут было нужно. У кого сердце слабое — не выдерживали. Каждый день кого-нибудь выносили на продол. Там водой окатят; если в себя придёшь — опять в хату закидывают. Или в морг». Попробовал представить 120 человек в хате, жуть пробрала. — «У людей кости заживо гниют, — продолжал Саша, — забыл, как болезнь называется. Так что ты, Лёша, береги здоровье. Видишь, я даже не курю. Тубик здесь в воздухе летает. За четыре года я один выдержал. Старайся не поцарапаться: зараза попадёт — никто непоможет». — «А лепила?» — «Лепила… Она пятнадцать лет на Владимирском централе проработала. Мы для неё не люди. Нет у неё для нас лекарств. Будешь подыхать — не заметит. Если есть деньги — другое дело. У меня денег нет». Ожесточённо, собранно, никогда не улыбаясь, с аскетической самодисциплиной пробивался Саша сквозь годы хаты 135, на каждую прогулку выносил пластиковые бутылки с водой, делал во дворике зарядку и мылся с ног до головы, даже зимой. Ему бы в зону как на праздник, но свидетели — мусора. Статья у Саши до шести лет. От времени, когда мы разговаривали, прошло больше двух. Я надеюсь, Саша дожил до Свободы.
Перебирая взглядом лица, трудно найти человека, который может показаться интересным; лица искажены и упрощены, на каждом застывшая маска страдания, разница лишь в степени. Если кто смеётся, то выглядит не смешно, с таким же успехом мог бы плакать. Но как-то арестанты друг друга находят и стихийно образуют семьи. Есть люди, с которыми не важно, о чем говорить, с ними легко. На воле обычно они становятся друзьями. В следственном изоляторе дружить опасно, но ощущение взаиморасположения иногда даёт душевный отдых. Однажды среди всей этой вонючей фантасмагории ко мне подошёл парень с красным, будто только что прилетевшим на плечо драконом и сказал: «У нас семья пять человек. У нас всегда есть сигареты. Подходи в любой момент. Даже если не будет, что-нибудь придумаем». Сигареты на общаке дороже золота, они — единственное лекарство, и потребность в них безумная. Я не отреагировал, а парень не настаивал, но иногда, обычно в тяжелейшие для меня минуты, он вдруг подходил и предлагал закурить. Это некий феномен, весьма нечастый и в жизни и в тюрьме: почему, не ясно, но люди готовы поддержать друг друга. И это большое подспорье. Так иногда возникал разговор.
— Алексей, у меня к тебе просьба. Выйдешь на волю — позвони моей жене. Расскажи, что все в порядке. Запишешь телефон?
— Да. Только у меня статья до десяти лет.
— У меня до пяти, но мне кажется, что ты выйдешь раньше меня. Не знаю, почему.
— Позвоню.
— Заезжай в гости. Я тут недалеко жил.
И разошлись кто куда, по бескрайним просторам хаты, а на душе стало немного легче.
Прогулка на общаке проходит в большом дворике размером с камеру, т.е. примерно те же тридцать квадратных метров, но все равно тесно. Хочется, чтобы все помолчали — какой там — трепятся как отвязанные. В одном месте зарядку делают, в другом сидят на корточках, в третьем водой обливаются, в четвёртом смотрящий гуляет по зеленой. Радость одна — солнечный свет. Возвращение в хату мучительно. Мимо охранников с собаками, почти бегом, руки за спину, отставать нельзя, по внутренней лестнице на продол — в вонючую дыру раскоцанных тормозов. А там бедлам, все перевёрнуто, валяется в куче, где чьи вещи, не разберёшь: был шмон. У хлебореза отмели заточку — кто-то стуканул. Дорога пострадала: все верёвки забрали, чтоб не скучали и было чем заняться. Самодельную штангу унесли. Невероятно, но факт: находились желающие её поднимать. Например, парень с вокзала, стирщик, зарабатывавший на жизнь не только стиркой, но и тем, что за пачку чая разрешал ударить себя в живот со всей силы. Разные люди в хате. Какой-то старик живёт под шконарем, без матраса, в кишащей массе вшей и тараканов. Иногда и гадит там же. Выползает только за баландой.
Иду к Армену: «Давай, Армен, уговорил — брей голову наголо». Я, наверно, один в хате с бородой и небритой головой. — «Вот молодец! — радуется Армен, давно предостерегавший от вшей, — а ещё умывайся чаще по пояс холодной водой — для духа хорошо». Это так, но изысканность пребывания на общаке заключается ещё и в том, что весь день из крана течёт кипяток, хо-лодную дают минут на двадцать в день. Зачем? Праздный вопрос. Сердечный приступ подкатил во время бритья. Я сидел на вокзале на пуфике (набитый тряпками мешок), а Армен искусно цирюльничал бритвенным станком (важно не порезать), когда боль сдавила сердце и сознание стало уходить. Так же неожиданно, как появилась, боль переросла в приятное ощущение, сознание стало возвращаться. В глазах прояснилось. Армен сосредоточенно водил по воздуху ладонью в области моего сердца. Бритьё закончилось благополучно. Поймав на себе насторожённые взгляды, взял зеркало, из которого глянула бородатая физиономия душегуба-абрека. — «Ты, Старый (погоняло), если в таком виде пойдёшь к следаку, сто вторая тебе обеспечена» — покачал головой кто-то. Арестанты стали сторониться, а это серьёзный показатель. Сбрил и бороду. — «Слушай, — избегая обращения „Старый“, поинтересовался чеченский боевик, — тебе сколько лет?» — «Сорок». — Надо же, я думал шестьдесят. А сейчас — не больше тридцати…» Из зеркала смотрел утомлённый юнец с чёрными кругами под глазами. — «Армен, как ты вчера понял, что именно сердце?» — «Немного интересуюсь. Будет плохо — подходи». — «Армен, а кем ты был по воле?» — «Фармазонщиком, Лёша. Время придёт, они ещё узнают, кто такой Армен». Что ж, благодарю, Армен, мне эти вещи знакомы — избавить человека от боли — значит взять её на себя. На спецу у Вовы были ножницы, а у дорожника ногтерезка, здесь пришлось осваивать тюремную технику подрезания ногтей — мойкой. Первый опыт оказался неудачным, порезал на ногах пальцы (потом уж приловчился). Ногти следует срезать на газетку и выбрасывать на дальняк — чтобы не прирастать к камере. Стоило достать из баула пузырёк йода, как налетели: «Дай! Дай!» Отказать нельзя. Заболел смотрящий. Глядя как он мучится, подошёл: «Что, Юра, голова болит?» — «Да». — «У меня есть седалгин». — «Сколько у тебя таблеток?» — «Девять. Сколько нужно? Две?» — «Да-вай все. Эй, на дороге, сколько надо седалгина, чтобы попёрло? Двенадцать? Эх, мало… А может, у тебя ещё есть? Ладно, давай девять». Больше мне рассчитывать на медицину не придётся… Написал заявление врачу.
Отрешённая женщина в годах с сомнением разглядывала мою карточку, о чем-то думая и рассеянно слушая мой рассказ о здоровье.
Так… Назначена медкомиссия МВД… И институт.., — как бы говоря сама с собой, выдала врач служебную тайну и ненароком наклонила карточку так, что стал виден текст с штампом: буква «Ш» и число, когда была пятиминутка. — «А лекарств нет. Никаких. Иди в камеру. Йод? Нет, йода тоже нет. Ничего нет. Следующий!»
Вот это да, неужели все-таки здесь чего-то можно добиться. Было дело, вызывали к кормушке расписаться за ознакомление с исходящим номером, под которым отправлено моё заявление в Комиссию по правам человека при Президенте РФ, а потом и ответ пришёл: «Ваша жалоба направлена на рассмотрение в Генпрокуратуру». На дядю Васю жалуюсь — он же, дядя Вася, и рассмотрит. Василий Холмогоров — зам. Генпрокурора, продливший мне срок содержания под стражей, руководствовался ходатайством генерала Сукова; позднее меня ознакомили с этим сочинением, где было написано, что я признал свою вину, и мне требуется время, чтобы раскрыть её в деталях. Но: медкомиссия МВД все-таки назначена, не провести её следствие не имеет права. Это серьёзный шанс. Плюс институт. То есть Серпы. Буква «Ш» означает предварительный диагноз: подозрение на шизофрению. Я обязательно выйду отсюда. Лепила-то, оказывается, не совсем зверь. Информация для арестанта — самое главное. Куда же эта сука Косуля запропастился. Ладно, веди меня, вертухай, на помойку.
Пришли две малявы и груз. Леха Террорист и Артём писали со спеца, узнав от Вовы, в какой я хате. От их тёплых сдержанных слов стало радостно. Артём подписался «твой младший брат», Леха — «с уважением, Тёр-рорист». Вова прислал несколько пачек сигарет. Приятно, конечно, тем более что курить почти нечего (выручает Армен, ему как старожилу в знак уважения сигареты подгоняют арестанты, хотя он не курит), но ничто в сравнении с искренними малявами Артёма и Лехи. Малявы путешествуют по тюрьме самыми замысловатыми способами. Иногда, например, вертухай оставит кормушку открытой. В дело идёт маленькое зеркало («мартышка»), привязанное к палке. Осторожно высовывая его на продол, дорожник ловит момент, когда коридорный не видит (или делает вид, что не видит), и кидает к хате напротив верёвку, её ловят удочкой из кормушки напротив, и — пошло письмо по телеграфу. Часть маляв, конечно, прочитывается не тем, кому адресовано, снова запаивается в полиэтилен и отправляется по назначению. На этом некоторые серьёзно горят. Однажды Леха Щёлковский, вернувшись с ознакомки, обескураженно сообщил: «Смотрю в делюгу, а там ксерокопии всех моих маляв». Я сам слышал со своей пальмы, как внизу под парусом у дорожников сортировали прочитанные и непрочитанные малявы. Порядочный арестант, как и порядочный человек на воле, встречается нечасто, а щеки надувать и размахивать флагом умеют многие, не этому ли нас с детства учила страна.
Шло время, но долгожданное «с вещами» не слышалось. Напротив, хату посадили на строгий карантин, сорок дней без прогулок, свиданий и вызовов. Хуже всех судовым, следующее заседание автоматически переносится на несколько месяцев. Единственный симптом, на который реагируют врачи — кишечные расстройства с признаками отравления, но оказаться в инфекционном отделении — это реальная опасность заразиться чем-нибудь экзотическим, и туда обычно не стремятся. Один арестант впал в отчаянье и пошёл на такой шаг, чем подвёл всю хату. Его действия по имитации отравления (жрал всякую мерзость, плакал, что больше так не может жить) не остались незамеченными, хата взбунтовалась.Смотрящий, видимо, беседовал с кумом, с врачом. Порешили на том, что карантин, введённый на всякий случай, отменят после того, как у всех возьмут анализы и их результаты будут готовы. Хата на строгом карантине похожа на тонущую подводную лодку: дышать становится все труднее, а смотреть на тела невыносимо.
За занавеской у Армена микроклимат. На соседних шконках, не разделённых занавеской, по одному человеку, тоже старожилы. Иллюзия отдельной квартиры. Можно выкурить всю сигарету, сюда не заходят с осточертевшим «покурим?», можно прилечь на любую из трех шконок, спокойно побеседовать. Пришла продуктовая передача. Дорожники прибежали как на пожар: дай то, дай это, и это тоже дай. С ненавистью и иронией оставшихся без добычи шакалов выслушали, что все вопросы — к Армену, но к нему не обратились, а побежали к смотрящему, тот вышел на пятак: «У тебя что, Армен — завхоз?» — «Что-то типа того» — ответил я, и вопросов больше не было. Армен, поинтересовавшись, как я хочу распорядиться передачей, по классическим тюремным правилам или иначе (каждый имеет право ни с кем не делиться, но в этом случае не следует рассчитывать на камерный общак и хорошее отношение), объяснил, как сделать правильно. Двадцать процентов чая, сигарет и сахара — на общее. Примерно столько же братве и дорожникам. Что-то — на вокзал: все-таки люди стирают, подметают, моют. На вокзале тусуется сплочённый коллектив арестантов, образующих как бы трудовую семью. И тем лично, кого ты уважаешь. Вот, считай, и вся передача, себе остаётся процентов тридцать. — «Сам не носи, — говорит Армен, — тебя от этого больше уважать не станут. Держи дистанцию. Для этого есть шнырь. Эй, Рыжий! Иди сюда. Это передай на Общее, это — Братве, это — на Дорогу. С уважением и пожеланием здоровья». Через пять минут Рыжий вернулся: «Смотрящий велел передать, что благодарит».
— У нас сейчас все нормально, — рассказывает Ар-мен, — а год назад в хате было большинство грузин, чеченцев и азербайджанцев. Был беспредел.
Что ж, можно представить. Значит, кого-то обрабатывали таким способом в интересах следствия. Вот и весь беспредел. В тюрьме круг моего общения составило примерно 500 человек. Мой вывод: люди в тюрьме больше склонны к самоорганизации, чем на воле. Если бы арестанты не поддерживали друг друга и не были терпимы, выжить бы было трудно не только морально, но и физически. Настоящий беспредел в тюрьме имеет на плечах погоны.
Выгнать хату к лепиле для взятия проб из области заднего прохода удалось лишь после вызова резерва. Красные повязки и дубинки, готовые поплясать по головам, вразумили самых стойких приверженцев понятия, что по кишке мусора могут пройти только по беспределу. Для осуществления процедуры привлекли врача-мужчину со спеца. Впрочем, мужчина ли он, можно было усомниться. За работой он покрикивал театрально-педерастическим голосом:
— Давайте, давайте! Думаете, мне это приятно? Давай, снимай штаны, раздвигай ягодицы!
— Это что — ягодицы? Булки, что ли? — переспросил недоуменно узкоглазый паренёк. — Сам раздвигай. Пиши, что я прошёл.
— Ты мне зубы не заговаривай! Давай, показывай задний проход!
— Это трубу, что ли? Да ты, лепила, в натуре гонишь.
— Не будет вам конца карантина! — завизжал лепила.
— Знаю я его, — сказал кто-то, — на спецу ходил к нему на вызов. Ласковый такой. Я ему говорю: «Сонников дай». А он мне елейным голосом: «А я видел в глазок, как вы петуха на дубке растянули и поимели! Вы закрывали, а я все равно видел!» Прав был Вова: одни преступники собрались. Через несколько дней карантинсняли.
Глубокой ночью я играл в шахматы, когда с вокзала громко повторили приказ с продола: «Павлов — с вещами!» Забилось сердце. Куда? На серпы? На медкомиссию МВД? А может, на волю? — может, какая жалоба достигла результата. А может, в суд? — по закону уже три максимальных срока прошло, как должны были вывезти; нет, в суд с вещами не возят. — «Не хочу быть пророком, — осторожно предположил Саша, — но в четверг — этап на Бутырку». Только бы не это, да и с какой стати. Но как бы там ни было, а надо было прощаться. Все, кто не спит, на удивление тепло напутствовали, желая мне Воли. Смотрящий выдал из общака несколько пачек сигарет, и — пошёл Павлов на сборку, одолеваемый тревожной надеждой.
Глава 20. НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ ИЛИ БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. БУТЫРКА, ХАТА 94
На сборке никого, тишиной можно упиваться как бальзамом, но вскоре стали заходить ребята с большими баулами и заполнили сборку до отказа. Чем-то они отличались. Бросалось в глаза, что их объединяет общая цель. Был у них и старший, толково и быстро разместивший всех как можно удобнее. Скрывая лихорадочное возбуждение в голосе, он стал раздавать пачки «Примы» и матерчатые продолговатые мешочки с сахаром, в каких из камер отправляют глюкозу на больницу. Мне тоже выдали. Я поинтересовался у парня рядом, не ошиблись ли они насчёт меня. — «А ты разве не с тубонара? Мы на этап, в зону!» — в голосе парня звенело торжество победы. — «А куда?» — «По ходу, на Тверь!» Теперь их загрузят в «столыпин», и через день-другой они будут только вспоминать про ад общих камер на тубонаре, где народу больше, чем в любой другой хате, про беско-нечные отсрочки суда. На зоне они уже наполовину свободны, по крайней мере там можно выходить из барака на улицу. Есть закон, не позволяющий содержать больных туберкулёзом под стражей, но он не работает; возникает вопрос, отчего бы его не исключить из свода законов, если он не работает, и напрашивается ответ: тогда надо исключить и другие законы. — «В какой форме болеете?» — интересуюсь у парня. — «Все по-разному. Я — в открытой».
К утру этапников увели, начали собираться судовые, и я укрепился в мысли, что поеду в суд. Как же так — не подготовил речь, мне же должны дать слово. Ничего, я без подготовки, главное — не говорить о невиновности, только о нарушениях закона следствием и о здоровье; чуть заикнёшься о невиновности — ничто не поможет, ни московская прописка, ни отсутствие судимости. Хотя как тут не упомянуть недавно полученный ответ прокурора по надзору Генпрокуратуры Хметя, в котором он на мою жалобу ответил, что моя вина доказана и оснований для изменения меры пресечения нет. До сих пор краеугольным камнем уголовного законодательства являлось положение, что вина может быть доказана только судом. Может, товарищ Хметь — это и есть суд? К счастью, мне позволили у кормушки переписать этот документ, у меня есть его номер, все есть; а не придёт Косуля — имею право согласиться на суд без адвоката. Я им все скажу! Они ещё, наверно, такого не слышали. Если назначат залог, придётся ещё несколько дней ждать, тяжеловато, можно сказать невыносимо, но придётся. А если не успею внести в положенный срок залог?! Я же в тюрьме, а залог надо организовать! Лучше уж подписка о невыезде, тогда из зала суда — домой.
Пока гнал таким манером, сборка опустела, увели последнего судового, и в числе тех, кто едет в Преображенский суд, меня не назвали.
Зашли по очереди три парня и сразу, будто сто лет знакомы, достали кипятильник, набросили на оголенныепровода под потолком, сделали чифир, предложили мне. Потом стали шутить, смеяться, дурачиться, как не в тюрьме. — «Чему радуетесь?» — «А мы подельники, давно не виделись». — «Как же так, подельников строго врозь держат». — «У них тоже сбои бывают. А может, нарочно. Только бесполезно, мы за делюгу не говорим». Через несколько часов пришёл мусор: «Пообщались? Пора расходиться». Двоих увели.
Ближе к вечеру пришли и за мной. Знакомое место. Вот забрызганная кровью клетка с врачом, а вот и вход-выход. Руки за спину, на вопросы отвечать чётко. Мусора за стойкой идентифицируют личность. Рядом дверь в тюремный двор, через неё заводят и выводят. Здесь я не был. Получается, привели меня на тюрьму через чёрный ход, по знакомству так сказать. Мусора за стойкой пьяноватые и грозные, вертухаи, им в тон, покрикивают возбуждённо, явно развлекаясь и чувствуя себя на своём месте. В углу сидит тщедушный арестант в грязной телогрейке и улыбается. — «Откуда он?» — спрашивает вертухай у мусора. — «Побегунчик. Целый день с собой возим. На признанку его». Мусора тоже улыбаются, а побегунчик срывается с места и исчезает за незакрытыми дверями в тюремном дворе. — Ничего, — умиротворённо говорит мусор, — далеко не убежит, — и через пять минут добавляет: «Петь, сходи за ним». Побегунчика приводят. — Не надо больше бегать, — говорит вертухай в камуфляже и, сделав шаг для разгону, со всей силы бьёт ногой в живот бедному парню. Тот молча бледнеет, оседает и получает такой же удар в грудь, отчего бьётся затылком о стену. — «Ты меня понял?» — спрашивает вертухай. Как будто ничего особенного не произошло, с некоторой паузой парень отвечает: «Я понял».
— Павлов!
— Я.
— Камера?
— 135.
— Статья?
— 160.
— Часть?
— 3.
— Прописка?
— Москва, улица Ширьева, 33, квартира 3.
— В каких камерах сидел?
— 228, 226, 135.
— Хм, правильно… Почему без бороды? На фотографии ты с бородой.
— Сбрил.
— Фотография должна соответствовать личности. Чтоб в следующий раз был с бородой! Ты меня понял?
— Понял.
— Лицом к стене!
Опрос закончен, теперь на улицу и по приставной железной лесенке в автозэк. На несколько секунд над головой большое небо проплыло как видение. В автозэке нас двое, я и парень со сборки. В тамбуре между водителем и нами — охранник с автоматом. Закрыв нашу решётку на висячий замок, охранник завёл в тамбур девушку, запер в боксе, похожем на сейф, и её как не стало. По периметру тёмной клетки идут лавки; сидя с краю ближе к разделительной решётке, можно через неё увидеть город: в двери автозэка есть небольшое окно. Жадно, как зверь из клетки, вглядываюсь в проплывающие, под натужное рычание старого мотора, дома, но не узнаю Москвы. Чужой город на экране кино. У охранника хорошее настроение.
— На Бутырку едем? — спрашивает его мой спутник.
— На Бутырку, — удовлетворённо отвечает охранник, поглаживая автомат.
— Хорошая сегодня погода, — говорит парень.
Мне бы не пришло в голову беседовать с этим усатым недоноском.
— Хорошая, — подтверждает усатый. — Как дума-ешь, земеля, где лучше, на Матросске или на Бутырке?
— Везде одинаково хорошо. Посмотрим.
— Я, сколько ни езжу, а езжу давно, — задушевно говорит охранник, — ещё ни разу на Матросске не видел прокурора. А на Бутырке бывает. Но там и порядки построже. Вот на Петровке, говорят, прокурор каждые три дня. Сам-то за что?
— Вооружённое ограбление.
— И сколько, думаешь, дадут?
— Не меньше десяти.
— А что такой спокойный? Жизни-то больше не увидишь.
— Я молодой. До тридцати пяти выйду. А жизнь понимают по-разному. На моей улице тоже грузовик с пряниками перевернётся. Я обязательно освобожусь.
— И снова за старое?
— Посмотрим.
— Э, земеля, нет! Лучше я буду всю жизнь чёрную корку грызть, зато на свободе!
Автозэк затормозил.
— Что, начальник, приехали?
— Нет, земеля, я за фруктами. — Повесив автомат на плечо, усатый вышел. За дверью мелькнул фруктовый лоток. Вернулся охранник с двумя арбузами.
— Начальник, почём в Москве арбузы?
— Кто его знает. Вот отвезём тебя, будет чем закусить.
— Пьёшь на работе?
— А что ж не пить. И вас, козлов, могу застрелить прямо в клетке, и мне ничего не будет. Скажу, бежать хотели.
— Куда ж тут бежать, начальник?
— А мне по х..! Всажу рожок — и некому будет спрашивать.
Наверно, это мечта. Всю жизнь таскать автомат значит кого-то надо застрелить. Как в песне: «А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съем». Намоего спутника все это впечатления не произвело:
— Ладно, командир, не лютуй, продай лучше димедролу.
— Х.. тебе, а не димедрол! — распалился командир, но спросил: «А сколько дашь?»
— Двадцать рублей, по тарифу.
— За двадцать рублей, земель, х.. у осла будешь сосать. Нет у меня димедрола.
— Ну, ты гонишь, начальник! А шмаль почём?
— Ты меня на пушку не бери! Какая шмаль!
— Но мы же друг друга понимаем, начальник. Сто рублей тебя устроит?
— Я, земеля, таких, как ты, сегодня ещё на пятьсот рублей отвезу. Так что поработай, с получки приходи. Понял?
— Что ж не понять.
— То-то. Я тебе не благотворительная церковь. Сто рублей! В жопу себе засунь сто рублей!
Автозэк заполз в подворотню, заскрипели железные ворота. Вот тебе Серпы, вот тебе суд, вот тебе медкомиссия и изменение меры пресечения в придачу. Добро пожаловать на Бутырку. Такой грязной сборки я ещё не видел, разве что чёрная сборка на Матросске. Не мыли, наверно, со времён Пугачёва. Воды нет, чёрный унитаз зияет пробитой дырой, через которую, как выяснится вскоре, проникают в канализацию и путешествуют крысы. Забавное зрелище — видеть, как из унитаза, будто подброшенная, вылетает крыса, на лету поблёскивающая глазами, как эта же крыса, растопырив лапы, ещё до приземления оценивает обстановку и, определив её как неблагоприятную, исчезает в унитазе. Высоко в стене непроницаемая решка. В тусклом полумраке на лавках вдоль стен сидят ошеломлённые люди в чистой одежде — это с воли. — «Как там, на Воле?» — интересуются у них этапники. Люди с воли мямлят что-то в ответ. В шоке, бедняги. Сбоку деревянная дверь, за ней медосмотр. Весьма неожиданно врач реагирует на сообщение о го-ловной боли: даёт пачку анальгина и воды запить таблетку. На другие жалобы не реагирует, его интересует лишь, нет ли поноса. — «Спина болит? Ничего страшного, у меня тоже болит». Это я уже слышал. Переводят на другую сборку. Тот же грязно-жёлтый полумрак при тусклой лампочке, но есть два ряда шконок без пальмы и — тепло, на каждого хватает по шконке. Занимаю место в середине, подальше от решки, где тусуются те, кому тюрьма дом родной, и подальше от унитаза: очень уж воняет. С наслаждением вытягиваюсь во весь рост на металлической шконке, закутавшись в куртку и подняв воротник, отгородившись таким образом от всего. В тюрьме если тебе хорошо, значит в любую секунду может стать плохо. Спят арестанты как правило чутко, сразу реагируя на изменение обстановки. Только было подкрался благодетельный сон, как затрещала и распахнулась дверь, влетел пьяный вертухай, взлетел на ближайшую шконку и, пиная арестантов ногами, заорал: «А ну, суки, встали! Выходи!» Мой баул, собственно одно слово — баул — полиэтиленовый пакет, в котором вещей раз-два и обчёлся, под рукой, а кто-то разложил вещи и теперь собирает, запаздывая на коридор. К ним подлетает вертухай и, шипя от злобы, бьёт их, преимущественно в живот:
— Ты что, Володь, совсем охуел? Да я ж тебя, сволочь… — и сыплется на арестанта, хоть и не Володя он вовсе, град ударов.
— Лицом к стене! Стоять, суки! — орёт на продоле вертухай (а может, местный руль). Мужик рядом со мной оглядывается. Вертух тут как тут. Краем глаза вижу, как замахивается:
— Я тебя, Володь, сейчас проучу… — и бьёт кулаком в спину арестанта. Арестант вздрагивает как камыш.
— Подожди, Володь, — деловито шипит вертухай, — я тебя сейчас получше ебну. — После второго удара сосед врезается лбом в стену. Наверно, ногой ударил. Стало быть, мне достаточно повернуть голову — и я ин-валид: позвоночник не выдержит, но я головы не поворачиваю, и все обходится. Нас пересчитывают. Криками и пинками (достаётся опять последним) загоняют назад: это была утренняя проверка. В полумраке тишина, говорить не хочется никому.
Проходят ещё сутки без сна и еды. Баландер на сборку заглядывает, но есть нечем: весло и шлемку наудачу оставил на Матросске. Да и не хочется. Пластиковая бутылка с чаем и сигареты есть, пока хватит. Люди на сборке меняются, а меня в хату не поднимают. Значит, готовят место. Только бы не на общак. Повели получать казенку. Положено бельё, матрас, подушка, миска, кружка, ложка, полотенце. Досталась только миска и ложка. До странности чистый коридор с весёленьким цветным кафелем, как в детском саду. Сюда, наверно, комиссии водят. Вернули на сборку. Идёт время, и уже чуть ли не хочется в хату: неопределённость, неустроенность, лежание на голой шконке (а она холодная), крысы, время от времени опрометью бегающие по лежащим на шконках телам, проблема с водой (надо долго упрашивать вертухаев за дверью, чтобы набрали воды, чего я категорически не могу делать) — угнетают; уже все равно, куда, на спец или общак, выжил на Матросске, выживу и здесь. До субботы заснуть не удалось, только закроешь глаза — или шум на продоле, или какая-нибудь думка. На воле не было времени для размышления. Незаметно забывается в суёте необходимость размышлять, не правда ли, читатель? А в тюрьме вспоминается, и постигаешь, глядя на чёрные стены, старые и новые истины. Например: тюрьмы не пожелаешь и врагу. Или: ничто не случайно. И многое-многое другое. Говорят, стоики практиковали очищение грязью. Тюрьма — что-то в этом роде. Если удастся из неё выйти, да ещё не потеряв здоровье, то, возможно, даже не пожалею, что так случилось. В субботу, когда решил, что буду жить на сборке до понедельника, меня, наконец, повели. Широкий длинный продол, по одну сторону — камеры, подругую большие окна в решётках без ресничек. За окнами тюремные постройки и зеленые тополя, от которых трудно отвести взгляд, смотрел бы и смотрел. Перед огромной металлической дверью с цифрами 94 иллюзии рассеялись: это общак. На спецу двери рельефные. Вдруг очень захотелось спать, заснуть немедленно и видеть только сны. Но надо сделать шаг. Какое пекло там, за тормозами? Раскрываются они как в замедленном кино. Кто скажет, что идти на общак не страшно, — слукавит.
Шаг сделан. Шумит прибой голосов. Поразительная, фантасмагоричная картина. Сводчатый потолок и стены над пальмой расписаны каким-то сумасшедшим художником, как в церкви. В чёрных, коричневых и белых красках с потолка смотрит огромный лик Христа, по стенам тянется через пустыню за холмистый горизонт вереница богомольцев-паломников. Тоскливее картины нет. Отвратительно и резко воняет дальняк. Множество пёстро одетых арестантов. В хате не жарко, но она меньше, чем на Матросске, а народу человек семьдесят-восемьдесят, и, конечно, душно. Напротив — большое низкое окно в решётке и ресничках. Все тот же электрический свет и орущий телевизор. Куда ни глянь — самодельные иконостасы. У тормозов, на вокзале, стирают в тазиках, кипятят, варят, курят, смеются, спорят. Дубок перед решкой закупоривает узкий проход между шконками. Народу толпа, на пальме живого места нет. Ближе к тормозам спят уже на боку, плотно, как спички в коробке. В полусне с кем-то разговариваю, то ли со смотрящим, то ли с братвой, мучительно пытаюсь собраться. Результат ниже среднего: определяют на правую пальму в середину. Пока добираюсь до места (лезть наверх — почти подвиг Мересьева), на пальме происходит движение, и выясняется, что моё место уже второе с края, со стороны дальняка, где вонища изрядная и спать можно лишь на боку, между полусумасшедшим русским и португальским негром, и только шесть часов в сутки (четы-ре человека на место). Спорить и настаивать нет сил. Как прибывшему с этапа, кто-то мне уступил своё время. Засыпаю сразу.
К проверке будят всех. Первое пробуждение в хате 94 было таким же незабываемым, как и в хате 135. От лежания на боку кажется, что не отдыхал, а работал. От соприкосновения с телами соседей тошно до отвращения. Представьте, уважаемый читатель, что в забитом вагоне метро к вам тесно прижимаются с двух сторон два вонючих тела, и так всю ночь. Как сказал Аркадий Гайдар, — «хорошо, дедушка?» В хате 135 проверка ограничивалась вопросом, сколько человек, все ли нормально. Здесь же все выходят на продол и строятся в колонны по шесть. Промедление грозит дубиналом, поэтому вся хата незадолго до проверки в полной готовности стоит сплошной массой между шконками, и свободного места нет. Сама проверка длится не больше минуты, но по два раза в день становится наказанием, особенно если прерывает сон. Кроме прочего, проверка на Бутырке — это акт коллективного унижения. Присутствующие представители власти в военной форме исходят ненавистью к арестантам, кричат на них, как на скотину и так же, т.е. именно как скотину, загоняют в хату; последний заходящий внутрь всегда рискует получить металлический удар по спине. А уж как хлопают эти ебаные тормоза — на всю жизнь запомнишь. Все заново. Разговоры с братвой, смотрящим, арестантами, та же тактика отстранения и поиск новой точки опоры. Шахмат в хате нет. Дубок наполовину заняла братва, за другой половиной сидят только во время еды, терпеливо ожидая очереди; есть баланду стоя считается неприличным, а на пальме невозможным; лишь те, кто обретается в матерчатых пещерах, т.е. арестанты со стажем, имеют кусочек своего пространства. На вокзале есть несколько пуфиков, на которых сидят по очереди, но мне это благо практически недоступно: сидение почти на полу вызывает резкую боль в пояснице, поэтому восемнадцать ча-сов в сутки приходится стоять или ходить (правильнее сказать — пробираться). Потом спасительный и отвратительный сон на боку и опять восемнадцать часов мучения. Каждый день. Включая выходные и праздники. Можно, конечно, предпринять какие-то усилия, навести контакты с братвой, получить место ближе к решке, но что-то останавливает, то ли упрямство, то ли ещё что-то. Ничего ни у кого не прошу, почти не курю; если бы не камерный общак, не курил бы совсем. Каждая минута превращается в борьбу, боль одуряюще-настойчива, сладить с ней все труднее. Не упасть помогает большое полотенце, которым перетягиваю поясницу. В общем, здоровому трудно, а больному подавно. А главное — эти проклятые фрески… Но где-то должна быть точка опоры. И я её нашёл. Негр Даниэл согласился научить португальскому языку. И жизнь превратилась, как раньше в шахматы, в португальский язык. Нельзя утверждать, что это была именно жизнь, нет, в любую минуту можно было предположить, что ты уже умер, но португальский язык, хоть и не позволял сидеть за дубком, но давал как бы одновременное существование в другом мире, где есть море, пальмы, белые домики на склонах гор, солнце и небо. Наверно, в кумовские планы это не входило, и Даниэла заказали с вещами. После этого я стал встречать в хате знакомых с воли, слышать оклики людей, которых в камере быть не может. Сначала перепугался, потом привык, и даже обрадовался: ближе к Серпам, если таковые состоятся, невменяемость будет налицо и настоящая.
И все же дух оптимизма в хате был, представленный в основном неунывающей молодёжью. — «Ха! — насмешливо говорил какой-то парень приятелю, кивая на мрачного арестанта, пишущего в тетради, — думаешь, он жалобу пишет? Не, я интересовался, он вообще хочет книгу написать. Приколись, как будет называться — „Записки из ада“! Во даёт» — и, совершенно довольный своим снисходительным превосходством, парень уве-ренно двинулся куда-то по делам. Вдруг пригласили к братве на вертолёт. В матерчатую пещерку набилось человек шесть пребывающих в кураже:
— Как, Алексей, к музыке относишься?
— Смотря к какой.
— Ну, там — Шур, Бари Алибасов, «Нанайцы»?
Это они зря. Впрочем, тюрьма. Весёлые, но и внимательно-выжидающие взгляды устремились на меня. Сдержанно улыбнувшись, назидательно поднимаю указательный палец и, выдержав паузу, говорю:
— Дело в том, что я за собой ничего не чувствую.
Дружный хохот:
— Как он тебя опередил! А?! Да… Опередил. Я же говорил! — закончил интервью студент физмата МГУ. — Алексей, в шахматы играешь? — у меня есть маленькие. Будет желание — заходи.
Оживлённые разговоры и шутки — нормальное явление и на вокзале. — «Гаси её!» — весело кричат с вокзала, заслышав звон упавшей на пол шлемки (по классическим понятиям, она должна быть выброшена, но этого не делает никто). Рядом с улыбками живёт отчаянье, боль, но помочь человеку — это нормально. Тому, кто голоден, всегда предложат поесть. Золотым дождём не осыплют, но помогут чем могут. Если хата на просьбы отвечает отказом, а сама располагает тем, в чем отказала — верный признак того, что хата мусорская. В большинстве приходящих маляв одни и те же просьбы: «Доброго здоровья, Бродяги! В хате голяк с табаком. Загоните, по возможности». Или: «Еду на суд. Одолжите брюки». И загоняют, и одалживают, несмотря на то, что назад человек может и не приехать. Когда мои единственные носки протёрлись до дыр, и я стал надевать их пяткой наверх, меня подозвал кто-то из братвы, достал из баула новые носки и протянул мне. — «Разве у тебя лишние?» — удивился я. — «В тюрьме лишнего не бывает. Арестантская солидарность». Однажды подошёл смотрящий, Заза: «Если в чем нуждаешься, так ты по-дойди. Вещи, мыло, паста или ещё что. В конце концов, у нас есть Общее». Видимо, моё ожесточение не совсем оправдано. Разве виноваты сокамерники, что корпусной врач и здесь сказал, что в больнице мест нет. На Бутырке есть санчасть, сто долларов стоит месяц пребывания в больничной хате. Но денег нет, и не рискнул бы я их кому-то предложить, чтоб не получить обвинение в даче взятки. Нет, в моих проблемах сокамерники не виноваты. У каждого своё горе, но нужно быть сильным духом — тюремная аксиома. Как-то раз после вечерней проверки звякнул ключ о тормоза, кого-то вызвали «слегка». Уверенно и весело рослый крепкий кавказец двинулся к тормозам: «Почему слегка? Сегодня уже вызывали». Часа через четыре заскрипел замок, широко открылись тормоза. Парня узнать было нелегко: лицо и лысый череп в сине-красных рубцах. Покачиваясь, он медленно зашёл в камеру, склонился над раковиной, в неё из горла потекла тёмная кровь. С арестанта сняли рубаху, чтобы не запачкать. На спине и на груди темнели широкие пятна. Минут двадцать в хате было тихо. О чем все думали, понятно. Может, он и преступник, но кто прав, кто виноват? Россия — бой без правил. — «Раньше хата 94 была мусорской. Беспредельной. Были здесь братья Гарики, спортсмены-борцы, — били всех нещадно. Сейчас здесь многие Серпов ждут. А вообще наша хата считается на Бутырке тяжёлой, — рассказал мне старожил хаты. — Мусорская хата — та, в которой не соблюдаются воровские принципы. С ними можно не соглашаться, но ведь Общим все пользуются, иначе бы передохли как мухи».
У всякого испытания есть цель и логическое завершение. Когда я понял, что не сдамся, что рано или поздно хата 94 будет в прошлом, и, размышляя об этом, перетянутый жёлтым полотенцем, протискивался от дубка к тормозам, с продола раздалось: «Павлов, с вещами!» Опять неожиданно тепло провожает вся хата, придвинувшись к тормозам. Такое же благожелательное едино-душие было недавно, когда у кого-то из братвы был день рожденья. Вся хата чифирила с барабульками (конфеты без обёртки) от именинника, кружка прошла круг почти в девяносто человек (кум порадовал, чтоб жизнь мёдом не казалась), у решки жарили рондолики (хлеб в масле), хмурых лиц не было, и казалось, что в поезде дальнего следования собрались друзья.
— Ну, Леха, если на Волю, — загонишь на хату «кабана»! Удачи тебе!
— Леха, передай привет Свободе!
— Алексей, я тебе тоже желаю удачи!
Всех рук не пережать. Пришёл от решки Заза, дал сигарет:
— Счастливо, Алексей. Желаю тебе Золотой Свободы.
И только камерный стукач Максим (пока ещё не уличённый), сердито поглядывая, огрызнулся: «Какая свобода, на больницу его».
За окнами на продоле летний день, пиршество тополей. Сердце стучит тревожно: сейчас что-то изменится. А вдруг — Свобода?.. Пошли по лестнице вниз. Да ведь это первый этаж! Вот какие-то нестрашные коридоры. Мелькнула сбоку зеленью и солнцем распахнутая в тюремный двор дверь, и от этого невероятного видения душа выпрыгнула из тела. А вот и рельефные, деревянные, обитые железом двери. Ясность полная. Спец. Хата 34. Свобода отменяется.
Глава 21. МАЛЫЙ СПЕЦ
Но, все равно, похоже на избавление. Калейдоскоп качнулся, и узор изменился, но вглядеться нет сил, слишком шумно в хате. Нет, не в хате, напротив, здесь необычно тихо, это в голове. Первое, что доходит до понимания — есть возможность присесть. Оказывается, это большое благо. Можно отдышаться и сбросить с глаз марево общака.
— Меня зовут Алексей. Статья 160, часть 3, хата девять четыре, — задыхаясь, отчитался я.
— По традиции, по случаю прибытия новенького, заварим чифир, — отозвался крупный мужчина в спортивном костюме. — Я в хате старший, зовут меня все по имени-отчеству — Александр Васильевич. Я доктор юридических наук, сижу здесь два с половиной года.
Чифир проясняет сознание. Теперь следует оглядеться. Похоже на монашескую келью, площадью метров пять. Слева вдоль стены одна над другой две шконки, напротив ещё одна, справа унитаз, чуть ли не над ним раковина, рядом столик с лавочкой. Под сводчатым потолком решётка с нетронутыми ресничками. На столе телевизор. Все компактно, лишнего пространства нет. Никаких картинок, стены оклеены пожелтелыми белыми листами бумаги. Чистота и тишина. Шесть человек, я седьмой. Двое спят, один сидит в ногах у спящего, двое на лавке спиной к столу. Все молчат. На шконку доктора наук, кроме него, не садится никто. Я устроился в углу в проёме между шконками на подвесном, сшитом из широких ремней, невыразимо удобном сиденье, покрытом куском настоящей овечьей шкуры. Вот это точно называется сидеть, потому что ходить некуда. Это минус. Непривычная чистота, кормушку не закрывают, хату протягивает сквозняком. Это плюс. Приятные рассуждения; десять минут тому назад о том, чтобы присесть, не было и речи.
— Душняк! — интеллигентно говорит Александр Васильевич. — За два с половиной года первый раз седьмого закидывают.
— Извините, — говорю.
— Что ж тут извиняться, не по своей же воле, — прощает Александр Васильевич.
— А сколько народу обычно?
— Четыре-пять человек. Пять — уже тесно.
— На общаке теснее.
— Но мы же не на общаке, — с достоинством возражает доктор наук.
Остальные обитатели кельи — молодые ребята и ещё один постарше (надо думать, непосредственный представитель славных внутренних органов; правда, никого вопросами не донимает и явно тяготится положением). В хате есть шикарные шахматы. Когда выясняется, что я умею и хочу играть, дядька облегчённо вздыхает: «Ну, слава богу! Будет хоть чем заняться». — Видать, у него не столько следственная, сколько надзорная функция. Шахматистом он оказался неутомимым. Остальные смотрели на нас с недоумением: как можно столько играть. С таким же недоумением смотрел на них я: как можно круглые сутки лежать, сидеть и, будучи молодым и здоровым, ни хрена не делать, кроме уборки после каждой прогулки. Конкурентов в ходьбе у двери у меня не было. Напротив, это явно раздражало всех, но возразить никто не решался: это было бы явно по-мусорскому. Два малюсеньких шажка в одну сторону и обратно — это мало, но мне — подспорье. Движение — это жизнь.
Малый спец — вещь известная, существует для активных следственных действий, поэтому всяческие разговоры, за исключением вежливого минимума, — прочь. Сигарет в хате в достатке, еды тоже, все в общем пользовании, по плану-распорядку. Александр Васильевич третий год за повара развлекается. Суп все едят из одной огромной миски и сильно удивляются, что я ем отдельно из своей («ты, случайно, не болен чем?»). Удивление взаимно. Прогулка проходит в крохотном дворике, где не остаётся ничего другого, как ходить вместе со всеми по кругу и слушать идиотичные, по мнению Александра Васильевича глубоко народные песни в исполнении юного грабителя пунктов обмена валюты. В общем, четыре стены, и все рядом. Лучше ли это, чем теснота на общаке, вопрос философский, потому что малый спец, точнее условия как на малом спецу, — мечта арестанта (о свободе не говорю). С точки зрения европейских ци-вилизованных норм бутырский малый спец подпадает под определение пытки, а с общака выглядит гуманно. За долгое пребывание на малом спецу платят деньги, здесь даже одного предательства мало. Александр Васильевич спокоен как удав, на вопрос, сколько ему ещё сидеть, отвечает: «От полугода до двух с половиной».
— Александр Васильевич, не боитесь попасть на общак?
— Нет, не боюсь. У меня обвинение слишком серьёзное. Денег очень много вменяют, поэтому только строгая изоляция.
Разговор прерывается вызовом доктора к кормушке. Пошептавшись, Александр Васильевич говорит:
— Старший, передайте воспитателю, что хочу деньги на счёт положить. Два миллиона. Откуда? Все время были. Да Вы воспитателя позовите.
Эх, Александр Васильевич! Во-первых, не воспитателя, а воспета. Я видел своими глазами, как воспет на продоле в Матросской Тишине половником вылавливал мясо из бачка арестантской баланды. Ему бы, суке, это мясо вместо звёзд на погоны повесить. Порядочный арестант не назовёт воспета воспитателем. И какой, на хер, может быть старший. Говнюк он. То есть попросту старшой.
Есть, конечно, на спецу и неоспоримые преимущества, баня например, — на каждого по крану, и мыться можно долго. Мыла на Бутырке в достатке, даже на общаке, в отличие от Матросски, где это дефицит, как на войне. Врач опять же, говорят, отзывчивый, примет, сказал Александр Васильевич, в любое время и поможет, а пока незачем к нему ходить, вот он, благодетель, сам уже передал таблеточки, на, возьми, а если вдруг совсем плохо себя почувствуешь, так ты скажи, твой партнёр по шахматам — он с образованием, он лучше тебя все врачу расскажет. Чем и кому следует быть обязанным за спец?.. Надо полагать, это мне вместо больницы.
Вызвали слегка. В кабинете Косуля, сидит молча, будто ему кол в жопу забили. Разговора не начинаю. Проходит время.
— Ты в какой камере? На общаке?
— Нет, на малом спецу.
— Да?! Ну, так это подарок тебе.
— Чей подарок?
— Ну, ты понимаешь.
— А какие подарки впереди?
— Придёт Ионычев — опять будешь отказываться от показаний? — В голосе Косули прозвучала надежда. Значит, боится.
— Естественно.
— С какой мотивировкой? — воодушевился адвокат. — Теперь можно только на Конституцию сослаться. Так и напиши: отказываюсь от показаний, потому что имею право не свидетельствовать против себя.
— Исключено. Мотивом отказа будет нарушение следствием закона.
— Зря. Так только навредишь.
— А я, Александр Яковлевич, уже как бы и не боюсь навредить.
— Почему? — насторожился Косуля.
— Потому что общий язык мы с Вами уже не найдём. Или Вы передадите моим близким, чтобы они нашли ещё одного адвоката, или я немедленно отказываюсь от Ваших услуг и даю показания, после чего, как Вы сами понимаете, меня освободят очень быстро. У меня есть возможности найти адвоката и самому: в тюрьме есть большие щели, Бутырка не исключение. Предлагаю компромисс.
— Неразумно, Алексей. Надо подождать.
— Годика полтора?
— Ну, уж…
— А сколько?
— Я передам.
— И имейте в виду, что глупости вам делать поздно.
— Какие глупости?
— Хотите открытым текстом?
— Все, Алексей, я пошёл. Все будет в порядке.
— Вы подразумеваете Ваши «завязки»?
— Да.
— Хорошо. Но ещё одного адвоката мне нужно срочно, в любом случае. Иначе будем считать, что мы не договорились. Не позже, чем через десять дней, я жду Вас с ответом.
Кто знает, чего может мне стоить эта игра. Ходьба по лезвию ножа продолжается, но о главном, кажется, я своих предупредил достаточно ясно. А если мне это только кажется?..
Александр Васильевич пошёл мне навстречу, и время сна мне досталось ночью. Имеющийся в хате лишний матрас ночью клали на пол (он занимал почти все свободное пространство), и это место было моё. Как это роскошно — спать не на боку.
Непонятность моей личности ввела Александра Васильевича в раздражение. Уже и свою историю рассказал, и помощь предложил вкупе с юридической литературой, докторским опытом и интеллектом, а он (т.е. я) все за своё — шахматы да сигареты. Все, что удалось узнать, — образование высшее, когда-то был учителем русского языка.
— Никакой ты не учитель, — однажды убеждённо воскликнул доктор. — Кроссвордов не отгадываешь, книг не читаешь, телевизор не любишь. Не общаешься. Слишком высокого о себе мнения!
— Александр Васильевич, тюрьма — следственная, никто никому ничего не должен. Передачу, как все, я отдал в общее пользование. Разве могут быть претензии?
— Думаешь, ты здесь кому-нибудь нужен? Всем, а мне в первую очередь, ты до лампочки! А если думаешь, что самый умный, мы тебя мигом на лыжи поставим, у нас не заржавеет!
Во, какие бывают доктора. Выскочил, как черт из табакерки. Ладно, посмотрим, какая наука сильнее.
— Александр Васильевич, нет ни малейшего сомнения, что самый умный в хате — это Вы. Об этом говорит Ваша учёная степень. Никто не добился в жизни таких, как Вы, высоких результатов, никто не сидит так долго, сохраняя при этом здравый ум и спокойствие. Вам можно позавидовать. Конечно, Вы проницательно определили, что я не учитель в настоящее время, только важно ли это. Живи сам и не мешай жить другим — вот задача, которую я стараюсь решить, но мне даже на ум не приходило ставить под сомнение Ваш авторитет. Так что зря сердитесь.
Доктор обмяк, и в хате ничего не изменилось.
В этой жизни замечательно то, что все хорошее кончается, а плохое и подавно. Вызвали на анализы. С чувством покорности судьбе и надежды, что обойдётся, глядел я, как парень в белом колпаке берет у меня из вены кровь. — «Иглы-то хоть стерилизуешь?» — поинтересовался я. — «А как же! — ответил тот. — Иначе нельзя: уголовная ответственность». Его бы устами да мёд пить. Хата дружно констатировала: поеду на Серпы. И не ошиблась. Поздно вечером заказали с вещами. Прощай, келья, надеюсь, больше не увидимся.
— Если не признают, вернут сюда же, — сказал Александр Васильевич. — А все же, за что сидишь?
— Ни за что.
— В чем обвиняют? — поправился доктор.
— В хищении чужого имущества.
— Я знаю. Сколько?
— Трудно сказать.
— Меня обвиняют в хищении 17 миллионов долларов, — с гордостью заметил Александр Васильевич. — А тебя? Больше или меньше?
— Больше, — отвечаю уже с продола.
— Не сдавайся! — напутствует доктор. Тормоза закрываются. Не сдамся. Надеюсь, что не сдамся.
Глава 22. КАЖДЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ АРЕСТАНТ МЕЧТАЕТ О ПОБЕГЕ
Этапников на Серпы заказывают с вечера, раньше судовых. Значит, всю ночь торчать на сборке, которая оказалась маленькой запущенной прямоугольной комнатой с лавочками вдоль стен, унитазом и мутным светом от жёлтой лампочки. В помещении холодно и накурено. Среди собравшихся выделяются несколько лиц, почти счастливых, — признанные. Они своё откосили, теперь их задача побыстрее выздороветь. У тех, кому завтра «в институт», лица озабоченные, с признаками надежды. Арестанты — народ крепкий, но как хочется всем отсюда куда угодно, хоть в дурдом, хоть на войну.
На сборке все общее, и еда, и сигареты; в том и другом никто не откажет. Парень в майке, ёжась, о чем-то размышляет, потом обращается к соседу: «Я признанный. Как думаешь, могут меня отправить не на Столбы, а на повторное переосвидетельствование?» — «Раз признанный — на Серпах был? — был — поедешь на Столбы. Не гони. Завтра в белой постели будешь спать». Признанный светлеет лицом и меняет тему: «У тебя рубашка есть?» — «У меня нет. У кого есть рубашка?» В ответ кто-то открывает баул, достаёт чистую рубашку, молча протягивает признанному, тот благодарит, одевается и опять погружается в размышление. Никто не пытается заснуть, на сборке это редко удаётся. Долгая ночь проходит. Под утро цепляет сердечный приступ. Кто-то даёт валидол (а ведь самому, наверно, нужен не меньше моего: медицинские передачи в тюрьму категорически запрещены), кто-то находит даже таблетку нитроглицерина. Были бы все так на воле друг к другу, может, в тюрьме никого бы и не было. Есть же примеры. В Исландии не только армии нет, но и над тюрьмой в Рейкьявике временами развевается белый флаг — значит, в ней нет ни одного арестанта.
Первыми уходят на этап признанные. Их не много, со сборки они уходят как на свободу. А нам, серповым, сначала к парикмахеру, остричь все что ни есть. Случайное касание машинкой кожи — чуть заметная царапина — обернётся для меня через несколько дней чесоткой. Инструмент, естественно, не дезинфицируется никогда, а в качестве меры предосторожности парикмахер старается стричь не касаясь кожи. Волнующе выглядит процедура сдачи казенки, хотя и известно: после Серпов все возвращаются, кто на признанку, кто в хату.
Ушли на этап признанные. Теперь их с полгодика «полечат», а потом — «под наблюдение врача по месту жительства». Почти свобода. Уходят они организованно, с сияющими глазами, сдерживая счастливую улыбку. А нас, серповых, на продол, на перекличку.
— Иванов! Петров! Сидоров! Что молчишь? — в институте будешь дурковать, а здесь не надо. Взяли вещи, пошли!
Очень страшно, что вдруг снимут с этапа, хотя причин для этого не видно. Попасть бы только на Серпы, а уж психа они получат. Пути назад нет (только на признанку!); возвращение в хату пережить будет невозможно. Я не могу этого допустить, потому что хочу жить. Примерно с такими мыслями я, исполненный решимости, поднялся в автозэк. Единственный раз поездка в этом безрадостном автомобиле казалась желанной. Пёс с ним, пусть полгода или год в психушке, зато ясность полная. Стать же рекордсменом Бутырки — отсидеть за следствием десять лет — даже думать не хочется. Настал момент, когда можно повлиять на события. Не упусти его.
Заурчал старый мотор. Через внутреннюю решётку и мутное внешнее оконце в двери автозэка мучительно пытаюсь понять в мелькании домов, где едем, загадав, что все будет хорошо, если это получится. Вот, угадал! — Смоленская площадь. Теперь все будет наилучшим образом. Дальше ориентируюсь вслепую, по движениямавтозэка. Разворот перед метро «Парк культуры», свернули в переулок, ещё, опять, встали. Вот они где, оказывается, Серпы. Это же рядом с Вовкой! Если удастся побег, есть шанс спрятаться у него. Каждый арестант, тайно или открыто, мечтает о побеге. Здоровья бы, как в молодости…
Двадцать с лишним лет назад попытка побега уже была. Тогда, гуляя по вечерней Москве, встретил знакомого, проводящего большую часть времени на крайнем севере, вегетарианца, но пьющего. Обрадовались встрече. Выпили. Много. К полуночи пошли к поезду на вокзал, парень уезжал в Ленинград. Под влиянием коньяка я решил: поеду тоже. Проводник воспротивился, т.к. ни билета, ни денег у меня не оказалось, и попытался выдворить меня из вагона силой — не получилось: прочно взявшись одной рукой за стоп-кран, я отказывался отпустить поезд в Ленинград, предупредив проводника, что если он будет и дальше бить по моей руке, держащей ручку, то это его личное дело, а если ударит меня куда-либо в другое место, то у меня есть ещё свободная рука. Пришедшим двум милиционерам, однако, подчинился и был под белы рученьки препровождён в КПЗ милиции Ленинградского вокзала. Запомнилось, что вели по задворкам, среди нагромождений складов и строительного хлама, пока не попали через широко раскрытые металлические ворота за бетонный забор в одноэтажное старое здание. Вход, ступени вниз, мимо конуры дежурного, железная дверь и длинный коридор с решётчатыми камерами по обе стороны, этакий многоячеистый обезьянник.
Проснувшись глубокой ночью на холодном полу, я испытал недоумение, а подойдя к двери, увидел напротив приникшие к решёткам лица и под каждым из них по паре рук, ухватившихся за железные прутья. Каждое лицо громко утверждало, что его надо немедленно выпустить, либо потому, что его папа, дядя и т. д. — большой начальник, либо по причине смерти близких родст-венников, должных быть захороненными грядущим утром. Не обращая на крики внимания, по коридору взад-вперёд прохаживался милиционер. Чтобы не отличаться от всех, я заявил, что у меня папа большой начальник и утром всех мусоров расставит по местам. То есть протрезвление ещё не наступило. Зато оформилась мысль: надо бежать. Несмотря на абсурдность намерения, к его осуществлению я приступил тотчас, т.е. начал наблюдение. Приходящие и уходящие милиционеры открывали железнодорожным ключом дверь, а потом захлопывали её не глядя, и я подумал, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь не захлопнул дверь до конца. Не успел я так подумать, как это произошло. Немедленно я потребовал вывести меня в туалет. Неспешно гуляющий милиционер, идя в одну сторону, не отреагировал, но на обратном пути открыл мою клетку, довёл меня до туалета в дальнем конце продола и пошёл в сторону выхода, не дожидаясь меня. Выйдя из туалета, я кошачьим шагом пошёл за его спиной на виду у задержанных. К их чести, никто не только никак не выдал своего внимания к происходящему, но даже не перестал выкрикивать начатые фразы. Так мы с товарищем дежурным преодолели длинный путь и приблизились к незахлопнутой двери. Дальше требовались решительные действия. Нырнув за спину поворачивающемуся мусору, я резко открыл дверь и даже успел её за собою захлопнуть (за дверью, как в колизее, взревела толпа). Метнулся по ступенькам вверх. Сбоку мелькнуло удивлённое лицо дежурного. Входная дверь оказалась открытой, и я стремительно вылетел во двор, в ночную прохладу. В тусклом свете фонаря определил, где ворота, и, наращивая скорость, пошёл на них. Теперь, ребята, вам меня не догнать. Ворота оказались закрытыми: с бешеного разгона я ударился во что-то металлическое и непробиваемое. Несколько секунд было потеряно. В остальном не изменилось ничего. Прыгнув вверх, ухватился за кромку, подтянулся, перебросил одну ногу, но почувствовал, как не-кая тяжесть повисла на другой: мусор успел вцепиться в ботинок. Подоспел второй. Стянув с забора, милиционеры несильно побили меня, в назидание надорвали ухо и опять отвели в подземелье. Наутро, весьма уважительно разговаривая, отпустили восвояси, поинтересовавшись, почему я кричал, что папа у меня большой начальник. Не желая разочаровывать ребят, я солидно заметил, что так оно и есть. Случай остался без последствий. Ухо зажило.
На сей раз, если решаться, то неудача грозит куда более серьёзными последствиями. А ведь решился бы, если представится случай…
Здание института имени Сербского на тюрьму не похоже, хотя и огорожено стеной с колючкой, исключая фасад, который окнами рабочих кабинетов выходит на проезжую улицу; прохожий может и не обратить внимания на то, что здание не совсем обычное. Так же и Бутырка прячется во внутренних дворах; много лет я ездил и ходил мимо неё и не знал, где она. Монстры рядом. Притаились и ждут. Теперь навсегда Москва для меня будет тем, что находится между Матросской Тишиной и Бутыркой, пятым изолятором и Капотней, Серпами и Петрами.
Как истосковался взгляд по нетюремным картинам. Прошли по лестнице особняка в старинную комнату за деревянными дверями. Арестанты сразу расселись по лавкам вокруг большого стола и задымили. Нервы требуют ходьбы. Хожу вокруг стола. Двустворчатые двери, похоже, даже не на замке. То есть ты здесь арестант наполовину: врачам решать, можешь ли ты быть виновен. Пятьдесят на пятьдесят. Или иначе? А сколько тревожной надежды на сосредоточенных лицах будущих психов… Только дурак не знает, как это делается на Руси. Деградация советской психиатрии локомотивом без тормозов ворвалась в современность; чего-чего, а науки в этих экспертизах меньше всего. Старые тенденциозные понятия, устаревшие методики, нехватка квалифи-цированных кадров, ума, отсутствие средств и в результате — не без исключений, конечно, — Россия вообще сильна своими исключениями — профанация, взяточничество, трагикомическое свинство, — в общем, все знают, что в результате.
Итак, Серпы. Кащенко проехали мимо, то ли из-за происков Косули, то ли он наконец решил помочь реально. «Завязки» — говорит… Свежо предание. Где ж так помогали. Если признают невменяемым, но заболевшим в тюрьме, то в страшном сне не привидится: сначала психушка, и не Столбы, а спецбольница МВД, — «до выздоровления» (причём «лечить» будут не по-детски), а потом опять тюрьма. В постановлении, среди прочих, поставлен вопрос: страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием, и если да, то каким, и когда заболел, до совершения преступления или после. То есть вопрос виновности как бы решён. Удастся ли проплыть между Сциллой и Харибдой, неужели так бесславно и бездарно — в психушках, тюрьмах и лагерях пройдёт эта жизнь? Нет, я против. Сучья страна. Где моя солнечная Европа. Русским быть хорошо, но за границей.
«Павлов, пошли».
Спокойно. Не делать ошибок, не спешить.
Привели на собеседование. Вздорная девица в белом халате раздражённо, как на кухне в коммуналке, стала расспрашивать, на что жалуюсь. Нервы-таки сдали: «На тебя, — говорю, — дура, жалуюсь».
— А вот я тебя в буйное направлю, — плотоядно парировала девица.
— Ладно, погорячился. Не надо. — Направить в буйное отделение, действительно, могут, хотя, скорее всего, не станут, мне, как обвиняемому в совершении тяжкого преступления, должно быть приготовлено другое место. Опять же, если поверить Косуле, то никак не должны.
Другое дело, — удовлетворилась девица. — Мы Вас направляем в самое лучшее отделение.
Хм… Может, Косуля и не врёт? Посмотрим. Дальше все как в Кащенко. Вещи отобрали, велели раздеться догола, залезть в ванну, неуместно стоящую прямо в кабинете, и скудно оросить себя душем. Скудно, потому что нечего людей задерживать. В ванне был? — был. Воду лил? — лил. Значит, гигиеническая норма соблюдена (вспоминается анекдот про советских врачей, впервые в мире сделавших операцию аппендицита через задний проход; на вопрос западных коллег, зачем понадобился столь необычный путь к операционному полю, последовал ответ: «А у нас все так делается»). С опаской тётеньки поинтересовались, не привёз ли из Бутырки вшей или чесотку («а то назад отправим») и в течение всей процедуры (помнится, так же было в Кащенко) с интересом наблюдали открывшиеся гениталии. И как не надоест. Впрочем, врачи, исследователи.
С отвращением одевшись в больничное бельё и робу, с единственным страстным желанием — спать, пришёл я в сопровождении вертухая через какие-то непривычно чистые лестницы и коридоры в 4-е отделение, похожее на большую квартиру; да так оно до революции и было. По одну сторону коридора кабинеты врачей, комната без окон с лавкой и орущим телевизором, по другую сторону две палаты, на 10 и 20 человек, душевая, туалет. В коридоре охранник. В палате на десятерых указали кровать — именно кровать, застеленную чистым бельём. Едва успев взглянуть в огромное окно и заметив напротив через сквер над бетонным забором фасад жилого дома, я, как в избавление, погрузился в мягкую чистую постель и, ни с кем не обмолвившись ни словом, полетел в пропасть сна.
Сон человеку дан как благо и страсть, в которой растворяются невзгоды. А сны — это миры, в которых мы живём. Там бывает счастье и беда, но в наших силах менять миры. И только тюрьма не даёт такой возможности: сон арестанта столь неглубок и чуток, что при малейшем опасном движении со стороны или произнесённом средимногоголосого шума имени арестанта — он пробуждается сразу, а часто и вовсе не спит, пребывая в недужной дремоте. Четверо суток я спал. Были какие-то проверки, шмон, завтраки, обеды; какой-то начальник, выискивая запрет, заставлял открывать рот и шевелить языком. Сомнамбулически поднимаясь к ним с кровати, я тут же, едва было можно, бросался в пропасть сна, и сон был похож на смерть. Никто лишний раз не будил, ничего не спрашивал, к врачам не вызывали, и правильно, иначе бы сразу получили правдивый материал о полной невменяемости пациента. Приснился кот Мур, живущий у дочери. Большой, как человек, окружённый красно-оранжевым ядовитым светом, с огромными жёлтыми клыками, с которых капает яд. Кот сидит, смотрит на меня и в мучительной тоске говорит: «Плохо мне». Протягиваю руку погладить, а он огрызается, как собака, пытаясь укусить. Отдёргиваю руку перед лязгнувшими зубами и в страхе просыпаюсь.
На пятые сутки я стал понимать, что происходит.
— Откуда? С Бутырки? — поинтересовался сосед по палате.
— Да.
— По какой статье?
— 160.
— Растрата или присвоение чужого имущества.
— Часть?
— Третья. От пяти до десяти.
— Будем знакомы. Игорь.
— Алексей.
— Крепко ты спал. С общака?
— Сначала с общака, потом спец.
— На общем какая хата?
— Девять четыре.
— Я из один ноль один. Почти соседи. Я здесь уже две недели. Через неделю комиссия. Что на тюрьме? Сколько Воров? Я уезжал — было четыре.
— Четыре и есть.
— По воле чем занимался?
Эти вопросы как обязательная программа. Осточертели как тюрьма.
— Всем понемногу.
— Ясно. В шахматы играешь?
— Играю, но как-нибудь другим разом.
Действительно, на большом столе шахматы и шашки. У стола две добротные деревянные лавки. Высокие потолки, чистота, у двери мягкое кресло. Народ тихий, будто никого и нет. Зато с коридора надрывается телевизор и кто-то кричит как резаный.
— Это соседняя палата дуркует, — пояснил Игорь. — А у нас тихо. Они к нам ходят, мы к ним нет.
— Что так?
— Да нет, не возбраняется. Хочешь — можешь зайти.
В палату, гогоча как гуси и обнявшись, ввалились два дурака. Покуролесив, поорав, как они любят убивать и насиловать, шумно вывалились в коридор. Воистину неизвестно, болезнь ли шизофрения или черта характера. А ведь придётся знакомиться и общаться с дуркующей братией. Балбесы отвязанные. Компания…
Пришла дежурная сестра и встревоженно заговорила:
— Мальчики, приготовьтесь к обходу. Ведите себя, пожалуйста, хорошо. Сейчас придёт заведующий отделением. Встаньте у своих кроватей. Не надо ни на что жаловаться, для этого у вас есть лечащий врач. Если заведующий отделением о чем спросит — ответьте. Кратко, вежливо и по существу. Не подведите меня.
За всю историю призывного возраста мне довелось трижды пройти процедуру психиатрической экспертизы в Кащенко. Неугомонный военкомат, по причине того, что при его посещениях я не всегда утруждал себя симуляцией, время от времени оспаривал мою непригодность к военной службе и давал заключение «практически здоров», однако требовалось подтверждение в Кащенко.А там заключение не подтверждалось: очень уж я не полюбил, хотя и заочно, советскую армию. За время хождения в дурдом побывал я и в буйном отделении, и заведующих видел. В принципе, у психиатра со стажем съехавшая крыша — нормальное явление. Недаром в анекдотах, начинающихся бессмертными словами «приходит в дурдом комиссия» — они мало отличаются от тех, кого лечат. Наш заведующий отделением оказался именно таким. В сопровождении врачей в палату по-хозяйски вошёл субъект с маниакальным взглядом из-за очков и ущербным лицом.
— Посмотрим. Да-да, посмотрим, что тут. А что здесь? Пациенты! — заговорил сам с собой заведующий. — Вы, между прочим, не думайте, что вам теперь все можно. У нас и карцер есть. Вы должны уважать труд уборщиц, у нас их не хватает. Поэтому — взял тряпку — вытер. Помыл пол. Сказали — сделал, и не отказывайся. У государства средств не хватает, а мы вам чистые постели предоставляем, кормим лучше, чем в тюрьме. У нас идёт прибавка веса после экспертизы. В коридоре висят правила поведения. Кто не соблюдает правила, пусть не ждёт ничего хорошего. У каждого из вас есть лечащий врач. Вот они, все здесь, мои коллеги.
Коллеги молчали.
— А это кто? — оживился доктор, ткнув пальцем в молоденького парня. Тот попытался ответить, но язык не слушался.
— Это Свиридов, — с готовностью сообщила женщина из свиты. — Прибыл из психиатрического отделения ИЗ — 48/2. После интенсивной медикаментозной терапии он пока не говорит, но состояние удовлетворительное.
— А это кто? — набросился заведующий на меня.
— Это Павлов, — ответила та же женщина.
— Павлов!! Как же, как же, знаю! — заведующий в восторге поднял палец и, обернувшись к коллегам, доверительно произнёс: «Мне сегодня говорили о нем».
Вдруг доктор рассердился:
— Пусть они сами за собой убирают! Нечего им бездельничать! — и устремился к выходу. За ним гуськом потянулись коллеги.
— Труба дело… — в тишине изрёк Игорь.
В отличие от настоящего дурдома, где психи разговаривают преимущественно о том, что составляет физиологический аспект существования, арестанты достаточно выдержанно обходят эти вопросы стороной, охраняя свою психику. В этом же, арестантском духе, вели себя подследственные и на Серпах. Прорывалась лишь главная тема: как вести себя с лечащим врачом, на обследованиях и на комиссии. В большом почёте галлюцинации. Народ делится на две категории: тех, кто упирает на глюки, пребывая в большой надежде, что их признают, и на тех, кто о глюках ничего не знает. Последние старательно выведывают у первых, как эти глюки выглядят и с чем их едят, впадая в безнадёжную меланхолию от того, что вряд ли смогут правдоподобно обрисовать глюки комиссии. Особым уважением пользуются «голоса». С завистью слушают малоспособные того, кто грамотно несёт голиму о том, как он, повинуясь неведомым голосам, в страхе пред оными, лишал жизни жену или шёл с автоматом, предварительно нажравшись водки, на центральную площадь уездного города и палил куда ни попади, а в ментовке, в обезьяннике, глядя на развешанные ковры и цветущие розы, заявлял, что он генеральный секретарь города Мытищи и требует поклонения вассалов — дежурных милиционеров.
«Признают» же, как правило, совсем по иным признакам. Нет, конечно, у врачей глюки в цене, но исходят они (врачи то есть), один черт, из других соображений. В данном вопросе автор не имеет прямых доказательств, ибо если таковые имелись бы, то к определению Рейгана, данному России (тогда СССР) как империи зла, добавилось бы какое-нибудь нелестное и ортодоксальноеопределение: страна дураков, поле чудес или поле чудес в стране дураков и т.п., а этого допустить нельзя. Поэтому сошлёмся на непосредственное знание, доступное лишь жителю Йотенгейма. В крайнем случае, на частное мнение.
…Итак. Если этот гусь будет председателем комиссии, то косить непрогнозируемо опасно. Ни глюки, ни голоса, ни хрен собачий не помогут, если этот гад не получит от Косули на лапу. Если Косуля продолжает коварствовать, то совсем плохо. Но в любом случае нужен задел: впереди беседы с лечащим, тесты у психолога. А пока есть чем заняться: налицо признаки какой-то гадости, скорее всего чесотки. На тюрьме это верный путь в «чесоточную» хату со строгой изоляцией, в компанию кожных больных, в болезнях которых никто особенно не стремится разобраться; т.е. почти в лепрозорий. Здесь же повезло: такой хаты нет.
Пришла дежурная, провела ликбез: у кого кто лечащий. Ободрила тем, что здесь нам помогут: если у кого что болит, — заявите лечащему, он направит на приём к специалистам, благо «здесь не тюрьма и вас хотя бы подлечат». Обрадованный и почти окрылённый, я изложил свои головные и позвоночные проблемы врачу, и был мне прописан курс лечения, который выразился за 21 день в одной таблетке танакана («Вы знаете, нет у нас сейчас лекарств. Хотите аспирин?»). Зато пришедший с воли на тюремную подёнщину кожник, велев не подходить к нему, окинув издали зорким оком симптомы, констатировал: «Да, чесотка». На неё, к счастью, лекарство нашлось; однако вслед за мной зачесалась вся палата.
Степень открывшейся после Бутырки свободы ошеломила: можно ходить через коридор в соседнюю палату или в туалетную комнату, довольно большую, где можно курить, раз в час прикуривая от зажигалки охранника, и тем тоскливее становилось от мысли о возможном возвращении на общак. Нет, никак нельзя.
Потянулись дни. Лечащий врач оказалась умной и доброй женщиной. Как и с врачом на «пятиминутке», у нас возникло молчаливое взаимопонимание. Трудно объяснить этот феномен. В.Л. Леви называл его «человекоощущение». Несколько вопросов вокруг того, почему в моем уголовном деле столько вопиющих нарушений со стороны следствия, моё краткое объяснение, и мы друг друга поняли. Вопросы о моем состоянии были заданы так аккуратно и правильно, что даже там, где мои познания психиатрии поистерлись, все становилось ясно. Выразив предположение, что с таким состоянием моего уголовного дела, может быть, имеет больший смысл рассчитывать на освобождение из-под стражи по состоянию физического, а не психического здоровья, поскольку мне назначена комиссия МВД, эта замечательная женщина дала мне возможность остановиться в рассказах о своих состояниях на той грани, с которой ещё шаг вперёд — и ты псих, или шаг назад — и ничего не случилось. Во всяком случае, делать шаг вперёд она, кажется, не советовала. Не учесть этого было нельзя. Кроме того, я не почувствовал ничего, что говорило бы о «завязках» Косули. На что уповать — на собственное упорство, на косвенную информацию, на предчувствие, сны, судьбу? А что если Косуля с моим бывшим другом заплатят именно за то, чтобы я был признан заболевшим в тюрьме. Тогда обо мне, как о существе разумном, можно будет забыть, и всех собак следствие повесит на меня, т.е., как говорят в таких случаях, пойду паровозом. Из-за бессильного бешенства вперемешку с напряжённым размышлением остальное отступило на второй план, и чесотка, и голова, и спина, и разговоры с урками, косящими почём зря, но никак не могущими удержаться от разборов по понятиям. Как нечто отдалённое на второй план, наблюдал, как свирепый татарин, в борьбе за лидерство расквасивший в туалете физиономию строптивого убийцы из его палаты, решил поставить отделение на воровской ход. Общее собрание, на которое,впрочем, от соседей явилось человека три, состоялось в нашей палате. Председательствовал татарин. Он же и взял слово.
— Значит, так. Больница есть больница. Место святое. Все мы здесь из разных мест, со всех централов. Дороги нет. Мы не знаем, есть на больнице Вор или нет. В отсутствие Вора за положением смотрит самый авторитетный арестант. Если кто претендует, пусть выскажется. Блатных, судя по тому, что я вижу, нет. Я — блатной. Что, ты, может, блатной? — обратился татарин к тощему наркоману с Матросской Тишины. — Так ты скажи. Кто ты по жизни? Ну? Кто ты?
— Порядочный арестант, — просипел парень.
— Правильно, — кивнул татарин. — Но не блатной. В общем, с этой минуты у нас все будет правильно. Вот у тебя сколько есть сигарет? — обратился татарин к Свиридову.
— У м-меня… н-нет, — промычал Свиридов.
— У тебя нет, а у него есть, и у меня, например, есть. С табаком в отделении плохо, а без курева нельзя. Надо создать общак на две палаты. Кто будет смотреть за общим — выберу я. А ты подойди сюда, — позвал татарин мужичка с крайней кровати, который отличался от всех ясным взглядом. — Присаживайся вот здесь, — предложил татарин и, миролюбиво положив мужичку руку на плечо, добрым голосом сказал: «Братва, это — мент. У него тоже экспертиза. Кого-то из наших завалил. Его, конечно, признают. Но вы его не трогайте, он у нас будет полы мыть, убираться, нам такие нужны. В принципе, и нам навести порядок не западло, но если есть он, то он и будет за это отвечать. Давай, бери швабру и сразу приступай, а мы продолжим. Вопросы есть? Будут — задавайте. По серьёзному поводу можно будить и спящего. А пока расход».
Не прошло и часа, как мент, бросив выданную ему именную швабру, из отделения исчез. Воодушевившись торжеством порядка, прицепился ко мне псих со стажемс погонялом Принц (на Серпах четвёртый раз, первый раз был признан невменяемым, второй раз вменяемым, третий — опять невменяемым):
— Слушай, ты, я с тобой третий день разговариваю. Ты че, в натуре, язык проглотил? Так я тебе его развяжу — отделение со спичечный коробок покажется! — Принц кипел, и дело пахло дракой.
— Не вопрос, Принц. Присаживайся. Хочешь поговорить — поговорим. Порядочному арестанту всегда есть что сказать. — Присаживаюсь сам и жестом предлагаю Принцу место рядом на своей кровати. Все, драки не будет, все сделано по правилам. Но Принц ещё в заводе:
— А почему не хотел говорить раньше? Может, ты за собой что-нибудь чувствуешь?
— Я за собой, кроме стены, ничего не чувствую. Если по делу — говори. Вопросы ещё есть?
На шум стали подтягиваться из другой палаты, пришёл татарин.
— Есть. Ты с Бутырки?
— Да.
— Из какой хаты? Я тоже с Бутырки.
— Девять четыре.
— Девять четыре — мусорская хата.
— Раньше была мусорской.
— Правильно. А кем был до тюрьмы?
— Много кем.
— То есть?
— То есть много кем.
— Например.
— Например, учителем.
— Каким учителем?
— Русского языка и литературы средней школы.
Принц разинул было рот сказать что-то, но татарин чётко, как из устава процитировал, сказал:
— Принц, ты живёшь по понятиям. Должен знать: врачу и учителю ты вообще ничего не можешь предъя-вить.
— Да я так, — стушевался Принц. — Просто бывают учителя, там, детей насилуют, я и хотел узнать…
— Просто, — говорю, — это ты знаешь, что. Вопрос не в адрес.
— Без базара, — согласился Принц. — Пойдём покурим.
С этого момента вся соседняя палата стала называть меня «Учитель». — «Ты, Учитель, совсем обурел!! — орал на всю больницу Вова, косящий крайнюю степень психопатии. — Тебе телевизор громко, а нам в самый раз!» — «Учитель, помоги заяву написать» и т.д. То есть отношения с коллективом сформировались.
Дежурные сестры упрашивали строптивых психов мыть в отделении полы, но в лучшем случае добивались того, что уборка проводилась в палатах. Татарин пытался силой всучить кому-нибудь швабру, но безуспешно. Подняв за шиворот с кровати Егора, молчаливого паренька со всеми выбитыми зубами (в компании убийц, грабителей, насильников и вымогателей Егор казался невесть откуда залетевшей птицей: за найденные в его кармане следы наркоты ему грозило максимум два года) — татарин, пригрозив, заставил Егора взять швабру. Егор стоял с шваброй и молчал. Татарин рассвирепел, и пошёл уже по дуге могучий кулак, но вдруг остановился. Егор не ёжился, не вздрагивал, стоял прямо, и по лицу его текли слезы. Татарин удивлённо, как бы не веря своим глазам, тихо сказал:
— Ты… — плачешь?.. — возникла пауза. — Слушай, арестанты не плачут. Арестанты огорчаются. Думаешь, вымыть пол — западло? Нет, мы не на продоле, это наш коридор, мы весь день по нему ходим, как по палате.
Татарин взял швабру, ведро, и сам вымыл все отделение, включая кабинеты врачей. Потом объявил: «Чтоб больше с уборкой проблем не было!» Нянечки не нарадовались. Каждому участвующему после уборки предла-гался крепкий чай, кое-что поесть, сигареты и душ. Время от времени мы убирались вдвоём с Егором. Наклоняться с тряпкой я не мог, поэтому только подметал щёткой, но все были довольны. В душевой можно было плескаться долго, взгляд и слух отдыхал.
Егор оказался выпускником литературного института, поэтом, бывшим панком, с абсолютно ясной головой, но наркоманом по убеждению, выдвигавшим серьёзное магико-философское обоснование жизни с наркотическими веществами. Некоторое время прошло в естественном взаимном недоверии, но потом разговаривать, как мне, так и, похоже, ему впервые за все время в тюрьме оказалось интересно. Тюремная лексика и преступные истории давно уже стояли поперёк горла. Разговоры с Егором стали отдушиной, впрочем, несмотря ни на что, с тюремной оглядкой. Егор увлекательно рассказывал о своей жизни, выказывая художественно-аналитический ум и спокойный юмор, оставалось только удивляться, чего не хватило природе в образе этого человека, чтобы он достиг чего-то большего, чем есть. Стать признанным у Егора были верные шансы, поскольку, в силу каких-то обстоятельств (возможно родители вовремя задумались о будущей армии), у него был с детства замечательный диагноз «врождённая шизофрения», но следователь, ведущий дело, не поленился сходить в поликлинику, изъял историю болезни и потерял её.
— Егор, что тебе мешает жить без наркоты? Ведь сейчас нету — и ничего. Что если двинуться к иным целям с иными средствами? У тебя все есть для этого. Освободишься — и вот твой шанс.
— Нет, — ответил Егор, — сразу к барыге.
Большинство арестантов искренно раскаивается в содеянном и строит воздушные замки на благих намерениях, но на свободе берутся за старое, и слезы их как правило суть крокодиловы. Но есть весьма убеждённые в своём будущем. Не раз слышалось на общаке: «Рабо-тать я все равно не буду!» Не работать по жизни — первый шаг в сторону Воровского хода. Впрочем, после российской тюрьмы, по-любому, работать не захочешь, и ещё долго будет хотеться стать смотрителем маяка где-нибудь на краю земли. Все, что ни есть приближённого в социальном смысле к нормальному, для бывшего зэка закрыто: народ его боится и отторгает, несмотря на то, что зэки, настоящие и бывшие, составляют четверть населения.
Егор стал допытываться моего мнения о своих стихах (а я не люблю стихов, потому что сам их писал):
— Ты отвлекись от своего отношения к поэзии и попробуй дать оценку стихам, как они есть, — и я был вынужден признать, что стихи необычны, во всяком случае здесь. Одно из них я записал среди ночных бесед в табачном дыму в душном зеленом сортире, куда поминутно заглядывает охранник, требуя идти спать.
* * *
Отходит стих, как поезд от перрона, и начинает гибельный свой бег по рельсам неизвестного закона, которому не мера — человек. Песчинка в поле — что ему подвластно! Своих не преступить ему границ. Но помнить еженощно и всечасно печать судьбы смеркающихся лиц. Отходит стих, — сначала без заботы, прощальный миг — и не о чем грустить! В преддверии осенней позолоты звучит судьбы серебряная нить. Так некогда на станции начальной я сделал шаг — без муки и мольбы — последний в философии печальной и первый в философии судьбы.И все же я был против стихов, находя их неточными по природе. Пообещав Егору написать стихотворение лучше, чем это делает он, я исполнил обещание, а Егор, опасаясь, что забудет, также записал его на память. Может, и моё произведение сегодня радует кого-либо на Серпах или Столбах, на зоне или на Свободе.[1]
Между тем в Москве происходило лето. Его можно было наблюдать сквозь мутное окно палаты. Там, на улице, виднелась стена с видеокамерами, которые наверняка не работают, а за стеной липы московского двора. От главной стены прямо под окна 4-го отделения идут бетонные перегородки, разделяющие больничный двор на секции. План напрашивался сам собой и не выглядел неосуществимым. Из душа, в котором можно после уборки проводить по получасу без контроля, ссылаясь на противочесоточные процедуры, будучи запертым на ключ, дабы другие психи не ломились помыться, — вполне возможно выбраться за окно, выставив под потолком не слишком основательно закреплённый вентилятор, подобраться к которому можно, приставив к стене длинную деревянную лавку. Далее по паре связанных простыней спуститься на уровень основания окна и, откачнувшись маятником, усесться на бетонную перегородку толщиной в ступню, чего достаточно, чтобы пройти по ней, даже не садясь верхом. Главная стена — на удивление — без колючки. С неё надо спрыгнуть. Здесь будет гвоздь программы. Скорее всего, для меня прыжок будет роковым. Но сколь велик соблазн. Через несколько дворов — дом, где живёт Вовка, откуда начался мой столь неудачный путь. Побег может состояться вечером, прохожие не поймут, кто бежит, хотя бы и босиком, спортсмен или ещё кто, скорее всего внимания не обратят. Дома у Вовки обязательно кто-то есть. Только вот задача — как прыгать. А Егор бы помог. Если сам не побежит, то и не заложит. Неотвязная мысль о побеге стала следовать по пятам. Уже выяснилось в деталях, как снять вентилятор, как пронести и закрепить простыни, сколько на все нужно минут. Но как прыгать… Неудачная попытка может сделать из меня шевелящуюся биологическую массу. Неприятным холодком мелькнуло сомнение: можешь ли ты, мил-человек, не только прыгать, но и бегать, если ходишь с трудом. Но побег — это шок, а в шоке человек способен на многое. С такими мыслями, закончив с Егором вечернюю уборку, смотрел я на окно с большим и непрочным вентилятором под потолком и, право, почти терял разум.
Первое обследование — «шапка» (электроэнцефалограмма головного мозга) — инструмент настолько грубый, что фиксирует отклонения разве что если у пациента полбашки отрубили, но в программу психиатрических экспертиз входит как отче наш. Егор ходил на свиданку (на Серпах редкость, но бывает) и умудрился протащить упаковку колёс, таиться не стал, поделился с желающими. Убийца Серёжа из Ставрополя (обезглавивший жертву и путешествовавший с отрезанной головой в руках на общественном транспорте), не желавший вступать ни с кем ни в какие отношения, спокойно объяснивший грозному татарину, что на общее не рассчитывает и желает быть сам по себе, — здесь не выдержал и вежливо обратился к Егору:
— Если имеешь возможность, не мог бы уделить децел? По причине того, что завтра иду на шапку. — По местным признакам все вычисляют заранее, когда у кого какое обследование. Егор уделил по-братски. Вернувшись с шапки, Серёжа удовлетворённо отметил, что врач, обслуживающий прибор, поинтересовался, хорошо ли Серёжа себя чувствует, бывают ли у него провалы в памяти, и вообще может ли он идти без постороннейпомощи. Если шапка даст результат — это как бы слишком серьёзно, дальше только косить до конца. К тому же, как говорится, что знаешь ты и знаю я, то знает и свинья: получить заключение о симуляции тоже неохота. И я от колёс отказался.
Постепенно заговорил заколотый аминазином на Бутырке Свиридов. Заехал на тюрьму за наркоту. На общаке съехала крыша. До Серпов держали в Бутырской психушке. Свиридов стал оживать на глазах, но испугался, что не признают, и замкнулся. — «Ты дурку не гони, — посоветовал ему обычно молчаливый мрачный убивец из Сибири. — На комиссии будь собой. Тебя признают. Вот увидишь». Свиридов определённо вызывал сочувствие, а у женщин наверняка должен был пробудить материнские чувства; да и чем его преступление страшнее стакана водки. Состоявшаяся вскоре комиссия подтвердила предположение, и, вопреки всем правилам, пареньку сказали, чтоб не беспокоился: поедет в больницу. Вернулся Свиридов в палату сияющий, как мальчик со двора, возбуждённо и радостно поведал, как было на комиссии, как его «простили». Одно слово — детсад, но как солнечный луч прошёл по палате, по лицам, видавшим виды и слыхавшим обвинения покруче, чем за понюшку табаку.
Человек привыкает ко всему, иначе бы не выжил. Даже когда на Матросске, в проклятой хате 135, душегубке по определению, раздалось за тормозами «Павлов, с вещами», наряду с бешеной надеждой мелькнуло сожаление: куда ещё? — здесь привык, а как будет там?.. Привык я и к Серпам. Уже нельзя было допустить, что можно спать на шконке, а не на кровати, что нужно тусоваться по хате по восемнадцать часов; стал тяготить спёртый воздух палаты, который, в сравнении с тюремным, есть не что иное, как нектар и амброзия, и уже совсем естественным стало то, что на ночь выключают свет, и в палате стоит почти неведомая в тюрьме тишина. Пошла третья неделя «экспертизы». Чесотка прошла.Кормят хорошо. В любое время можно лежать на постели. Допустить мысль о возвращении в тюрьму решительно невозможно, особенно после того, как состоялось экстраординарное событие — прогулка. Достаточно было отказаться двоим из отделения, как прогулка отменялась. Каждый день звучал призыв «на прогулку!», и каждый день какая-нибудь сволочь, видя в своём поступке шаг к заветному диагнозу, лишала надежды всех, к явному удовольствию персонала. Однажды солнечным августовским днём 1998 года это удивительное событие все же произошло, и компания в дурацких балахонах под неусыпным контролем вертухаев и нянечек гуськом выгребла на улицу в прогулочный дворик, окружённый сплошной высокой бетонной стеной.
То, что я увидел, поразило не меньше, чем первый шаг в хату 135 на Матросске. Это был уголок рая, забытый и покинутый людьми. Вдоль стен шла асфальтовая круговая дорожка, все остальное была буйная зелень и цветы. Нянечки бросились искоренять ветки кустов, могущие обернуться орудием насилия в руках зэков, охранник у железной двери запретил подходить к себе; было предписано ходить по дорожке по кругу, но основная масса, хмуро матерясь, сгрудилась на лужайке и, отплёвываясь, задымила сигаретами. Отойти по другую сторону от общества означало почти не видеть его; здесь взгляд упивался живой зеленью, жёлтыми, красными, синими цветами. Жужжали пчелы, шмели, высокий забор беззаботно оставляла под собой лимонная бабочка. Все было невиданно настоящее. От чистого солнечного неба и запаха травы захватило дух, как будто вышел в Крыму на край горного плато и вдруг увидел море. Чтобы не разрыдаться, я закурил. Уходя с прогулки, я знал точно: жизнь вертухая ценности не имеет.
Приближалось обследование у психолога. Все уже его прошли, обо мне же как забыли, а от него наполовину зависит результат. Некоторую тревогу вызывал тот факт, что будет предложен обширный тест, в котороместь такие вопросы, как, например, какой ваш цвет — любимый. Разным типам шизофрении соответствуют определённые любимые цвета, и шизофреник с любимым фиолетовым цветом никогда не скажет, что зеркало — символ печали, а если скажет, значит он симулянт. Конечно, каждый сходит с ума по-своему, но в данном случае важны штампы, их надо знать в соответствии с учебником. Ничего не видя и не слыша, я погружался в прошлое, медленно листал пособия по психиатрии, вглядываясь в забытые строчки.
— Учитель! Ты медитируешь в натуре, тебя к психологу!
В кабинете сидела молоденькая девочка, почти симпатичная, с абсолютным отсутствием жизненного опыта, с только что усвоенными и, наверно, прилежно законспектированными психологическими истинами и безмятежностью в лице. — «Меня зовут Лена» — представилась она. — «Очень приятно. Павлов» — ответил я, не в силах оторвать взгляд от огромного чисто вымытого окна, за которым, как горные утёсы, виднелись углы и стены какого-то двора. «Небьющееся» — подумал я.
— Начнём работу, — сказала Лена. — Я буду говорить слово, а Вы сразу отвечайте, что Вам пришло на ум. Не напрягайтесь, не думайте, а просто говорите, с чем связано слово, которое я назову. Газета.
— Вьюга.
— Почему вьюга? — удивилась Лена.
— Не знаю. Вы просили говорить то, что придёт в голову.
— Попытайтесь объяснить, почему Вам так показалось.
— Я бы, Елена, как Вас по отчеству?
— Владимировна.
— Я бы, Елена Владимировна, объяснил, только это ведь Ваша, а не моя задача, — потянул я время, чтобы справиться с желанием отвечать спокойно и нормально. Из рассказов Егора я понял, что именно Лена экзамено-вала его. Лена поведала Егору, что знает, какая это большая проблема — наркомания, что у неё самой очень много знакомых употребляет наркотики, и она понимает, что любой из них может быть на месте Егора, а потому она, в связи с тем, что Егор достаточно правильно ответил на все вопросы, в смысле шизофрении как диагноза, приложит максимум усилий, чтобы повлиять на результат экспертизы, причём горячо пообещала сделать все, что может, чтобы Егор поехал не в тюрьму, а в больницу.
— И все же.
— Объяснений много.
— Попробуйте найти правильное.
— Все правильные.
— Тогда какое-нибудь из них.
— Которое?
— Вы не дали ни одного.
— Хорошо. Вьюга белая. Бумага, из которой делается газета, белая. Количество снежинок не поддаётся счёту, букв тоже много, слова все похожи, и тоже почти нет одинаковых. Газета отражает объективные и субъективные проблемы. Вьюга отражает. И никто не может сказать, что существуют две снежинки, идентичные друг от друга, несмотря на то, что все в этом уверены. А уверенность эта суть фикция, потому что за пересчитанным и идентифицированным количеством снежинок лежит область непознанная и предыдущему пространству не подчиняющаяся. То есть почти что как газета. И это только в результате поверхностного анализа, да и то исходя из дуалистической позиции: вьюга и газета суть начала самостоятельные. Однако дуализм есть фикция, как, впрочем, и все остальное, а при следовании теории монизма мы сразу потеряем связь с экстерриториальностью понятий (газета и вьюга) и окажемся в поле простых сущностей, которое не оставит сомнений, что есть основание и для связи в человеческом представлении понятия газеты и вьюги.
— Очень интересно, — согласилась Лена. — Продолжим. Город.
— Озабоченность.
— Почему?
— Здесь просто. Если убрать вторую букву о, получится «горд». Если человек чем-то горд, значит дорожит тем, чем гордится, следовательно, опасается потерять предмет гордости, поэтому ему свойственна озабоченность: как бы сохранить то, что есть.
— Улица.
— Курфюрстендамм.
— Что?
— Улица. В западном Берлине.
— Почему именно она? Вы что, бывали за границей? Кстати, как Вы сказали? Можете повторить?
— Курфюрстендамм.
— Так почему она?
— Потому что улица.
— Согласна. Дальше. Принципиальность.
— Двойка.
— Число два?
— Да.
— Почему?
— Оно самое принципиальное.
— Почему Вы так думаете?
— Мне так кажется.
— Кроме того, что Вам так кажется, другое объяснение есть? — в голосе Лены появилась угрожающая нота.
— Есть.
— Какое?
— Это так и есть на самом деле. Объективно. Независимо от того, что мне кажется.
— Хорошо. Кирпич.
— Печка. — Такому ответу Лена открыто обрадовалась, на её лице проступил румянец.
— Бесконечность.
— Усы.
— Почему же усы?
— А почему бы и нет? В бесконечности всему есть место, в том числе и усам.
— А с чем ещё может ассоциироваться бесконечность?
— С чем угодно. С подоконником, с инвалидом, с котом Васей, с Вашей причёской, моим обвинением, с гурманизацией гетеротрофных индивидов в свете новейших функолегологических обструкций, с биномом Ньютона и просто с ничем.
— Нарисуйте, пожалуйста, следующие понятия, — Лена выдала мне бумагу и коротенький карандаш, — одиночество, скорбь, знание, болезнь, ожидание, счастье.
Нарисовать легко. Запомнить трудно. Когда Леночка увидела классические шизофренические символы (река, часы, зеркало, отражение и т.д.), она упала духом и спрятала мои рисунки в стол. Я же печально задекламировал:
Что в зеркале тебе моем? Оно умрёт, как шум печальный Волны, плеснувшей в берег дальний. Что в зеркале тебе моем?— Стихи любите? — сочувственно поинтересовалась Лена и перешла к тестированию моей памяти. Я выдал вполне приличный результат, не должный, однако, мне позволить запомнить, как я назвал свои многочисленные художества с шизофреническими символами. Затем последовала долгая дружеская беседа с исследовательской подоплёкой, после чего Лена извлекла из стола мои рисунки и попросила воспроизвести, где одиночество, где принципиальность, где что. Память не подвела: и скорбь, и радость, и надежду, и много всякого другого я опознал без ошибок. Но Леночка была не промах:
— А Вы когда-нибудь уже отвечали на наши вопросы? Вы первый раз в институте имени Сербского?
— Елена Владимировна, не только первый, но и последний. И на вопросы Ваши я никогда не отвечал, разве что в прошлой жизни.
— Сейчас я дам Вам карточки с картинками, Вы должны исключить лишнюю, которая никак не относится к другим.
Мягко улыбнувшись, я возразил:
— На сегодня я должен соблюдать режим следственного учреждения. Больше ничего я не должен.
— Мы не имеем отношения к следствию, и Вашего уголовного дела я не знаю, — скосив взгляд на сторону, сказала Лена. — Поэтому я попрошу Вас продолжить обследование. Или Вы отказываетесь? — забеспокоилась Лена.
— Я с удовольствием. Это так, к слову.
На первой карточке были дом, средневековый замок, сарай и висячий замок.
— Что исключите? — не подозревая трудностей, спросила Лена.
— Что угодно.
— Например?
— Сарай?
— Почему?! Здесь же все очень просто и очевидно. Я бы не советовала Вам так отвечать. Мы очень отрицательно относимся к необоснованным ответам. Вы даёте основание заподозрить Вас в преднамеренном искажении…
Предстояло проявить настойчивость.
— Елена Владимировна, если Вы хотите, чтобы я отвечал так, как надо Вам, Вы мне подскажите, и я, может быть, с Вами соглашусь. Но мне трудно согласиться с тем, кто рисовал эти картинки и, особенно, с тем, что на них нарисовано. Кто возьмёт на себя смелость сказать (может быть Вы?), что есть единственный правильный ответ! Я Вам могу немедленно доказать обратное.
— Как Вы сказали? — «с тем, кто рисовал и с тем, что нарисовано»? — переспросила Лена, делая пометкив блокноте. — Хорошо, попробуйте. Но здесь очевидно, что лишним является висячий замок. Это очень простой вопрос.
— Напротив. Поверхностный взгляд приводит к заблуждениям. Во-первых, как Вы видите, и дом, и старый з— сооружение весьма непрочное, его и закрывать на замок не имеет смысла. Да и что ценного может быть в сарае. На кой черт его закрывать. Дом и з— другое дело. Или Вы возражаете? — Елена Владимировна внимательно смотрела на меня зачарованным взглядом психиатра. — Так вот только там и могут быть реальные ценности. Значит, закрывать на замок мы будем дом и замок, а сарай вычеркнем, как к делу не относящийся.
— Но ведь дом, з— это что? Как их можно назвать одним словом? — взмолилась Лена.
— Постройки.
— Правильно! А висячий замок — это постройка?
— Нет.
— Значит, можно допустить, что исключить нужно именно его?
— Можно.
— Значит, напишем, что Вы так и ответили?
— Я ответил по-другому. Так ответили Вы. Я только согласился.
— Так я напишу, что Вы согласны?
— Я, как Герасим, на все согласен. Но это необъективно.
— А что объективно?
— Объективно: написать два правильных ответа, Ваш и мой. На самом деле их больше.
— Хорошо, хорошо. Так и напишем. Вот следующая карточка.
Из четырех предметов: ракеты, автомобиля, воздушного шара и свечки я решительно убрал автомобиль, т.к. единственно он содержит огонь внутри мотора, а свеча, ракета и воздушный шар характеризуются наличием от-крытого огня. Лена отложила карточки и больше к ним не возвращалась.
— Давайте проведём игру. Но на самом деле это не игра, а очень серьёзное дело. Вот карточки, — девушка придвинула ко мне большую стопу картинок, как в детском лото. — Вам нужно их разложить по категориям. Постепенно. Всего должно получиться две стопы.
Что ж, поехали. Овцу и собаку в одну стопку. Кирпич и бревно в другую. Весы и складной метр в третью. Потом предметы одушевлённые к одушевлённым, неодушевлённые к неодушевлённым. Когда, под одобрительным взглядом психолога, осталось три карточки: ребёнок, градусник и кровать, я задумался.
— В чем затруднение? — участливо спросила девушка.
— У Вас ошибка. Стопок должно быть три.
— Нет, две.
— Или убрать три карточки. Они не подходят.
— Нет, подходят.
— Точно?
— Точно.
— Тогда ясно. Вы нарочно так сказали. В этой задаче только один ответ. Стопок должно быть три.
— Но что общего в этих предметах!?
— Как что. Ребёнка мы посадим на кровать и поставим ему градусник.
— Вы действительно так думаете? — опечалилась Лена.
— Я могу думать так, как захочу.
— Что это значит?
— Это значит, что мир таков, каким его делаете Вы.
— Но есть истина.
— Истина экзистенциальна.
— Это как?
— Как Вам больше нравится. Как захотим, так и будет.
— Сомневаюсь.
— А я нет. Хотите, докажу?
— Конечно!
— Я вам задам задачу, Вы будете уверены в своём правильном ответе, а прав окажусь я.
— Этого не может быть, — улыбнулась Лена.
— Попробуем?
— Да, давайте.
— Ответьте мне на вопрос: куда ходили мы с Пятачком?
Девушка подумала и, смущённо улыбнувшись, спросила:
— К Винни-Пуху?.. Или к Ослику?.. — и приободрившись, обобщила: «К кому-то из них».
— Нет. С пятачком мы ходили в метро, — ласково пояснил я. Думаю, девушка помнит, что изначально метро стоило пять копеек.
Елена Владимировна сразу стала строга:
— Скажите, что значит «шила в мешке не утаишь»?
— Пса его знает.
— Что? Кто знает?
— Пса.
— Кто это?
— Пёс.
— Почему же пса, если пёс?
— Потому что пёс — это он, а пса — это она.
— Все-таки, как Вы думаете?
— По-разному. Можно так думать, можно этак.
— Хорошо. Вот другая пословица: цыплят по осени считают. Что это значит?
— Всему своё время.
— Хорошо. Вы так считаете. Правильно считаете. Почему же эту пословицу можно объяснить однозначно, а «шила в мешке не утаишь» можно понимать по-разному. Есть разница в этих пословицах?
— Нет.
— Как нет?
— А Вы сомневаетесь?
— Да, сомневаюсь.
— Ну, так я докажу?
— Сделайте одолжение. Так почему?
— Потому что я так хочу. А захочу, чтобы была разница, — будет.
— Объясните, в каком случае есть разница, и в каком нет.
— Разницы нет в первом случае. Разница есть во втором. В первом случае шила не утаишь, значит, в определённое время тайное станет явным, несмотря на то, что имела место попытка нечто утаить, т.е. всему своё время. Здесь и произошло слияние двух пословиц. Во втором случае цыплят считают, хоть и по осени, а шило утаивают. Считать и утаивать — вещи разные, но если захотеть, чтоб все было одно и то же, то утаивать — значит контролировать, определять в размере, весе и качестве, с тем чтобы соотнести параметры утаиваемого с прогнозируемой угрозой, т.е., как Вы, несомненно, уже догадались, — это то же самое, что считать. И так до бесконечности: истина экзистенциальна. Ну, как? Похоже, доказал?
— Вы знаете, у меня голова кружится. Вы наркотики употребляете?
— Нет. Я сторонник чистого разума. Однако курю, предпочитая табачный дым религиозному дурману.
— Вы не верите в бога?
— Давайте, Елена Владимировна, я Вам докажу что-нибудь ещё.
— Минуточку. Посидите, я сейчас приду.
Повеяло чем-то угрожающим: натурально, я остался в кабинете один. Впрочем, куда ты с подводной лодки денешься.
Стремительно вошла молодая, злая как фурия еврейка, за ней как школьница за учителем, моя психологиня.
— Что общего между ботинком и карандашом? Немедленно отвечайте, без паузы!! — заорала еврейка.
— Оба оставляют следы. Ботинок на полу, а каран-даш на бумаге, — без запинки отрапортовал я.
— Какая разница между чернильницей и луной?
— Нет разницы, — смиренно ответил я.
— Че-во? — угрожающе заявила фурия.
— Луна отражает свет, и чернильница отражает, — пояснил я.
— Что — нет никакой разницы? — фурия внимательно смотрела мне в глаза.
— Вы не сердитесь, — не отводя взгляда, миролюбиво попросил я, — есть разница.
— В чем?
— Луна отражает свет солнца, а чернильница — и солнца, и луны.
— Все ясно, — констатировала учительница.
Больше со мной никто не разговаривал. Почему не дали главного теста, который положен всем и является ключевым. Причин могло быть несколько. Первая: досрочно признали симуляцию; вторая: досрочно убедились в шизофрении; третья: никто не убеждался ни в чем, и результат будет один, благодаря вмешательству: а) Косули, б) следствия. Вот где настоящая шизофрения.
Через несколько дней опять привели в отделение психологии. Долго ждал в коридоре, сидя на обыкновенных человеческих стульях, прямо как в каком-нибудь вольном учреждении в ожидании аудиенции, практически без всякого присмотра (охранник то и дело отлучался) и старался удержать себя от безрассудного действия: привели сюда длинным путём, собирая по пути психов из разных отделений, и в какой-то момент на первом этаже прошли мимо приоткрытой двери кабинета, в котором окно выходило на обычную улицу, решёток не было, а сквозь открытую форточку проникало московское лето; замок на двери был определённо захлопывающийся. Рядом шагал здоровенный охранник. Несмотря на нахлынувшее стремление к волшебной форточке, к счастью, хватило ума понять, что единственно слабым местом противника в этой ситуации могут бытьтолько глаза, а они на двухметровой высоте, и шанс на точный и быстрый удар слишком мал. Теперь же хотелось броситься вниз по лестнице, бежать к заветной приоткрытой двери, чтоб все получилось и случилось немедленное чудо. Ах, Артём, как я тебя понимаю, ты говорил, что уйдёшь в бега в любом случае, рано или поздно. Тогда я тебя призывал к благоразумию, а теперь тоже понимаю, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. От таких мыслей оторвала появившаяся Елена Владимировна, которая, сухо поздоровавшись, сказала, что мне забыли предложить анкету; нет, не в кабинете, можете здесь, в коридоре, вот анкета, карандаш, тетрадь у Вас есть, подложите под листок и пишите, а в кабинете нет необходимости. Анкетой оказался даже не тот, главный, тест, а другой, второстепенный. Предстояло закончить начатые предложения. Например: «До войны я был…» «Танкистом» — дописал я. Или: «Если бы у меня была нормальная половая жизнь…» — «То я был бы половым, и духовную жизнь называл бы духовкой». И так далее.
— Давайте сюда, — потребовала психологиня, проходя мимо.
— Я не закончил.
— Неважно. Давайте.
Как говорят в народе, вот тебе бабушка и юркнула в дверь. Опять шизофрения.
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся» — думал я, возвращаясь в палату в сопровождении вертухая. Повеяло грозным дыханием предстоящей комиссии. Надо решаться. Задел есть, и если грамотно приплести глюки — диагноз будет. Но какой… Снова череда старых вопросов налетела душащим сомнением и непреходящим ощущением предательства. Вдруг персонал отделения всполошился: Павлова вызывают к адвокату. Есть на Серпах у подследственного такое право, но все знают, что оно только на бумаге. Случай исключительный. После каких-то попыток свидание отменить,споров врачей, пускать или не пускать, наконец повели. Ах, как вовремя. Так нужна ясность, так хочется верить, что Косуля больше не обманет. В конце концов, это для него опасно, ведь выйду я когда-нибудь на свободу, да и не может такого быть, чтобы совести в человеке не было совсем.
В старинной комнате с большим столом и лавками, где мы тусовались после этапа с Бутырки, тихо сидит Косуля и страдальчески смотрит на меня. Пауза длинная и нелепая. Мне нужна информация, действие, а не соболезнование (я ещё живой), хотя и это что-то новое (может, впрямь пробрало?). Молчали долго.
— Алексей, — наконец сдавленно заговорил адвокат. — Если бы ты знал, чего мне стоило добиться этого свидания… Я даже к Хметю ходил.
Ах, вон оно что: перетрудился. Молчу.
— Ну, как ты?
Молчу.
Косуля тоже молчит. Похоже, страдает и ищет сочувствия. Бред какой-то. Нарастает волна ярости, и, видя это, адвокат проворно придвигается ко мне и шепчет на ухо, громко шелестя в руках газетой: «О тебе заботятся, ничего сам не предпринимай. Все договорено. Поедешь в Белые Столбы. Деньги заплачены. Твоя жена передала наличные. Стопроцентная гарантия. На комиссии ничего не говори — только навредишь: там будут посторонние, кто не в курсе».
И уже во весь голос:
— Я пришёл убедиться, что ты жив, здоров. Теперь я спокоен. Твоя сестра передаёт тебе привет.
Понятно. Денег выманили. Но теперь есть реальный шанс, что за мои же деньги, не тратясь сами, наконец, похлопочут. Верно рассчитано. Разве стану я возражать. Не стану. Мне бы на свободу. И могильным холодом мысль: а если опять обман?
— Мне пора, Алексей. Разрешили только пятнадцать минут, а я уже полчаса здесь. До свидания.
Ёлки зеленые, что делать… Нет, нельзя верить. Что денег взяли — можно не сомневаться, а вот помогут ли. Однако сказано же: «Не выйдешь из тюрьмы, пока не отдашь все до последнего кодранта». Готовься в шизофреники самостоятельно. И нос по ветру. Будет комиссия — будет видно. И что значит «только навредишь»…
День комиссии настал. Пролетели дурдомовские будни, с тем же успехом, что в тюрьме, т.е. дни тянутся, а недели летят. На побег так и не решился, к обществу привык совершенно, жил как бы сам по себе, практически ни с кем, кроме Егора, не разговаривая. — «Эх, мне бы так, — кивая на меня, с завистью говорил Принцу татарин. — Я его проверил, его призн— отсутствие чувства юмора».
С утра палата пошла на конвейер. Арестантское чутьё уже определило процент признаваемых от числа соискателей и, похоже, даже не ошибалось в том, кого признали, кого нет. Возвращался арестант с комиссии, рассказывал что-то, и становилось ясно, да или нет. Здесь уже никто никому не желал удачи. Только самому себе. Именно сейчас кто-то пан, а кто-то пропал. «Павлов, к врачу!» Зашевелился под сердцем холодок. Не в лучший день (13-е число) выпало мне идти на комиссию, не лучшие сны снились перед ней. Ехал по аллеям летнего парка на грузовике, на высокой скорости, со страхом, но правильно вписываясь в неожиданные повороты. Кругом лес, одна единственная дорога, и больше никого. Вдруг понял, что заканчивается бензин. За очередным поворотом появляется заправочная станция. Тоже ни души. Останавливаю машину, выхожу. Тишина. Иду внутрь помещения, отдаю кому-то невидимому деньги, возвращаюсь к машине, а её нет. В отчаянье просыпаюсь.
Что в прошлом, то не страшно. Тогда же, ни живой ни мёртвый, явился я в кабинет и увидел за длинным столом человек десять врачей в белых халатах, сплошьженщины и один мужчина — тот самый, наш заведующий. Видимо, только что председательствовавший, он уступил место во главе стола женщине, выражение лица которой мне сразу не понравилось, а сам встал и, с ехидной улыбкой и сверкающими глазами глядя на меня, стал ходить по кабинету, собирая какие-то бумаги и всем видом говоря, что он тут не при чем. Но не уходил. Ряд врачей, включая моего «лечащего», явно не имеют решающего влияния на ситуацию, это видно по лицам. Однако все взволнованы. Видимо, обсуждение моей кандидатуры состоялось только что и спокойным не было. Сейчас все станет ясно. И причём сразу. Такое количество женщин не сможет скрыть своего отношения. Спокойна только председательша с экзотической, как я узнал потом, фамилией — Усукина.
— Что-то Вы бледны, — совершенно паскудным тоном обратилась ко мне Усукина.
Невнятно пробормотав что-то в ответ, я почувствовал неладное, а мысли потекли в совершенно незапланированном направлении. Никто не знает, зачем восходитель стремится к вершине. Зачем меня понесло в двадцатиградусный мороз наверх, объяснить трудно. Наверно, потому что решил посвятить жизнь альпинизму. Чему ещё её посвящать, если там, внизу, раскинулась как море широко страна совдепия, инстинктивно ненавидимая мной с тех пор, как обнаружилась способность мыслить самостоятельно. В том же отстранении от извращенческого социума, занесло и на канатную дорогу Чегет, на одну из самых низкооплачиваемых должностей, помощником контролёра. Отсюда и иллюзия мужественной исключительности занятия альпинизмом, как единственно достойного в мире практических действий. Большое начинается с малого, поэтому на Донгуз-Орун «по семёрке» пойду в одиночку следующей зимой, а сейчас — Малый Донгуз по единичке, как первый тост. Канатка не работает из-за лавинной опасности. На склоне ни души. Ночь провёл у приятелей в лаборатории КБГУ. Стоит насклоне горы с полным названием Чегеткарадонгузорункарабаши на высоте3000 метров жилой деревянный дом. Есть в нем какая-то установка, улавливающая что-то с неба, а в основном, тусуются здесь альпинисты, туристы, гости и гостьи. Словом, карты, пьянство плюс неограниченные возможности катания на горных лыжах. Но, с романтической точки зрения, место, каких мало на земле. Можно сидеть в тёплой комнате, смотреть в окошко, а там — в полмира картина гор такая, что тысяче Рерихов не под силу. Ранним утром, ещё затемно, я вышел из этого уютного домика и пошёл наверх. Летом — прогулка, за восхождение стыдно посчитать, зимой — немного иное дело. Ощущение полного одиночества появляется быстро, при том, что до людей рукой подать. Но люди как бы перестают существовать, и о них уже не думается. Сейчас, под ритм энергичного движения вверх по склону, стараюсь угадать, по душе мне это одиночество или нет, готов ли стремиться в гибельные выси (не сегодня, конечно; сегодня это так, ерунда), надеясь только на себя и на Бога. Через час-другой подъёма по глубокому свежему снегу в проявившемся рассвете обозначился предвершинный скальный гребень, часть которого обходится по снежному склону (логика альпинистского маршрута — это простейший путь в выбранной части горы). Склон уходит вниз и обрывается в пустоту. Разгорячённый подъёмом, пережидаю минуту и делаю первые шаги. Приятно иметь закалённые руки. Без рукавиц с удовольствием разгребаю колючий снег и вдоль скал прорываю траншею. Снег глубокий, одна голова над поверхностью. Опасность схода лавины — высокая. Оправдывающий фактор — траншея роется на самом верху склона, под скалами. Больше похоже на плаванье в снегу, чем на пешее движение. Вспоминается предупреждение знатоков снежных лавин о том, что считать передвижение по верхней части снежного склона наиболее безопасным — распространённое заблуждение. Но есть уверенность, что все будет хорошо, и я плыву, от-фыркиваясь в снегу. Внезапно наступает тишина. Не сразу понимаю, что я застыл без движения, вслушиваясь в невесть откуда взявшееся ощущение смертельной опасности, похожее на длящееся мгновенье перед началом грозы. Кажется, одно лёгкое движение вперёд — и все изменится: зашипит снег, и секунд через двадцать ты окажешься на километр ниже, в другом мире. А собираешься быть пока в этом. Может, это необоснованный страх? Как же ты собираешься один в большие горы, если не можешь взойти на малые. Вперёд! Не пропала же уверенность, что все будет хорошо? Нет, не пропала. Все будет хорошо, если сейчас, с лёгкостью одуванчика и осторожностью хирурга, ты повернёшь вспять и уплывёшь назад, и, желательно, по воздуху. Вот уже видна площадка на гребне, откуда начинается траншея. Метров десять и ты в безопасности. Глубоко вдохнув чистейшие искры морозного горного воздуха, задержав их на мгновенье в лёгких, я выдохнул. Снял рюкзак, достал сигареты. Чиркнул спичкой. Она зашипела и погасла, продолжая шипеть. Через секунду стало понятно, что спичка не при чем. Исчезла прорытая траншея. Вниз понеслась сумасшедшая лавина.
— Скажите, у Вас есть деньги? — страстно, как нечто накипевшее на душе, выплеснула Усукина.
— Были.
— Сколько??
Вижу отрешённое лицо своего врача. Похоже, она с Усукиной в чем-то сильно не согласна; вижу другие лица, оживившиеся как в цирке; вижу, как колеблются в своей позиции некоторые, и, что совершенно невероятно, — вижу на некоторых лицах зависть; боковым зрением замечаю, как завотделением застыл в нелепой позе с папкой в руке…
Шансов нет. Подобное поведение комиссии больше всего подошло бы к ситуации, когда бы Косуля давал взятку врачу и был при этом пойман. Вдруг так и есть? А может, Усукина, получив деньги, умело играет роль, ивсе будет в порядке в любом случае. Если же нет, то все плохо настолько, насколько может быть плохо вообще.
— Что молчите! Наверно, тыкву где-нибудь закопал? Ладно. Скажите нам, как Вы относитесь к командным действиям в бизнесе?
— В каком смысле?
— А в прямом. Вы же не один… работал. Перечислите, с кем вы работали!
И тут раздался колокольный звон, так хорошо знакомый мне по задержанию.
Глава 23. ЗАПОЗДАЛОЕ СУМАСШЕСТВИЕ, ХАТА 06
Думаю, что начал сходить с ума я уже там, на комиссии. Стало очевидно: происходит все что угодно, только не психиатрическая экспертиза и, к сожалению, ничего другого, что могло бы означать движение в мою пользу. Хорошо, я не знал тогда причин происходящего. Усукина ли, или кто ещё, но было найдено лицо, которому предназначалась достаточная сумма (чтобы не будить в читателе зверя, не стану её называть), которая и была переправлена из Европы в Москву и передана Косуле. За эти деньги мне гарантировались Столбы и относительно скорая свобода. Все это было сделано тем самым новым адвокатом, которого я требовал, но с которым ещё не был знаком. Неувязка вышла лишь в том, что деньги были переданы именно через Косулю, чья репутация, как правозащитника известного и маститого, была безупречна, а на мои претензии к последнему новый адвокат посмотрел как на результат закономерно воспалённого воображения. Так деньги и пропали, а моя кандидатура была обречена, что я и почуял на комиссии звериным нутром арестанта. Конечно, хотелось верить, что так вот грамотно разыграла свою роль комиссия, что деньги кто-то взял и, дай бог, отвезут уже хотя и на Бутырку, но на признанку, а потом в вожделенные Белые Столбы. Ноне оставалось ничего иного, как отвергнуть предположение Усукиной о том, что мне снятся чудовища, а в камере со мной происходили странные вещи, при этом было заметно, что моими ответами Усукина искренне разочарована; видать, полечить больного, закопавшего тыкву, хотелось не на шутку. Надежда не умирала до последней секунды, когда в тот же день я оказался в Бутырке, вместе с несколькими соседями по палате, перед окошком выдачи белья. Под те же беззвучные колокола, получая невиданно чистое бельё, я думал, что только тому, кто признан, могут выдать такое, что моих друзей по несчастью (бедные!) повели на общак, а я остался один из всех, значит, только на признанку; нет, только! Да не пойду больше никуда! Все существо забилось в истерике, когда вертухай остановился перед массивной металлической дверью No 06 на первом этаже.
За тормозами оказались шконки в два яруса, все завешено жёлтыми простынями, и людей как селёдок в бочке. Это был общак, страшнее которого только пыточная. Надежда умерла здесь. По какому-то странному, запутанному, почти невероятному плану осуществил свою подлянку мой знаменитый приятель, и не побоялся даже того, что моя кандидатура в роли козла отпущения в его делах — не самая удачная, потому что знаю я несколько больше, чем следовало; все-таки я был хозяином банка до той грандиозной финансовой операции, часть которой, кстати совершенно законная, прошла через него. Но знаю же я и о той части, которая прошла позже без моего участия и была не совсем корректна, потому что бюджет родины лишился сотен миллионов долларов, а дружественная азиатская страна — партии военных самолётов. Нынче мне достаточно рассказать следователю то, что знаю, и я на свободе. Но что будет там, дома, где даже не подозревают, что им угрожает, если я откажусь играть свою странную роль. И это безнадёжно. Я буду молчать, а годы будут идти. Кроме того, почти полгода не отвечают на заявление в суд. Ген-прокуратура — это верховная власть, с ней бороться трудно и, наверно, бесполезно. А то и дача показаний не поможет. Шанс на свободу в русской тюрьме имеет тот, кто молчит как партизан. Это ещё сталинская традиция: обвиняемый должен заговорить, иначе его нельзя признать виновным. Раньше заставляли говорить всех. Движение прогресса в Йотенгейме замедленно, но есть, и теперь следственный принцип трансформировался так: заставлять надо, но не обязательно до смерти, а если все-таки молчит, то отпустить можно. Так что молчите, арестанты. Рекомендую из арестантской солидарности.
Должна быть зацепка, точка опоры, должно быть решение. Достичь внутреннего равновесия, проанализировать ситуацию и составить план. Неужели ты не найдёшь в себе сил на это? Для начала надо заснуть. Сна нет четвёртые сутки. Нет ничего. Нет жратвы, нет курева, нет денег, нет здоровья. Есть только глюки. Те самые, о которых так много говорилось на Серпах. По камере ходят знакомые по воле люди, а при ближайшем рассмотрении оказываются незнакомыми. Окликают родные, отчётливо слышится их голос в камерном улее голосов. Частенько из-за тормозов слышится команда вертухая «Павлов, с вещами», и сокамерники, одни с хохотом, другие молча, наблюдают, как я подрываюсь собирать скудный баул и спешу пробиться к тормозам. В результате, недоверчиво и с надеждой, заслышав голос из-за тормозов, я воспалённым взором вглядываюсь в лица соседей, пытаясь понять, заказали меня с вещами, чтобы освободить (а как иначе?), или опять все будут смеяться. И ничего не осталось, кроме ужаса ожидания, что сейчас позовёт кто-нибудь из давних знакомых, и я его опять не увижу. На шестые сутки я стал высматривать возможность лишить себя жизни. Оказалось, что это вообще не страшно, наоборот — как дверь на волю. На хитроумие нет сил, единственно что возможно — встать на пальме во весь рост и упасть вниз головой. Но как, если столько народу; нужно чтобы голова получиладостаточный удар, а то потом вообще не хватит сил ни на жизнь, ни на смерть. В Матросске я видел парня, которого сокамерники на руках носили на допросы. Говорят, сидит больше года, упал со шконки, повредил позвоночник, отнялись ноги, на больничку не отправляют. В таких размышлениях, сидя на пальме в положенные мне по очереди шесть часов сна, я не решался закрыть глаза: стоит это сделать, как окликает мать, сестра, и тут же вскакиваешь и, зная, что этого быть не может, в отчаянье смотришь вокруг. — «Что, галлюцинации? — сочувственно спросил старый грузин с бородой. — Ты напиши заявление, должны помочь. А лучше поговори со смотрящим, он у нас хороший парень». До сих пор общался в хате только с семейниками. В мареве полубреда, не заметив, как, влился в компанию из трех человек. Один — сосед по палате на Серпах (торговля наркотой в крупных размерах), с ним, помнится, были трения, а здесь встретились как старые друзья. Второй — художественный редактор известного журнала (тоже за наркоту, но за употребление (формально — за хранение). Третьего вообще не помню.
— Я думал, я сильный человек, а оказалось, что это не так, — с грустью делился мыслями бывший редактор. — Попал сюда и понял, что это мне не по силам. А жаль.
— Но тебе здесь недолго осталось, у тебя следствие закончилось, скоро суд и на зону, а там легче.
— Да, это правда. Другие годами сидят. Я бы не смог.
— Надо держаться.
— Надо, — вяло согласился собеседник. — Хочешь, я тебе марочку нарисую, у меня есть чистая?
Марочка — новый носовой палаток, ценится на тюрьме как подарок. Марочку дают разрисовать художнику, вешают на стене над шконкой, как картину в доме.
— Благодарю, не надо.
— У меня книжка есть, немецкая грамматика. Хочешь — возьми.
Грамматика немецкого языка с обложкой от уголовного кодекса показалась столь знакомой и одушевлённой вещью, как человек с воли. С трудом разбирая слова (их значение никак не могло пробиться сквозь толстое и мутное стекло, отделяющее меня от мира вещей, имеющих точный смысл), я стал понемногу понимать, что в комнате свиданий мне отведён ещё как минимум час, и вертухай за дверями не будет беспокоить меня раньше времени: свиданка — это святое. Плохо только, что через стекло. Рассказывали, что в каждой комнате свиданий меж стеклом и рамой есть щель, куда можно просунуть маляву. Только этого не понадобится: стекло оказалось изо льда, и на глазах тает, стекая мутными прокуренными струйками на грязный тюремный стол. Впереди из неясных движущихся форм серого и красного цвета проясняется идущая навстречу толпа с транспарантами, на которых белым по красному написаны формы императива и плюсквамперфекта. Толпа выкрикивает грамматические лозунги и, приближаясь, грозит раздавить меня. Вертухай же двери не открывает: свидание — это святое.
Происходящее означало, что на шестые сутки мне удалось заснуть. Недолго, часа на два, а потом — старая песня: тусоваться в толпе по восемнадцать часов и бороться, бороться, бороться. Отдохнувший на серпах позвоночник заболел с новой силой, не соглашаясь с нагрузкой.
Сложно передать обстановку общей камеры. Представьте, что вы едете в метро в час пик, и вдруг выясняется, что следующая станция через год, в вагон приносят унитаз и раковину и, будьте любезны, живите.
Хата ноль шесть на Бутырском общем корпусе одна из лучших. Это значит, что в хате не стоит жара в сорок градусов при влажности воздуха 100 %, как было на Матросске, нет насекомых. Вообще на Бутырке чище, но и положение строже. Матросска — как помойная яма. В целом же хрен редьки не слаще.
Итак, точка опоры опять найдена, на этот раз — немецкий язык. Спасительная грамматика оказалась единственным средством, позволяющим засыпать. Как-то раз к кормушке подошёл библиотекарь из хозбанды и, заискивая, предложил список книг. Если раньше чтение казалось дикостью в этих условиях, то сейчас немецко-русский словарь показался мне благом. Жизнь превратилась в немецкий язык, словарь стал моей библией, а я вдруг понял, что опять не сдамся. Мысль об этом принесла радость, недужную, но высокую и торжественную, жизнь и свобода вновь поманили своим притягательным светом, и я решил, что должен побеждать. Нет доблести подыхать в Бутырке, есть доблесть её пережить. Больше ни с кем я не разговаривал, ограничиваясь односложными ответами на вопросы. Решимость, боль и отсутствие страха стали моими друзьями. Сокамерники стали странно поглядывать на меня, но мне было все равно. Написал очередное заявление в суд на изменение меры пресечения, написал по почте последнее китайское предупреждение Косуле и приготовился к очень долгой борьбе: широко распахнуты в тюрьму ворота, на волю же ведёт лишь узкая щель. А с общака эта щель и вовсе не видна. Пока арестант находится в помещении этой категории, шансов уйти на волю у него практически нет. Здесь собираются забытые и брошенные, без денег, без поддержки извне. Общак — воплощение безнадёжности. Самой желанной целью арестанта с общака является суд и лагерь, если, конечно, не грозит особый режим (крытая тюрьма): крытник — наполовину смертник. Кого только не встретишь в общей камере, от слегка провинившихся, за недоносительство например, до тех, кому сидеть не одно десятилетие, кто наверняка умрёт в тюрьме. Кто не сидел на общем, тот не знает тюрьмы. То, что на официальном языке правозащитных организаций называется нечеловеческими условиями, полное отрицание происходящего и бессилие что-либо изменить — варят арестанта на медленном огне. Как люди не ста-новятся зверями — уму непостижимо, напротив, проявляется лучшее даже в худших. Неужели русскому человеку нужно попасть в тюрьму, чтобы быть человеком. Почему мы на воле другие. Отчего бы нам не жить по-людски? Ответ один: пёс его знает — загадка русской души.
Когда меня действительно заказали с вещами, вся хата, до этого, казалось, не замечавшая меня в своей массе, вдруг оживилась, народ наперебой стал делать предположения, куда меня, на волю, в другую хату или в больницу. Сошлись на том, что, скорее всего, на волю, в связи с чем я на выходе из хаты получил самые тёплые напутствия и внушительный пинок в зад, отчего буквально вылетел на продол. Это тюремная примета — пошёл вон и не возвращайся! Получить пинок — это значит, что тебя уважали и желают тебе только Свободы. А сам получивший этот приятный знак всегда от неожиданности злится. Рассердился и я, однако, сообразив, что удар обошёлся без последствий, обрадовался и пошёл за вертухаем. Двинулись вверх по лестнице, значит, свобода опять отменяется. Третий этаж, хата 318, большой спец. В хате четыре шконки, семь человек, что после общака кажется футбольным полем. Молодые амбициозные ребята, для которых тюрьма — романтика, насмешливо оглядели меня, немного побеседовали, и я занял шконку прямо под решкой, без ограничений времени сна, с единственным условием, что на ночь шконка будет использоваться для нужд дороги. Вещи познаются в сравнении, в таких условиях можно не только жить, но и с комфортом, возможность в любое время прилечь воспринимается как подарок, потому что дело дошло до онемения конечностей и временами не чувствовать руку и пальцы ног стало обычным делом. Нашлись в хате и обезболивающие таблетки. В общем, суток несколько я спал, с перерывом на баланду и проверки.
Что-то явно произошло. Наверно, Косуля получил письмо. Задаром здесь на спец не переводят. Вызвали кврачу. Молодёжь насторожилась: почему без заявления; не иначе, как кумовской. Побеседовали. Успокоились. Можно подумать, они не видят, кто в хате кумовской. Вызвали к врачу. Им оказался военный с офицерскими погонами и в белом халате.
— Павлов, Вы писали мне заявление? — Ответить «нет» было бы непростительно глупо.
— Да.
— Какие жалобы? — и, думая о чем-то своём, не слушая меня, врач стал что-то писать в карточку и написал довольно много. Краем глаза удалось разобрать: пишет обо мне.
Постепенно стали угасать жуткие признаки сумасшествия, посетившего мою грешную голову; несколько недоразумений, связанных с их остаточными явлениями, удалось свести на сдержанный тюремный юмор, и видимый мир приобрел определенные черты, перестав являться в гофмановских метаморфозах. Всякий выздоравливающий по-своему счастлив. Был счастлив и я. Потому что не сдался и пребывал не в ванне с формалином, а в роскошных условиях большого спеца. Переход с общака на спец можно представить, вообразив такую ситуацию: в том самом вагоне метро, куда в час пик принесли унитаз и сказали «живите» — устроили дискотеку без перерыва, и вот, натолкавшись до потери разума, с заложенными от громкого звука ушами, с оранжево-черной пеленой перед глазами от хронического недосыпания, прокуренный от кончиков пальцев рук до пяток, перестав понимать и воспринимать, ты вдруг оказываешься в соседнем вагоне, где места сколько хочешь, воздух свежий, и можно курить не в одурь, а в удовольствие, где стоит, в отсутствие телевизора, восхитительная тишина, в которой нормально одетые спокойные люди переговариваются вполголоса. Любой спец можно забить до отказа, но хата 318 для этой цели явно не была предназначена. Обитатели камеры — серьезные сдержанные ребята, без каких-либо разговоров о наркоте, идаже почти без матерщины. Вроде как и не тюрьма даже. Появилось давно забытое состояние — настроение, которое, однако, портил сосед по хате, некий бывший военный переводчик, обвиняемый в мошенничестве, крутой на воле и уверенный в тюрьме (а по-моему, так примерно в чине капитана ФСБ). Он повел со мной беседы, из которых следовало (каждый автолюбитель знает, как искусно и запутанно, но с полной конечной определенностью может сотрудник автоинспекции объявить сумму, за которую можно избежать какого-либо наказания), — что есть основания предполагать: мне нужно готовить, по меньшей мере, 50 000 американских долларов, и тогда свобода под залог станет реальна, иначе я столкнусь с холодным непониманием и справедливой неподкупностью Генеральной прокуратуры. Задаваемые вопросы — они же всегда частично и ответы. Налицо картина растерянности следствия, готового идти на компромисс: я рассказываю, что знаю, а следствие отпускает меня на свободу под залог, но меньше пятидесяти штук не может быть по определению, даже если я не виноват ни в чем, чего на самом деле, как выразился военный переводчик и мошенник, не бывает. Тот человек, что был в моем облике до ареста, весил девяносто килограммов, привык ездить в автомобиле, приобрел черты высокомерия и спеси, забыл, что такое преодоление, и в мире благополучия подернулся жирком во многих отношениях. Сегодняшний человек не был похож на того, дотюремного. Ребята, по воле занимавшиеся штангой, определили мой вес в 50 килограммов, брюки мои давно были утянуты веревочками за петли, в них уже могло влезть два таких, как я, и болтались они как на скелете. Из маленького зеркальца глядело старое лицо с большими темными кругами вокруг глаз и белыми клочьями седины в бороде, усах и бесформенной шевелюре. Беса в ребре разглядеть было нельзя, но само ребро выпирало наружу, как у обитателя концлагеря. Оставшиеся после дележки с Рулем деньги остались в далеком прошлом,приходящая раз в месяц продуктовая передача имеет смысл только на спецу, недаром есть такое мнение на общаке, что передачи с воли в это экзотическое место — пустая трата денег. Конечно, можно «жить одному», но когда смотришь на человека, который ходит по камере весь в язвах, в полуистлевших трусах, покрытый грязным потом, с серым лицом и слоновьими ногами (отеки от долгого стояния), и знаешь, что у него нет ничего, ни денег, ни еды, ни одежды, ни надежды, то, конечно, поделишься с ним, чем есть. Давно уже баланда перестала быть вонючей, уже произошло частичное разделение тела и духа, они сосуществуют, как соседи в коммуналке, временами встречаются, а чаще пребывают в одиночестве, причем кажется, что дух существенно ближе к твоей сути, а необходимости в теле становится все меньше и меньше. С телом, кстати, происходит странная вещь: похудев, оно начинает сохнуть и, как шагреневая кожа, с каждым днем уменьшается, а все, что в нем болит, это как бы у соседа. Связь с внешним миром по большей части тоже в прошлом. Какие могут быть пятьдесят тысяч долларов, если взять их из банка могу только я, а для этого нужно оказаться в Португалии. Помочь может только друг, он же и враг. Какие-то деньги он из меня уже вытащил, из возможных наверняка последние, а со своими не расстанется. Удивительные метаморфозы происходят с людьми; человек бедный и нежадный в молодости, стал мой приятель с годами богат и патологически скуп. Чем богаче человек, тем чаще он готов удавиться за копейку, т.е. буквально как простой смертный. Помогать станет, если только сильно испугается. До сих пор этого не произошло, значит, мои действия были неубедительны. Сейчас, в этих условиях, появилась уникальная возможность — думать; не выбрасывать из доменной печи раскаленного мозга расплавленные мысли, а трезво размышлять, изредка смахивая с лица паутину почти угасших галлюцинаций. Правильные решения не должны быть замысловатыми. О собственном риске говорить не приходится: куда дальше. Если, конечно, не дойдет до пыток. «Твое счастье, что ты в тюрьме, — сказал мне якобы мошенник и бывший переводчик. — На сегодняшний день для тебя это единственное безопасное место. В таком деле, как у тебя, главного обвиняемого обычно в живых не оставляют». А без Вас бы мы не догадались. Но что-то должно было измениться и дальше. Золотое шахматное правило: немедленная реализация полученного преимущества хуже его наращивания — действует и в жизни. Только терпение внутреннее и отсутствие такового внешне может помочь. Должен появиться Косуля. Если за единственной фразой письма, отправленного через администрацию тюрьмы, о том, что предупреждаю последний раз, последовали столь серьезные вещи, как перевод на спец и вызов к врачу, то адвокат боится по-настоящему, и, прежде всего слова письменного, — вот где ключ. И Косуля явился. Вертухай за дверью объявил «Павлов, слегка», и двинулись. Обычно на вызов собирают группу. Начинают с медсанчасти, потом спец, общак. Пройти по Бутырским коридорам — дело несколько иное, чем на Матросске, где коридоры глухие, так как камеры по обе стороны. На Бутырке большей частью камеры на одной стороне, а на другой — окна. Останавливаться у них не дают, но мимоходом взглянуть на улицу — тоже событие. Улица, правда, безотрадная, тюремные постройки из темного кирпича, решетки во всех окнах, безлюдье на дворе, как после мора, — радости не добавляют, но есть деревья, зимой мрачные как тюрьма и жизнерадостно зеленые летом. Легенды о тюрьме до сих пор живы среди арестантов. Говорят, когда Екатерине, велевшей построить Бутырку, докладывал архитектор, он сказал: «Ваше Величество, тюрьма для Вас готова» — за что был замурован в стену, где — до сих пор неизвестно. На Бутырке приводились в исполнение смертные приговоры. Тюрьма будто окутана темным облаком; я никогда не любил этого района Москвы и старался объехать сто-роной; если в городе солнце, то над Бутыркой обязательно хмурое небо. — «Иносказание» — скажет читатель. — «Спорить не буду» — ответит автор. Как бы там ни было, а пройти коридорами не то чтобы приятно, но что-то в этом роде. Мир арестанта сужен в пространстве. Для человека с интравертным характером мир и вовсе как бы исчезает вовне и выворачивается наизнанку внутри самого человека, отсюда и яркость представлений, острота переживаемого, понимание ранее недоступного, а также близость безумия, или, что гораздо точнее, сумасшествия. Оказываясь за тормозами на продоле, ты уже в другом мире. Ты научился чувствовать пространство, для тебя большая разница — видеть три метра замкнутого круга или перспективу, взгляд интенсивно отдыхает на продоле. Тот, кто пишет тюремные инструкции, знает это, поэтому вертухай постарается сократить твои небогатые радости, и станешь ты лицом к стене, пока он будет тебя шмонать. Потом руки за спину, пошли, говорить запрещено. В начале следующего коридора опять лицом к стене, пока не будет извлечен из преисподней очередной арестант. В эту минуту можно перекинуться парой слов с соседом; не замолчишь вовремя — получишь по башке дубинкой или кулаком в живот. По мере продвижения к следственному корпусу дисциплина ослабевает, лицо вертухая приобретает гуманное выражение, голос становится мягче: приближаемся к зоне действия закона. Но сначала всех рассуют по темным одноместным боксикам, в которых можно сидеть или стоять. Лучше стоять, потому что грязно. Здесь случаются невиданные послабления; например, если степень загрязненности боксика слишком велика (а некоторые экземпляры скрашивают досуг в боксиках занятием онанизмом), то можно указать на этот факт вертухаю, и он поместит тебя в менее грязный боксик. За пачку сигарет или в силу везения можно попасть вместо боксика в туалет. Там есть окно на улицу с дальней перспективой и сквозит через открытую форточку, что воспринимается даже зимой скорее как преимущество, чем как недостаток, и, главное, светло от настоящего света, не от лампочки. Отсутствие возможности сидеть для привыкшего стоять часами, а то и сутками, арестанта — беда небольшая. Так и стоишь, заточенный в сортире, на двери которого под шнифт подсунут талончик с твоей фамилией, смотришь в окно, думаешь, отчего ты не сокол, зачем не летаешь, радуешься жизни, одновременно готовясь к самому худшему: мысль о пытках не покидает арестанта никогда, потому что они не часты, но возможны. В хате рассказали, как увели одного «слегка», а забросили в хату уже без чувств, всего в крови; через несколько минут унесли, а потом по очереди всех вызывали к куму и ненавязчиво просили написать объяснение, что упомянутый арестант вёл себя неадекватно, бился головой об унитаз до тех пор, пока не умер. Кроме того, мусора имеют обыкновение, в случае недостатка доказательств, выдвигать сопутствующее обвинение: на всякий случай. Имеет место и надежда. Поскольку происходит движение, кто сказал, что оно не к лучшему. Смесь таких предположений серной кислотой разъедает душу, и лишь табачный дым твой друг и союзник.
Глава 24. ХАТА 211. ПЕРЕВАЛ
В кабинете Косуля и Ионычев.
— Вот Вы и отдохнули в институте… — растерянно молвил следак. — Ничего не поделаешь, будем работать дальше. Проведём допрос. Кстати, вам привет от Макарова.
Ясно. Попытка ухватиться за обналичку. Ею занимается 100 % существующих банков. Вычислить, с кем проводилась эта работа, легко, доказать — невозможно. Одна из сторон многогранного идиотизма российской финансовой системы заключается в запрете наличного расчёта между юридическими лицами и ограничениивозможности получать наличные деньги; следовательно, «чёрный нал» автоматически становится главным средством платежа, а наличность добывается обходными путями, формально незаконными. Не слишком весело обстоят дела у Сукова, если пошла речь о сопутствующем обвинении.
— Вам, Вениамин Петрович, тоже привет.
— От кого?
— От Васятки.
— Какого Васятки?
— Который плясал вприсядку. Я отказываюсь от показаний и отказываюсь разговаривать с Вами. Основания прежние.
— Алексей Николаевич! Вы уже пять месяцев в тюрьме, это довольно много, пора уже заговорить. Хотите, мы Вас переведём в Лефортово? Там условия мягче, в камерах полы деревянные. В обмен на показания. Вы же себя не очень хорошо чувствуете?
— Александр Яковлевич, — обратился я к Косуле, — с господином следователем я сегодня говорить не буду, а Вас попросил бы остаться. В Ваших же интересах. Или я ошибаюсь? Может быть, мне следует приступить к даче показаний?
— Это Ваше право, — ответил Косуля, и его брови зажестикулировали, как на голове у замурованного по шею.
— Ну и будете здесь сидеть ещё очень и очень долго, — обиженно сказал Ионычев. — А я к Вам приду только через полгода, больно надо мне здесь в очередях стоять.
Я закурил и сделал вид, что углубился в свои записи.
— И курить я запрещаю! — вскипел следак.
Затушив окурок в большой металлической пепельнице, которые есть почти в каждом следственном кабинете, я закурил новую, покачивая в раздумье головой над раскрытой тетрадью.
— Вы будете говорить?
— Не исключено, — мельком отозвался я, не подни-мая взгляда от тетради.
— Когда? — с недоверием и надеждой спросил Ионычев.
— Посмотрим, это от него зависит, — опять-таки изучая записи, я ткнул пальцем в сторону Косули.
— А давай сейчас! — с энтузиазмом воскликнул следак.
— Разве я похож на Вашу жену?
Ионычев схватил бумаги и вышел из кабинета. Установилось традиционное молчание. Первым заговорил Косуля:
— Алексей!
— Стоп, Александр Яковлевич. Кажется, Вы ничего не поняли. Я говорил ещё про одного адвоката? Говорил. До свиданья. Больше ничего общего у нас нет. В следующий приход Ионычева я приступаю к даче показаний.
— Я тебе клянусь, Алексей! — жарко зашептал на ухо Косуля, шурша целлофановым пакетом, — все будет хорошо! Тебя же перевели на спец, теперь ведём переговоры, чтобы на больницу в Матросскую Тишину, там сделают диагноз — и на суд, на изменение меры пресечения! Я надеюсь, ты здесь не писал заявления в суд? Это была бы большая глупость. Мы с таким трудом изымали твои заявления из Преображенского суда! На изменение меры можно ехать только с медицинской справкой и к своему судье. Алексей, ты должен потерпеть, у нас есть в Тверском суде завязки. Мы тебе дадим знать, когда писать заявление.
— Не стоит трудиться. Заявление написано и отдано в спецчасть.
— Когда?!
— Давно.
— Ты с ума сошёл! Ты должен отказаться! Пойми, только со справкой!
— Хорошо. Я откажусь, если буду уверен, что меня переведут на больницу. Немедленно. Завтра. И не позже. — Да нет в Бутырке больницы! А на Матросске очередь, надо ждать.
— Есть на Бутырке больница. Медсанчасть называется. Сто долларов в месяц стоит. Так что завтра. И не позже. Тогда и с адвокатом подожду. Но тоже не долго. А то вообще не стану ждать.
— А ты не боишься… — взялся за старое Косуля.
— А мне, Александр Яковлевич, по х.. . Не хотите — не надо. Прощайте.
— Ладно, Алексей, — будет тебе больница, — с угрозой согласился адвокат.
Я встал:
— Мне пора. Меня братва ждёт. Вы знаете, Александр Яковлевич, как много хороших людей я здесь встретил, и, представьте, некоторые уходят на волю, даже киллеры. У меня со всеми лады.
— Я знаю, — сурово отозвался адвокат.
На следующее утро меня заказали с вещами.
— Жаль, не успел я тебя развести, — сказал на прощанье военный переводчик, поблёскивая глазами.
— Ничего страшного, — посочувствовал ему я.
Итак, если на общак — я проиграл, если на больницу — победил. В любом случае, тесный контакт Косули с администрацией тюрьмы налицо, и его надо выжимать, как бельё после стирки, а точнее как выжимают меня. Косуля должен бояться днём и ночью, ежечасно, пока не выйду на волю, а там можно рискнуть даже жизнью, в первый же день уйду в бега.
Шли недалеко, спустились этажом ниже. С каждым поворотом арестант соображает, куда ведут, как будто это может, а так и кажется, повлиять на результат. На втором этаже деревянные в железе двери с двумя шнифтами. Надо думать, спец. Не худший вариант. Первый месяц на Матросске эти двери пугали как могила, сейчас же, против общака, чуть ли не зовут. — «Павлова в какую?» — обратился один вертухай к другому. Тот поглядел в карточку: «В два один один». — «В два одинодин? — изумился вертухай. — Может, не надо?» — «Надо, надо. Открывай». В отличие от всех дверей, кормушка этой хаты открыта, значит, хата чем-то отличается. Дверь гостеприимно открылась, мне предложили зайти. Сердце радостно подпрыгнуло при виде камеры в пять шконок, где было всего два человека. Бросалось в глаза несколько отличительных черт. Первое: в хате стоит большой импортный холодильник. Второе: есть тараканы. Третье: по хате скачет молодой кот. От сердца отлегло: явно привилегированная хата. Плевать на тараканов, не так их много, чтобы портили жизнь. Вот она — удача! На обитателей хаты я обратил внимание в последнюю очередь, переживая радость и удовлетворение от происшедшего движения. Ясный перец, не каждому балдеть в таких условиях. Двое не замечали меня, разгадывая кроссворд. Один явно из серьёзных, скорее всего убивец. Другой непонятен. Какой-то пухлый полуинтеллигент с налитыми кровью глазами. Если бы не совершенно трезвый взгляд первого, второго сразу можно определить как сумасшедшего, а хату за одну из тех, где ожидают Серпов оригинальные экземпляры. Егор на Серпах рассказывал, как перед экспертизой сидел на спецу с полусумасшедшим, который сам себе писал малявы от имени Вора, пуская их по кругу по тюрьме, вёл себя агрессивно, лечился уринотерапией, используя для этой цели общаковский кипятильник, и старался научить пить мочу остальных. Я отрекомендовался: Павлов, дескать, с хаты 318, перед тем 06 общак, ранее серповой, 94 общак, Матросская Тишина 135 общак, 228, 226 спец, статья 160.
— А здесь тебе чего надо? — спросил пухлый и в упор посмотрел на меня огромными красными нечеловеческими глазами, и от этого взгляда закралось сомнение в приобретённом благополучии. — Я тебя спрашиваю, что тебе здесь надо? Ты что, больной? Зачем тебя сюда прислали?
— Больной — это вряд ли, скорее — болен, — ответил я, соображая, что бы значила столь странная речь.
— Чем ты болен!? — лицо пухлого стало наливаться кровью и приобретать черты бешенства. — Присылают тут всяких…
Во попал. Псих стопроцентный. Ровным голосом излагаю, что знаю о собственном здоровье.
— Так ты, значит, лечиться хочешь… А ты знаешь, куда ты попал?
— Нет. Надо полагать, на спец.
— Какой спец!? Больница это! Присылают тут больных всяких! Что у тебя не болит? Все болит? А печень у тебя здоровая?
— Да, печень в норме.
— Хорошо-о-о, — выдохнул пухлый, переходя от бешенства к полнейшему удовлетворению. — Печень я люблю. — При этом в руке у пухлого появилась весьма серьёзная заточка, и не заточка вовсе, а настоящий охотничий нож.
— И мозги люблю, — продолжил, облизываясь, пухлый. — На крытой мент в хату зашёл, я его башкой об угол, череп разломил и, как арбуз, сожрал! — от сладострастного восторга у пухлого потекли слюни. — Вкусный был стукачок!
— Во-первых, — говорю, — я не стукачок, а во-вторых, моя печень невкусная.
— А ты почём знаешь?
— По том, что не стукачок.
— Да? Ладно, посмотрим, — убрав за шконку заточку, сказал пухлый. — Вот сода в банке — оттирай раковину.
Повертев в руках пластмассовую банку, я задумался. По ходу, хата мусорская, последствия непредсказуемы. Надо осмотреться, выиграть время, обдумать положение. Хата покачнулась со звоном, мысль заработала ясно и быстро. Что случилось?! Да это же был удар. В затылок. Сильно ударили, но чем-то мягким и упругим, как резиновым кулаком.
— Я тебе что сказал — чисть раковину! — зашипел за спиной пухлый.
Ладно. Почищу. Убить тебя, сука красноглазая, я всегда успею. А покуда терпения хватит, я буду терпеть. На сколько хватит, увидим. Если суждено всему закончиться здесь, значит, так тому и быть. На продоле обозначилось движение, в кормушке мелькнул камуфляж, открылись тормоза, в камеру гуськом зашли пятеро новеньких с воли, что было очевидно по их перепуганным лицам. Один парень выглядел спокойным, и красноглазый обратился к нему:
— Ты какой раз в тюрьме?
— Второй.
— А эти пассажиры, надо думать, первый, — констатировал пухлый. — А ну, брысь отсюда! Чтоб вас слышно не было! Поубиваю на х..!! — вид у пухлого был кащенский. Народ сбился в кучу у тормозов.
— Не прикасаться к моему унитазу! — заорал пухлый. — На проверке чтоб духу вашего здесь не было! Вы мне здесь и на х.. не нужны! А этого, — злорадно указал на меня, — я оставлю, мы с ним в особые отношения вступим. Да, Абдулла?
— Да, Коля, посмотрим, что это за товарищ Сухов, — отозвался молчавший до этого предположительно убивец.
— Снимай ботинки, урод! — заорал с трясущимися от ярости руками Коля на бледного от страха первохода. — Они не твои, а мои! Поди, пятьдесят баксов стоят. Ты, сволочь, что, такие бабки — заработал? Это я их заработал! — Парень стал спешно развязывать шнурки.
— Ну его, — возразил Абдулла. — Зачем тебе его ботинки. Впрочем, как хочешь.
Коля метался по камере, готовый растерзать того, кто пошевелится. Но никто не шевелился. Оттирая раковину содой, я размышлял. Надо уходить. А это значит не что иное, как выломиться. Кем теперь ты будешь в своих же глазах, да и в глазах арестантов. Если это больни-ца, то здесь она и закончится, далее сборка и, видимо, общак; Косуля скажет — сам виноват, в лучшей камере не удержался. Если оставаться, то нужно быть готовым остаться навсегда или с тяжёлыми последствиями; тогда Косуля скажет — сам виноват, что не ушёл. Коля псих, и его руками могут сделать все, вплоть до того, что я стану убийцей или покойником. Сегодня, здесь и сейчас. Ты готов к этому? Сейчас, когда замаячил вдали свет свободы, когда появилась уверенность в победе — и где она теперь? А потом будешь рассказывать, как ты не выломился, а вышел из хаты, что в два один один беспредел, и т.д., и останешься ты навсегда насекомым, которое когда-нибудь на свободе будет рассказывать, как мотал срок на Бутырке, скромно избегая маленького неприятного воспоминания. Вот что такое мусорской ход, господа.
Открылись тормоза:
— У вас все в порядке?
— Да, в порядке, — отозвался тот, что второй раз на тюрьме. — Пошли, старшой, на сборочку. — И молодёжь как ветром сдуло на продол.
— Эй, забери свои шлепацы! — швырнул ботинки вдогонку Коля. — А ты, старшой, завязывай их ко мне подселять. Тебе же хуже будет, ты знаешь — я за себя не отвечаю.
— Все вышли? — осведомился старшой, глядя на меня. — Есть ещё желающие? — старшой медлил и не закрывал дверь. — Я спрашиваю, кто ещё выходит.
— Ну, иди, — обратился ко мне Коля. — Иди, иди. Что ты стоишь?
Старшой не сомневаясь ждал.
Когда тормоза закрылись, Коля стал молча ходить по камере. Минут через десять, спокойным голосом:
— Ты не боишься?
— Нет, Коля, не боюсь.
— А если я тебя убью?
— Не убьёшь.
— Почему?
— Не за что.
— А мне не надо, чтоб было, за что, — Коля ухватился резиновыми пальцами за ворот моей рубашки, одновременно наливаясь не злобой, а именно приходя в ярость, и замахнулся другой рукой для удара:
— Башку расшибу. — И в это можно было поверить.
Трудны сомнения. Принятое решение все упрощает. Сказать, что было страшно? Нет. Было сожаление, что все закончится столь банально, бездарно и не слишком оптимистически. Глядя на занесённый кулак, можно было предположить два варианта сценария. Естественная реакция или непротивление злу насилием. Решение было такое: как получится. Время замедлилось. Оно всегда замедлялось перед кульминацией спарринга, т.е. когда происходила решающая сшибка — две-три секунды, в течение которых получалось, что кто-то победил. Все движения, чужие и свои, в эти мгновения становились как в замедленном кино, и было время на размышление, выбор действия. Каждая тренировка, а их было за неделю шесть, заканчивалась двухминутным боем. В каратэ нет весовых категорий. Когда мне однажды достался в соперники неожиданно тяжёлый по весу и жёсткости каратэк, не было ясно, какую взять тактику. Решение было такое: как получится. Медленно пущенная стрелой нога соперника ударом майя-гири достигла цели: самой болевой точки — паха. Собственные движения оказались на йоту медленнее, блок гидан-барэ запоздал. Так же медленно стала появляться боль. Ещё одного мгновения хватило, чтобы блок перевести в захват ноги соперника, пойти на сближение, сделать заднюю подсечку и — замедленное кино оборвалось. Соперник со стокилограммовым грохотом ударился спиной об пол, а я уже ничего не мог с собой сделать: в непреодолимой ярости кулак врезался добивающим ударом в упругий лоб лежащей на полу головы. Способность продолжать бой потеряли оба. Победитель не был определён. Все вспом-нилось в деталях. Все в том же замедленном пространстве, не выпуская из поля зрения все тело соперника, я сосредоточил существенную часть взгляда на лице Коли, не фокусируя внимания на его глазах, и отрешённо заметил ему: «Все, Коля, хорош». Колина рука ослабла, и время вернулось в обычный режим. Коля куда-то боком стремительно двинулся к решке, будто его оттолкнули, что-то поискал, не нашёл и быстро заговорил:
— Виктор, сыграй с ним в шахматы, на сто баксов, а ты, как там тебя зовут — Алексей? — ты будешь за дорогу отвечать, у нас дорога только к соседям вправо, и за котом убирать, он у меня умный, я его воспитал по-вольному, он не знает, что такое тюрьма, вон тряпка около унитаза, он на неё ходит, и не серди меня, это может плохо кончиться, я прямой потомок графа Орлова, меня вся больница знает, а вот ты кто такой, чего тебе в тюрьме надо?
— Порядочный арестант, заехал случайно.
— Пассажир ты, а не порядочный арестант!
— Одно другого не исключает.
— Ишь наблатыкался. А что же ты, порядочный арестант, как настоящий мужчина, не ударил меня в ответ?
— Ты, Николай, человек горячий. Я, наверно, тоже не холодный, но быть скорпионом в банке не хочу.
— Да? А где была твоя принципиальность в жизни! — стало ясно, что дуэль перешла в словесное русло.
— На месте. У меня с этим все в порядке.
— Врёшь! Ты всю жизнь врёшь!
— Нет, Николай, не вру.
— Врёшь. Кем ты работал на воле?
— Много кем.
— Вот уже и врёшь. Ты вообще не работал.
— Как тебе, Николай, будет удобнее.
— Как мне будет удобнее? Это ты сам сказал. А если мне будет удобнее твою печень съесть?
— Ни в чем себе не отказывай.
Коля повёл глазами по широкой орбите и вдруг за-думался. Это открытие сделал давным-давно один мой знакомый. Многолетняя практика доказала, что фраза «ни в чем себе не отказывай» задевает за живое абсолютно всех. Ещё одно гипнотическое её свойство — она лишает энергии. Попробуйте — и убедитесь сами.
— Так кем ты был по воле? Конкретно.
— Конкретно много кем. Например, учителем русского языка и литературы.
— Чего-чего?!
— Учителем русского языка и литературы средней школы.
— Это когда?
— Давно.
— В советское время?
— В советское.
— Это ты учил нас любить Родину и партию, когда меня на новогоднюю ёлку не пускали за то, что я старовер? Когда я, глотая слезы, с улицы в окно смотрел, как другие веселятся? Это ты не врёшь?! — затушенный пожар разгорался опять. — Это не врёшь ты, у кого не было и нет совести и чести?!
— С совестью и честью — это несколько громко, Николай. Советская практика показала, с этим, думаю, ты согласишься, что как раз тот, кто говорит о совести и чести, чаще всего не имеет к ним отношения. Мне стыдиться нечего, кроме собственных заблуждений, а заблуждается каждый, кто-то иногда, кто-то всегда. Учителем я долго не был, и чем-чем, а заблуждениями советской идеологии, к счастью, почти не страдал. Так что, Коля, здесь ты неправ.
— Я всегда прав, — отрезал Коля, выслушав такое возражение почему-то с явным удовольствием. — Давай, садись к столу, посмотрим, что ты за игрок.
— На сто баксов, братан! — активизировался Абдулла-Виктор.
— Нет. Без интереса. Или не играем.
— На сто баксов, я сказал.
— Нет. Ста баксов у меня нет. Играть не буду. Вот, хочешь, баул могу поставить, — я притянул грязную, как у бомжей с помойки, сумку.
— Фу, — с отвращением поморщился Коля, достал большой чистый полиэтиленовый пакет, протянул мне, — на, возьми, а этот выкинь на проверке. Гулять мы не ходим, а мусор вынести можно.
— Ладно, — смягчился Виктор, — если я проиграю — выполняю твоё желание, ты проиграешь — выполнишь моё.
— Хорошо, Виктор, как скажешь, так и будет.
— Я играю белыми.
— Давай, Виктор, ни в чем себе не отказывай. — при этих словах Коля заинтересованно обернулся в нашу сторону и чуть недоуменно улыбнулся.
— Где ж так давали, — ответил Виктор-Абдулла и двинул пешку вперёд, и это бесповоротно означало, что я ступил на самую опасную тюремную стезю.
Когда белый король получил мат, Виктор потребовал исправить случайность. Когда он проиграл седьмой раз подряд, я предложил прерваться. Виктор согласился:
— Ладно, завтра продолжим. Куришь?
— Курю.
— А что весь день не курил?
— С вами покуришь. То знакомиться, то в шахматы. А то, может, и курить нельзя?
— Можно. Кури. Николай не курит, я курю.
— Николай, ты не против, если курильщиков будет двое?
— Кури, кури. Тому, кто в хате убирается, в сигаретах отказать нельзя.
— Так, значит, убираться мне не только за котом. Ладно, это я тоже переживу.
— Как, Виктор, насчёт желания.
— Мы же шутили, братан. Ведь шутили?
— А ты сомневаешься?
К вечерней проверке привычно захлопали издалитормоза, застучали по решкам и шконкам деревянные молотки. Виктор и я встали с руками за спину. Вошедшего проверяющего Коля встретил сидя по-турецки на шконке под решкой.
— Почему не встаёшь? — зловеще спросил проверяющий.
— Не хочу, — ответил Коля. Проверяющий сделал движение, но был ухвачен за рукав вторым вертухаем:
— Оставь его, не надо, пусть сидит, я тебе потом расскажу. Кто выходит из хаты? Ты выходишь? — глядя на меня, спросил вертух.
Я не ответил. Тот подождал, помялся у двери и закрыл её.
— Николай, ты по какой статье заехал? — поинтересовался я после столь дивной картины.
— Людоедство.
— А ты, Виктор?
— У меня бандитизм и убийство, но это они не докажут.
Наступило затишье, разгадывание кроссвордов, ужин, приготовленный Колей из совершенно нетюремных продуктов, извлечённых из холодильника. Дискуссия продолжалась почти вяло:
— А все-таки, что же ты мне не ответил на удар? — сказал Коля.
— По воле разберёмся.
— А если я тебя за такие слова ударю?
— То я не отвечу.
— Нет, Николай, — решительно покачал пальцем Виктор. — Нельзя. Я все понял. Алексей — это камень. Этот камень его и утянет на дно. Но не здесь.
— А мне до фонаря, — без какой-либо горячности отозвался Коля, причём красные глаза его постепенно сделались карими. — Я все могу. У меня костей нет в руках, а я могу делать что угодно. Не веришь? Врачи тоже не верят. Рентген сделали, а все равно не верят.
Оставалось только согласно кивнуть головой, нельзя будоражить больного.
— И полчерепа у меня из пластика. Меня когда в лимузине взорвали, была груда мяса. Но у меня энергия такая — я регенерируюсь.
Я кивнул.
— Как ты думаешь, Алёша, может кисть человеческая работать без костей?
— Не знаю, Николай, тебе виднее, — попытался уклониться я.
— А ты попробуй, — вкрадчиво сказал Коля, — не стесняйся, — и протянул мне руку: «Жми сильнее, щупай, ломай, не бойся».
— Я не боюсь, — холодея ответил я: на ощупь в кисти руки кости отсутствовали. Медленно закружилась голова в страшных предположениях: сошёл-таки с ума; гипноз; психотропные препараты?.. Нет, ничего подобного, кажется, нет. Налицо факт: костей в руке нет.
— Я не человек, — продолжал Коля. — Вернее, человек, только без ограничений. Знаю пять языков, в том числе язык инков, денег у меня одиннадцать триллионов долларов, яхта, банк; я могу добиться всего, чего хочу.
— Почему же ты в тюрьме? — поинтересовался Виктор.
— Я, как настоящий мужчина, рождён для испытаний и всегда добиваюсь своего. Я потомок графа Орлова. Смотри — похож? — Коля повернулся в профиль.
— И правда, похож, — соврал я.
— Вот, — довольно согласился Коля. — А пацан у меня умница, я его воспитал, как человека. Куклачёв мне в подмётки не годится: он к кошкам как к животным относится. А кот — это воплощённая идея. Как человек. Мальчик мой, иди ко мне, — не меняя тона, позвал кота Коля. Задорный кот, весь день носящийся по хате, летающий по шконкам и неустанно развлекающийся ловлей тараканов, стремительно оторвался от своих затей и оказался на коленях у хозяина.
— На, поешь, — Коля дал ему с руки кусок мяса. — А теперь иди. — Кот спокойно слез на пол и пошёл по своим делам.
Ужин закончился, разговоры утихли. Я лежал на нижней шконке и размышлял о многообразии мусорского хода. Через несколько часов Коля обратился к Виктору:
— А ведь Алёша мне не верит. Я видел, как он мне не поверил, когда я сказал, что кот приносит мне брошенную палочку. Придётся пожертвовать веником. Лёша, оторви от веника несколько прутьев, нарежь десяток палочек. Вот, ножик возьми. — Я аккуратно взял нож так, чтобы не остались отпечатки пальцев, и сказал, что обойдусь без него.
— Не верит, — подтвердил Коля.
Приготовленные палочки я отдал ему, а он тут же про них и забыл, к моему душевному облегчению; совершенно не хотелось выслушивать, что кот не в настроении или устал. Более всего устраивало отсутствие приступов психопатии в хате. Разговор ушёл в дебри, в которых имели место философия вперемешку с фантастикой и элементами шизофрении и интерес к тому, сколько у меня денег, знаю ли я кое-кого из Минфина, братвы и т.д. Коля оказался верующим, субъективным идеалистом крайнего толка, похлеще чем Беркли, и, быть может, действительно не человеком.
— Смотри, — поменял тему Николай. — Пацан, принеси-ка мне эту палочку, — обратился он к коту и бросил кусок прута к тормозам. Кот сорвался с места и, урча и улыбаясь, пришёл назад с палочкой в зубах. Подошёл к Виктору, поднял морду, потом ко мне, поступил так же, после чего пошёл к Николаю.
— Правильно, молодец, Вите показал, Алёше показал, теперь отдай папе, — кот почтительно положил палочку перед Николаем.
— Как зовут кота? — спросил я.
— Никак. Кот. Он рождён свободным и в имени не нуждается.
Палочки Коля швырял на шконки, под шконки, на подоконник под решёткой, и кот исправно их приносил. Если Коля говорил, что добычу нужно показать только Виктору или мне, кот так и делал. И так далее. Коля передал мне один прут и предложил поговорить с котом. Брошенный мной прут кот принёс, но, не взглянув ни на кого, — Николаю. Засыпая, я был склонён предполагать, что если не разума, то рассудка все-таки лишился. Частичное подтверждение тому явиться не замедлило. Лёжа на спине, я подумал, что учёный кот может затеять игру со мной, залезет под шконку и из-под неё цапнет меня когтями за правый глаз. Поэтому я закрыл правый глаз ладонью и попытался заснуть. Не удалось. Потому что вскорости по ладони, закрывающей глаз, настойчиво застучала из-под шконаря упругая кошачья лапа. Йод в хате был.
Более длинных тюремных суток до сих пор не было.
На другой день вызвали к врачу, и сомнения рассеялись: это больница.
— Какие лекарства от головы принимали на воле? — приветливо осведомилась женщина в белом халате.
— Циннарезин, кавинтон.
— Циннарезин у нас есть, — обрадовалась женщина и не без гордости открыла створку шкафа, где на полке лежали зеленые упаковки лекарства.
— У врача был? — спросил Коля. — Чему так радуешься?
— У них есть циннарезин, это то, что мне нужно.
— У них есть нужное тебе лекарство, и они тебе его дадут? — глядя как на психически нездорового переспросил Коля, стараясь убедиться, не ослышался ли он.
— Да, именно так.
— Ты в это веришь? — лаконично усомнился Николай.
После того, как в течение нескольких дней Виктору, Коле и мне раз в сутки передавали «лекарства», а именно по одной таблетке глюконата кальция в день каждо-му, несмотря на то, что, например, заболевание Виктора — сломанное ребро, — стало понятно, что в Бутырке в среднем по больнице температура нормальная. Заглянула в кормушку главврач и передала Коле цветок в маленьком горшочке:
— Глядите за ним, а то завянет.
— Не завянет. Мы в ответе за тех, кого приручили.
— Кто это сказал — знаете?
— Конечно. Маленький Принц Лису.
Тётенька улыбнулась, кивнула и ушла.
Ха-рошая х…., как говорил один мой знакомый…
Пошли в баню. — «Ты там поаккуратней, старайся кожу не повредить, не поскользнись ненароком, а то ходишь скрюченный как саксаул. Там и спидовые, и тубики, и гепатитчики моются. А то и менингит бывает. Это вообще смерть на месте. Мыться будем сколько хотим, но стирать вещи лучше в хате — безопаснее» — наставлял Коля. В банный день обитатели больничных хат пересекаются на продоле и в самой бане. Завидев Николая, некоторые арестанты вжимали голову в плечи, а некоторые уважительно приветствовали, а он шёл с тростью(!) прихрамывая и надменно смотрел вперёд:
— Сегодня опять два один три не вышла в баню. Ничего, я их достану.
Когда на решке идёт разговор, нельзя ругаться, оскорблять, глумиться, решка — это дорога голосом, а дорога — это святое, но иногда народ срывается. Кто-то из хаты 213 непочтительно поговорил с Колей на решке и отказался назвать себя, за что Коля обещал покалечить всю хату. Вчера оппонент кричал в ответ о понятиях, а сегодня хата не вышла в баню в полном составе.
Так потекли спокойные дни. Изредка Коля взрывался, но уже в дискуссиях с Виктором, и было это нестрашно, потому что Николай стал обыкновенным сокамерником. Согласие с его некоторыми невероятными утверждениями, каких было множество, и спокойное отрицание того, что я не приемлю, постепенно уравнялонас в правах, а когда Коля молча взял тряпку, вымыл пол и убрал за котом, я его про себя простил.
— Знаешь, что было бы, если бы ты тогда на проверке вышел из хаты? — сказал как-то Николай.
— Знаю.
— Нет. Не знаешь. Пошёл бы прямиком к петухам, и в….. бы тебя по беспределу. Но теперь тебе нечего бояться. Во всей тюрьме тебя никто не посмеет тронуть.
Вдаваться в подробности я не стал. Сигарет было вдоволь, их подгоняли Коле через решку в знак уважения. Еды вдосталь. Подоспела и мне передача, холодильник был забит. Не хватало прогулок, но одного в хате не оставляют и гулять не пускают, а Коля на этот счёт был в полном отказе. Глядя как Виктор проигрывает одну партию за другой, Коля сел сыграть со мной. Более странной логики игры я не видел. Это была бы паранойя, если бы не результат: выиграть удалось с большим напряжением. Во время игры началась проверка. Открылись тормоза, Виктор встал перед проверяющим. — «Сиди, не вставай, пошёл он на х..» — сказал мне Коля. Вот тебе и на. — «Нет, я встану» — возразил я.
— Все на коридор, — скомандовал старшой. Мы с Виктором вышли. В хате последовал диалог:
— Пошёл на коридор!
— Я не пойду.
— Пойдёшь.
— Если я пойду, то ты пожалеешь.
— Ах, так? Ну, ладно, сиди. Посмотрим, кто пожалеет. Почему у тебя трость?
— А я больной. Мне разрешено.
— Кем разрешено?
— Главным врачом.
— Я проверю. Заходим в хату!
На следующий день после столь невероятных для Бутырки событий меня заказали с вещами.
— У тебя, говоришь, срок содержания под стражейистек? — сказал Виктор, — давно?
— Две недели.
— И продления не было?
— Нет.
— Хозяину заяву писал?
— Писал.
— На свободу идёшь. В девять утра освобождают. Все-таки нелегко на свободу людей провожать. А мне сидеть и сидеть. Выйдешь, загони мне блок кубинских сигарет.
— Да, похоже, на свободу, — согласился с Виктором Коля. — А все-таки он участвовал! Его, наверно, просто кинули. Ладно, Алексей, если вдруг не на свободу, отпиши. Сюда, правда, малявы с общака долго идут через перевал, но — будет в чем нужда, поможем, чем можем.
— Какой перевал? — переспросил я, пропустив мимо ушей слова о моем участии.
— Хата на спецу. Там мульки все в одном месте собираются. Ответственное место.
— Думаешь, отправят на общак?
— Не знаю. Может, через час будешь водку пить и петь «па-а тундре…».
Водку пить через час было не дано. Как только вышел на продол, кормушку хаты 211 захлопнули. Наискосок напротив были распахнуты двери. Рано утром там было слышно серьёзное движение, кого-то пиздили не по-детски, кто-то орал не своим голосом, по продолу летали со звоном шлемки, неистово матерились вертухаи. — «Иди туда» — тихо сказал старшой. В хате на пять шконок было пусто, не считая грязной занавески у дальняка. У дубка маячил двухметровый субъект, его вещей не было видно. На шконках ни одного матраса, голый металл, холодно, не то что в два два один. На свободу я уже не надеялся, поэтому переход в другую хату лишних нервов не истребил. Напротив, с радостью отметил, что остался в том же коридоре, т.е. на больничке. Общение с Колей осточертело, запах свободолюбивого кота яуже ненавидел, сытая жизнь без прогулок в два один один обрыдла и, наконец, закончилась, а главное, очередной мусорской ход потерпел неудачу. Коля, конечно, может написать куму какую-нибудь хрень, но не он, так кто-нибудь другой, главное — никто теперь не скажет, что я сломился с больницы. То есть на душе был праздник и уверенность, что когда-нибудь все будет хорошо. Кажется, это была хата 216, но это уже не важно.
— А где остальные? — поинтересовался я у субъекта, на радостях протянув ему руку. — Меня зовут Алексей.
— Меня Гоша, — ответил тот и уклонился от рукопожатия.
— Один в хате?
— Не-е, — проблеял Гоша, — их всех на сборку забрали, а меня — нет!
— Так это у вас с утра шум был?
— Да.
— За что всех забрали?
— Я и сам не знаю, — глядя вбок, ответил Гоша. — Меня тоже вызывали и опять сюда привели.
— Что хотели?
— Да кто их знает.
Мутный субъект. А ну-ка, внимание. Радость в тюрьме — первый признак перемены к худшему. Как говорится, солнечная погода — это к дождю.
— Ты, Гоша, на какой шконке отдыхал?
— На этой, — Гоша указал на ближнюю к тормозам верхнюю.
— Дорога есть?
— Да я туда и не подходил.
Я занял место под решкой, закурил и стал ждать, какие будут движения.
— Гоша, курить будешь?
— С удовольствием, — отозвался Гоша, подошёл и потянул пальцы к моей пачке.
— Стоп, Гоша. Не горячись, — я достал сигарету и положил на соседнюю шконку.
— Только у меня спичек нет.
Я зажёг спичку, Гоша повёл ладони к сигарете. Жест порядочного арестанта — прикрыть ладонями поднесённый огонь, касаясь руки того, кто держит огонь. Отведя горящую спичку в сторону, я дал понять, что прикосновение нежелательно. Гоша убрал руки за спину и прикурил. В отношении него ясность возникла полная.
Глава 25. РАДОСТЬ БЫТИЯ
В камере было пусто и тихо. С потолка бесшумно падал жёлтый свет лампочки. Сквозь брешь в разогнутых ресничках на решке мерцал белый день. Чёрный металл шконки под решкой, из которой сквозила подступавшая с воли осень, источал равномерный холод. Взгляд повсюду наталкивался на пожелтелую бумагу, которой были оклеены стены и тормоза. Кажется, именно тогда, вдыхая горячий табачный дым, я почувствовал радость бытия. Дальнейшее пребывание в заведениях с выразительным именем «ИЗ» было отмечено именно этим чувством, несмотря на многие разочарования и лики безнадёжности и смерти, ещё ожидавшие меня впереди. Размышляя о том, какие будут движения дальше, в лучшую или худшую сторону, я ждал. Немного погодя стало понятно, что произошло: исчез страх. Как не было. Ни перед чем. Дальнейшие события подтвердили: арестант, победивший страх, побеждает время.
В камеру стали заходить возбуждённые люди. На семь шконок получилось шесть человек. Королевский расклад. Никто ни с кем не знакомился, из чего следовало, что восстанавливается прежний состав. Невысокий дружелюбный парень, расположившись на соседней шконке, заметил мне: «До этого я занимал твоё место». Брошенная как бы невзначай фраза решала для моего положения в хате решающую роль. Чувствовалось, чтоот моего ответа будет зависеть что-то важное. Достав пачку сигарет, я жестом предложил закурить, положил пачку на дубок, что означало: для всех, и тоже невзначай ответил:
— Можем поменяться.
— Да нет, какая разница, — ответил парень. — Вот только Васька должен сегодня с суда вернуться, он тоже у решки отдыхал. Меня зовут Александр.
— Алексей. — Тут я обратил внимание, что на одну из трех одинарных шконок у решки до сих пор никто не претендует. — Ну, так здесь и будет отдыхать.
— Я из один ноль один. А Васька классный парень. Раньше в нашей хате на общаке был, потом его тусанули, а здесь вот снова встретились.
— Познакомимся, — согласился я. — Давно на тюрьме?
— Полгода.
— Значит, были соседями. Я на общаке в девять четыре был.
— Кипеж при тебе был?
— Нет, я ещё до кипежа на Серпы через малый спец съехал.
— А потом?
— Потом ноль шесть, три один восемь, два один один. Признаться, я лишь краем уха слышал, что в девять четыре что-то было. В ноль шесть дороги не было: строгая изоляция. Люди ходили «слегка», говорили.
— Да, из девять четыре кого-то, говорят, даже вынесли. Заточку потом нашли, но чья, не знают.
Это означало, что в камере 94 кого-то зарезали. Ещё при мне зашли в хату амбициозные кавказские ребята, и у решки начались серьёзные разногласия, атмосфера наэлектризовалась, воздух пропитался ненавистью. Тяжёлая была хата.
— И что теперь?
— Раскидали хату. Кое-кого на спецу спрятали. Воры решили, что с виновных будет спрос. Конфликт былна почве национальностей. А ты что, не в курсе? Кроме ноль шесть, дорога везде есть.
— Да, Александр, это правда. Проблемы были. Я даже не в курсе, кто из Воров сегодня на тюрьме.
— Что за проблемы.
— После Серпов крышняк сполз, глюки подрезали. Сейчас порядок, духом здоров, болею телом. К тому же на спецу, сам знаешь, какие движения. Что на тюрьме? Расскажи.
— Воров пять. С Общим проблема: на воле кризис. Тюрьма голодает. Ты и этого не знаешь?
— В два один один полный холодильник. А что на воле, так с самых Серпов телевизора не видал.
— А почему ты так часто с хаты на хату переезжаешь? До Серпов где был?
— На Матросске. Сначала 228 спец, потом 226, потом общак — один три пять.
— Кто был смотрящий на общаке?
— Юра Казанский.
— Это фамилия?
— Как у большинства — по месту жительства: Казанский — значит из Казани.
— А кто смотрел за корпусом на спецу?
— Измайловский. За нашим крылом — Серёга Аргентинец. Потом прогон был, Аргентинца сместили.
— На общем корпусе где собирали общее?
— В строгой хате. Один ноль четыре.
— Дорога на больницу была?
— По четвергам БД со спеца, как раз из хаты 228, и ноги.
— Какие ноги?
— Мусорские.
— Все верно. Почему на спецу хаты менял?
— Порядочный арестант хаты не меняет. Срок — разменивает. В 228 за пьянку всю хату тусанули, на общак — за голодовку, с общака на Бутырку — видать, по месту жительства, а может прокладка мусорская. С 94 в34 — перед Серпами, в ноль шесть — после Серпов. В 318 — крыша поплыла. В 211 — на больницу. Почему сюда тусанули, не знаю.
— Сколько голодал?
— 10 суток.
— Всухую?
— Нет, пил воду.
— И все?
— Все.
— Засчитали?
— Да.
— И в голодовочную хату не перевели?
— На Матросске нет такой хаты. Хотя, по закону, и должна быть.
— Здесь есть. И чего — десять дней ничего не ел?
— Да.
— Не может быть.
— Через судовых на Матросску отпишем?
— Да нет. Это я так. Верю. Что со здоровьем?
— Башку мусора отбили при задержании, с позвоночником проблемы.
— Я и гляжу — тяжело двигаешься. На прогулку-то ходишь?
— Давно не был. Пошёл бы с удовольствием.
— Дойдёшь?
— Если не погонят бегом, дойду.
— Здесь не погонят. Завтра пойдём. Поможем, если что. Если, конечно, никаких таких движений не будет. Мы только что со сборки. Все из-за этого козла, — Саша указал на Гошу, тусующегося у тормозов.
— Накосарезил?
— Ты в хату зашёл — он уже был или ещё нет?
— Был.
— Здоровался?
— Не за руку.
— Правильно. Петух он. По воле пиздолизом был — сам рассказал. Мы ему: «Нырял в пилотку?» А он: «Ны-рял, а что тут такого?» Мы его с Васькой на дальнячке и оприходовали. А он — жаловаться!
— Понятно, — констатировал я, а Саша воспринял это как знак согласия.
— Что, сука, мечешься? — негромко обратился Саша к Гоше и пошёл к тормозам.
— Да я ничего, я не говорил, — засуетился Гоша.
Саша не спеша взял истёртый до черенка грязный веник и со всей силы звонко залепил Гоше по морде и вдруг, потеряв самообладание, завизжал и стал метелить веником Гошину физиономию так, что был слышен только частый треск. Гоша, зажмурившись, терпел, возвышаясь в полроста над Сашей.
Когда ж, — удар, — ты, гад, — удар, — ты настучать, — удар, — успел! — удар.
Бросив веник, Саша вернулся к дубку и спокойно продолжил:
— И штырь сразу нашли. Прикинь, на полметра, металлический и заточенный. Подкинули. А Ваське досталось. Ему и так мусора челюсть сломали, он на больницу из-за этого и попал, а тут по башке не били, а ниже хватило. Васька вообще отрицалово. Классный парень. Придёт сегодня, познакомитесь. С ним весело.
— У нас на Серпах на шмоне тоже заточенный штырь отмели, я сам видел. А там не то что штырь, карандаш не пронесёшь. Это у мусоров дежурная прокладка.
— Во-во, — обрадовался Саша, — а на Ваську все свалили. Все из-за этой петушьей рожи. А нас кум конкретно под статью вёл: изнасилование. Какое тут изнасилование, если он пиздолиз и ломовой. Он из хаты сломился, а его на больничке спрятали.
Гоша у тормозов взволнованно вытирал кулаками сопли. Саша бережно достал из пачки сигарету:
— Эй, ты, держи! — Гоша сигарету поймал на лету.
— Большое спасибо! Можно попросить у вас … прикурить… Большое спасибо! — Гоша приник к сига-рете и пошёл к тормозам.
— Александр, а чего он такой вежливый?
— А у него, видите ли, высшее образование.
— Гоша, это правда?
— Да, — охотно отозвался Гоша, — я немного учился, а диплом купил. Давно это было.
— По воле чем занимался?
— Бомжевал он, — ответил Саша. — Квартиру пропил, жену бросил, ушёл на улицу.
— Я не бросил, — отозвался Гоша.
— А ты вообще молчи, — рассердился Саша и, строго глядя, как воспитательница в детском саду на провинившегося ребёнка, добавил: — Что? Хочешь, чтоб было как вчера на дальняке? Да? Хочешь?
— Нет, не хочу, — вежливо и убеждённо ответил Гоша.
— Смотри у меня. Вот Васька с суда приедет, он тебе жопу порвёт.
Гоша заволновался опять и полез на шконку, после чего несколько часов его как не было.
— А что же ты, Алексей, — медленно раздражаясь, как будто что-то вспомнив, продолжил Саша, — не говоришь, кто из Воров был на Матросске?
Снова почувствовалась скрытая опасность. Весь предыдущий диалог был направлен на поиск слабого места в моей тюремной биографии. Но, во-первых, это была вполне приличная биография, а во-вторых, Саше с трудом давался разговор.
— Ты, Александр, не интересовался. А из Воров был Багрён Вилюйский.
— Ты не умничай! — закричал, наконец сорвавшись, Саша. — Не интересовался! Это ещё надо проверить, почему ты из хаты в хату переходишь! Дороги не знаешь! Порядочным арестантом прикидываешься! — И так далее. Началась форменная истерика, грозящая дракой. Все в камере притихли. Выждав, я поймал первую же паузу и жёстко, убеждённо, спокойно и громко отве-тил:
— Александр. Весь мой путь по тюрьме известен. Нет проблем — отпишем в любую из камер. И пока не будет ответа — а он будет — изволь вести себя достойно и спокойно. Ни одно из твоих обвинений я не принимаю, потому что оснований — нет. Так что ты, Александр, неправ.
Когда люди разговаривают, происходит нечто на уровне поля, некий энергетический обмен. В споре побеждает не только слово, но и энергия, его сопровождающая, поэтому слово может быть воспринято, отторгнуто или не иметь никаких последствий. Ничего не говоря (а Саша тоже умолк), я плавно сводил на нет его агрессию. Объяснить, как это делается, можно только тому, кто может это сам. Когда Вольфа Мессинга спросили, как он читает мысли, он ответил: закройте глаза и попробуйте объяснить, как вам удаётся видеть. То есть объяснение одно: надо открыть глаза. Через несколько часов молчания Саша завёл незначительный разговор, и я поддержал его. Вдруг Саша с сожалением отметил:
— Вот так бывает: не сдержишься, а потом самому стыдно. Скажешь не то, а потом жалеешь.
Было неожиданно услышать такие слова от того, кто расстрелял несколько человек, совершая разбойные нападения и беря заложников, за что ему грозило не меньше двадцати лет.
— Да ладно, Александр! Уже забыли. Тюрьма и есть тюрьма, где столько нервов взять, чтоб не сорваться.
— Все равно неприятно. Понимаешь, завидно: ты освободишься, а я в тюрьме умру.
— Да ты чего, не гони. Ещё не известно, что завтра будет. Все меняется, и не только к худшему.
— Это правда! А мне ведь хуже уже не будет. Хуже, чем мне, разве может быть?
— Пока мы живы, надо держаться. Давай это дело перекурим.
И задымили. Адаптация в хате состоялась. С осталь-ными арестантами общение было постольку поскольку; никого из них я не запомнил. В этот же день стало понятно, что с табаком и едой будет туго. Прихваченные с собой несколько пачек сигарет разошлись на ура, остатки продуктовой, как всегда, были наудачу оставлены в предыдущей камере, а из кормушки в хату заехало несколько жалких порций баланды, буквально по пять ложек, и совсем чуть-чуть хлеба. (В два один один баландер, воровато озираясь, подавал в кормушку варёную курицу (!) и бульон в большом количестве. Непонятно, для кого и где это готовилось, похоже конкретно для х. 211, потому что куриные кости потом заворачивались в газету и выбрасывались через решку на тюремный двор). Камера глубоко задумалась, кому ещё отписать; удалось договориться с вертухаем, чтоб заглянул напротив в 211 от моего имени за сигаретами. Усатый дядька принёс несколько пачек, и даже не взял ничего себе, что встречается редко. Хата глянула на меня уважительно, а Саша несколько неуверенно произнёс:
— А говорят, в 211 разные дела бывают…
— Не знаю, — пожал плечами я, — при мне было нормально.
Соседи на просьбу тоже отозвались, загнали через решку хлеба, чесноку, сами просили спичек и бумаги; то и другое у меня было. Вечером зашло общее. В определённый день и час общее гонится по дорогам с общака на больничку, глухой тюремный двор оживает голосами. Грузы сопровождаются резкими командами, озабоченными вопросами, лаконичными ответами: слишком высока ответственность за общее. Мусора не вмешиваются, с продола никто не ловит того, кто на решке. Матерчатые мешочки принимаются наполненные и с сопроводом (описанием и отметками, через какие хаты и в какое время прошёл груз) и уходят назад пустые с неизменной благодарственной запиской. Стандартный набор — сигареты, «глюкоза» (сахар, конфеты), чай; иногда что-нибудь ещё. Предварительно,голосом, на решке выясняется, сколько в какой больничной хате человек и соответственно ответу приходит груз.
— Два! Один! Шесть! — слышится с улицы крик. Кто-то бросается закрывать шнифт, а Саша встаёт на мою шконку и, доставая подбородком до нижней части решки, кричит:
— Два один шесть! Говори!
— Сколько народу?
— Семь!
— Понял! Семь. Пойдём, братишка!
— Пойдём!
Нельзя сказать, что этого много, но чего вообще много у арестанта? Самое болезненное — отсутствие лекарств и сигарет, но страстное желание закурить, не проходящее никогда, странным образом поддерживает в борьбе с медленным временем; цели далёкие складываются из промежуточных, каковыми и становятся сигареты. Доживём до следующей сигареты? Да, доживём. Трудно будет? Трудно. Но ведь прожит ещё один отрезок? Конечно, прожит — ты же куришь — вон уже пальцы обжигает огонь, и последняя затяжка жжёт губы, опаляя усы. Тюремная жизнь разбита на множество отрезков между сигаретами, которые и есть шаги к свободе. Поэтому не отнестись с уважением к общему нельзя. За время, проведённое на больнице, общее заходило регулярно, и было хорошим подспорьем. При том, что все знают: большинство на больничке не намного больнее обитателей общака — отношение всех арестантов к больнице —безукоризненное, сама лишь больница его не оправдывает; нет на Руси ни одного государственного института, который бы не был извращён.
Около часу ночи приехал Васька. Ничего грозного не было заметно в деревенском парне, но подоплёка чувствовалась неподарочная. Василий поинтересовался, откуда я, недоуменно взглянув, что место под решкой занято.
— Это Алексей, — ответил Саша. — Знакомьтесь, —и Василий больше вопросов не задавал, вступив в оживлённую беседу с Сашей, из которой следовало, что ещё до суда Ваську снова таскали к куму, опять били, но несильно, и обещали тусануть по тюрьме так, что мало не покажется, т.е. посадить на баул.
— Мне кум говорит: я тебя в обиженку к петухам посажу. А я ему: давай! Я их там штуки два поубиваю, всем хорошо будет. Чего он на меня озлился, не пойму, — косясь на меня, говорил Васька. — Наверно, из-за того штыря. Да и штырь не мой, где я его мог взять.
— Здесь все, Вась, нормально, — весело отозвался Саша. — Не напрягайся. — Это, стало быть, относилось ко мне. Долго ещё ворковали Саша с Василием, а я, почувствовав, что вполне могу не участвовать, попробовал заснуть. Коробка от блока сигарет идеально подходит без дополнительных приспособлений к лампочке в качестве абажура, вертухаи на продоле не возражают, надо только перед проверкой успеть снять, и можно немного отдохнуть от яркого света. Матрасов нет ни у кого. Голая шконка застилается газетами, укладывается вещами, в ход идёт даже тетрадь. Худо-бедно, а на боку можно кое-как улечься, и даже вздремнуть, но скоро настойчивый холод металла заставляет перевернуться на другой бок. Можно отдохнуть минутку лёжа на спине, пока не заломит поясницу. Преимущество у того, кто имеет больше вещей. Гоша — тот вообще без куртки, в одной рубашке. В каждой камере что-то обязательно приходится терпеть. Видимо, это принцип следственного изолятора — так арестанту сложнее думать, и тем легче его расколоть. Чем дальше, тем больше я убеждался, что о себе надо молчать, молчать и молчать. Ещё на воле знакомый кооператор, севший при Горбачёве на восемь лет за строительство коровников, говорил мне, что из их бригады не осудили только одного, того, который в следственном изоляторе фанатично молчал.
На современном этапе развития общества молчание существенно сокращает срок заключения. Потянулисьбольничные будни. Ёжась от холода и закутавшись в куртку, я тусовался по хате, удивляясь, почему этого не делают остальные; чего-чего, а этого я в тюрьме так и не понял. Наряду с чувством голода, холода и желанием курить, появилось новое развлечение, я бы сказал неожиданное и запоздалое, — ноги покрылись мокрыми язвами, на вид напоминающими стрептодермию. Показать это дело врачу, а периодически происходил обход, всегда формальный и нелепый, означало отправиться в страшную «кожную» камеру, где, например, сифилитики ожидают очереди на больницу в Матросской Тишине. На лечение рассчитывать было категорически нельзя, и я занялся самолечением. Саша, как преступник особо опасный и авторитетный, получал от врачей в качестве лекарства ежедневную порцию йода, которым заполнил чуть ли не половину пластиковой бутылки, говоря, что йод ему нужен «для других целей». Но поделился йодом безоговорочно. Намочив йодом носовой платок, я прикладывал его к язвам и сжигал заразу чуть ли не до мяса. Потом брал нитфеля и прикладывал на поражённые участки. Рана затягивалась, и я снова сжигал её йодом, и снова лечил заваркой, пока не исчезли следы инфекции. В прогулочном дворике иногда удавалось поймать редкие лучи солнца, которым я, сняв штаны, подставлял язвы, и это помогало. На мои садо-мазохистские упражнения хата смотрела со страхом и уважением. В несколько периодов, с отдыхом на один-два дня, борьба с инфекцией, в ходе которой дотла сгорели несколько носовых платков и тряпок, закончилась успешно. Если бы не Сашин йод, которого он лишился, не избежать было мне кожной хаты.
С точки зрения дороги, хата была почти тупиковая, малявы транзитом шли мало, их, в основном, получал Саша. Его рассказы о своём прошлом естественным образом подвели к необходимости как-то выказать своё отношение к преступному миру, к конкретным его представителям, а я неизменно молчал, вообще не реагируяникак, не отвечая ни на какие вопросы. Мельком лишь проводил идею о мусорском происхождении адвоката, как безадресного источника моих бед. И с удовольствием говорил ни о чем. Сашу вызвали слегка. Возвратившись, он рассказал, как кум предложил сотрудничать под предлогом того, что на Сашу точно никто не подумает, а Саша отказался. Тем не менее, при каждом удобном случае, вопросом, что у меня за такой злостный адвокат, Саша интересовался.
Однажды я чуть не поплатился за невнимательность, которую сокамерники, дай я им такую возможность, квалифицировали бы как преступную халатность, а то и посчитали бы за умысел. Я, под предлогом болезни, старался к решке не подниматься, потому что — дело случая: выпасет вертух с продола, и что последует — неизвестно. Иногда все же приходилось. Ранним утром, когда в хате стояла благотворная тишина, и все дремали на ледяных шконках, по стене цинканули соседи, и я принял несколько маляв. Положив их на дубок, я взял литровый фаныч и двинулся к тормозам, где около раковины на традиционной самодельной полочке из картона с верёвочными оттяжками сотворил кипятку для чая. Тормоза раскрылись резко в тот момент, когда я двинулся с кружкой в сторону дубка. Влетели как вихрь какой-то мусор в военной форме, вертухай в камуфляже, кто-то в гражданском и с криком «ага, малявы!», подняли хату по стойке смирно. — «Чьи малявы? — спросил мусор и, не услышав ответа, указал на того, к кому они лежали ближе, т.е. на Сашу, — пошли!» Фамилию адресата на маляве, в отличие от поисковой, обычно не пишут, только имя или прозвище, например: в х. 216 из х. 211 Алексею Бороде. Именно такое послание, да ещё с сопроводом, получил я намедни от Коли. В сопроводе было сказано, что идёт малява особо важного содержания, просьба к Братве прогнать по зеленой без задержек и недоразумений, с особой ответственностью. В сопроводе был длинный список отметок по минутам, во сколькопришла малява в очередную хату и когда ушла. Малява прошла чуть ли не по всем корпусам. Наверняка её прочитали. Чуя подставу, с неприятным чувством я развернул листок. Какая бы ерунда там ни была написана, следствие отнесётся к ней с серьёзностью идиота. Вдвойне неприятно было то, что Саша колебался, отдавать мне маляву или нет, и если бы я случайно не заметил, кому она адресована, и не настоял, то, видимо, не получил бы её. Саша сделал невинное лицо и сказал, что не догадался сразу, что Борода — это я. Малява оказалась дружелюбного и безвредного содержания. Весь смысл заключался в приветствии, пожелании всего наилучшего и готовности помочь по возможности, если в чем нужда. Отлегло. А Саша почему-то недоуменно поглядывал то на меня, то на маляву. «Можешь прочесть» — сказал я тогда. Теперь же все было серьёзно. Васькино место к этому времени занимал азербайджанец, которого Саша в память о друге любовно называл Васей. Новый Вася был довольно тихим уголовником, но тут взорвался и, сверкая глазами, произнёс речь, не сулящую мне ничего хорошего. Самое печальное, что он был прав, ничего изменить уже было нельзя, в одночасье моё положение могло ухудшиться не только в камере, но и вообще на тюрьме. Вся хата, естественно, ощетинилась против меня, но пока не вернулся Саша, на выводы вслух больше не решился никто, тем более что я спокойно молчал. — «Ты положил малявы на дубок? Ты знаешь, что за это бывает?» — стал подступаться азербайджанец. — «Я положил, кто же ещё. Саша сказал — я положил». — «Как, Саша сказал?» — «Обыкновенно. А ты не слышал?» — азербайджанец задумался. Значит, спал. Оглядев остальных сокамерников, готовых примкнуть к тому, кто сильнее, я понял, что если кто и не спал, то не возразит: от тормозов против решки возражать опасно. Оставалось дождаться Сашу. Временами он отвечал на вопросы в полудрёме, и можно было предположить, что с уверенностью не скажет, что я к нему необращался.
Открылись тормоза, и зашёл Саша.
— Живой? — спросил я. — Били?
— Нормально. В прогулочный дворик отвели. Говорят: «Чем болеешь?» А я им все, что у тебя, рассказал. Они засомневались, несколько раз по ногам ударили, а потом только требовали сказать, какая малява кому адресована, а я говорю: «Не знаю». А ты-то почему их не убрал? Малявы на дубке — это уже слишком.
— Я бы убрал, да в это время был с кипятком в руках, успеть было нельзя.
— А до этого?
— Я думал, ты читать будешь, пошёл кипяток делать. Ты сказал «положи на дубок».
Недоумение мелькнуло на лице Саши, и в голосе исчезла подоплёка.
— Ты видишь — сплю — убрал бы.
— Кто ж тебя знает, спишь ты или нет, если разговариваешь. Как ты сказал, так я и сделал.
— Ладно, ерунда. Похоже, серьёзных маляв не было. Иначе бы так легко не отделался.
— В шнифты выпасли. Никто не закрыл. А надо было, — при этих словах арестанты сделались незаметными.
— Не страшно. Обошлось, и хорошо.
— Ударили сильно?
— Больно, конечно, но не сильно.
— Мои извинения, Александр. Неувязка вышла.
— Ничего, я же сам сказал.
Истёк магический срок заключения — полгода, после которого сидеть уже не трудно, а впереди маячила возможность серьёзных событий. Должен был состояться суд. Ходили слухи, что Россия приняла, или вот-вот должна была принять, нормы Европейской конвенции, и я решил, что буду добиваться международного суда, для чего надо пройти все инстанции суда российского, в связи с чем нужно двигаться по ступеням аппеляций. И, ес-тественно, появился Косуля. При нем же Ионычев.
— Так Вы на больнице? — с угрозой спросил следак.
— Да.
— Ладно, — сказал Ионычев и ушёл.
— Как наши дела? — спросил я у Косули.
— Послезавтра тебя на суд повезут. С этим ничего нельзя поделать. В суде ты заявишь, что без адвоката на рассмотрение не согласен, а я не приду. Завтра позвоню в суд и скажу, что занят. Ты ведь откажешься?
— Это в зависимости от дальнейших движений.
— Будет. Все будет. Почва для перевода на больницу в Матросскую Тишину готовится. Это очень дорого и сложно.
— Смотрите. Авансов больше не даю.
— Как ты на больнице? Сокамерники не обижают?
— Обижают, Александр Яковлевич, в обиженке. А на обиженных воду возят. В курсе?
— Ха! — по-солдафонски отозвался Косуля. — Ты меня не подведи. Все будет. Человек с Бермуд — платит. Если что не так — ты скажи, поправим. Жалобы есть?
— Жалоб нет. Матрасов тоже.
— Что? Матрасов?
— Именно. Спать не на чем.
— Не может быть. Что — голые нары? Ведь заплачено.
— Голые, Александр Яковлевич. Голые, как правда.
В этот же день явилась в камеру сестра-хозяйка и принесла стопку тощих одеял с требованием не забирать их с больницы. «А то я себе тут пометила». На следующий день опять припёрся Косуля, принёс необъятную плитку шоколада, сигарет и, заглядывая в глаза, просил не подвести. Следовало сделать вывод: пребывание на больнице есть наращивание преимущества, значит, можно и нужно пойти на уступки. С учётом маленькой неприятности: спецчасть принесла продление срока содержания под стражей до одного года — резких движений делать не стоило.
На общаке судовых заказывают в час-два ночи, на спецу в два-четыре, на больнице — в четыре-пять.
— Прощаемся? — спросил Саша.
— Вряд ли, — ответил я. Но пинка на выходе получил.
На сборке с шконками в один ярус полно народу, но примоститься посидеть можно. Дым коромыслом, курят по максимуму. Лица сосредоточенные, никто не улыбнётся. Заглядывает баландер, предлагает хлеб. Все отказываются. Это традиция. В день суда никто не ест, даже в камере, а предложенный хлеб идёт в карцер (должен, по крайней мере), поэтому если кто соглашается хлеб взять — никто слова не скажет, но поглядят неодобрительно. Лица у судовых уже не такие одинаковые, как на общаке, хотя и без явных признаков индивидуальности; лица солдат перед боем. Разговоров почти нет. Лишь братва беседует под решкой, которая — одно название, такая глухая, что вентиляции нет, и чем они там дышат, неизвестно. Ближе к двери легче, она иногда открывается, давая небольшую циркуляцию воздуха, есть несколько шагов пространства для ходьбы, которая опять же почему-то не нужна никому, кроме меня. Одеваются в суд наилучшим образом, часто одалживая одежду, однако в костюмах я не видел никого. В отличие от посещения адвокатов в Матросской Тишине. Уж не знаю, кто там ходит на вызов в костюме, а то, что два стукача в два два восемь — Вова и Слава — ходили — это факт. Таким образом, на сборке собирается общество, не чуждое приличий, надежды и всего другого, присущего человеку, лишённому белого света, но, по большей части, остающегося, а может и становящегося, человеком. Аура здесь повыше, чем в хате, хотя и напряжённей. Все пошли на коридор. Что? Зачем? Ах да, шмон. На Бутырке так. По хер. Шмона не видели. Но для судовых это неприемлемо. Кто-то из братвы выступает вперёд и перед камуфляжным вертухаем говорит: «Старшой! Вот, не побрезгуй, чем богаты, тем и рады, больше не имеемвозможности, возьми» — протягивает четыре пачки сигарет с фильтром (был брошен клич, сбросились). Не учёл как-то, а то бы поучаствовал, да все, что было, почти и выкурил. На суд без сигарет нельзя, плохая примета, и табак здесь — чистое золото. Горят ведь души. Пламенем горят. Четыре пачки свору устраивают. Демонстративно гонят через помещение с конвейерной лентой, дают команду раздеться и бросить вещи на конвейер, но тут же перегоняют дальше, и все обходится без шмона. Долго тянутся часы на сборке, но вот позади предложение хлеба, проверка, подобие шмона, и начали вызывать по судам. Строго, организованно и вежливо. Отношение к судовым вполне приличное. Во-первых, судовой — он как бы дед на тюрьме, а во-вторых, кто знает, может, он из зала суда на волю уйдёт, а в этом смысле для вертухая предпочтительнее, чтобы его не помнили. Недаром на Бутырке они называют друг друга не по именам, а по номерам.
— Эй, четвёртый! Давай сюда, накатим! — весело кричит вертух на продоле.
— Не, я к шестому. Он с девятым уже договорился. — Погоди, скоро вернусь, продолжим!
Это значит, тюремные уроды пьянствовать собрались.
Народу на сборке быстро становится меньше. То, что меня не называют в числе тех, кому ехать в Тверской суд, не удивляет. Я остаюсь на сборке один, как замешкавшийся зритель после несостоявшегося спектакля. Брожу по прокуренной камере, находя удовольствие в тишине и размышлении. На кой мне эта тюрьма в такие годы. В молодости, оно, может быть, было бы и полезно, а сейчас. Сейчас тоже было бы полезно, если удастся выйти. А если ещё не заразиться тубиком, спидом или гепатитом — это вообще будет счастье. Тот самый случай, когда для счастья не нужно ничего лишнего: пускай останется то, что есть. Чтобы выйти на волю, надо подняться по очень длинной лестнице, а когда она закон-чится — неизвестно. Попал в колёса правосудия — терпи, результат непредсказуем. Принесло тебя, дурака, на родину, теперь умней потихоньку.
— Что так быстро? — спросил Саша.
— Не вывезли.
— Это бывает. Почему, объяснили?
— Нет.
— Мы тут тебе поесть оставили. Хотя, думали, не вернёшься.
— За то и другое благодарю.
— Теперь дней через десять. Все равно вывезут. Обязаны.
— В Преображенский суд с Матросски почти полгода не вывозили, заявлений несколько десятков написал, не факт, что и здесь вывезут.
— Что за делюга у тебя такая, что так прессуют?!
— Х.. его знает, Александр. Не я её придумал.
— А кто?
— Следователь. — Конец диалога проходит с лёгкой взаимной усмешкой.
В хате по-прежнему холодно, немноголюдно и голодно. Пришел Воровской Прогон, в котором сообщалось, что положение на тюрьме тяжелое: не хватает хлеба и табака, особенно в коридоре смертников, но общее, тем не менее, собирается исправно, хотя и ценой лишений арестантов, прежде всего — общего корпуса, за что им выражается искренняя благодарность. Теперь основным занятием стала рассылка маляв по соседям и на общак с просьбой загнать чаю, курехи, барабулек, хлеба и т.д. Всегда кто-нибудь отзывался и загоняли, по возможности, что делали и мы. Сигареты теперь растягивались на подольше, в ход пошли самокрутки из сухих нитфелей, а сама заварка прогонялась через кипяток до полного осветления. Паек приближался к блокадной норме. На общаке в знак протеста объявили голодовку. Семеро ее организаторов были жестоко избиты мусорами, двое оказались в больнице на Матросской Тишине,один, в частности, с отрывом почки. Разумеется, как и множество других маленьких тюремных неприятностей, этот незначительный случай не заинтересовал на воле ровным счетом никого, хотя информация через адвокатов и просочилась за пределы Бутырского централа; страна продолжала жить своей жизнью. Азербайджанец «Вася», качая головой, говорил, что такое положение, как в российской тюрьме, невозможно в любой азербайджанской, где никто, ни по ту, ни по эту сторону решетки, не допустит, чтобы арестанты находились в таких условиях. Под шконкой обнаружилось среди мусора несколько запыленных, но целых книг, и в их числе «Божественная комедия» Данте. Несмотря на огромный информационный голод, вид этой книги вызвал отвращение: любое упоминание о человеческих страданиях казалось не имеющим права на существование, наряду с болезненным убеждением, что книги должны быть только о хорошем и светлом, «ибо никогда ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она». В другой книге были цветные иллюстрации какого-то художника. Образы изображенных предметов были притягательны, близки и понятны. Хотелось вырвать картинки и взять себе, но рука не поднялась. Однажды, вернувшись сюда из Матросски, я снова обнаружил эту книгу, но уже без картинок. Народ в камере менялся быстро. Почти у всех один диагноз: пневмония. И почти у всех одинаковое лечение: уколы пенициллина. Прихватило сердце, утром попросил на проверке вызвать к врачу. Вызвали, сделали кардиограмму, сказали, что инфаркта нет, а на просьбу дать валидол или нитроглицерин ответили, что такие слабые лекарства все равно не помогли бы, и предложили сделать инъекцию пенициллина. Отказался, но порадовался, что медицинская линия в тюремной истории продвигается. Кардиограмма вообще показалась экзотикой, но через пару недель вызвали к врачу и сказали, что кардиограмму надо повторить, потому что предыдущая «не получи-лась», что, вероятнее всего, означало, что продали мою кардиограмму кому-то, кто при деньгах. Так же впоследствии на Матросске несколько раз «теряли» мои рентгеновские снимки позвоночника, повторяя процедуру, в результате которой я получил на совершенно не соответствующем нормам рентгеновском оборудовании серьезную дозу облучения. Раз в несколько дней на продоле проходила «медкомиссия». Какая-то серьезная женщина спрашивала «как себя чувствуете?» и, независимо от ответа, определяла, кто выздоровел. Мне набрасывали на руку ленту прибора измерения давления, два-три раза нажимали на грушу, озабоченно качали головой, приговаривая «да, давление», после чего я и Саша в камере оставались, а остальных отправляли к чертовой матери. Оба никаких лекарств не получали. Саша был здоров как бык и говорил, что попросил лепилу отправить его на больничку «отдохнуть». Мне не оставалось ничего иного, как убеждать себя в том, что и я на самом деле здоров, потому что чувствовалось, что чуть дашь себе слабину, упадешь и никто не поднимет. Прошел слух, что должны разрешить медицинские передачи, это тоже морально поддерживало. Но главная реальная надежда была на больницу в Матросске. Вторая, менее реальная, но страшно волнующая — надежда на освобождение в зале суда, хотя уже стало известно, что при тяжких обвинениях меру пресечения не меняют, будь ты хоть трижды больной. Течение времени больше не угнетало так мучительно, как раньше, и проходило в том особом состоянии внутреннего напряжения, когда остро чувствуешь, что ничего кардинального сию минуту предпринять не можешь, но общая ситуация зависит от тебя, и чтобы она развивалась в благоприятную сторону, нужно держать воображение — главный инструмент воздействия на мир — строго в рамках поставленной задачи собственного освобождения и исключения возможности какого-либо несчастья для близких на воле. Поставленная задача определяет образ и строй мысли,пределы и интенсивность воображения, волевой фактор в преодолении арестантской действительности и порождает ритуальность мысли и действия. Обобщается все это чувством ответственности за будущее, своё и тех, кто вовлечён в её круг. А значит, нельзя ходить в прогулочном дворике против часовой стрелки, всегда нужно знать, где запад, тот самый Запад, где теперь мой настоящий дом, в который я должен вернуться, и чтобы все мои там были живы и здоровы; нужно успеть сосчитать до ста от предполагаемого времени окончания прогулки до момента, когда звякнет замок в двери и вертухай объявит: «Домой!» И никогда не расслабляться, постоянно оказывая давление собственного сознания на враждебную сторону. Приходил адвокат, интересовался, правда ли я отказался бы от рассмотрения в суде, если бы меня вывезли. И этого всерьёз боится. Почему? Ведь не освободят. Может, боится, что дело потеряет камерную закрытость? Или все-таки освободят? Кто сказал, что отныне правила без исключений. Впрочем, что гадать, есть ещё один рычаг, и хорошо. Регулярность и постепенность усилий — залог успеха. Письма Косуля стал приносить исправно, борзел все меньше и меньше, в игре почувствовался перелом, но до победы было далеко. Чтобы выиграть эндшпиль, нужно медленно и бережно продвигать достигнутое преимущество к концу партии, и иногда это очень длинный путь. Встречи с адвокатом стали напоминать театр одного актёра. То я восклицал, что нет больше моей моченьки, страсть как хочу излить душу следствию (после чего иногда появлялся Ионычев и озабоченно спрашивал, не надумал ли я давать показания; я говорил, что такие, как у меня, показания ему не нужны, а он возражал, что ему нужны любые), но соглашусь потерпеть до следующего раза, или что если немедленно не отвезут на больницу в Матросску, — моя изболевшаяся душа потребует общения с генералом: вы же, Александр Яковлевич, не разрешаете мне говорить с сокамерниками, а о сокровенном с кем-то делиться надо; то мне требовалась немедленная моральная поддержка нового адвоката, и я в тоске говорил: «Как бы это меня поддержало!» Косулю явственно бросало то в жар, то в холод, что означало: дело идёт. Невозможности немедленной отправки на Матросску верить не приходилось, на самом деле шёл поиск наиболее дешёвого пути, это было понятно, но устраивало, и я шёл на компромисс, отвоёвывая по миллиметру пространство, отчётливо понимая, что и в тюрьме бывают несчастные случаи. Иными словами, на воле началось движение. Основным занятием стали сон (оказалось, человек может спать чуть ли не всегда), игра в крестики-нолики на неограниченном поле (прототип игры рэндзю), ожидание и ходьба по камере: пять шагов к тормозам, пять шагов к дубку; то воды вскипятить, то наполнить пластиковые бутылки, коих множество (часто отключают воду), то покурить — вот уже и устал — спать, время убито. Выписывают с больнички по утрам, после утренней проверки щекочет нервы предположение, что позовут с вещами, но этого не происходит, что откровенно радует. Ходьба по камере — воплощение относительности. Это сокамерники думают, что ты здесь. А идёшь ты, на самом деле, уже дорогами Европы, от Варшавы до Лиссабона, и так они явственны, что неизвестно, где реальность. Исчезла завеса, и память открыла улицы и пейзажи, всегда залитые солнцем, отчётливые до песчинок на тропинках и трещин на асфальте; только лица вспоминались с трудом, никак не удавалось вглядеться в их черты. А возвращение в Европу представлялось на самолёте, когда я выйду на благословенную землю через двери аэровокзала, и уже не надо будет вспоминать лица, и жизнь будет прекрасной и счастливой. Какой будет наша встреча? И, если честно, будет ли она. Десятки миллионов заключённых за какие-нибудь восемьдесят последних лет в Йотенгейме умерли, мечтая о свободе.
В октябре в камере стало совсем холодно. Кто-тозашел с матрасом, ватой из которого заткнули щели меж ресничек, оставив дырку для дороги. Пришла сестра-хозяйка с хозбандой, быстро и грубо пришпандырили к решётке раму со стёклами, одно из которых тут же и разбили. Стало чуть теплее, но пришлось перебраться на боковую шконку от холодного сквозняка под решкой. Все разговоры только с Сашей. К счастью, он не слишком словоохотлив. Говорит, по большей части, о своём подельнике, которого при задержании прошили автоматной очередью, отправили в Склиф, а он оттуда убежал. — Вот, — говорит Саша, — я от него письмо получил. Он всегда мне говорил: «Я сидеть не буду. Или убегу, или умру». О— это неправильно. В-третьих, о таких вещах не говорят, а значит, я прав, тем более что этот размашистый почерк на листке, которым помахал передо мной Саша, весьма похож на почерк Коли из хаты 211. Так что, братан, прости, если я ошибаюсь. И я молчу, не выказывая никакой реакции. С судом машина закрутилась веселее, чем на Матросске. После очередной комедии с Косулей договорились, что откажусь от рассмотрения без адвоката, а правозащитник, ухая как филин в ухо, шептал, что сделает все ради ускорения отправки на больницу. Я же делал вид, что подавай мне суд, а больница не так нужна. А если не суд, так второго адвоката.
Это сейчас я знаю, что есть право обращения в международный суд не только по окончании всех судебных мытарств в России, но и не позднее шести месяцев после нарушения твоего права, прописанного в Европейской конвенции, и боится Россия этого суда как огня. А тогда эта информация до арестантов не доходила. Не дошлаона до них, видимо, и сегодня.
…И вот снова сборка с судовыми, два ряда чёрных шконок в вековом подвале, чёрный унитаз в углу, табачный туман, ожидание среди серьёзных молчаливых людей, ритуальное явление баландера с предложением хлеба, проверка, откуп от шмона; на сей раз мзда показалась уродам мала, часть арестантов заставили раздеться догола, побросать вещи на конвейер и получить их в другой комнате в общей куче. Пошли вызывать по судам. «Иванов, Петров, Сидоров, Павлов». Ах, не может разум быть на высоте. Ведь знаешь, что только сверхтяжёлый диагноз тюремной больницы плюс более чем серьёзные движения на воле, требующие денег и координированных действий (200-250 тысяч долларов такса судьи в таких случаях; да и то, как правило, если судья уходит вскоре на пенсию) — могут дать возможность изменения меры пресечения при тяжком обвинении, независимо от того, обосновано оно или нет. Все знаешь, а нутро кричит: «Это же суд! Они же обязаны! Все ведь незаконно! Должны освободить!» И здесь ты уже мало отличаешься от других арестантов, которые, кажется, думают что-то похожее. Редкий арестант считает себя виновным.
Перед выходом на улицу — вопросы-ответы, идентификация личности, и в автозэк. На улице хмурое утро, на несколько секунд охватывает широкое пространство и дыхание свободы, но по железной приставной лесенке ты поднимаешься в утробу проклятой машины, усаживаешься на лавку и предаёшься застарелому ощущению бесправия. За тобой захлопывают решётку и вешают висячий замок. Арестанты первым делом закуривают. Автозэк направляется на Матросску, где вбирает в себя ещё несколько страждущих, и далее по судам. Так же будут собирать народ по всей Москве и после суда, катание будет долгим. Автозэк наполнен до отказа, тесно так, что нельзя упасть. «Тверской суд» — объявляет охранник. Выбраться из машины любезно помогают мусора,поддерживая под руки. Вот она — гласность. Кругом стоят люди — родственники тех, кого судят, и здесь все гуманно. Вежливо прищёлкивают наручниками к менту, и тот стремительно, с хрустом суставов (моих, естественно), втаскивает меня, как собаку за поводок, в двери этого ебаного суда, так что в глазах только успевает мелькнуть красный фасад и московский двор. От мусора разит водкой, он злобно отщёлкивает наручники, и меня заталкивают в светлый коридор с большими окнами во двор, картина которого завораживает. Здесь тихо, светло, и никуда неохота. Дали отдышаться, потом подробный шмон. Отобрали сигареты, будут выдавать по одной в час, и заперли в бокс, довольно большой, метра полтора на три, с лавкой, грязными же стенами, жёлтой лампочкой и надписями на дверях. «Коля Колесо, Бутырка, х. 102, ст. 105, осуждён судьёй Ивановой по беспределу на 20 лет». Холодно. На лавке лежит кавказец и сидят двое, один в модной дорогой одежде, другой в рваных тапочках и лохмотьях. Седой мужик стоит и без умолку гонит о том, как он на общаке в туберкулёзной хате парится уже год, народу в хате девяносто человек, время от времени кто-то помирает, а все за найденный в кармане автоматный патрон, а патрон не его, ему мусора подкинули. И заседание суда уже не первое, и судья ему намекала недвусмысленно, что в отсутствие свидетелей, а свидетели мусора, она обязана перенести заседание, а это ещё на несколько месяцев, поэтому дядька, наверно, патрон на улице нашёл. Ему уже и адвокат все объяснил: уйдёшь, мужик, за отсиженным, только скажи, что нашёл. А мужик как баран: менты подкинули, и все тут. Я, говорит, сидел двадцать лет, не боюсь вас, блядей, и от правды не отступлюсь. Летом в Москве прошла молодёжная международная олимпиада, и накануне масса бомжеватых личностей заехала на тюрьму, как правило, за патроны. Действительно, куда ещё их деть. Тем временем кавказец, тоже на гонках, стал притеснять молодёжь. Сначала того, что в лохмотьях, экзаменовал попонятиям, а как узнал, что он спидовой, отодвинулся и переключился на того, что хорошо одет. И этот на гонках: поклялся оставить кавказцу куртку, долларов на 800 потянет, если изменят меру. Кавказец ко мне. О том, о сём, а голос срывается, так и кажется, парень вразнос пойдёт. Мне легче, я сегодня в отказе, а все равно лихорадит.
— Как ты думаешь, меня освободят? — обращается кавказец.
— Судимость есть?
— Нет.
— Московская прописка есть?
— Нет. В Подмосковье прописан. Город Королев.
— Статья тяжёлая?
— Разбой, нанесение тяжких телесных.
— Не освободят.
— Почему?? У меня адвокат не мусорской, девчонка молодая, честная. Говорит, приложит максимум усилий, чтоб освободили. Я ей тысячу долларов заплатил. Она говорит, если бы шансов не было, она бы и не взяла.
— Лично я желаю тебе свободы. Здесь и сейчас. Но сегодня есть два гласных правила: не должно быть судимости, и обязательно должна быть московская прописка, иначе ни подписка о невыезде, ни залог невозможны. И негласное правило: по тяжким статьям не освобождать.
— У тебя какая статья?
— Тяжкая.
— Что же ты здесь делаешь? Значит, надеешься на что-то.
— Надеюсь. Только понимаю, что зря. Но все равно надеюсь.
Кавказца позвали на выход. Вернулся он довольно скоро, усталый и угрюмый: «Да, ты был прав. Тысячу долларов отдал…» Вызвали и остальных, а вскоре и меня. Здесь же в коридоре за столом сидела секретарь суда. Осведомившись, согласен ли я на рассмотрение без ад-воката, она взяла с меня расписку, что не согласен, и тем судебное заседание откладывалось. Вернулся седой мужик. Ему назначили новое заседание, до выздоровления так сказать. Вернулся и молодой, оставивший на время отсутствия куртку кавказцу. — «Ну, что? — поинтересовались мы. — Залог? Отказ?» — «Посмотрим» — невменяемо ответил парень. Открылась дверь, заглянул мусор, поманил парня пальцем, за дверью послышалось: «Вот здесь подпись. Иди отсюда и больше не приходи». — «Эй! — закричал кавказец, — куртку свою забыл! Забери». — «Оставь себе, братишка!» — послышался ответ. — «Дурак…» — удовлетворённо заметил кавказец и, смирившись с судьбой, завернулся в куртку, поднял воротник и лёг на скамью. В конце дня суета затихла, приехал автозэк, и снова поехали кататься по Москве. Обратный путь любопытен тем, что кое-кто ещё утром не знал своей судьбы, а вечером едет с приговором. Какой-то голос, пока автозэк переваливается с боку на бок, громко рассказывает, как четыре года сидел за следствием, но не жалеет, потому что многое понял, а главное — завязал с герычем, что пришлось продать BMW и заплатить семьдесят штук баксов, чтобы дали не одиннадцать, а девять, что мусоров надо истреблять в третьем поколении, что на каждом спецу есть дяденька в погонах, и прочее, и прочее. Слушали его молча, кто дурашливо улыбаясь от полученного двузначного срока, а кто исполнившись радости: конец тюрьме, на зону как на праздник. А некоторым на все эти суды ездить не наездиться. Кузов опять набили до отказа, катались по Москве долго, на Бутырку приехали поздно вечером. Загнали в пустую маленькую сборку, где долго стояли как кони, плотно друг к другу. Ближе к ночи повели домой. День был длинный, неуютный, бесполезный, холодный и тоскливый. Дома же тебя ожидает горячий чай, сигареты, что-то поесть и приветливые сокамерники, которые с удовольствием выслушают, как ехали, с кем словился, как кого осудили, какие были движения, чтослышал про волю, и ты с удовольствием поведаешь обо всем, хата задымит, заговорит, и потянется нетрудная арестантская ночь в привилегированной камере, где почти у каждого есть своё место.
Наутро попрощаться с Александром не удалось. Он был на вызове, когда о дверь предупреждающе звякнул ключ, и раздалось сакраментальное «Павлов, с вещами!»
Продолжение, может быть, следует.
Жаргонные слова и выражения, встречающиеся в книге.
Арестантская солидарность — чувство предпочтения нужд арестанта иным; одно из фундаментальных тюремных понятий.
Автозэк — спецавтомобиль для перевозки арестантов. Литературная норма — «автозак», но так не говорят.
Бутырка — Бутырки, Бутырская тюрьма.
Борзеть — наглеть.
Больничка, Крест — больница.
Баян, машина — шприц.
БД — большая дорога, путь для тюремной почты и посылок на больницу.
Баланда — то, чем кормят в тюрьме.
Благодарю; от души — употребляется в значении «спасибо».
Беспонтовый разговор — выражение, служащее основанием для прекращения разговора на почве отсутствия взаимопонимания.
Баландер — раздатчик тюремной пищи.
Быть близкими — быть друзьями.
Булки — ягодицы.
Булки греть — бездельничать.
Белый, герыч — героин.
Баул — любая сумка, пакет для вещей.
Барыга — торговец.
Барабульки — конфеты без обёртки.
Баня — душ.
Вертолёт — место в камере, где собирается братва.
Вася — благожелательное обращение, как бы в шутку.
В отказе — положение арестанта, когда он отказывается от дачи показаний.
Воспет — старший воспитатель.
Выломиться, сломиться — добровольно выйти из тюремной камеры под любым предлогом с целью не возвращаться обратно.
Вертухай, вертух — тюремщик.
Воровской Ход — воровская идеология и образ жизни.
Вор, Жулик — высшее звание в воровском мире.
Винт — самодельный наркотик, в процессе изготовления которого используется выпаривание бензина.
Говорят, винт прочно вышибает мозги.
Винтовой — тот, кто употребляет винт.
Вскрыться — вскрыть себе вены.
В ёлочку — правильно, хорошо.
Взять за шкибот — взять за шиворот.
Весло — ложка.
Вещевая — вещевая передача.
Груз, грузы (с ударением на втором слоге) — тюремная посылка, переправляемая через решётку с помощью верёвок; посылка по тюремной неофициальной почте.
Гад — стукач, мусор.
Гнать, быть на гонках — быть в состоянии частичной невменяемости, сильно переживать.
Глюкоза — сахар, сладости.
Глюки — галлюцинации.
Дачка, кабан — продуктовая передача.
Дорога — тюремная неофициальная почта.
Дубок — стол.
Дубинал — избиение арестантов мусорами.
Дальняк, дальний — туалет.
Дорожник — ответственный за неофициальную тюремную почту.
Душняк — тяжёлая обстановка в камере, создаваемая администрацией.
Децел — немного.
Движение, движуха — события.
Делюга — уголовное дело.
ДПНСИ — дежурный помощник начальника следственного изолятора.
Днюха — круглая дата пребывания в тюрьме.
Загнать — переправить нуждающемуся что-либо по тюремной дороге.
Закрыть — посадить в тюрьму.
Засухариться — затаиться, скрыть прошлое.
Забить шнифт — закрыть глазок камерной двери.
Запрет — алкоголь, наркотики; предметы, запрещённые арестанту.
Зараза — наркотики.
Западло, в падлу — против принципов.
Замутка — чифир; заварка на замутку — порция чайной заварки, достаточная для приготовления чифира.
Заточка — крупный режущий предмет, независимо от способа производства.
Заява — письменное заявление.
ИВС — изолятор временного содержания.
Интересоваться — употребляется в обычном значении «спрашивать», т.е. задавать вопрос; а также иметь интерес к тюремной жизни.
Кича, ШИЗО — штрафной изолятор.
Кумар — наркотическое похмелье.
Кум — старший оперативник.
Кумовской, кумовка, подкумок, наседка, сексот — стукач.
Крадун — тот, кто живёт кражами и соблюдает законы воровского мира.
Колёса — таблетки.
Кормушка — откидное окошко в тюремной двери. Косяк — проступок; пороть косяки — совершать неправильные, наказуемые, с точки зрения порядочного арестанта, действия.
Касатка — кассационная жалоба.
Картинка — эпизод обвинения в уголовном деле.
Купец — очень крепкий чай.
Коммерсант, коммерс — торговец. Весьма презираемая категория людей, можно сказать масть.
Конь — груз, привязываемый к верёвке, чтобы её легче поймать в другой камере.
Косить — симулировать.
Капотня — следственный изолятор в посёлке Капотня.
Конкретно — распространённое выражение, подчёркивающее однозначность сказанного и уверенность в нем.
Крытая, крытка — тюрьма особого режима.
Крытник — арестант, отбывающий или отбывший срок наказания в тюрьме особого режима. (Особый режим по условиям похож на условия следственного изолятора, но в крытой тюрьме у каждого есть своё место).
Каторжане, босота, шпана, бродяги — уважительное обращение.
Крыса — арестант, укравший у сокамерника.
Лавэ — деньги.
Ломать хлеб с кем-то — быть близкими, делиться необходимым, доверять.
Ларёк — способ заочной покупки в тюремном магазине.
Лепила — тюремный врач.
Матросска — тюрьма Матросская Тишина.
Малолетка — тюрьма или лагерь для несовершеннолетних.
Мамки — заключённые или подследственные женщины с маленькими детьми.
Мочить — бить, покуда сил хватит или до смерти.
Мужик — в камере или зоне, впрочем как и на воле, тот, кто зарабатывает средства к существованию своим трудом. Не сильно уважаемый, но и не презираемый статус.
Мусор — милиционер.
Мойка — бритва.
Малява — письмо, предназначенное для отправке по тюремной неофициальной почте.
Мартышка — маленькое зеркало.
Мусорской ход — мусорская идеология и такой же мусорской образ жизни.
Машка — обиженный, пассивный педераст.
Мазать — заключать пари.
Наблатыкаться — приобрести навык жаргонной речи.
Ноги — сотрудник тюрьмы или кто-то их «хозбанды», кто передаёт, по поручению арестантов, малявы или передачи.
Нырять в пилотку — заниматься оральным сексом. В тюремной среде считается неприличным. Сознавшемуся в подобных действиях грозит участь опущенного.
Общее — материально-денежный фонд воровского мира, существует как в тюрьме, так и на воле. Общее — краеугольный камень воровской идеологии.
Отрицалово — арестант, вставший на путь бескомпромиссной борьбы с тюремной администрацией и мусорами.
Объебон — обвинительное заключение.
Опущенный, обиженный — изнасилованный.
Обиженка, петушатник — камера, где собирают уличённых в пассивной гомосексуальной ориентации, обиженных, опущенных, петухов. Выйти из такой камеры для порядочного арестанта не означает выломиться .
Огорчиться — сдержанное тюремное выражение, обобщающее резко отрицательные эмоции.
Поднять в хату — перевести со сборки в камеру.
Опустить на сборку — перевести из камеры на сборку.
Опустить — изнасиловать (употребляется по отношению к лицу мужского пола).
Очко — анальное отверстие; унитаз.
От гондона до батона — есть все необходимое.
Осужденка, осужденка — камера для получивших приговор суда (по закону, осуждённые должны содержаться отдельно от подследственных).
Осудиться — получить приговор суда.
Отмести — отобрать при шмоне.
Ответить — подвергнуться наказанию по приговору воровского суда; быть готовым к такому суду.
Ознакомка — ознакомление с материалами уголовного дела перед передачей его в суд.
Обезьянник — в милиции камера с решётчатой дверью для временно задержанных.
По воле — на свободе.
Погоняло — прозвище.
Параша — вовсе не унитаз, как многие думают, а ведро или бочка.
Подельник — соучастник преступления.
Пальма — верхний ярус нар.
Просто — жопа.
Положение — положение вещей, состояние (в свете наличия или отсутствия воровского контроля).
Порядочный арестант — нормальный человек, достойный.
Поисковая — открытое письмо, пущенное по тюрьме с целью найти знакомых.
Принять — арестовать.
Пилотка — женские половые органы.
Пиздолиз — тот, кто «нырял в пилотку».
Петух — пассивный педераст; причём активная гомосексуальная позиция педерастией не считается, в связи с чем назвать активного гомосексуалиста педерастом — ошибочно и опасно.
Получалово — наказание, определённое воровским судом. Классическое получалово — серия пощёчин; имеет воспитательное значение.
Пайка — суточная порция хлеба.
Подгон — подарок.
Поставить в известность — сказать, оповестить.
Парус — подвесное полотнище под столом для посуды; полотнище над проёмом между шконками.
По-босяцки — по-арестантски, по-братски, бесхитростно и от души.
По тухлой вене (кожаным шприцом) — акт мужеложества.
Первоход — тот, кто в тюрьме первый раз.
Прокладка — провокация.
Поляна — складная картонка из пакета от сока, используется как поле для еды.
Пальцы веером — блатная жестикуляция.
По ходу — вводное слово, характерное (как и слово «чисто») для уверенного в себе арестанта.
Подогнать — подарить, дать какой-либо предмет безвозмездно.
Попутать — сделать ошибку на почве непонимания основных понятий.
Проканать — пройти.
Петры — тюрьма на улице Петровка.
Предъявить — предъявить претензии, обвинение, руководствуясь воровскими понятиями.
Предъява — предъявление претензии.
Прогон — открытое письмо от Воров или лиц, ими уполномоченных, адресованное всем порядочным арестантам (а никак не лишь их части).
Признанка — психиатрическое отделение тюрьмы для временного содержания признанных экспертизой невменяемыми.
Признанный — арестант, чья невменяемость признана экспертизой.
Пасти — следить за арестантами.
Попис — зарезать.
Подорваться — броситься, немедленно двинуться.
Пятак — пространство ближе к решке, своего рода центральная площадь в камере.
Раскоцать тормоза — открыть замки тюремной двери.
Рыбкин суп — суп из рыбы.
Раскумариться — опохмелиться, в наркотическом смысле.
Реснички — толстые металлические жалюзи с внешней стороны тюремной решётки.
Расход по мастям — выражение, употребляемое с оттенком иронии, шутки, так как вопрос принадлежности к какой-либо масти носит весьма деликатный, и даже опасный, характер; не вдаваясь в подробности, на провокационный вопрос, какой ты масти, достаточно кратко ответить: «Я порядочный арестант».
Рондолики — хлеб, жареный в масле.
Расход — слово, после которого разговор практически невозможен; условный сигнал соседям, означающий: сейчас говорить не можем.
Сопровод — тюремное письмо или посылка, в приложении к которому обязательны отметки о времени получения и отправки посылки в каждой камере, через которую посылка прошла. Сопровод возвращается отправителю с распиской о получении. В отдельных случаях сопровод осуществляется голосом, когда принимающий груз или маляву сообщает своё имя или прозвище.
Судовые — арестанты, выезжающие на суд.
Сутки — наказание лишением свободы на 10 или 15 суток.
Смотрящий (за положением), положенец — отвечающий за соблюдение воровских принципов в камере или в части тюрьмы (например, смотрящий за северным крылом большого спеца); на воле — смотрящий за положением на определённой территории.
Стос — самодельная карточная колода.
Спасибо — слово, употребляемое арестантами в ироническом или отрицательном смысле. Тем не менее, при хороших отношениях воспринимается и в нормальном смысле.
Сборка — помещение временного содержания арестантов в тюрьме.
Старшой — обращение арестанта к тюремщику.
Струна — металлическая полоса от шконки.
Спрашивать — привлекать к ответственности за проступок.
Скрысить — украсть у сокамерника.
Сонники — снотворное; точки на теле, нажатие на которые может вызвать заторможенную реакцию.
Спрос — наказание, определённое воровским судом.
Стакан — узкий бокс, в котором можно лишь стоять.
Следак — следователь.
Словиться — встретиться.
Столыпин — спецпоезд для перевозки осуждённых.
Сука — страшнейшее оскорбление, применяется, в основном, к стукачам, ментам.
Спалиться — попасться на глаза тюремщику с запретом или при запретном действии.
Стучать — работать на ментов, сообщать им сведения.
Стукануть — передать ментам сведения, предупредить их.
Спать с кем-то — занимать одну шконку (и спать по очереди).
Стирщик — тот, кто живёт в хате мужиком и стирает вещи.
Сеанс — разглядывание картинок или живая картина сексуального характера.
Свиданка — свидание.
Серпы — институт им. Сербского.
Слегка — на вызов (жаргон Бутырской тюрьмы).
Труба — прямая кишка.
Тубик — туберкулёз; арестант, больной туберкулёзом.
Тормоза — дверь тюремной камеры.
Терпила — пострадавший.
Тубонар — туберкулёзное отделение больницы.
Тусоваться — ходить туда-сюда.
Тусануть — передать; переместить.
Тюрьма — не запретишь — выражение, подчёркивающее свободу воли.
Торпеда — деньги, запаянные в полиэтилен, которые переносят в прямой кишке.
Телевизор — металлический шкаф в камере.
Уши греть — подслушивать.
Фуфлыжник — тот, кто не держит слово, обманщик (прогнать фуфло — не выполнить обещание, обмануть).
Фуфло — обман; подделка.
Фармазонщик — мошенник.
Фаныч — кружка; в зоне — самовар.
Хозяин — начальник тюрьмы.
Хата — камера.
Хозяйка — алюминиевая кружка; хозяйственное мыло.
Цинк — условный сигнал, предупреждение.
Цинкануть, цинковать — давать условный сигнал, предупреждать, оповещать.
Чисто — слово, подчёркивающее однозначность сказанного («чисто по-дружески», «чисто из интереса» и т.п.).
Шмон — обыск.
Шнифт, шнифты — в двери одно или несколько отверстий для наблюдения за обитателями камеры.
Шконка, шконарь — металлические нары.
Шлемка, шленка — миска.
Шмаль — анаша (из пыльцы конопли).
Этап — насильственное перемещение арестанта в тюрьму или за её пределы.
Ясность полная — выражение, подчёркивающее то, что ситуация изучена досконально и выводы сделаны правильные.
Примечания
1
Стих был коротким и звучал так:
Пусть отрастает борода И седеют волосы, Все равно нам здесь п…., И без права голоса. (обратно)


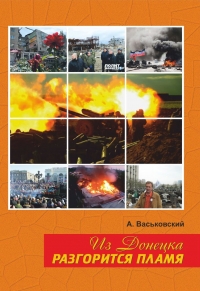
Комментарии к книге «Должно было быть не так», Алексей Павлов
Всего 0 комментариев