Гавриил Колесов Внук охотника
Повесть
Перевел с якутского В. ЧУКРЕЕВ
Рисунки В. Носко
ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ
Берлога теперь напоминала ощеренную медвежью пасть, которую Мичи́л только что видел и страшный свирепый рык, которой только что его оглушал. Оборванные корни поваленного и занесенного снегом дерева скалятся над черным зевом, как верхние зубы. Сучья бурелома, которые прикрывали лаз, и теперь, разбросанные, ощетинившиеся, — это как зубы нижней челюсти. Ощерилась берлога этими зубами, и хоть страшный хозяин ее, сраженный выстрелами, лежит сейчас в ее чреве бездыханным, берлога будто говорит: «Не подходите!»
Мкчил, выставив перед собой ружье, ожидая появления медведя, стоит, утопая в снегу по пояс. Стоит оглушенный и никак не понимает: долго все это продолжалось или недолго? Грозный рык, шевелящаяся и поднимающаяся вверх куча бурелома. Вдруг будто снег исчез. Все заслонила — весь белый свет — черная, огромнейшая, лохматая голова. Лапы. Глаза. Мичилу казалось, что, поднимаясь из берлоги, на него, только на него и ни на кого более, смотрел разъяренный хозяин тайги. Смотрел и рычал свирепо, будто грозился: «Ну погоди же!» Грохнули, больно хлестнув по ушам, выстрелы старших. Рык оборвался. Медведь словно еще повыше привстал и… исчез. Только сучья под его тяжестью затрещали и поехали туда же, вниз.
Парни, их было двое, что-то радостно кричали, потрясали ружьями над головой. Дед… Дед был молчаливым. Неторопливо и буднично, как он делал все, перебирал в руках веревку, и только дымившееся ружье, которое держал рядом, будто говорило: «Нет, это тебе не сено косить. Это на охоте. И на опасной охоте. На медвежьей».
Мичил почувствовал вдруг стыд, досаду: его-то ружье не разряжено. Он не выстрелил. Что он скажет мальчишкам, которые знают куда и зачем он отправился с дедом и этими парнями-охотниками.
— Давай, тукаам[1], — сказал негромко дед, протягивая ему аккуратно свернутую веревку. — Теперь и твой черед наступил. Нож… Ну-ка еще раз проверь нож. Хорошо он сидит? Передвинь его поудобнее. Спускаться не торопись. Осматривайся… Обвяжешь задние лапы. Покрепче узлы вяжи. Давай спускайся, — и, взяв из рук Мичила ружье, подтолкнул ласково к черному зеву, походившему на ощеренную в грозном рыке медвежью пасть…
Это было почти год назад. Но и теперь, когда зябко, Мичилу всегда вспоминается минута, когда, словно от страшного холода, у него клацали зубы, и он никак не мог унять тряскую дрожь. Но он все-таки спускался. Кто-то должен спуститься вниз, чтобы обвязать тушу медведя веревкой.
По старинным обычаям делает это всегда самый молодой и неискушенный охотник…
С запада дул холодный, пронизывающий ветер. Дома и заборы, поседевшие от пыли за бездождливое, знойное лето, сейчас и совсем стоят серыми: в каждой щелке, в каждом пазу между бревнами пыль.
Усталые, молчаливыми группами, идут навстречу возвращающиеся с разгрузки угля на Даркыхальской пристани студенты. С проспекта, хорошо слышный в прохладном осеннем воздухе, доносится голос московского диктора, читающего сводку Информбюро…
Уже три месяца здесь, в городе, Мичил, но никак не привыкнет к Якутску: теснота, толкучка. И ребята кажутся совсем другими. Сегодня, на субботнике, стали, глупые, кидаться картошкой. Как будто бы не понимают, что теперь все нужно для фронта, все для победы. Нет, если бы в родном наслеге[2] была десятилетка, ни за что не поехал бы сюда. Даже к брату. Так бы и жил с дедом и бабушкой. Но в наслеге только семилетняя школа.
На скрип калитки загремела цепь в собачьей конуре, и навстречу Мичилу, зло гавкая, бросился черный пес. Но тут же, признав своего, перестал лаять, завилял хвостом и, натягивая цепь, встал на задние лапы, стараясь передними дотянуться до плеч парня.
— Ну хватит, хватит, Рэкс. — Мичил попытался отпихнуть пса, но тот еще усерднее завилял хвостом и, вытягивая морду, все пытался лизнуть щеку или ухо. — Хватит.
Но тут же Мичилу стало совестно, что он сердится на Рэкса, как на своих одноклассников, кидавшихся картошкой, и парень погладил лобастую голову, почесал за ушами, потрепал мохнатую шею.
— Ты здесь, в городе, вон какой тяжелый да жирный. Настоящий годовалый жеребенок. А какая от тебя польза?.. Тебе бы не дом сторожить, а за лисицей погоняться, сохатого остановить. Ты бы и волка, наверное, сшиб. Вот Моксогол у моего деда вдвое меньше тебя, а храбрец какой и охотник. Ну, дай пройти.
Дом, где сейчас вместе со старшим братом жил Мичил, старый, но еще крепкий, когда-то, видимо, принадлежал купцу. Прорубив новые двери, дом перегородили на три квартиры. Получились не очень просторные комнаты, по одной на семью. Но, помимо этих комнат, была еще общая, большая — не то кухня, не то столовая. Сюда по вечерам, к самовару, собирались все, кто не был в отъезде. В Якутске с жильем очень трудно, и потому никому из населявших старую купеческую обитель не казалось, что она неудобна и тесна.
Брата дома не было, и валившийся с ног от усталости Мичил разделся, бросился на кровать. Но… странное дело. Кажется, что из соседней комнаты, от Владимира Лукича, доносится голос Петра.
Вообще-то брат никогда не заходит на ту сторону. На кухне, за чаем, подолгу сидят с Владимиром Лукичом, беседуют. Оказывается, когда Петр учился в Москве, Владимир Лукич был у него преподавателем. Они еще тогда подружились. И когда Владимира Лукича направили сюда начальником геологической партии, он взял Петра к себе на работу.
Мичил прислушался. Да, это голос брата.
— Нет, мне тоже попало. Секретарь горкома поначалу рассердился. «Каждый должен быть там, где он всего нужнее. А вы все — с заявлениями! Разве это нужно стране, чтобы все геологи ушли на фронт?» Я показал ему ваше письмо, Владимир Лукич. Все равно не подобрел. «Нет, нет. Не могу…» А потом подумал, позвонил в военкомат. Спрашивает: «Успеем ли до распутицы собрать и отправить призванных из отдаленных районов?» Военком отвечает: «Успеем, но не всех: из самых отдаленных могут не прибыть. Придется набирать добровольцев в Якутске». Секретарь положил трубку, задумался. «Ладно, — говорит. — Повезло вам. В трудный день пришли…» Написал резолюцию. Пожал крепко руку. «Идите в военкомат… Счастливец…»
— Да, — это уже говорил тяжело вздохнувший за стенкой Владимир Лукич. — Ты, Петя, действительно счастливец. Меня вот не отпускают.
«Значит, брат собирается в армию? — Мичил сел на кровати, усталости как не бывало. — А с кем же буду я? А вдруг его убьют?.. Вдруг убьют и я тогда совсем один?»
Горячий комок подступил к горлу. Мичил с трудом проглотил его.
«Геологов на фронт не берут, — думал он. — Сам Петр говорил. Есть указание… А что же, значит, он? Он, значит, напросился? Э! — упрекнул сам себя. — О чем думаю. Брат говорил, что мне пора уже в комсомол. А я… И вообще, кто будет бить фашистов? Из отдаленных районов опоздали. Да еще и брат не поедет. Кто тогда фашистов победит?»
На кухне, за общим столом, собрались позднее, чем обычно. Было тихо: никто не шутил, как бывало раньше, не смеялся. Каждый ел молча и если бросал взгляд в сторону другого, то виноватый взгляд, извиняющийся. Брат, чувствуя общую неловкость, попытался рассказывать что-то веселое. Не получилось.
— Петр Егорович, — сказала жена начальника партии, — а вы, кажется, ничего еще не рассказали своему брату: Мичил так внимательно посматривает на вас.
— Ах да. Ведь и правда ничего еще не говорил. — Петр повернулся к Мичилу, обнял его за плечи. — Но мы еще раньше обо всем с ним договорились. Я должен ехать. — А сам смотрел на брата, будто просил: «Ты уж не подведи. Так получилось. Я когда тебя в Якутск увозил, не думал, что начнется война».
Мичил опять почувствовал тугой горячий комок в горле, но переборол себя. Угрюмо насупившись, смотрел в стол. Думал: «Завтра с утра обойду рынок. Может, встречу кого-нибудь из нашего села. Уеду к деду».
— Владимир Лукич, Оксана Михайловна! — Голос брата стал тихим и грустным. Мичил никогда его не слышал таким. — Я вам рассказывал, что нашего отца убили кулаки. Не могли ему простить, что первым вступил в колхоз и других увлек за собой. Мама не перенесла горя и тоже умерла. Вот мы и остались… Вы меня, можно сказать, воспитали, вырастили. Без вашей помощи я, наверное, ничего бы не умел и не мог. Я вам так благодарен. И вот если бы теперь…
Он умолк ненадолго. В комнате было тихо-тихо. Владимир Лукич снял толстые очки. Его тонкое, худое лицо, окаймленное густыми рыжими волосами, спускавшимися на щеки ниже ушей, стало очень простым. А раньше оно напоминало Мичилу портреты из учебника истории.
— Если бы вы могли помочь и ему, — а сам все крепче и и крепче сжимал плечи Мичила. — Если бы так же, как мне…
— Петя! Петруша! Дорогой ты наш!..
Владимир Лукич вскинул руки, как будто хотел поймать махонькую пташку перед собой. Встал. Он очень волновался. Он или от волнения, или от того, что плохо видел без очков, обходя стол, несколько раз споткнулся о ножки табуреток. Подойдя к Петру, он взял его руку, крепко стиснул.
— Спасибо… Спасибо тебе за добрые слова. За веру. За доверие. Мы…
Он не мог найти слов. Оксана Михайловна, тоже взволнованная, не знала, что сказать, и не замечала слез, катившихся по щекам.
— Мы сделаем все. Мы постараемся. — Голос Владимира Лукича срывался от волнения. — Вы, Петр Егорович, можете не беспокоиться… Мичил… — Владимир Лукич привлек его к себе. — Ты слышал слова своего брата? Петр Егорович просит нас быть вместе. Давай же дадим слово Петру Егоровичу… Я обещаю… Если Петру Егоровичу это по душе. И Мичилу… Я обещаю, что Мичил станет тоже геологом. Зимой — учеба. Летом — с нами, в изыскательской партии.
«О! — Парень забыл, что сегодняшний вечер — печальный вечер: завтра брата уже не будет здесь. Если бы можно было подпрыгнуть от радости! Если бы можно было захлопать в ладоши! — Я буду геологом! Зимой — учеба. Летом — в изыскательской партии!..»
В ТАЙГЕ
Вот и опять осень. Хотя еще середина августа, но ночи уже холодные и темные; звезды не мерцают ласково в вышине, а висят крупными налитыми каплями…
Здесь каменистые берега речки расходятся. По весне, когда тают таежные снега, воде тесно, и она идет широким бурливым потоком. А сейчас: сухие каменные россыпи, валуны, выставившие из песка и галечника обточенные лбы, и неширокое — через него можно перепрыгнуть — русло. Вода прозрачная, звонкая…
На юг уходят непрерывные ряды каменных вершин. В отдалении вершины кажутся невысокими и однообразными. Но каждая из них венчает гору, которая чем ниже, тем все шире и шире. А подножие иной из этих гор не обойдешь и за день. Где, меж каких каменных гряд нашла себе дорогу речка, устремившаяся в полуденные края, определить невозможно.
Последние лучи заходящего солнца позолотили каменистые склоны, поиграли прощальным сиянием на самых высоких утесах, погасли. Скалы, покрытые хилой растительностью, редкие деревья — все разом потеряло свой цвет, все стало темно-серым. Потянуло прохладой, запахло влажным лежалым мхом.
Мичил снял со спины тяжелую ношу. Неподалеку от воды, как и учил Владимир Лукич, разбил палатку. Посидел немного, отдыхая. Полистал книгу. Набрал затем сухих дров, развел костер. В одном котелке поставил чай, в другом сварил суп из консервированной баранины.
В горах темнеет рано и быстро. Блеклые крылья зари, оставшиеся после захода солнца, скоро погасли. Распадок, как палатку из плотной ткани и без окон, наполнила плотная темень.
Мичил несколько раз разогревал суп. Вот-вот подойдет Владимир Лукич. Суп остывал, а Владимир Лукич все не появлялся.
К этому распадку они вышли днем, около второй полуденной дойки коров[3]. Владимир Лукич попросил Мичила выбрать место для ночлега, приготовить ужин, а сам ушел обследовать широкий лог, по которому к речке сбегал с гор звонкий ручей. Ушел, и все нет его, нет. Надоело ждать парню. Влез в палатку, улегся, накрыв лицо раскрытой книгой. Уснул…
Как и завещал старший брат, Мичил жил в семье геологов. Восьмой класс он окончил с очень хорошими отметками. Вступил в комсомол. И когда экспедиция, возглавляемая Владимиром Лукичом, отправилась в тайгу, Мичила взяли разнорабочим.
Долго плыли вверх по Алдану. Остановились в устье одного из притоков этой большой реки. Наняв в местном колхозе подводы, пробирались дорогами и по бездорожью вдоль притока. Забрались в такую глухомань, что на телегах уже нельзя было ехать. Оставили телеги. Груз навьючили на лошадей. И вот уже который день, переходя вброд ручьи, минуя мрачные глухие распадки, по сумрачным логам, по сухим речным долинам — все вперед и вперед. Мичил давно бы подумал, что они заблудились в тайге. Но Владимир Лукич часто доставал карту. Ставил на ней большую красную точку: «Сейчас мы находимся здесь». Потом тем же красным карандашом прочеркивал линию и говорил: «Теперь держим направление сюда».
Двое суток назад, оставив во главе отряда младшего техника Николая Санникова, Владимир Лукич ушел в сторону от основного маршрута.
— Вы продолжайте движение, как и намечено, — говорил он перед расставанием Санникову. — А я загляну вот на эту безымянную речку. Уж очень она что-то меня заинтересовала. Через три дня вы остановитесь. — Он поставил на карте большую жирную точку. — Если в этот день я к вам не выйду, продолжайте движение. И тогда еще через три дня встретимся вот здесь. — Вторая такая же яркая крупная точка на карте. — Со мной пойдет Мичил.
«Где же Владимир Лукич?» — Мичил проснулся от охватившего его беспокойства. В палатке темно— хоть глаз выколи. Пошарил руками: Владимира Лукича на его обычном месте нет. Прислушался. Кажется, кто-то у костра возится с лотком, негромко постукивает по камушкам. Выглянул. Сидит на валуне Владимир Лукич, напевает что-то себе под нос, разбив камень, рассматривает его при свете костра в лупу.
Поднялся Мичил и, как будто бы ничего не случилось, подбросил дров.
— И что же ты интересного вычитал? — не поднимая головы от камня, который в это время рассматривал, насмешливо спросил Владимир Лукич (видел, значит, как спал Мичил, покрыв лицо книгой).
Веселый он сегодня. И поет. И движения какие-то быстрые, легкие. И шутит. И покашливает так, как будто бы сейчас скажет что-то важное. Но ничего особенного не говорит.
Дедушка после удачной охоты был всегда таким же.
— Не пора ли нам подкрепиться? Ох и вкусный, должно быть, суп сварил ты сегодня, Мичил. Я бы ведь еще долго не пришел, но твой суп так пахнет! Как будто за нос кто-то меня схватил и сюда вел.
Они поставили на землю котелок и уселись друг против друга. В отблесках угасающего костра их лица приобрели удивительную схожесть. Не стало заметно, что у Владимира Лукича лицо тонкое и вытянутое ото лба к подбородку, а у Мичила круглое и скуластое. Что у Владимира Лукича уже годы заметны и в блеклости кожи и в седине, посеребрившей рыжие бакенбарды, а у Мичила — мальчишеский румянец во всю щеку. Будто не старший и младший сидят, не русский и якут, а совсем-совсем родные и близкие. И котелок перед ними один, только ложки — у каждого своя.
— Мичил, — сказал Владимир Лукич голосом вдруг очень серьезным и строгим. — Есть у меня к тебе разговор.
«Э! Неужели начнет выспрашивать, что я за день прочитал? Поздно ведь. Когда же спать? Чуть забрезжит, надо опять подниматься!»
— До этого дня, — продолжал Владимир Лукич, — ты, конечно, и не знал, что мы ищем.
Мичил действительно этого не знал. Еще когда-то брат рассказал ему, что работа поисковых партий — это большой государственный секрет. Не всем нужно знать, что ищут. Где нашли. Где не нашли. Поэтому и сейчас, в экспедиции, Мичил никого не расспрашивал. Он делал то, что в отряде делали все разнорабочие. Парень знал, что если здесь собралось много крепких, сильных мужчин, которые так нужны на фронте, а их отправили не на фронт, а сюда, то ищут они что-то очень важное. Может быть, такое, без которого трудно победить фашистов.
— Говорю я тебе все это как комсомольцу, на которого можно положиться, как человеку, которому можно доверять. Мы ищем… золото. Ты знаешь, как сейчас нашей стране нужно золото? Много золота. Сегодня вечером, такое вот дело, Мичил, я открыл место, богатое золотом.
— Правда? — Парень от радости забыл, что с ним говорили, как со взрослым. Что ему как комсомольцу, как надежному человеку доверили тайну, которую не каждому и доверят. — Правда? — Он вскочил радостный и чуть не пустился в пляс. Но удержался. Негоже прыгать комсомольцу по каждому поводу. Что о нем подумают?
— Да, правда, друг мой. Правда. — Владимир Лукич тоже не скрывал своей радости. — Правда… Теперь, кажется, все очень просто: нашли, нанесли координаты на карту и дальше ищи. Но время такое… — Голос его опять стал строгим, и глубокая озабоченность звучала в нем. — Очень тяжелое для страны время. Дорог каждый день. Поэтому очень важно, чтобы как можно скорее начались разработки. А для этого необходимо, не теряя ни одной минуты, обследовать золотоносный район. Вот тут ты и должен помочь.
Владимир Лукич сказал, что Мичил должен будет завтра пройти к месту дневки, где остановилась партия. Напрямую здесь недалеко. Один день пути. Но потратить на дорогу нужно не больше дня. Потому что послезавтра утром Санников снимется с места и тогда отряд можно будет найти лишь через три дня на следующей стоянке. Дорога каждая минута. Потому-то сам Владимир Лукич не может пойти — он будет продолжать обследование.
— Дойдешь?..
Надо ли было об этом спрашивать? Парень родился и вырос в тайге. Однажды, в погоне за куницей, он ушел от своего села верст за тридцать и вернулся домой через сутки. Дома даже не беспокоились — знали, что он ушел с ружьем, значит, вернется. Надо ли было спрашивать? Он брат Петра Егоровича, который сейчас на фронте снайпером и уже награжден медалью. Разве он может подвести брата-фронтовика? Он комсомолец. Разве может он подвести свою школу и тех ребят, которые принимали его в комсомол?
— Дойду, Владимир Лукич. Обязательно дойду.
Угасающий костер вспыхнул на минуту и осветил большой лоб и задумчиво-неподвижные глаза начальника партии. Глубокие морщины, которых раньше не было, пролегли от виска к виску. Владимир Лукич сутулился, будто тяжкая ноша надавила на плечи и он с трудом удерживал ее, не сгибаясь совсем низко.
— Надо дойти, сын, надо, — положил руку на плечо Мичила, который сел рядом на камень. — Надо. Война… И враги еще наступают. Мы здесь тоже сражаемся с врагами… Завтра я покажу тебе дорогу на карте. Ты запомнишь ее как следует… Давай теперь ложиться спать. Завтра вставать очень рано.
НА ЗАДАНИИ
Неповторимо чудесна природа в часы пробуждения. И здешняя глушь, где еще не ступала нога человека, под утренним солнцем торжественна, величава. Дивно расцвечены скалы, поднимающиеся над тесным распадком; вершины далеких гор, гряда за грядою, как волны южного моря, встают в синеватом мареве. Где-то, невидимые и неслышимые, бродят чуткие горные бараны. В поднебесье парит, с земли кажущийся неподвижным, орел. Пролетит редкий ворон, огласив хриплым карканьем округу. И опять тишина, нарушаемая лишь звоном ручьев да шумом камня, сорвавшегося где-то и устремившегося вниз.
Редкие березы и осинки, цепляющиеся за скалы, приоделись в желтые и бурые платья. Как они выросли на этих камнях? Откуда пришли они в эти суровые края? Наверное, с тех синеватых хребтов, напоминающих южное, всхолмленное под ветром море?
Колышутся под легким дуновением метелки вейника, в эту пору пушистые настолько, что кажутся клочками шерсти со старой дошки охотника-эвена. Каменные лбы утесов, лишь только их коснется солнечный луч, начинают потеть — настыли за ночь.
Даже и в угрюмой суровости есть красота. Удивительны эти необжитые, дикие края! А сколько таят они в себе неразгаданного! Какие сокровища они еще скрывают! Человеку всегда, когда он хотел взять что-то у природы, приходилось вступать с нею в борьбу. Она ничего легко и просто не отдавала. Прекрасная, великая, сильная, она всегда, прежде чем уступить, словно спрашивала: «Прекрасен ли, велик и всесилен ли ты, человек?»
Некогда любоваться утренними красотами Владимиру Лукичу и Мичилу. Они торопливо закончили легкий завтрак, и Владимир Лукич, достав из полевой сумки топографическую подробную карту, развернул ее перед парнем.
— Бери лист бумаги, рисуй… Вот видишь эту жирную ленту? Это та самая речка, вдоль которой сейчас идут наши. Сегодня они вот у этого изгиба. Здесь место дневки. Теперь вот смотри сюда. — Карандаш Владимира Лукича скользнул вверх. — Видишь эту линию? Вьется-извивается змейкой. Не узнаешь эти изгибы?
— Узнаю. Здесь мы с вами шли.
— Совершенно верно… Здесь мы останавливались вчера. Сейчас — здесь наша палатка. Теперь — вот этот лог. Не тот большой, где я вчера провел весь день и вечер, а вот этот. Ну-ка смотри. — Не отрывая карандаша от карты, Владимир Лукич поднял голову и свободной рукой указал на темную долину меж двумя невысокими утесами напротив. — Вот здесь прямой путь. Проследим его подробнейшим образом. Смотри на карту. Рисуй. Так, так. Хорошо. Рисуй все подробности… Самое главное: не терять ориентира. От одного к другому, к третьему. Не сбиваться с маршрута. На горы не взбираться. Горы очень обманчивы.
Владимир Лукич отрезал хлеба на два привала. Завернув в газету, положил его в пустой рюкзак. Мичил подумал, что тридцать пять верст и с одним привалом одолеть легко, но ничего не сказал: рано еще ему учить Владимира Лукича… Чуть не задохнулся от радости, когда Владимир Лукич вручил ему тридцатидвухкалиберное ружье и патронташ. Но как ни радовался новенькому легкому ружью Мичил, а не забыл, как это делал всегда перед дорогой в тайгу дед, проверить нож: на месте ли, не затупился ли? Повесил его поудобнее на ремень сбоку. Надел кожаный, уже видавший виды картуз, в котором приехал в Якутск из тайги и в городе его не носил, а вот в экспедицию снова взял. Завязал на груди лямки вещмешка. Ружье — к ноге и стал совсем готовый, по-солдатски сосредоточенный.
— Ну, в путь! — Владимир Лукич положил руки на плечи Мичила. — Держись, сынок. Крепись. Будь строгим в тайге. Тайга как фронт. Да что тебя учить: ты сам тайгу с пеленок знаешь… В путь. Счастливо…
Сверкнув в улыбке ровными рядами зубов, по-военному строго повернувшись, Мичил взбросил на ремень за спину ружье и твердым шагом пошел прямо к логу, темневшему в отдалении.
Валуны. Валежины. Каменные осыпи. Сначала как будто вилась какая-то тропочка, а потом под ногами мох, мох, и ничего более. Но Мичилу и не нужно никакой тропочки. Солнце должно светить в левый висок, впереди должна маячить крутолобая вершина. Вперед. Вперед. Вперед.
Шаг неторопливый и неслышный, как у охотника: не хрустнет веточка под ногой, не звякнет камень. Глаза внимательно обмеривают каждый кустик, уши не пропустят ни единый самый легкий звук. Вперед. Вперед. Вперед.
Задание важное. Как настоящее военное… «А мог бы я выполнить настоящее военное задание?»
Мичил посмотрел на свою тень, падавшую на ровные мхи, и эта тень ему понравилась. Настоящий большой партизан с ружьем за плечами. Вещмешок. В вещмешке, наверное, динамит. Партизан идет на задание. Повстречались враги. Мичил сбросил с плеча ружье. От камня — к камню. Перебежкой. От куста — к кусту. Всех бы уложил!.. Идет он дальше. Опять враги. Огонь! Огонь! Вперед перебежками… Э, солнце-то уже светит в затылок. Нехорошо. С пути нельзя сбиваться. Где эта самая крутолобая гора? Вот она. Прямо на нее. Только прямо.
На полдороге почувствовал, что притомился. Теперь впереди уже другой ориентир. Теперь уже солнце светит прямо в лицо. Теперь уже обступают со всех сторон высокие, начинающие желтеть лиственницы.
Встретив на пути большое, поваленное бурей дерево, сел на него отдохнуть и поесть. Жуя хлеб, казавшийся сейчас особенно вкусным, посмотрел на макушку горы, нависавшую совсем близко. Это не та крутолобая, направление на которую держал сначала. Эта похожа на кучку песка, когда его сыплют из руки: ровные края, острая макушка.
«А все-таки на самой вершине хватит места на одну палатку, — подумал вдруг Мичил. — Вот интересно бы там пожить. А зачем жить? Просто побывать там и то интересно. Посмотреть бы оттуда: все вокруг как на карте у Владимира Лукича. И ту речку, где сейчас наши, тоже, конечно, видно. Э, давай-ка взберусь туда! Времени у меня еще много. До вечера все равно к своим дойду».
Карабкался он споро, по нескольку раз встретились каменные завалы — пришлось обходить. Попал в бурелом — тоже выбирался окружным путем. Попотел. Потерял много времени, но все-таки до вершины добрался.
Посмотрел по сторонам. Ну и красота! Синие волны вершин во все стороны! И уходят, и уходят, и тают в маревой дымке. Будет что рассказать школьным друзьям-товарищам. А тут, на вершине, не то что палатку поставить, но и в лапту играть можно…
Вгляделся в южную сторону. Да, вон там и речка поблескивает. Та самая, значит, речка. Решил вдруг: «А зачем мне назад спускаться? Зачем опять терять столько времени? Да я сейчас прямо спущусь. И без всяких ориентиров, без логов и распадков… Тут же рукой подать…» И пошел напрямик.
Очень много попадалось крутых утесов, глубоких промоин — обходил. Спустился вниз, а солнце уже заходит. Заторопился. Чуть не бегом побежал — вперед, вперед, вперед! В сумерках вышел к какой-то речке, не очень широкой и… И кажется, течет она совсем не туда? Нет, это кажется, что не туда. Пошел по берегу, ожидая увидеть огонек костра. Огня все нет и нет, а темнота все гуще и гуще. Ноги налились тяжестью, тело от усталости какое-то деревянное, чужое. А лагеря все нет.
На фоне последних мутных отблесков зари увидел он опять вершину, которая показалась не очень высокой. В надежде, что сверху он увидит огонь, если лагерь где-то в стороне, принялся карабкаться вверх. Выбивался из сил. Не замечал, что одежду рвут острые камни, колючий кустарник царапает руки и лицо. Ружье сползло с плеча, билось прикладом о камни — не замечал, волочил за собой. Карабкался, карабкался — никакой вершины, гора уходит в бесконечную высь. Не видно ничего и не слышно. Только ветер негромкий и заунывный в вершинах деревьев…
Его оставили последние силы. Он в отчаянии опустился на холодный, скользкий от ночной росы камень.
«КУДА ИДТИ?»
До этой минуты он отгонял от себя страшную мысль. Он обманывал себя, что речка течет куда надо. Что вот-вот огонек костра замерцает в отдалении и через какое-то время будут слышны знакомые голоса… Сейчас, на этом холодном, остроуглом камне, мокром от вечерней росы, он заплакал. Он всхлипывал, вздрагивая плечами. Он озирался широко раскрытыми от испуга глазами. Он вслушивался в жуткую тишину, нарушаемую лишь заунывно-тихим ветром в вершинах деревьев…
В темноте кто-то шевелится. Кто-то бесформенно-огромный надвигается… Кто-то следит со спины за каждым движением, уши слышат чей-то крик и шорох крадущихся шелестящих шагов… Волосы на голове встают дыбом, по спине пробегает мелкая дрожь.
«Заблудился!.. Здесь, среди этих диких пустынных гор, кто тебя найдет? И сам кого встретишь?.. Погибнешь без еды. Попадешься в лапы медведю. Волчья стая разорвет. И косточек не оставят».
А в темноте кто-то опять надвигается. Опять эти шаги, чуть слышные, шелестящие… Холодный пот струится по спине. Дрожь колотит тело. Странно. Хочется вскочить и сломя голову бежать, бежать!
«Иди строго по маршруту…»
Не послушался наказов Владимира Лукича. Понадеялся на то, что вокруг своего села знал тайгу и бродил по ней спокойно. Поплатился за легкомыслие.
«Но зачем думать о худом? — спросил себя вдруг строго, голосом, какой бывает у Владимира Лукича, когда тот очень недоволен. — Почему сразу о гибели? И — слезы. Как у трусливой девчонки. А еще хаживал с дедом на медведя! Не зря ребята в классе головами покачивали, когда рассказывал. Не верили. А вот Владимир Лукич поверил. Вон какое задание дал. Надо думать о том, чтобы задание… Чтобы как комсомольцу себя вести. А тут — слезы!.. Задумал напрямик. Хотел выгадать. Чтобы потом похвастаться? Забыл родную якутскую пословицу: «Прежде чем рубить — отмерь, прежде чем долбить — подумай!»
Посплю до рассвета, — решил он. — Потом вернусь обратно. Найду место, где сидел на лиственнице и ел хлеб. Пойду дальше, как на бумаге нарисовано».
И, решив так, Мичил сразу почувствовал себя легко, как будто с плеч свалилась тяжелая ноша. Но тут же он вспомнил:
«Уйдут!.. Да, если до рассвета не найти наших, они уйдут. Тогда остается одно: вернуться к Владимиру Лукичу. Вернуться и… что ему сказать?.. «Я вас подвел. Я всех подвал. Пропало целых шесть дней». Может быть, из-за этих шести дней не успеем обследовать новое месторождение до последнего парохода! Если об этом узнает брат, который днем и ночью бьется с фашистами? Что он подумает? И что подумает обо мне Владимир Лукич, если к нему вернуться и сказать: «Не послушался вас. Полез на гору. Сбился с дороги. Заблудился. Вернулся ни с чем»? Нет! Нет! — сказал он себе. — Не отдыхать нужно. Не спать до рассвета. Нужно сейчас же вернуться. Поискать направление, с которого сбился, и дойти к утру до лагеря».
Не вставая, стащил со спины вещмешок. Развязал. Нашарив рукою хлеб, отломил половину, стал есть. Нет, такого вкусного хлеба еще не приходилось есть в жизни. Прямо-таки сам тает во рту. А как вкусно пахнет! Кажется, на весь лес запах от этого маленького куска.
Подобрав губами с ладони последние крошки, поднялся. Закинул за спину почти пустой мешок, взял ружье. С трудом сделал первый шаг: ноги как деревянные. Одежда, мокрая от пота, пока сидел, застыла и при первом шаге будто льдом обожгла тело. Темно, ни зги не видно. Высоко ли забрался в гору? Или совсем внизу? Только звезды на небе висят, безучастные, холодные, далекие. «Иди сюда-а!» — где-то противно кричит, как плачет, ночная птица.
Все-таки пошел, очень осторожно, как с завязанными глазами, выставив вперед руки, нащупывая ногами дорогу. Потому что он спускался, ему казалось, что он идет той самой дорогой, которая привела его сюда.
Постепенно глаза привыкли к темноте: может быть, звезды старались помочь парню и хоть немножечко, но все-таки светили. Теперь уже видел деревья, вставшие на пути.
Шел долго или не долго, но услышал вдруг журчание ручья. На четвереньках, ощупью, добрался до воды, лег на камни, припал губами к влаге, пил, пил и все никак не мог напиться. Потом, не поднимаясь, опустил в ручей руку, чтобы точно узнать, в какую сторону он течет. Помнилось, что сюда шел вверх по течению, значит, назад, к той горе, на которую взбирался, надо идти вниз.
Пошел. Часто спотыкался и падал. Иной раз, на скользком камне, ударялся очень больно. Но вставал и спешил. Очень спешил. Скоро по лицу стали хлестать мокрые от росы ветки: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» Значит, ручей привел в густой лес. И звезды вдруг с половины небосклона исчезли — виднелись только над головой. Гора впереди. «Наверное, та самая, с вершины которой увидел реку». И опять принялся карабкаться вверх. Сколько ни лез, сколько ни шел, но голой вершины, на которой хоть палатки ставь, хоть играй в лапту, не достиг. Ноги еле-еле идут. В голове гудит.
Вдруг за спиной затрещали сучья и раздался леденящий, с завыванием, крик. Кто-то, огромный, во все небо, падал сверху. Мичил вскрикнул и, закрыв лицо руками, повалился ничком. Страшный громкий хохот раздался над головой, прокатился эхом по ночному лесу, затих.
Лежал, уткнувшись лицом в землю, прислушивался. Никого. Тишина. Приходил понемногу в себя. «Да это же филин! Мой старый картуз, наверное, принял за зайца да и хотел его сцапать».
Вспомнились сразу разные истории, которые случались с дедом на охоте. Много этих историй дед рассказывал. Филин тоже деда сколько раз ночами пугал. Успокоили эти воспоминания. А сил дальше идти все равно уже не было. Нащупал рукой поваленное дерево, перед которым лежал. Подполз к нему, привалился спиной. Под голову положил мешок. Куртку расстегнул и натянул на лицо. Закрыл глаза… Много ли нужно усталому, выбившемуся из сил пареньку — уснул сразу же. Даже губами зачмокал во сне.
У КОСТРА
Долго ли будет спать на холодной земле, в мокрой от пота одежде, сраженный усталостью подросток? Очень скоро продрогший до костей Мичил проснулся. Тьма. Холод. Ощупью набрал хвороста, разжег костер.
Раньше не раз вместе с дедом сиживал у веселого трескучего огонька. На рожне жарилась куропатка или добрый кусок оленьего мяса. Костер дышал теплом. И то же тепло жило в дедушкиных байках о старинных охотниках, о чудесах, приключавшихся с ними. Как было хорошо! Теперь Мичил тоже на охоте. Только зверь покрупнее и поценнее, чем все, каких пришлось добыть деду. Золото!
Весной, перед тем как уходить с отрядом в тайгу, написал деду и бабушке, что на все лето берут работать в экспедицию. Поняли ли старики, что на серьезное дело ушел их внук? Если поняли, то небось за самоваром ведут долгие беседы, где да как сейчас их Мичил. Рассказывают, наверное, соседям, что внучек уже вырос, подружился с русскими и теперь далеко в верховьях больших рек, в глухих урманах ищет земные клады. Гордятся, наверное, старые внуком. А внук получил первое серьезное задание и…
«Ах, как же нехорошо получилось, — сокрушенно покачал головой Мичил. — Как нехорошо. Вернусь завтра к Владимиру Лукичу и честно обо всем расскажу».
Согрел костер. Разморил. Уснул опять парень. И приснился ему жаркий-прежаркий день. Печет немилосердное солнышко. Хрустально-прозрачная гора, формой похожая на ту, на вершине которой побывал, но только гораздо выше, сверкает совсем близко. А наверху, за облаками, которые плывут лебедиными стаями, стоит младший техник Николай Санников. Когда он виден в просветах меж облаков, то взмахивает красным флажком и кричит Мичилу: «Я тут! Иди сюда!» Мичил лезет по отвесным скалам, хватается за острые камни. И вдруг, сорвавшись, летит вниз. Летит долго, дух захватывает. Ударяется больно… Проснулся сразу же. Оказывается, уснул, сидя на камне. Ну и свалился.
«Ох и сон. Какой сон. Хорошо, что это во сне. Падать с такой высоты! — радовался, устраиваясь снова на камне. И вдруг ему послышалось, что где-то вдалеке кричит человек. И еще в другой стороне — тоже протяжный крик. Прислушался. — Нет, нет, это не крик людей. Это… волки!»
Сонную дрему как рукой сняло. Сразу вспомнились рассказы деда об этих коварных беспощадных зверях. Принялся торопливо на площадке, освещенной костром, собирать сушник. Часть побросал в костер, запылавший очень сильно, остальное сложил в две кучи и поджег. Теперь оказался между тремя кострами.
Хоть и ярко горят кучи хвороста, а свет отбрасывают всего на несколько саженей. Ветви близких лиственниц в алых отсветах выступают четко, будто нарисованные. А дальше — тьма. Непроглядная, таинственно-настороженная, чужая. Кажется, она нарочно старается быть густой и непроглядной, чтобы укрывать хищников, которые, судя по голосам, приближаются сюда.
Взял ружье, достал из патронташа пулевые патроны. Оглядывается постоянно: волки всегда нападают сзади — об этом слышал от многих охотников. Сердце бьется сильно и гулко — иной раз кажется, что это не удары сердца, а прыжки волков в темноте.
Костры разогрелись сильно, трещат. Снопы искр взлетают вверх и, словно ударившись о темноту, ниспадают угасая. Лиственницы будто подступили ближе к огню, тянут озябшие лапы-руки, хотят их согреть и совсем не боятся обжечься. Волчьи голоса умолкли.
Долго еще сидел Мичил, держа наготове ружье и патроны. Постепенно успокоился. Увидел, что костры слабеют. Переламываются красные, превратившиеся в угли сучья: белый пепел стаями встревоженных мотыльков поднимается вдруг и медленно опускается.
«Костры не должны угасать. На что тогда надеяться? Подбросить еще нужно дров».
Пришлось выйти из-за костров… Отламывая макушку сухого поваленного дерева, краем глаза увидел, как шевельнулся вдруг темно-серый камень величиною с коровью требуху. Не раздумывал. Еще мысли никакой не родилось и не разглядел еще остро вытянутой морды и прижатых к голове ушей и блеск хищных глаз не увидел как следует, но кошкой метнулся к костру. Не помнил, как выхватил самый большой горящий сук, и, чувствуя всей спиной, как на нее что-то падает, выбросил этот сук навстречу… Может быть, это только казалось, потому что, как говорит пословица, у страха глаза велики, а может быть, и действительно так было: лязгнули зубы. Злобный вой — ушла добыча — раздался коротко и негромко. Тяжело плюхнулось что-то совсем близко. Сук из рук Мичила тоже вырвался и упал. Но он уже был не нужен. Трясущийся, как в лихорадке, парень уже заскочил за костры, схватил ружье…
Может быть, их напугали выстрелы (Мичил палил потом во всё, что в его глазах шевелилось и двигалось), а может быть, потому что наступил рассвет, они ушли.
Не сразу Мичил оставил угасавшие, покрывшиеся толстым слоем седого пепла костры. Но надо было идти…
ПРОХОДИТ ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ
После бессонной ночи, натощак, Мичил уже около полудня совсем выбился из сил. На многих горных вершинах он побывал, ходил логами, лесами, перебирался через распадки и ручьи, но не нашел пути, с которого сбился. Ни речки, вдоль которой идет отряд, ни обратной дороги к Владимиру Лукичу — ничего. Вконец устав, присел отдохнуть возле толстого, поваленного бурей дерева и уснул.
Большой серый заяц, у которого хвост уже начал белеть, осторожными бесшумными прыжками прискакал откуда-то и присел неподалеку от дерева. Поднял длинные уши, выставил их настороженно. Вытянув туповатую мордочку, на которой вздрагивали длинные редкие усы, принюхался. Убедившись, что кто-то занял его сухое уютное лежбище, ускакал дальше.
Проснулся Мичил от холода: ямку, в которой он свернулся калачиком, заливала вода. Дождь. Тихий, спокойный, он подобрался неслышно и незаметно.
Протерев глаза, Мичил увидел, что котомка, в которой лежали спички и соль (спички и соль каждый, кто уходит в тайгу, берет обязательно, как берет нож и ружье) плавает в воде. Выхватил ее, намокшую, отяжелевшую, торопливо развязал. Соли осталось щепотка, спички… Все головки облезли, сбились в грязный комок…
«Остался даже без огня…»
Мичил настолько был огорчен, что прошептал вслух:
— Без огня.
Дождь продолжался спокойный и тихий. Деревья, словно загрустив, стояли с опущенными низко ветвями; с ветвей крупными сверкающими слезами падали капли. Дождю, кажется, только большие лобастые камни радовались: они умыто блестели, самодовольно сияли. Меж камней, огибая стволы деревьев, бежали рождавшиеся на глазах ручейки. Спускаясь в близкую низину, они превращались в один поток, клокочуще-говорливый настолько, что казалось, кто-то огромный полощет рот и захлебывается.
Вдали ухнуло и покатилось раскатами, будто звук прыгал с вершины на вершину не видного за дождевой завесой горного хребта. Низкое, провисшее тяжелыми тучами небо полоснула плетка молнии. Гроза… Это совсем страшно: одному — в горах, в лесах — в грозу.
Но грозовой дождь тем хорош, что он все-таки скоро проходит. И эти тяжелые тучи, задевавшие за вершины гор, скоро тоже ветер прогнал. Распогодилось.
Мичил снова шел. Но теперь уже сам не знал куда. Со всех сторон, равнодушные и враждебные, высились поросшие лесом вершины. С деревьев, хотя дождь и прошел, на мальчика падали каскады брызг. Повсюду ручьи — обходить их надоело, переходил их вброд. Весь промок до нитки. Даже голенища сапог размякли и опали вниз, до щиколоток.
Набрел на заросли красной смородины, набрал в картуз переспелых, осыпающихся ягод — поел. Недозрелой брусники поел. Набил на зубах оскомину.
Совсем стало горько мальчишке. Впору — лечь и умереть. Но вдруг подумал: «А Владимир Лукич?.. Он ведь ждет, надеется. А потом… Не дождавшись, сам придет в отряд. Все бросят работу и кинутся искать пропавшего. Сколько времени, сколько дней потратят. А им каждый час так дорог. И вообще всем каждый день, каждый час так дорог. Наверное, и дедушка с бабушкой сейчас чаи не распивают да о внуке не судачат. Дедушка к охоте готовится. Ему нынче за пятерых охотников надо будет план выполнять. Все охотники помоложе сейчас на фронте. Где брат… Брат писал, что он снайпер. Семнадцать фашистов уложил. А если бы он сейчас узнал, что промокший, раскисший весь, как голенище сапога… Нет, нет, так нельзя».
И, как бы соглашаясь с парнем и ободряя его, вдруг выглянуло солнце. Хоть и низкое, клонившееся к западу, но теплое, радостное.
«Ок-сиэ![4] Обсушиться бы. Тогда бы опять — живи! Добыть бы огня».
Ему вспомнились рассказы деда, как в трудных ситуациях охотники добывают огонь. Вспомнилось еще, что в нагрудном кармане куртки лежит обрывок толстой хлопковой веревки, которую он хотел использовать как трут.
На стволе большого дерева срезал сухой грибок. Достал патроны — мало осталось: четыре жекана и три дробовых. Все-таки из одного патрона вынул пыж, а на его место забил грибок. Хотел выстрелить, но… подумал, пошел с ружьем в руках.
Из кустов с сильным шумом поднялась глухариная стая. Тяжелые птицы не улетели далеко — расселись по деревьям. Мичил подкрался поближе, положив ружье на сук лиственницы, прицелился в глухаря, сидевшего ближе других и удивленно вытягивавшего в его сторону шею. Медленно нажал курок, вкладывая в этот выстрел надежду, которой ни в какой иной никогда ранее не вкладывал. Выстрел прогремел звонко, глухарь комом свалился вниз. Мичил бросился было к добыче, но тут же увидел дымящийся грибок. Забыл про глухаря.
Бережно, словно махонького птенчика, подхватил грибок, выхватил из кармана хлопковую веревку, разлохмаченный конец ее приложил к тлеющему грибку и принялся сильно размахивать в воздухе. Веревка затлела. Тогда свободной рукой торопливо собрал кучку мелкого хвороста, содрал с ближайшей березы отставшую сухую бересту. Поднес ее к труту и осторожно подул. Береста затрещала, занялась пламенем и стала сворачиваться в трубочку. Мичил сунул ее под тонкие прутики. Опустившись на колени, принялся колдовать над огоньком, все стремившимся погаснуть, но под руками и дыханием Мичила разбегавшимся все шире и шире.
— Ура! Загорелось! Ура! — Парень отплясывал какой-то невероятный, с прыжками, с притопыванием, танец, дико кружился и сбрасывал с себя мокрую одежду. Потом, уже без приплясываний, но торопливо развесил перед костром одежду, сбегал за глухарем, принялся его ощипывать. Голый, весь в пуху, сидел он у костра, похожий на того первобытного человека, который еще не знал одежды, не умел строить жилищ и питался только тем, что посылала ему удача. Вот если бы увидели его сейчас одноклассники! Уж они бы и подивились, уж они бы и посмеялись над беднягой. Но Мичил сейчас не думал о том, как выглядит, он думал о том, что скоро вкусно и сытно поест. У костра склоняясь к огню, выстроились рожны с мясом глухаря. В лукошке из бересты… Да, да, было уже и лукошко. Мичил снял с толстой гладкоствольной березы большой кусок бересты, погрел его над костром и потом, при помощи ивовых прутиков, сделал сносное — в нем держалась вода — лукошко. И хотя эта посудина сморщилась, почернела, стала похожей на камеру волейбольного мяча, плохо надутую, но в ней кипела вода. А потому, что в лукошке плавала чага — гриб, растущий на березовых стволах, — вода становилась похожей на чай.
Очень сытно поужинал Мичил. Одежда вся высохла. И хотя со всех сторон опять надвигалась темнота, и хотя опять обступавшая парня тайга наполнялась зловещими шорохами, мрачными видениями, Мичила это уже не пугало. Он натаскал большие кучи хвороста, приготовил себе уютное место меж кострами. Он почувствовал вдруг, что не пропадет.
Когда человек в беде не растеряется, то его не оставит надежда, вера и даже радость. Мичил не растерялся. И хотя он не мог знать, что готовит ему завтрашний день, устраивался на ночлег очень спокойно.
ЗЕМЛЯНКА
Поднялся Мичил опять очень рано. Поел глухариного мяса. С сожалением смотрел на угасающие костры: знал, что огонь опять будет нужен, но как его возьмешь с собой? С горестным чувством принялся забрасывать кострища камнями — никакой опытный таежник не оставляет огонь непогашенным. Среди камней часто попадались осколки красноватых, синеватых кремней. Несколько из них Мичил отложил.
Помнил мальчик, что у деда всегда имелись про запас такие вот кремни. Дед всегда носил с собой кресало — небольшую, но толстую стальную пластинку. Эта пластинка тонким ремешком привязана к кожаной сумочке. А в сумочке — трут и кремневый камень.
«А что, если вместо кресала попробовать нож?» Мичил выбрал камень, удобно лежавший в ладони, принялся с силой чиркать по нему тупой стороной ножа. Не получалось. Несколько раз ударил себя больно по пальцам. Бросил камень. Взял другой. Тоже никаких искр. Наконец из острого ребра темно-коричневого камня вылетел искровой сноп. Еще ударил. Искры! Очень много искр. Завернул кремень в бересту, положил в карман, где лежала хлопковая веревка, верно послужившая вчера.
Сегодня Мичил не стремился найти речку, вдоль которой двигался отряд. Сегодня, как казалось ему, он шел в ту сторону, где должен был находиться Владимир Лукич. Но с каждым часом места становились все более незнакомыми, совсем исчезли голые вершины — Мичил понял, что прежних своих дорог ему ни за что не найти. Присев, отдохнув, съев остатки глухаря, которые прихватил с собой, он принял решение: более не ходить вот так бесцельно, обманывая себя. Нет. Теперь нужно выбрать направление и день и ночь, день и ночь идти только туда. Лучше всего идти на запад. Там большие реки. Там люди. Если идти на запад, скорее всего попадешь к людям.
«Владимир Лукич теперь уже, конечно, забеспокоился: почему не пришел отряд. Наверное, вышел теперь к месту второй стоянки. Теперь, наверное, бросили работы, ищут… А как они могут меня найти, если за эти дни я убежал сам не знаю куда, за сколько верст от тех мест, где должен был быть…
Сколько же хлопот причинил я людям! Из-за меня могут опоздать к последнему пароходу. Новое месторождение так и останется неисследованным. А это золото так бы пригодилось. И оружие на него можно было бы накупить против фашистов. И пищи для солдат на фронте… Как же я подвел отряд! Нет, надо как можно скорее выйти на Алдан. Найти людей. Пусть сообщат в отряд, что меня искать не надо. И пусть отряду помогут. Надо месторождение скорее обследовать… На запад. Теперь только на запад».
Нелегка дорога через глухую тайгу, через каменные гряды. То вдруг завалы бурелома преграждают путь, то вдруг отвесные скалы встают, будто говорят: «Нет пути к людям. Не пустим на запад».
Мичил старается идти логами и распадками. Но лога кончаются, упираясь в горные вершины. Тогда — в обход вершин. По обрывистым склонам, по сыпучим каменным россыпям. Но все на запад, на запад.
К вечеру ружье отяжелело, ремень врезается в плечо. Сапоги, вчера размокшие, а потом, у костра высушенные, трут ноги. Пот градом катится с лица. Мичил не успевает смахивать его рукавом куртки. Устал. Опять очень устал парень. Пора передохнуть. Но он не разрешает себе садиться. Сядешь — заснешь. А теперь, когда есть ясная цель, когда знаешь, что надо торопиться, не хочется терять ни минуты.
Прислонился Мичил плечом к дереву, решил отдохнуть стоя. Стоит, блуждает безразличным взглядом перед собой. Вдруг (что за наваждение!) меж деревьями привиделась дверь избы.
«Совсем пропадаю, — подумал Мичил. — Уже мерещиться начало от усталости».
Чтобы не мерещилось, посмотрел вверх, на верхушки деревьев. По-над верхушками высится гора. Даже похожая на ту, которая подвела. На которую забрался и сбился с пути. Но все-таки это не та гора. Совсем не та… Перевел взгляд обратно, вниз. «Что же это такое?! Видна дверь. Меж деревьями видна дверь». Продолжая не верить себе, ожидая, что видение вот-вот исчезнет, Мичил крадущимися шагами двинулся вперед.
Дверь оставалась на месте. Более того, обозначилось что-то похожее на стены. Мичил уже не мог удержаться от радости — большими, как у горного барана, скачками понесся к двери.
Землянка. Да, охотничья землянка.
«Нет, — думал Мичил, от волнения не чуя под собой земли. — Нет, счастье мне не изменило. Пусть тут охотников сейчас и нет — на лето они уезжают домой. Но в избушке должен быть запас пищи. Должны быть спички, соль, дрова. Чтобы бедствующий в тайге человек, выйдя к такой вот избушке, сразу почувствовал: спасен! Это неписаный таежный закон… Отдохну под крышей. Затоплю печку. Да, значит, отсюда недалеко и до селения. Не смогут же охотники за тысячу верст уходить на промысел!»
Перед землянкой мох и трава повыбиты — будто люди были здесь совсем недавно. Мичил потянул на себя тяжелую дверь, обитую звериной шкурой. На него дохнуло затхлым, тяжелым воздухом непроветриваемого помещения.
Внутри землянка оказалась очень просторной. Вырытая на склоне горы, она расширялась от дверей к задней стене. Стены выложены камнями и обмазаны глиной. На камнях, наваленных около задней стены, широкие деревянные нары из грубоотесанных досок. Сверху невыделанные медвежьи шкуры, ватные телогрейки, старые затасканные пальто лежат тремя отдельными кучками. Посреди землянки, на каменной плите, старенькая железная печка. Налево от дверей — грубо сколоченный стол из трех досок. На столе — куча костей: будто жившие здесь перед уходом съели целого оленя.
Мичил обшарил землянку, но ничего съестного не нашел. В темном углу, которого почти не достигал свет из открытой двери, наткнулся на берестяные ведра с водой. Вода довольно свежая — напился. Присел на нары.
«Зимой здесь живут трое охотников… Но следы возле землянки свежие. И внутри не прибрано. Перед уходом охотники всегда прибирают свое жилье. Наверное, они жили тут и летом. Может быть, угодья обследовали, снасти ремонтировали. А потом их вызвали в село. Зачем-то очень быстро вызвали… Провизия и все другое у них, конечно, в амбаре. Где-нибудь тут, недалеко от землянки… А вообще-то они грязнули. Мой бы дедушка за такую грязь им спасибо не сказал… Отдохну немного и поищу кладовую. Не может быть, чтобы таежные люди старинные законы нарушили».
Мичил прилег на нарах. Тело гудело от усталости, пудовыми ногами трудно было пошевелить. Веки сразу начали слипаться.
«Если только маленько. Совсем маленько, — сказал себе Мичил. — Чуть-чуть посплю и…»
Мысли запутались, сон мягким крылом коснулся лица, расправил горестные складки в уголках рта. Под крышей, на медвежьих шкурах и ватных телогрейках, наверное, что-то приятное сразу приснилось Мичилу — он зачмокал губами, захотел что-то сказать…
Уснул. Крепко-крепко уснул.
«МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО СОН?»
Сразившая парня усталость еще не ушла: тело было тяжелым и болевшим, словно после палочных побоев. Еще спал бы и спал бы Мичил. Но неосознанное и вместе с тем острое чувство опасности заставило парня проснуться. Открыв глаза и ничего не видя в темноте, он тут же почему-то понял, что не должен шевелиться, а должен, как затаившийся в кустах зайчишка, лежать неподвижно, ждать. Он услышал какую-то возню, как будто бы боролись двое, и свистящий злой шепот:
— Постой! Погоди, Кривая рожа! Ты кого испугался? Это же малявка. У него еще молозиво на губах не обсохло. Или ты свою храбрость хочешь показать: порешить сонного?
— Ты не держи меня! — хрипло отвечал другой. — Эту тварь надо прибить. Напугал нас всех до полусмерти. А может, он и подослан. Пока мы с ним вожжаемся, тут и нагрянут.
— У тебя, Кривая рожа, видать, сердчишко утиное. Положи нож. Выведаем все у парнишки, выспросим, а тогда уж и порешим и поглубже закопаем.
Мичил не верил своим ушам. Сердце билось, как пеночка и силках. «Может быть, это во сне?.. Нет, наверное, это во сне!» Рука лежала возле бедра, и он незаметно ущипнул себя. «Нет, больно! Это не во сне. Это наяву. Но куда я попал? Охотники?.. Но зачем им так шутить?»
Сквозь опущенные ресницы, чуть-чуть приоткрыв глаза, Мичил попытался рассмотреть людей в землянке. Но их не видно. Тусклый луч света тянется из открытой двери, словно хвост бегущей гнедой лошади, достает лишь до печурки, а далее — темно. Слышно, как сухо щелкнули берестяные ножны — злая рука положила в них нож.
— Давно бы так, Кривая рожа. Теперь идите и наблюдая те внимательно. Если он и вправду подослан, то милиционеры должны сейчас появиться. Заметите кого, кричите по-вороньему. Много их будет — убежим. Мало — перебьем, и все оружие будет нашим. Идите. Экчээле[5], ты тоже иди. А я поговорю со змеенышем.
Две тени скользнули в тусклом луче света и исчезли за дверью.
«Их трое. Тыый![6] Не дезертиры ли это? Говорят, что в лесах кое-где прячутся мерзавцы, которые фронта боятся. Если это дезертиры, значит, я пропал. Живым мне отсюда не выйти». И опять услышал, что сердце бьется, трепещет, как птичка, попавшая в силки. Страшно, ужасно страшно стало Мичилу.
Чужая тень пересекла луч тусклого света. Огромная, будто уходившая головой куда-то в потолок землянки, остановилась рядом. Прислушалась. Мичилу показалось, что бродяга сейчас услышит, как стучит его сердце… Наверное, не услышал. Отошел на цыпочках, прислонил свое ружье к столбу возле печурки. Опять вернулся. Взял ружье Мичила, стараясь не шуметь, разрядил. Зашуршали ножны — доставал нож…
«Не убивайте! Не убивайте!» — хотелось закричать. Хотелось вскочить и броситься к двери. Но… Но знал, стоит лишь пошевелиться — и тяжелая злая рука схватит за ворот, бросит обратно на лежанку и… В другой руке — нож…
Лежал. Замирая от страха, почти не дыша, стараясь не сделать выдавшего бы его разом движения.
«Что же все-таки делать? — справляясь со страхом, спросил себя мальчик. Вспомнил брата. — Воюет. Семнадцать фрицев застрелил. А ведь каждый из них мог убить и его. Воюет брат. И все-все воюют. Кого не берут, те здесь, в тылу, как мы, геологи. Тоже не сладко. Иной день все ноги сбиты, тело в ссадинах. Руки дрожат от усталости. А Владимир Лукич поторапливает: «Здесь тоже фронт. Мы тоже бьемся с врагами»… А тут… Собаки! Спрятались в вонючей норе… Нет, я у вас просить пощады не буду. Валяться у вас в ногах не заставите».
Лежал, стараясь дышать глубоко и ровно, как спящий. Через полуприкрытые веки следил за черной тенью, которая теперь уже не казалась огромной, уходившей головой в потолок…
На столе появилась плошка-жирник, замерцал слабенький огонек, по стенам забегали пугливые тени. Бродяга притворно громко закашлял, с шумом передвинул столик, присел на лежанку в ногах у Мичила. Правая рука — за пазухой.
«Держится за нож. Может быть, думает, что у меня есть наган?.. Вот если бы у меня был наган. Я бы вас всех тут укокошил!»
— А ну, догор[7]! Наш гость молодой! Как крепко спишь! Проснись, дорогой. Проснись…
И, как бы шутливо щекоча, принялся шарить вдоль боков, на груди — хотел убедиться, нет ли у Мичила оружия.
Будто только что просыпаясь, Мичил потянулся, протяжно зевнул, сел на лежанке. При свете жирника разглядел дезертира.
Это был уже немолодой мужчина, лицо которого избороздили глубокие грубые морщины. На одной щеке сверху вниз ножевой шрам. Кожа черная, не то очень загорелая, не то грязная, прокопченная дымом костра и жирника. Взгляд исподлобья, бегающие глаза цвета желчи и недобро блестят. В молодости он, наверное, был довольно высоким, а сейчас сутулится, будто боится удара по голове, и потому постоянно втягивает ее в плечи. Давно не брился, и потому щеки заросли густыми черными волосами; на грудь опускается недлинная, но плотная, как лежалый мох, борода.
Мичил уже нашелся, как ему действовать.
Притворно всхлипнув, принялся сочинять жалобный рассказ. Охотился, мол, с дедом на лосей. Заготовляли мясо для общественного питания колхозников. Далеко, видимо, отсюда охотились — в верховьях речки, впадающей в Алдан. Отбился. Уже который день, который день… Думал — конец.
— Да вот на вас набрел. — Изо всех сил Мичил постарался, чтобы голос прозвучал радостно. — Теперь не пропаду. Вы тоже для колхоза охотитесь? Да?
Бородатый, видимо, не ожидал такого поворота в разговоре. Поэтому ответил он не сразу. Уставил глаза в потолок, постучал пальцами по колену. Медленно, как бы еще не решив, надо ему врать или не надо, сказал:
— Да, да… Для колхоза. Конечно… Теперь все работают для колхоза и для войны… А ты и вправду намаялся, парень. Когда же ты расстался с дедом?
— А я уж и не знаю. Уж так давно. Так давно. Я так боялся, что и дни не считал. Полмесяца, поди, не менее, — и смотрел внимательно, как же Бородатый примет его слова, поверит ли.
— А дед твой сюда придет?.. За тобой? А если не придет, что делать дальше думаешь?
Мичил опять заставил себя всплакнуть.
— Дед старенький. Куда ему в такую даль! Хорошо, если обратно выберется. Ему одному, без меня, тоже трудно. Он уже и слышит плохо и глазами слаб. А нельзя мне у вас остаться? Когда поедете домой, и я с вами. А так я пропаду. Дороги мне не найти, — особенно жалостливо всхлипнув, смахнул со щеки слезу. — Оставьте меня у себя. Не прогоняйте.
Кажется, на Бородатого слезы да мольбы подействовали — поверил. А если бы не поверил, то зачем бы стал уговаривать да успокаивать?
— Ну ладно, ладно. Не плачь. Мужчина, охотник разве может раскисать при пустяковой неудаче! Ладно… может, и оставим…
Мичил возликовал про себя, но виду не показал, а продолжал рискованную игру далее.
— Я, может, и кажусь вам маленьким, но я — охотник. Я вам очень помогу. А если вы мне осенью немножко дадите… У нас в колхозе нынче очень плохо. На трудодни получим мало. А если я с мясом приеду из тайги!..
— Насчет этого решим потом. Конечно, долю тебе выделим. Нас тут трое. Думаю, товарищи мои не будут против. Охотник охотнику должен помогать — таков обычай… Ну что ж, вставай. Разомнись. Раз входишь в пай, берись за дело. Растопи-ка печку…
Мичил вскочил с такой радостью, что, будь дезертир чуточку проницательнее, он сразу бы заподозрил неладное. «Смерть отступила! Пусть ненадолго, но отступила!» А бородатый думал, что парнишка радуется: «Охотники приняли в пай!»
Когда в печке, охваченные жарким пламенем, весело трещали сухие дрова, появились приятели Бородатого. Один принес трех серых зайцев. Второй сбросил с плеча мешок, шлепнувшийся на пол тяжелой мокрой лепешкой.
— О! Наши охотники вернулись! — с притворной веселостью приветствовал их Бородатый. — Друзья, вот посмотрите-ка, забрел к нам славный паренек. С дедом охотился. И заблудился. Просит принять его до осени в нашу бригаду.
Охотники словно только что увидели Мичила. Изображали удивление, охали: «Как же это так! Отбился от деда! Заблудился!» Тот, который принес зайцев, мужчина лет тридцати, с багровым, скошенным набок лицом, даже подошел к Мичилу, погладил его по голове.
— Тыый! — воскликнул удивленно, пряча узкие глаза в красных распухших веках. — Заблудился!.. Погибнуть мог… Пусть остается. Пусть остается. В беде товарища бросать нельзя.
Мичила затрясло: он узнал по голосу того, Кривую рожу, который хотел прикончить его спящего. Но, изобразив рыдание, он заговорил тем жалостливым тоном, которым уже сумел обмануть Бородатого:
— Не оставьте, добрые люди. Не прогоняйте. Вовек не забуду нашей доброты.
— Конечно… Почему же не помочь попавшему в беду, — проговорил мужчина, до этих пор молчавший. Проговорил и сразу же испуганно посмотрел на Бородатого и на другого: будто спрашивал, не сказал ли чего лишнего. Он как сбросил с плеч тяжелую ношу, так сразу сел на лежанку и сидел, опираясь руками об острые коленки. Его грудь ходила как кузнечный мех: вздымалась высоко и часто. Слышно было, как в ней хрипит и булькает. Из-под рваной рубашки, кое-как залатанной неумелой мужской рукой, остро выступали сухие плечи. Глубоко запавшие щеки и свисающая бессильно нижняя челюсть делали лицо длинным и сплюснутым с боков. Он все время испуганно следил за выражением лица своих приятелей, перебрасывая взгляд то на Бородатого, то на Кривую рожу. И по испугу, жившему в его глазах, и по тому, как горбилась его худая костлявая фигура, Мичил сразу определил, что к этому мужчине Бородатый обращался с обидным прозвищем: «Экчээле».
Мясо еще не доварилось, когда котел уже потащили к столу. В угасавшую плошку добавили жира, и она сильно зачадила. При свете чадящего жирника набросились на котел. Потные, измазанные салом лица похожи на собачьи. И хруст стоит совсем такой, когда собаки грызут кости. Звери, да и только. Разве лишь не рычат друг на друга, но глазами смотрят злыми-презлыми, как будто боятся, что кто-то у кого-то перехватит лишний кусок. Хрустят. Чавкают. Но молчат. Даже ворон, клюющий падаль, и тот нет-нет да и каркнет, а эти… Вот так, наверное, волк молча и зло расправляется с жертвой.
Мичил, пристроившийся в сторонке, тоже взял кусок. «О, да это же не сохатина. Это конина. Вот подлецы! Они режут колхозный табун!»
Как он ненавидел этих разбойников! Даже расхотелось есть. Сидел да для виду причмокивал, будто расправляется с жирным куском. Соображал: «Значит, до колхозных пастбищ здесь недалеко? А может, и нет. За лето они могли какой-нибудь табун угнать за сотни верст».
После ужина разделывали зайцев. Красноглазый, с перекошенным набок лицом, мужик вытащил из берестяных ножен якутский тонкий нож подлиннее харыса[8] и принялся кромсать освежеванные тушки. Длинное блестящее лезвие купалось в крови. Мичил, содрогнувшись, вспомнил, что этим ножом хотел пронзить его разбойник. От страха волосы на голове зашевелились и встали дыбом. По спине побежали холодные мурашки, на висках выступил ледяной пот.
«Вот так же они разделаются и со мной. Когда только? Ночью? Завтра? Или через несколько дней?.. Бежать?.. Нет, они вон как посматривают. Стерегут. Только почуют, что хочу сбежать, сразу вот этим длинным, блестящим… Что делать? Что делать?»
И, пристроившись на полу, между лежанок, все не мог заснуть, но и не ворочался — лежал тихо-тихо. Мыслей много, но не было такой, которая бы подсказала, как быть, на что решиться. Ничего придумать не мог…
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ!»
Никогда еще время не шло так медленно, как с той минуты, когда попал в лапы к бродягам. Эти трое суток казались длиннее, чем все годы, ранее прожитые. Мучителен каждый час, каждый миг. «Как бы не проговориться про экспедицию! Как бы оттянуть страшную минуту… Когда она наступит, эта страшная минута? Сразу убьют? Или еще будут выпытывать что-нибудь об отряде, о том, что ищут его друзья?» Кажется, что даже ночами дезертиры не спят. То один кашляет, то другой. Ворочаются с боку на бок. Сторожат, как бы не сбежал.
Сбежать не просто. Нужно, чтобы было ружье, заряды. Чтобы хоть немного провизии на дорогу. И чтобы представился случай. А какой может быть случай, если и на охоте они стараются держать его возле себя.
Мичил изо всех сил старается завоевать доверие бродяг.
За эти дни убил зайцев больше, чем каждый из них. Они даже нахваливают его: «Добрый охотник! Добрый! Самый большой пай — тебе!» Мичил улыбается на эти шутки, на эти обещания и нет-нет да бросит взгляд на берестяные ножны Кривой рожи, в которых до поры до времени спрятан «его пай».
Каждый вечер, после возвращения с охоты, Мичил должен принести воды из родника, до которого довольно-таки далеко. Туда и обратно его сопровождает кашляющий согбенный бродяжка, к которому те двое не обращаются иначе, как только лишь «Экчээле».
Каждый вечер… Мичил должен принести воды из родника…
Вчера бродяжка вдруг начал приставать с расспросами.
— Ты, видать, школьник. Наверное, и газеты читал. Может быть, и радио слушал. А мы тут очень давно промышляем. Забыли когда и на людях были. Расскажи-ка, как там сейчас дела. Что в колхозе? Что на фронте?
Мичил обрадовался этим расспросам. Самым подробным образом стал рассказывать, что сейчас происходит на белом свете. Что в колхозе сейчас очень трудно. Остались женщины, старики да ребята. Но все работают. Все планы выполняют. Сейчас все для фронта. Все для победы. Фашисты почти до самой Москвы поначалу дошли. Но им как дали! Как дали! Сейчас фашисты далеко от Москвы. Их колотят. Но война еще идет нелегкая.
Экчээле (на самом деле его звали Николай) стал задавать хитрые вопросы. Все ли, мол, ушли на фронт? И нет ли таких мужиков, которые от фронта скрылись? И как поступают, если такой мужик одумается да придет с повинной.
Мичил понял, что от его ответов на эти хитрые вопросы многое зависит. Но что сказать? Он ничего не знал о дезертирах, креме того, что эти мерзкие людишки боятся идти на войну.
Сделав вид, что совсем не понимает, зачем и почему начал этот разговор Николай, Мичил принялся рассказывать, что молодых да сильных строго судят. И отправляют на фронт искупать свою вину. А если больной, ему присуждают принудительные работы в своем же колхозе.
— О! — вскричал Николай. — В своем же колхозе? И ты правду говоришь? Ты не обманываешь меня, парень?
Мичил стал убеждать, что говорит правду, и всю дорогу назад рассказывал о жизни, которая идет сейчас где-то там, за горами, за лесами. Рассказывал о колхозе (придумывать ничего не надо было — знал по письмам, как живут земляки). Рассказывал, как сейчас возвращаются с фронта раненые. И как все убеждены, что скоро будет победа. И тогда все вернутся домой. Придет с войны старший брат.
Николай схватил его за плечи и, бросая испуганные взгляды в сторону землянки, к которой они подошли, зашептал:
— Тукаам, ты не рассказывай об этом нашим. И будто мы с тобой ни о чем не говорили. Слышишь — ни о чем! И если начнут тебя расспрашивать о войне, говори: «Ничего не знаю».
Этот разговор словно связал их общей тайной. Мичилу казалось, что они с Николаем составили заговор против тех, двоих. Но время от времени на него нападала страшная робость, почти испуг: «А если этот Николай просто хочет выведать мои мысли и планы?»
Сегодня, когда вернулись с охоты и когда те двое унесли в ледник убитых зайцев, Николай схватил берестяные ведра и, оттащив их в кусты, вылил воду. Когда же Бородатый и Кривая рожа вернулись, он засуетился виновато:
— Водишки-то не осталось. Чаишко-то как вскипятить? Сходить надо за водишкой-то.
— Как же, как же, — важно ответил Бородатый, державшийся все время главарем. — Вода — дело ваше. Давайте идите за водой. Пока мы тут мясо приготовим да печь растопим, чтобы вода уже была.
Только землянка скрылась за кустами, Николай опять подступил с расспросами. Мичил решил: «Если даже он хочет все у меня выведать — пусть. Все равно уж! Если пропадать, то раньше или позже, какая разница». И он опять стал рассказывать обо всем обстоятельно. И опять, когда зашел разговор о дезертирах, сказал, что знает одного больного мужика. Работает он в своем колхозе, на принудительных работах.
— Ты не обманываешь? — Голос Николая дрожал от волнения. Глаза, всегда печальные и тусклые, сейчас блестели радостью. Даже на лице, пепельно-сером, заиграл румянец.
У родника (здесь из скалы била струя хрустально-прозрачной воды) Николай снова ссутулился и, втянув голову в плечи, пустым, бессмысленным взглядом уставился в ведро, которое быстро наполнялось. Когда вода хлынула через край, шум будто встряхнул бродяжку. Убрав ведро из-под струи, Николай поставил его на плоский камень и опять забылся, глядя на свое отражение, вытягивавшееся в ведре, где вода еще не успокоилась. Худое, длинное лицо, смотревшее потерянным, пустым взглядом из воды, вдруг будто напугало его. Николай подскочил к Мичилу и, впившись костлявыми пальцами в плечи парня, повернул его к себе лицом. Округлившиеся глаза Экчээле были неимоверно широкими, а зрачки такими огромными, что походили на ружейные стволы, если вдруг их наведут на тебя.
— Тукаам, послушай-ка, — шептал, а сам испуганно оглядывался и больно впивался пальцами в плечи, дышал хрипло, рывками. — Мы тоже… Ты думаешь, мы… А мы не охотники. Мы тоже… дезертиры. Бродяги.
— Тыый! Неужели? — Мичил притворился, будто поражен, будто это известие для него новость. — Да неправда…
— Правда, правда. — Николай отобрал у парня ведро, поставил рядом со своим и, ухватив Мичила за локоть, потащил за выступ скалы. — Правда, тукаам. Правда. И давай-ка посоветуемся. Поговорим. Ты не знаешь… А тебя… Тебя каждую минуту могут убить. А я для них тоже обуза. Здоровье у меня все хуже да хуже. А зачем я им такой. Вот они и держат до первого снега. Пока промышлять помогаю. А потом… Ни у того, ни у другого бандита рука не дрогнет. Так что давай-ка. Давай-ка их опередим. Давай-ка сбежим от бандюг. Может быть, хоть умереть доведется дома.
Мичил был ошарашен. Ему и подпрыгнуть хотелось от радости, и тяжелая мысль ременными путами связывала по рукам и ногам. «А если это подвох?»
— Давай убежим, — тряс его за плечи дрожащий, оглядывающийся по сторонам Экчээле. — И завтра же… Завтра идем за сохатым. Ты держись ближе ко мне. Как я дам знать… Продукты-то у меня. Бандиты всегда меня нагружают. Сами налегке. Дам знать — и отстанем. И в сторону. И поминай как звали.
Приблизившись к самому лицу Мичила, он смотрел ему в глаза с мольбой и надеждой. Он боялся, что вдруг этот парень не сумеет скрыть своих чувств от Бородатого и Кривой рожи. Или, того хуже, спасая свою шкуру, вдруг задумает выдать его. Он смотрел, как побитая, загнанная в угол собачонка, и Мичил понял, что Экчээле его не обманывает. Что не с целью выведать чужие мысли завел он этот разговор. Что он серьезно предлагает убежать завтра от головорезов. И хотя Мичилу опять захотелось закричать радостно и пуститься в пляс, как пустился он недавно, когда без спичек разжег костер, Мичил сдержался. Он понимал, что эти часы и минуты до той, самой решающей, которая наступит завтра, будут очень тяжелыми. Надо будет собрать всю свою волю и все свое мужество, надо будет ничем не показать своих намерений. Надо быть очень и очень сдержанным. И словно приучая себя к этой сдержанности, сейчас, когда ему хотелось кричать и подпрыгивать от радости, он очень коротко и сухо ответил:
— Ладно. Бежим. Подай знать.
«НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ ПРОПАДАТЬ?»
Судя по следам, сохатый был совсем близко, и потому вошедшие в азарт бродяги перестали обращать внимание на Мичила. Он делал вид, что, как и все, увлечен преследованием лося, что, как и все, торопится, но помаленечку отставал и отставал.
Натуженно кашлявший, задыхавшийся Николай уже давно остался позади.
Когда перешли один из логов, поднялись вверх по склону, Николай появился только лишь на противоположном склоне, только лишь начал спускаться в лог.
Мичил смотрел в его сторону: «Не даст ли знать?» Сейчас самое время. Бородатый и Кривая рожа обо всем забыли. Им кажется, что вот-вот настигнут лося. А уже через полчаса… Они или действительно настигнут сохатого, или задумают перекусить и тогда хватятся: где же этот паршивый Экчээле?
Николай не подал сигнала. Или он трусит, или… Опять мрачные подозрения камнем легли на сердце. «Может быть, все-таки это ловушка? Прикинулся бедненьким, несчастненьким этот бродяжка?»
И все-таки Мичил решился. Отстал и, обождав немного, кинулся назад, навстречу Николаю. Тот, увидев парня, сбегавшего к нему с противоположного склона, повернулся и, хватаясь за кусты, за ветви деревьев, тоже попытался бежать. Но ноги его заплетались, голова клонилась чуть не до самой земли, он задыхался — каждый шаг назад, вверх, стоил ему огромных усилий.
Мичил нагнал его и молча, взмахом руки, показал: «Сбрасывай котомку. Я возьму. Давай ружье!»
С тяжелой ношей (в котомке мяса, пожалуй, с полжеребенка), с двумя ружьями, болтавшимися на ремнях за спиной, не будешь очень-то прытким. И все-таки Мичил наддал, наддал, оленем взмахнул на самый верх, перевалил гряду и уже совсем резво кинулся вниз. «А где Николай?» Ни шагов позади, ни кашля. «Где же он?» Мичил повернулся и побежал обратно.
Он нашел своего товарища ползущим на четвереньках. Хрипя, как будто на горле у него затягивали петлю, натыкаясь на коряги и корни деревьев, выступавшие из-подо мха, будто ничего не видя перед собой, Николай беспомощно переставлял руки и ноги. В лице ни кровинки.
— Беги! — прохрипел он, увидев появившегося перед ним Мичила. — Беги. Мне конец. Я… не могу… Задыхаюсь… Конец.
Мичил подхватил его под руку и помог встать на ноги. Потащил вверх. Перевалив через гряду, шагая вниз, Николай чуть приободрился, в потухших глазах его засверкала надежда.
Раздался вдруг крик. Это те, двое, видимо, спохватились. И еще не зная, почему нет с ними парня и куда запропастился Экчээле, звали. У Николая словно снова подкосились неги. Он зашатался как пьяный, задохнулся, закашлявшись.
— Беги. Беги, — заговорил между приступами кашля. — Ты молодой. Тебе жить. А у меня грехов… Грехи меня давят. Мне от грехов не уйти. И ты со мной пропадешь. Пусть уж меня одного… Пусть добивают.
Мичил, перебросив ружья на левый бок, правой рукой обхватил Николая и, не сбавляя скорого шага, заставил его идти тоже быстрей.
Крик повторился. Еще повторился — будто рыкнул рассерженный зверь. И потом стало тихо. Мичил понял, что дезертиры догадались об обмане и повернули назад.
Николай совсем ослаб. Он словно чувствовал надвигавшуюся сзади опасность, и эта опасность лишала его последних сил. Безвольной рукой он держался за плечи Мичила и еле-еле передвигал ноги.
Мичил понял, что они погибли, что им, конечно же, никуда не уйти. Он уже расслышал негромкие голоса — те, двое, переговариваясь, поднимались из лога. Сейчас они выйдут на гребень и, может быть, увидят… А если даже и не увидят, то через минуту-две своим быстрым шагом настигнут и тогда… «Пропали. Нет, нет, никуда не уйти. Здесь пропадать…»
Да, с той минуты, когда, забыв наставления Владимира Лукича, потерял дорогу, словно преследует злой рок. Тайга, горы будто хотят погубить. Не хотят отпускать. Ушел от волков, так не уйти от этих беспощадных бандитов. Не уйти…
И вдруг Мичила осенила мысль. Он вспомнил, что тут, совсем близко, лежат большие камни-валуны. Сбегая вниз, когда еще был один, без отставшего Николая, он наткнулся на них. Как стена крепости. Большие, лежащие близко друг к другу гранитные камни.
Мичил почти побежал. Николай мешком висел на спине, ноги его волочились, он не успевал их переставлять. Но Мичил не оставлял его. Добежав до камней, укрывшись за самым широким, Мичил опустил товарища на землю, сбросил котомку, улегся поудобнее лицом к приближавшимся бродягам, приготовил ружья.
Преследователи показались очень скоро. Они шли быстрыми злыми шагами, под ногами их трещали сучья, ломались кусты. Мичил навел ружье на Бородатого. Руки вздрагивали, мушка металась; указательный палец руки обжигался о тугой спусковой крючок. Сердце стучало, словно в груди сидел кто-то с молоточком и часто-часто колотил по ребрам. Струйка холодного пота скользнула от виска по щеке.
— Я говорю тебе, что неправильно идем, — злой тарахтящей скороговоркой выпалил Кривая рожа, изрядно отставший от Бородатого и теперь торопливо догонявший его. — Они побежали вниз по логу. Я же видел следы…
— Нет, эта падаль, Экчээле, не мог уйти далеко. — Бородатый остановился; он запыхался и говорил, как рычал.
— Я тебе и говорю. — Кривая рожа догнал приятеля и, маленький, коренастенький, стоял перед Бородатым, задирая голову и тарахтя злой скороговоркой. — Не мог он сюда пойти. Не подняться ему, дохляку, так быстро по склону. Он вниз побежал, по логу. Там следы.
Мичил… улегся поудобнее…
— Да я тебя сейчас воронью на кормежку отправлю!
— Твои гнойные глаза много видят! — Бородатый даже чуть нагнулся к приятелю, будто хотел вцепиться зубами тому в лицо. — «Следы! Следы»! Звериная тропа, а не следы. Проклятая твоя кривая рожа! Я давно говорил, что надо эту падаль Экчээле на тот свет спровадить! А ты жадюга, обормот несчастный… Тебе неохота было на себе котомку с провизией таскать. Тебе неохота за лишним зайцем побегать. Должен был тот дохляк тебе зайцев на зиму добывать. Вот он тебе и добыл. И змееныша увел.
— Ах ты, бандит! — рассвирепел вдруг Кривая рожа. — Меня поносишь, а забываешь, как я хотел сразу со змеенышем разделаться! Прикончили змееныша тогда же, и наш Экчээле, как миленький, возле нас бы ходил! А сейчас, может быть, змееныш дохляка увел. Вот тебе и лишние руки! Вот тебе и охотник до первого снега! Стал он ждать твоего первого снега?
— Ты это почему назвал меня бандитом, гад этакий? — Бородатый сбросил ружье с плеча. — Ты подлец из подлецов, испугавшийся фронта, дезертир несчастный! Трусливая душонка, хотевшая прикончить спящего парнишку! Это ты — бандит!
— Да если я бандит, так ты меня им сделал. Ты, сын богатея, с винтовкой в руках воевал против Советской власти. Или не на Сысыл-сысыы[9] стродтовская пуля поцеловала тебя в щечку? А потом ты втерся в доверие к красным. Делал вид, что первый активист, а сам жег колхозное добро, в людей из-за угла стрелял! А когда тебя раскусили и упрятать за решетку хотели, так ты на волчьи права перешел, в тайге скрылся. Разве это не так, разбойник? Разве не ты нашептывал темным людям: «Германия победит, все опять к старому вернется»? — Лающий голос Кривой рожи гремел без умолку и все нарастал, словно на лесном сухостое с сухим треском разбегался, стремительно ширился трескучий пожар.
— Ах ты негодяй, блевотиной рыгающий! Ах ты бродяга, жулик, промышлявший по базарам да сельповским амбарам. Всю жизнь только и знал что карты да водку. А теперь, значит, я тебя бандитом сделал?
— А ты на меня не рычи. Я тебе не дохляк Экчээле. Ты того в бараний рог гнул. А со мной того не получится.
— Замолчи, косое рыло! А чтобы тебе успокоиться, вот на, получай!
Послышался глухой удар, затрещали сучья: кто-то падал. Мичила била дрожь. Но, изо всех сил подавляя страх, он держал в руках ружье. И даже приготовил еще несколько патронов, чтобы после выстрела сразу произвести перезарядку. Николай, жалкий, восковой, трясся такой крупной дрожью, будто кто-то невидимый схватил его за ворот и бил спиною о камень. Когда раздался удар, затрещали сучья, он обхватил голову руками и уткнулся лицом в землю. И хотя возле него тоже лежало заряженное ружье, но помощи от этого напуганного до полусмерти человека ждать было нечего.
«Но я от этих бандюг буду отбиваться до конца», — подумал Мичил, подвигая к себе и ружье Николая. Ему было видно что Бородатый страшным тупым ударом в лицо сбил с ног своего приятеля. Тот как мертвый лежал на земле. Ружье его валялось поодаль. Но вдруг стремительно, как рысь, лежавший вскочил на ноги, в руках его блеснул длинный, так хорошо знакомый Мичилу нож. Пригнувшись, набычив шею, широко раскинув руки, словно готовясь к хапсагаю[10], и грозно сверкая ножом, Кривая рожа делал круг, приближаясь с каждым шагом к приятелю. Бородатый, как будто ему отказали ноги в коленках, приседал, делался ниже и, поднимая руки, словно готовясь кричать: «Сдаюсь! Пощади!» — отступал. Но вдруг, тоже с рысьей стремительностью, он прыгнул к дереву, возле которого стояло его ружье, схватил двухстволку и вскинул ее перед собой.
— Ах ты падаль! — раздался его рыкающий грозный голос. — Ты на кого замахнулся?.. Да я тебя сейчас, как паршивую собаку! Да я тебя сейчас воронью на кормежку отправлю!
Щелкнули взведенные курки.
— Не губи! — Кривая рожа бросил нож, упал на колени. — Не губи, братец! Никогда твоей доброты не забуду. Никогда супротивного слова не скажу.
— Так я тебе и поверил! Нет, пока дух из тебя, поганого, не выпущу, не поверю…
— Не губи! Сжалься! Разгорячились мы. Это же все из-за Экчээле проклятого, из-за змееныша. Убери ружье. Выстрелишь нечаянно. Молю тебя… Нам догонять мерзавцев надо. Хоть один из них к людям выйдет, нам пропадать. Затравят нас как волков. Пойдем скорее по их следам. Видел я их следы. Они по логу пошли. Пойдем догоним…
Бородатый опустил ружье. Сказал уже без прежней злости:
— Пристрелить тебя все-таки надо было бы. Да верно говоришь: если из тех хоть один до людей доберется, нам конец. Погибли. Где ты видел их следы?.. Ну, ну, шагай впереди. Да нож упрячь подальше…
Они повернули и пошли назад. Скоро шаги их затихли. Мичил с Николаем посмотрели друг на друга, и оба враз глубоко, с облегчением, вздохнули.
В ПУТИ
Скоро пошел дождь и лил почти двое суток не переставая. Несмотря на непогоду, уничтожавшую всякий след, Мичил с Николаем делали обманные крюки, подолгу брели ручьями, избегали песчаных отмелей, обходили каменные осыпи на крутых склонах. Все, что могло шевельнуться, сдвинуться с места, могло указать, где они прошли, оставалось нетронутым. Привалы делали самые короткие, чтобы чуть-чуть отошли отекшие ноги. Боязнь, что бандиты настигнут и расправятся, прибавляла силы, подгоняла вперед.
Кончилось мясо, которое они унесли с собой. Голод сводил желудок, но они, боясь, что их услышат, все не решались пристрелить хоть бы какую-нибудь тетерку. А потом, когда им стало казаться, что ушли далеко и можно не бояться стрелять, всякая живность, как назло, исчезла.
Николай понемногу приходил в себя. В тусклых глазах уже не плескался дикий страх, который поначалу почти лишал этого человека всякого рассудка. Шел он теперь хотя и не так споро, как хотелось бы Мичилу, но гораздо бодрее чем прежде. Был разговорчивым. И не только выспрашивал Мичила, что там да как там, где он не был, оказывается, уж больше года, но и рассказывал парню о себе.
Тяжелая жизнь была у этого несчастного человека.
В отдаленном урочище, среди дикой тайги, стоял его дом. В колхозе много раз советовали Николаю переселиться в наслег, большое таежное село, куда перевезли свои дома многие охотники и звероловы, жившие раньше такими же одиночками, как и он. Собирался это сделать Николай, да так и не успел до беды, которая потом совсем привязала его к немилому месту.
Появился однажды в его доме гость. На голове большой шапкой давно не стриженные, свалявшиеся волосы. Лицо обросло щетиной до самых бровей. Маленькие глаза бегают недоверчиво и настороженно. Багровый шрам на щеке часто подергивается, будто к нему прикасаются раскаленным железом. Поликарп!.. Да, сынок бывшего улусного головы, пепеляевец, который, как дознались года полтора назад, убил здешнего колхозного активиста партийца Елисея и приехавшего из города уполномоченного Шергина. Поликарпа хотели взять, чтобы судить, а он подался в тайгу. Полтора года ни слуху о нем, ни духу, и вот, пожалуйста, объявился.
Долго он ел тогда, как будто наедался за полтора года голодной бродяжьей жизни. Потом, попросив табаку, закурив, позвал хозяина на двор.
— Ты знаешь, кто я, — сказал, когда отошли в сторону от дома и никто из семьи Николая не мог их услышать. — Все, что обо мне говорят, не сказки. Я выпустил дух из вашего Елисея. И еще кое из кого. Со мной шутки плохи. Тебя я обижать не буду: хоть ты и якут, но хороший. Любишь, как я вижу, старую жизнь. Но если ты кому-нибудь проговоришься… Или твоя жена сболтнет обо мне!.. Прежде чем меня заарканят, тебя на тот свет отправлю. И всех твоих заодно… А сейчас спасибо за обед. Отблагодарить тебя хочу. Тут, у ручья, лежит прирезанный мною бычок. Добрый бычок. Возьми себе его мясо. Все возьми. Да не бойся. Не здешний бычок. Издалека привел. Не вздумай отказываться от моей благодарности…
И ушел.
А Николай не знал, что делать. Скакать в наслег, сообщать людям о бородатом разбойнике? А если он, Поликарп, затаился с ружьем у дороги? Ждет… Если даже обмануть, поехать кружным путем, а как он к вечеру опять в дом заявится? Где, спросит, муж? Да тут же порешит и жену и малолеток!.. Нет, нет, его не проведешь. Если он уже сколько лет весь белый свет за нос водит, то разве такого обмануть простодушному несмелому человеку? Решил Николай промолчать.
А что делать с бычком? Если его найдут люди, спросят, кто прирезал? Тут, поблизости, другого жилья нет. Говорить правду?.. Могут даже не поверить. Валишь на бродягу! Сам совершил подленькое дело, а теперь выдумал Поликарпа. Твой Поликарп, скажут, уже полтора года где-то в тайге ворон кормит… И сам разбойник проверит: перенес ли я в ледник мясо? Не перенес. Значит, думаю сообщить о нем властям… Прирежет, как того бычка…
Перенес к себе в первую же ночь мясо. Варили его, ели. Ничего, пронесло. Никто того бычка не спрашивал…
Уже и забывать про Поликарпа стал. А он опять заявился. И с тех пор нет-нет да и захаживал. Говорил: «Теперь-то я тебя не боюсь. Съел бычка из соседнего колхоза. Меня скрывал… Схватят меня, так и тебе со мною вместе по этапу отправляться!»
Когда война началась, он опять пришел. На этот раз без оглядки, спокойно, как обыкновеннейший охотник, которому нечего прятаться и таиться. Потребовал даже выпивки. Раньше никогда не пил, видимо, опасался, что пьяного может скрутить и тщедушный Николай со своей бабой.
— Германия побьет ваших большевиков, — заявил, поднимая стакан с водкой. — Вернется опять старая жизнь. Спросим тогда, ох и крепко кое-кого спросим: «За что мордовали? Куда добро наше подевали?.. Пошто волками заставляли скитаться по тайге?» А ты, баба, — повернулся он впервые к жене Николая, которую раньше как будто бы не замечал, — не отпускай мужика на эту войну. И не потому, что он у тебя хворый, а потому, что всем этим большевикам через два месяца каюк! Незачем за них кости класть! Можно отсидеться в тайге. Коли уж вы меня выручали, и я вас выручу: покажу тут, неподалеку, укромненькое местечко…
Когда Николай рассказывал, как он не поехал в военкомат, а собрав кой-какие вещички в котомочку, подался в тайгу, Мичил его упрекнул:
— Зачем же ты это сделал, дядя Николай! Тебя и так бы не взяли в армию. Ты вон как кашляешь. Дышишь тяжело. Тебя бы посмотрели в военкомате, сказали бы: «Иди обратно. Помогай фронту колхозной работой».
— Если б знать… Если б знать… Если бы этот разбойник не запутал, не запугал. Он-то все мечтал, что будет опять тойоном-хотуном[11], а я робкий дурак!.. Зачем она мне, эта звериная жизнь в тайге!
«Вот она какая, непростая жизнь, — думал Мичил, слушая кашляющего, задыхающегося человека. — Как в ней можно заблудиться. И я вот только несколько шагов в сторону сделал от дороги, влез на проклятую гору. И сколько же теперь из-за этого несчастий. Ладно уж, что своя жизнь все время теперь на волоске. Но какие теперь дни переживают в экспедиции. «Мальчик заблудился!» Ищут мальчика. В два раза больше, наверное, бы сделали работы. А теперь… Мальчика ищут».
— Нет, нет, — говорил Николай, думая, что Мичил слушает его, как и прежде, внимательно. — Нет, вы, молодые, учитесь всегда быть прямыми и честными. Ведь если бы не струсить мне. Пойти бы теми же днями в сельсовет, заявить. И не жрал бы этот разбойник колхозного мяса. А то ведь прошлой осенью целый табун угнали. Ну целый тебе табун лошадей…
«Да, волки, — подумал Мичил. — Настоящие волки. А если такие на наших нападут? Вот если вдруг выследят одного Владимира Лукича и…»
Ему стало так страшно, словно он опять слышал голос, похожий на звериный рык, и другой, жестяно-лающий, и глухие удары в лицо и видел блестевший длинный нож.
«Скорее, скорее к людям. Надо предупредить. Чтобы и наших скорее известили. Чтобы один Владимир Лукич не отлучался никуда в сторону… Скорее к людям!»
Они вышли к большой каменистой речке, которая текла, как подсказало им выглянувшее в это время солнце, на северо-запад.
— Или это приток Алдана, или она впадает в реку, которая сама впадает в Алдан, — предположил Николай, который все-таки намного лучше, чем Мичил, понимал глухую тайгу.
— Нам надо идти вдоль нее, — предложил Мичил. — Доберемся до Алдана — попадем к людям.
— Так-то так, — согласился Николай. — Да если идти по всем ее изгибам да завороткам, то и к весне до Алдана, может, не попадем.
Они даже немножко заспорили. Мичил говорил, что все-таки лучше и надежнее вдоль речки. Николай все сомневался и… кашлял. Раньше он старался потише кашлять, чтобы этим звуком не привлечь преследователей, если они неподалеку. А тут разгорячился и раскашлялся.
И вдруг густой островок мелкого леса, преграждавший им путь, затрясся. Зашевелились кусты, раздвигаемые, разбрасываемые в стороны с силой…
— Вот где они нас! Вот попали! — выкрикнул Николай, хватаясь за грудь, и зашатался, готовый рухнуть на землю.
Из леса, ломая деревья и скрываясь за деревьями, двинулись три темных силуэта. Мичил не сразу их разглядел, но, когда они миновали густой лесок и вымахнули на склон, поросший редкими лиственницами, увидел — сохатые!
Впереди шла, выставив безрогую куцую голову с широко растопыренными ушами и словно выпучив большие круглые глаза, самка; она рысила длинными красивыми ногами; на ней лоснилась темно-серая шерсть. Рядом шатко, как будто спотыкаясь на каждом шагу, бежал тонконогий, не более годовалого жеребенка, лосенок. Позади шел огромный самец, который, словно показывая мощь своей холки, чуть нагибал громадную голову, увенчанную раскидисто-ветвистой порослью рогов. Он, делая саженьи шаги, бежал медленно, но не отставал от самки с детенышем.
Мичил мгновенно сбросил с плеча ружье, одним коротким движением выхватил из патронника дробовой заряд и заменил его жаканом; прогремел выстрел. Двое первых прибавили шагу и понеслись вверх по лиственничному склону, а могучий самец сделал огромный прыжок и бросился назад, за густолесье, высившееся островком впереди.
— Туй-се́![12] Какое мясо проморгали! — Опомнившийся Николай стаскивал с плеча ружье, но голова его застряла между ремнем и стволом, и он дергался всем телом, пытаясь освободиться.
— А может быть, и не проморгали? Что-то уж очень быстро затих сохатый. Посмотрим-ка, — Мичил бросился в густое мелколесье, на ходу перезаряжая ружье.
Николай, освободив голову и постояв, будто ничего не соображая, тоже затрусил следом, готовый от усталости, голода и волнений рухнуть и не встать.
За лесным островом, на высоком берегу речки, вытянувшись словно в прыжке, лежал огромный лось; его тело еще сотрясала мелкая дрожь. Из ноздрей и изо рта, из которого выпадал длинный бледный язык, шла кровь.
— Ок-се[13], тукаам! Прямо в сердце угодил. Какой охотник! — Николай восхищенно смотрел в лицо парня. — Какой охотник!
И, прислонив ружье к стволу дерева, сбросив на землю котомку, с быстротой и подвижностью, неведомо откуда взявшимися, засуетился возле лося.
— Вот наедимся! Вот наедимся! — приговаривал он, вытащив свой небольшой ножик и старательно натачивая его о камень-голыш.
«КАК ПОСТУПИТЬ С ТАКИМ БОГАТСТВОМ?»
Развели костер и, обставив его со всех сторон рожнами, принялись жарить мясо. Когда кончали сытный и неторопливый обед, время подходило ко второй дневной дойке.
Николай, насыщавшийся особенно основательно и от еды изрядно разомлевший, лежал возле костра и рассуждал.
— Богатство-то какое! Богатство. Иной семье до ползимы бы хватило мяса. А нам куда его девать? Я много не унесу. От силы полтора-два пуда. Да при такой погоде оно, не успеешь моргнуть, как испортится. Если здесь остаться да поугощаться как следует сохатиной? Ан вдруг эти разбойники нагрянут. Нет, угощаться тут долго нельзя.
Мичил сидел молчаливый. Повернувшись к костру спиной, он смотрел на бурливую широкую речку, горланившую внизу, под крутым обрывистым берегом. Вспоминая рассказы деда, не раз попадавшего в таежные переделки, он старался представить: а что бы сейчас предпринял этот многоопытный спокойный таежник? Кажется, Мичилу довольно ясно представилось, как бы поступил сейчас старый охотник, потому что он поднялся и спросил Николая:
— Ты можешь мне помочь кое в чем? Одному мне придется трудно.
— Ы-ы, зачем так спрашиваешь, тукаам? Да как же я тебе не помогу! Судьба послала тебя мне на счастье. Разве бы из этой глуши, куда увел меня Поликарп-бородатый, смог я один когда-нибудь выбраться? Да ни за что! Гнили бы мои косточки далеко от родных мест, и никому бы никогда не узнать, где нашел свой последний приют беспутный Николашка. Милый, я все сделаю, что ты скажешь. — Слезы умиления полились из его глаз. — Ты мне помог увидеть правду. Ты и дорогу к людям покажешь. О, я чувствую, что это сама судьба тебя мне послала.
— Ладно, Николай, ладно. — Мичил делал вид, что не замечает слез несчастного человека. — Надо бы, ты ведь это умеешь, освежевать сохатого. Голову, ноги и потроха придется оставить… Подбрось дровишек. Пожарь как можно больше мякоти. А я пока пойду к речке. Получится ли?.. Но буду что-нибудь придумывать.
Спустившись к самой воде, Мичил принялся таскать на отмель сухие бревешки, каждое длиной сажени в полторы-две. Весенним половодьем этого плавуна много разбросало по берегу. Затем принялся резать тонкий и длинный тальник, росший у воды, где скалы чуть отступали. Бревна положил в ряд: снизу две тонкие жерди и сверху тоже. Концы этих жердей, как зажимами, скрутил гибкими лозинами, из которых приготовил сигэ — тальниковую бечевку. Он видел, как сигэ делал дед. Берет прут, наступает на толстый конец ногой, а тонкий конец начинает сильно сучить в ладонях. Прут, не трескаясь и не ломаясь, становится похожим на веревку: вяжи его узлом, связывай с другим таким же прутом!
Соорудил Мичил плот на двух человек — примерно прикинул, чтобы он в два раза был больше, чем тот, с которого по весне рыбачил дед. И когда стягивал последнюю связку, спустился к нему Николай.
— Закончил работу, тойон-начальник! — пошутил он веселым голосом и удивился, увидев сооружение Мичила. — Плот делаешь, тукаам? Поплывем, значит? Ну и молодец же ты на выдумку! А я вот не сообразил. Подсказать бы должен, как бродяга-таежник. Да, видать, выхлестали эти урки за год всякое мое соображение. Отучили думать мордобоем да зуботычинами. Как они надо мной измывались!..
Закончив вязать плот, они поднялись наверх, к освежеванному лосю. Жареное мясо уложили в котомки, собрали ружья, патронташи. А как же быть со свежениной? Задние стёгна, половина всего мяса, весили, наверное, пудов шесть-семь. Резать их ножичком на кусочки? На это целый день уйдет. Значит, и завтра к вечеру отсюда не отправишься. Да потом мелкие куски быстро испортятся.
— Давай-ка завяжем стёгна в шкуру лося, — предложил Мичил и стал вырезать из шкуры тонкие ремни.
Все свежее мясо они завернули в шкуру, завязали ремнями и, подцепив на толстую палку, подтащили к обрыву. «Ну!» — с этим криком бросили тяжелую ношу. Она покатилась по крутизне и шлепнулась на отмель возле плота.
— А я думал, придется все это богатство здесь оставить. — Николай влюбленными глазами смотрел на Мичила и поражался его, совсем не по годам, удивительной сообразительности.
Тонкими бревнами, как рычагами, столкнули плот на воду. Развязав шкуру и сполоснув ее, расстелили шерстью вверх на плоту. Стёгна привязали снизу к бревнам мокрой ременной бечевой. В холодной горной воде мясо долго не испортится. А мокрая бечева, как гласит народная мудрость, прочна.
— Отправляемся? — Лицо Николая светилось радостью.
— Давай отправляться. Только возьмем два шеста на всякий случай да вот эту огромную щепу от разбитого молнией дерева. Пусть будет кормовым веслом.
Речка, многоводная и стремительная, подхватила плот, только лишь его оттолкнули от берега, и легко, словно берестяной чуманчик, понесла вниз. Мичил еле успевал править неудобным кормовым веслом, направляя плот подальше от скал, о которые хлестался поток, от отмелей, которые вдруг почти перегораживали речку.
Некогда было смотреть по сторонам, и все-таки видел Мичил, как по обе стороны стремительно проносились высокие вершины, похожие на якутских женщин, набросивших на плечи зеленые бархатные шали; иная гора — как каменный лоб, застывший в задумчивости, согреваемый лучами уже низкого вечернего солнца.
Некогда Мичилу осмотреться, подумать — речка здесь очень стремительна и крута в поворотах. Но если бы он мог посмотреть на себя со стороны, то показалось бы ему: не мальчишка это на плоту и не истрепанная, порвавшаяся во многих местах рубашка на нем, которую треплет ветер. Нет, это над маленьким, едва вмещающим двух человек, плотиком, несущимся по бурливой клокочущей речке, развевается красный флаг. Флаг победы.
БЕДА
Плыли остаток дня и всю ночь. Николай, которого утомляла пешая дорога и мучил страх перед бородатым Поликарпом и его приятелем, на берегу почти не смыкал глаз. А здесь, на плоту, сытый, успокоившийся, уверовавший в счастье, посланное ему судьбой в лице все умеющего, все знающего Мичила, он беспробудно спал, лишь изредка переворачиваясь с боку на бок.
Мичилу тоже хотелось спать, но он крепился. Следил за речкой, которая под светом ущербной луны играла золотистыми бликами и потому казалась покрытой чешуей сказочного карася.
Когда с обеих сторон надвигались, кажется готовые навалиться и раздавить горы, над их вершинами, над темной бурлящей тесниной, где мотало хлипкий плотик, особенно ярко и крупно светили звезды.
Перед восходом солнца, когда стало очень прохладно, Николай проснулся.
— Как я сладко выспался, — сказал он, поеживаясь и позевывая. — Вздремни, тукаам. Я веслом поворочаю.
Мичил устроился на шкуре, которая показалась ему очень мягкой. Заложив руки за голову, смотрел на небо, с которого исчезли звезды и луна. Светлое, оно вместе с тем было очень холодным. Но вот за спиною Николая появилось красное, будто тоже не очень проспавшееся и не очень отдохнувшее солнце. Коснулось теплым лучом лица, словно сказало: «Спи спокойно. Ты потрудился славно — можешь отдохнуть».
Последнее, что видел Мичил, закрывая глаза, как Николай, зябко поеживавшийся, согретый солнцем, уронил голову на грудь, но тут же ее поднял.
«Не выспался, значит, — подумал Мичил. — Надо поскорее сменить его. Я только лишь чуть-чуть подремлю».
На берегу стоял Владимир Лукич. И младший техник Николай Санников. И все рабочие отряда. Нет, это не рабочие, а ребята из восьмого класса. Комсорг Костя Охлопков. Всегда беспокойный и очень горячий Коля Борисов. Рассудительный и немногословный Радий Еремеев. Маленький, незаметный среди товарищей, но самый серьезный Саша Тарахов. Августа. Всех ближе к воде, может даже ноги промочить в своих туфельках, синеглазая Августа. Рядом с Владимиром Лукичом… Нет Владимира Лукича. Это же Поликарп-бородатый! А с ним Кривая рожа. Нож за спиной прячет. Оба в воду кидаются. Кричат. Ребята все кричат. Кто это кричит? Это Поликарп по-звериному рычит? А нож над водой как страшно сверкает. Все кричат…
Мичил, оттолкнувшись сильно руками, сел. Вскинул голову. А глаза никак не открывались. «Сплю я еще или не сплю?» Слышал страшный и непонятный рев. С трудом разомкнул веки.
Николай дремал, зажав под мышкой конец огромной щепы от разбитого молнией дерева; щепа моталась безвольно. На голове Николая сидело солнце. Уже не красное, а словно умывшееся и еще не по-дневному жаркое. Сидело и хитро улыбалось: «Усыпило вас!» А ревело впереди. Мичил взглянул туда, когда камни, встававшие из воды, как хищные зубы, уже кинулись на плот. От камней, вскипая и разбиваясь на два потока, речка разбегалась и… исчезала. И там, где она исчезала, вставал водяной смерч. Каскады брызг, вырываясь откуда-то снизу, обрушивались на каменный остров. И ревел не то этот остров, не то… «Водопад?!»
— Беда! Беда! Держись! — Мичил было хотел подскочить к кормчему, испуганно вскинувшему голову, но в это время как будто выстрел ударил снизу, из-под плота. Мичила подбросило, о что-то сильно ударило. Последнее, что он видел: голова Николая исчезла в грохочущей коловерти, появилась, исчезла. Не то в торжествующей ярости взревел водопад, не то душераздирающий крик человека перекрыл грохот воды. Стихло. Ничего не стало слышно.
Сколько времени пролежал в забытьи Мичил, ему представлялось очень плохо. Очнувшись и приподнявшись на локтях, увидел: шумит и клокочет речка, срывающаяся в узкую, метров семь-восемь, щель. Шумит и клокочет как ни в чем не бывало, будто не поглотила ничего, ни с кем не расправилась. Еще чуть выше приподнявшись и осмотревшись пристальнее, разобрался Мичил, где он и что его спасло. Оказывается, его выкинуло на каменный остров, на те самые хищные зубы, о которые разбился плот. По обе стороны от острова бурлил и гудел водопад.
Ощупал себя Мичил. Чувствуются ушибы, но руки-ноги целы. Поднялся осторожно. Теплилась робкая надежда: «А вдруг Николай все-таки жив. Сидит вот так же на камнях. Ждет…»
— Николай! Николай!
Бегал по каменному острову и, всматриваясь в берега речки, видимые далеко, до поворота, все кричал, трубил, сложив рупором около рта ладони.
«Нет Николая. Только что был человек, товарищ. И вот нет его. Убила о камни, утопила коварная горная речка».
И вдруг Мичил подумал, что речка не только убила Николая. Она и ему приготовила медленную жуткую смерть. С этого острова ему ни за что не выбраться через адские водовороты. Здесь, на голых камнях, сколько он может быть без пищи, без огня? Лучше уж было умереть от зубов волка. Даже под ножом Кривой рожи. Или мгновенно, как Николай, который не успел опомниться, а бешеный водоворот уже закрутил, ударил о скалу…
И опять, как тогда, когда понял, что заблудился, что остался один на один с беспощадной горной тайгой, Мичил безудержно и горько заплакал.
Солнце бродило где-то за скалами. Когда оно появлялось, то для Мичила начиналась пытка: здесь, на камнях, которые быстро раскалялись, невозможно было укрыться от палящих лучей. Мичил с тоской и надеждой ждал вечера. Но как только солнце зашло, стало так холодно, что дневная жара казалась теперь великим благом. Лишь на рассвете, когда солнце еще не было жарким, но и холод ушел, Мичил полузабылся легким пугливым сном. К нему опять пришли сновидения. И временами такие четкие, что казалось, все это происходит наяву, а не во сне.
Он вдруг видел себя поздней весною, когда в лесах подает первый голос кукушка. Какими радостями природа одаривает в эти дни человека! Россыпи ярких цветов, неумолчный птичий гомон. Прячутся по опушкам зайчишки, появившиеся на свет в марте. То-то веселье: спугнуть серого и чуть не поймать его голыми руками.
Вдруг виделось ему, как в крикливой ватаге, обгоняя других, сбрасывая на бегу рубашку, мчится он к берегу теплой протоки. Купание. Кто нырнет дальше? Кто кого обойдет саженками?..
На летние каникулы из Москвы должен приехать старший брат. Весь интерес к ребячьим забавам пропадает. Сторонясь приятелей, бродит Мичил, вглядываясь и вслушиваясь в тайгу, подступающую со всех сторон к избам наслега, родного села. Если бы это была зима, сдвинув набок шапку, стоял и слушал, слушал: не раздастся ли в оглушающем беспредельном таежном безмолвии скрип санных полозьев. И даже мороз, вдруг иголками впивающийся в незащищенное ухо, заставлял бы спрятаться под теплой шапкой ненадолго: лишь чуть отойдет отмерзающее ухо и опять, красное, распухшее, выставится — слушает.
Первый снежок. О, разве только звонкоголосый пес рвется с цепи на лисьи тропы и в кедрачи, где резвятся пышнохвостые белки? Мичилу так и хочется крикнуть: «Поторопись же, дедушка! Поторопись!» Но дед всегда собирается в тайгу неторопливо и обстоятельно.
Школа. Маленькому Мичилу казалось, что за большущими окнами этого дома совсем иная, не похожая на все то, что он вокруг себя видел, жизнь. И верно, в школе было так много света, всегда была удивительная чистота, а главное было много-много товарищей и друзей. Радовались бабушка с дедом, когда закончил первый класс. Так радовались, что Мичил почувствовал себя почти взрослым. «Вот еще немножко подрасту, кормильцем вашим стану». Бабушка даже прослезилась на такие слова внучка.
Трепетное волнение, какое испытал, переступая впервые высокий школьный порог, довелось опять пережить, когда раздавалась гулкая дробь барабанов и рука пионервожатой повязывала на шее красный галстук.
Виделся Мичилу в его тревожном полусне широкий пойменный луг. А он уже на взрослой работе. Сидит на тряском сидении сенокосилки. И пара лошадей послушна мальчишеским рукам.
Виделся Якутск. Город, ошеломивший сельского парня постоянным, неутихающим шумом. На улицах всегда народ, автомашины…
А это — другая школа. Огромнейшее здание. И новые товарищи, друзья… Мичил не лежал сейчас на холодном камне, покрывающемся росными каплями — солнце, набирающее силу, заставляло камни потеть. Рядом не ревел и не бушевал водопад, отрезавший парня ото всего мира. Мичил опять был в своем классе. И сидел за партой. А рядом Августа, девочка с синими-синими, как весеннее небо, глазами. Косички, повязанные белыми лентами. Над висками русые локоны. В улыбке вдруг вспыхнут ровные-ровные зубы…
Мичил поднял голову. Осмотрелся.
«Если бы Августа знала, в какой я сейчас беде, — подумал он, — подняла бы всех. Они бы сейчас здесь появились. Впереди бы, конечно, наш секретарь, руководитель комсомольцев, говорливый, горбоносый Костя Охлопков. А может быть, его бы обогнал горячий, всегда беспокойный Коля Борисов. Появился бы сейчас на берегу и заговорил:
«Ну что это за человек! Выбраться не может из такой ситуации. Да я сейчас его разом вытяну. Один его спасу!» — и… и, не задержи его немногословный рассудительный Радий Еремеев, бросился бы в водоворот.
«Нет, ребята, — сказал бы тихим, чуть шепелявым голосом маленький неприметный, но самый серьезный Саша Тарахов. — Нет, ребята. Наш Мичил попал в тяжелое положение. Чтобы ему помочь, мы должны серьезно подумать, все взвесить. Из всякого, даже самого трудного положения можно найти выход. Надо найти…»
Мичил будто слышал эти слова. Будто друзья, оказавшиеся рядом, говорили их спокойно и совсем негромко, но голоса их перекрывали шум грохотавшего водопада. Он почувствовал, что силы, все более его оставлявшие, вдруг вернулись. Он почувствовал, что все-таки можно что-то придумать. Надо что-то придумывать. И, взбодрившийся, сбросивший совершенно сонную одурь, поднялся, стал осматривать пристально и неторопливо каждую складку скал, нависающих над водопадом.
ШКУРА ЛОСЯ
Нет, сколько ни всматривался в каменные утесы, встававшие за расщелинами, в которые низвергалась речка, ничего хорошего увидеть не мог. Совсем голые и почти отвесные скалы. Только лишь в одном месте с вершины скалы и почти до уровня воды спускается широкий, сейчас сухой, желоб. Здесь скатываются воды, когда на вершине тают снега и когда идут ливневые дожди. За край желоба каким-то чудом зацепилась березка. Одинокая, корявая, она скорбно протягивает к свету свои ветви, словно просится на свободу. Вид этого одинокого деревца опять поверг Мичила в уныние.
«Нет, отсюда не выбраться. Остается только одно — броситься в водопад и… Или уже сразу прикончит, или вынесет на берег где-нибудь там, ниже острова».
Мичил пошел к камням, о которые разбился плот. В этом месте вода хотя и бурлила и вставала тучей брызг, как и везде вокруг острова-скалы, но была близко — рукой дотянуться. Уж если бросаться в поток, то здесь: не расшибешься при падении.
Вчера камни выступали из воды не такими высокими зубами. Или это только казалось? Нет, нет. Не казалось. Да и к тому же прибавилось камней. Остров будто вытянулся навстречу речке.
«Бай![14] Да ведь вода-то убывает. Дожди двое суток шли. А теперь вот перестали».
Мичила охватила радость. Ему показалось, что он спасен. Спадет вода. Остров еще удлинится. А может быть, там, выше по течению, соединится с правым или левым берегом. «Тогда выберусь!»
Мичил решил посмотреть, далеко ли уходят камни, сегодня начавшие выступать из воды. Стал перебираться с одного на другой.
«Вот какой-то из них своим лбом ударил плот снизу. Сбросил в водоворот Николая, заставил меня вылететь и шлепнуться на остров. Может быть, теперь эти камни спасут?»
Нет, они кончились. Сколько ни щупал ногою в потоке Мичил, не было камней. Значит, тут остров-скала обрывается. И ждать, когда речка обмелеет и между берегом и островом возникнет мост, не приходится.
Видимо, все-таки здесь пропадать. Или с голоду. Или в потоке, в который сейчас бросится, и пусть он несет к водопаду.
Мичил выдернул ногу из воды. Ему показалось, что там, где он пытался нащупать следующий камень, что-то шевелится. Обождав немного и примостившись поудобнее на валуне, выступавшем из воды, он опять опустил вниз ногу… Что-то непонятное. Как будто бы водоросли. Но какие могут быть водоросли на такой стремнине? Мичил опустил в воду руку.
«Шкура! Да, это, наверное, та самая шкура, которая лежала на плоту. Быстрое течение затянуло ее в камни. Ока каким-то чудом держится здесь».
Еще не понимая, зачем она ему, эта шкура, Мичил обрадовался так, как будто бы нашел дорогу со страшного острова. Ухватившись крепко за нее, перебравшись повыше, Мичил принялся вытягивать шкуру сохатого на сухое место.
«А зачем все-таки она? — оттащив ее подальше от воды, спросил себя Мичил. — Ночами заворачиваться, чтобы было тепло? А разве ты собираешься зимовать на острове?.. Эх, если бы сейчас костер! Отрезать бы кусочек. Опалить. Зажарить».
Трут и камень были на месте, в нагрудном кармане куртки. Нож — на боку. Но на острове ни одной щепочки.
«Подожди! Подожди!» Мичилу вдруг вспомнился случай.
Была однажды голодная весна. Дедушка все время возвращался из тайги без добычи. И вот однажды он снял с чердака шкуру оленя, которая еще с первых морозов висела там, принес в сени. Мичил, тогда еще совсем маленький, держал шкуру, а дедушка скоблил мездру. Домой принесли целый чабычах[15] подкожного мяса и жира. Бабушка несколько дней варила вкусный суп. А с этого лося Николай снимал шкуру торопливо. Уж конечно, пооставлял не только самое мездру, но и мясо.
Голод был настолько сильным, что, снимая тонкие кусочки мяса и тут же их съедая, Мичил думал: «Зачем это придумали варить да солить. И так очень вкусно».
Наевшись досыта и улегшись на камнях, еще не очень горячих под утренним солнцем, Мичил посмотрел на деревце, росшее на той стороне и протягивавшее сюда, к острову, свои недлинные ветви. И Мичилу показалось сейчас, что деревце совсем без мольбы и скорби склонилось над бурным потоком. Нет, в деревце совсем не чувствуется жалобы на горькую судьбу. Ему нравится быть этаким маленьким богатырем и, назло всем бедам, всяким ветрам, снегам, потокам, расти на голой скале. Оно склонилось сюда, к острову, но совсем не затем, чтобы жаловаться. Оно…
Мичил вскочил радостный. Он понял, зачем протягивает к нему свои недлинные, но крепкие ветви березка. Он понял, где его спасение…
Вынув опять нож из тугих ножен, куда сунул его, закончив обед, парень принялся выкраивать из шкуры толстую сыромятную веревку. Она получилась длинной. К одному концу ее привязал небольшой камень…
Когда-то сельские городошники старались переиграть Мичила. Редко кому это удавалось — очень уж наметанным был его глаз, точным и сильным удар. Выручит ли теперь городошная сноровка?..
Мичил встал напротив дерева. Поток шириной метров восемь. И еще — высота. Дерево выше острова метра на три-четыре.
Собрав веревку в кружок, как это делает табунщик, собирающийся заарканить полуодичавшую на воле лошадь, и, взяв этот кружок в левую руку, Мичил правой рукой раскрутил над головой камень, привязанный к концу, бросил. Веревка, увлекаемая камнем, полетела. Не достигнув дерева, скользнула в поток. Мичил вытянул ее, собрал снова в кружок.
Долго бросал. И все мимо. Иной раз скользнет камень по ветвям березы и тут же катится вниз, падает в воду.
Передохнул. Поскоблил опять мездры с остатков шкуры. Поел. Сам все поглядывал на дерево. Надо бросить камень так, чтобы веревка не по ветвям скользила, но чтобы ухватилась за ствол, обвилась бы вокруг него. Надо встать чуть наискосок. Надо спокойно, но изо всех сил размахнуться…
Камень, увлекая тяжело разматывавшуюся веревку, уже пролетел дерево. Сейчас он устремится вниз и… Мичил несильно, но резко дернул за конец, который не выпускал из рук. Тот конец, где был привязан камень, обвился вокруг дерева; над потоком повисла вздрагивавшая, раскачивающаяся струна. Мичил, проверяя прочность ее и хорошо ли ухватилась она за дерево, натянул сильно, опять натянул. Березка взмахивала ветвями, но веревки с камнем не отпускала.
«Хорошо!»
Свободный конец Мичил, как только мог туго, обтянул вокруг похожего на столбик камня, завязал на несколько узлов.
Солнце уже клонилось к западу, и Мичил торопился. Проверив, туго ли, как всегда, сидит нож, на месте ли трут, огниво, запихнув в карман горсть недоеденной мездры, парень ухватился за веревку и… Хорошо, что он не сбросил вниз, с обрыва, ног. Быть бы ему в грохочущем крутящемся бешено потоке. Веревка из сыромятной кожи очень сильно растягивалась.
Мичил стоял ошеломленный. Значит, все труды и старания впустую? Значит, этот остров, на котором камни, как зубы гигантского хищного зверя, не отпустит? Значит, так тут и оставаться? Струна…
И Мичилу опять вдруг вспомнилось. Струна! Да, настоящая струна, не такая вот мягкая и растягивающаяся, но похожая, на сплетенную из сухожилий.
После зимовки на ферме «Хороший алаас», когда уже собирались переезжать на летник, сосед Иннокентий принялся готовить етю́ — веревку, которой увязывают кладь в санях. Из шкуры быка, перед этим несколько дней намокавшей, выкроил длинную полосу и натянул ее между двух столбов. Уже через день под ветром и солнцем сырая кожа стала тугой, как тетива самострела, и звонкой, как струна. Мичил, балуясь, бил по ней палкой, струна звенела, а палка отскакивала, чуть не вырываясь из рук.
«Надо обождать. Если не пойдет дождь, если ночь будет такой, как прошлая, и день, как сегодняшний, то к вечеру… Только завтра к вечеру!.. Но до завтрашнего вечера надо ждать».
ВНИЗУ
Чудилось: из холодной тихой воды появляется голова, заросшая жиденькими волосами; остекленевшие глаза смотрят неподвижно и тупо. Вот уже все тело, окоченевше-вытянутое, негнущееся, поднялось над водой, вздымается рука. «Возьми!.. Почему покинул? Возьми!..» — скрипуче-кашляющий голос Николая, рыдания. И все ближе, ближе костлявая мертвенно холодная рука.
Мичил вскочил. Его трясло. Не от испуга, но от пронизывавшего до костей холода. Светила луна. Речка, вверх от водопада, опять как в чешуе золотого сказочного карася. Брызги, взлетающие над темными, поглотившими речку расщелинами, как мелкие сверкающие осколки льда из-под пешни. Грохот. Только что было тихо. И в этой тишине, поднявшись из воды, жалобно, со стоном, молил Николай…
«Если я не высплюсь, не отдохну, откуда возьмутся силы, чтобы на руках перебраться по веревке над водопадом?… Спать. Спать…»
«Вот я тебе говорил… Разве я тебе не говорил? От ориентира к ориентиру. С пути не сбиваться. Ни на шаг не отклоняться. Разве не говорил?» Владимир Лукич необычайно строг. И лицо у него совсем не похоже на людей, которые в учебнике истории. У него бакенбарды. А у этого — борода! Это же борода Поликарпа! Поликарп наклоняется… Мичил опять вскочил.
Тоскливо всматриваясь в даль, где под луной, как в чешуе сказочного карася, светилась речка, по которой сюда с Николаем они приплыли, он стал раздумывать.
Спать сейчас не удастся. От холода всего трясет, и в голову лезут кошмары. Даже видел брата, который целится из снайперской винтовки. Дедушка с бабушкой приходили и плакали. Спать нужно будет днем. Из кожи, которая еще осталась, сделать как бы навес. От солнца. И в тени спать. А сейчас нужно… Хотел заставить себя есть. Но сырая мездра показалась такой отвратительной, что чуть не стошнило…
Утром уснул. И под «навесом», прикрывавшим голову и грудь, так сладко, так крепко спалось, что посвежевший, сильный и с аппетитом, которому бы позавидовал голодный волк, проснулся, когда солнце готово было уйти за западные вершины.
Поел неторопливо и плотно. Напился. Посмотрел на дерево, которое очень сильно наклонилось над потоком — его вытягивала из расщелины просохшая кожаная веревка. Поплевал на ладони.
«Ну, будь что будет. Больше ждать нечего. Если еще просидеть здесь сутки, в руках и ногах не останется силы. Вперед!..»
Взялся за тугую, вздрагивающую и словно рвущуюся из рук кожаную струну. Повис и, когда она, как пружина, сначала опустила, а потом кинула вверх, взбросил ноги, зацепился ими.
Перед глазами бездонное синее небо. Холодная тень падает на лицо, словно говорит: «Берег близко. Давай! Давай!» Водопад… В последние часы совсем будто и не слышал его. Грохочет он, кипит, а позабыл про него — и не слышишь. А сейчас его гул, страшный и будто вырывающийся из глубин земли, разрастается, поднимается. Будто и не водопад, а кто-то живой и кровожадный, увидев над собой перебирающегося по веревке человека, взъярился, тянется, тянется.
Ветер трепал отвисшие полы куртки. Словно поторапливал: «Смелей, смелей!» Но вдруг Мичил почувствовал, что уже не ветер дотрагивается до него. Чуть повернул голову— и тотчас будто кто-то из ведра плеснул на лицо: ударили тугие брызги. Но все же краем глаза успел увидеть: совсем близко, почти касаясь спины, клокочет, пенится тугая коловерть. И тянется, и тянется… Мелькнула мысль: «Значит, веревка не просохла как следует и все равно вытягивается. И сейчас!..»
Онемели руки. В ногах родилась дрожь. Ладони жгло, как будто не за веревку они держались, а за лезвие ножа. «Не удержаться!»
Собрав силы, подтянулся к кожаной струне и, до боли в шее изогнувшись, вцепился в нее зубами. Руки закинул на веревку по локоть: давал отдохнуть напряженным кистям. Отдышался…
«Если выбраться обратно? А какой смысл? Даже уже все остатки мездры съел. Завтра, голодному, не хватит сил добраться и до средины потока. Погибать голодной смертью на каменном острове?.. Нет. Обратно ползти незачем. Но и впереди… Что будет, если продвинуться еще на метр? Очутишься в этом крутящемся водяном вихре? Потом сорвет с веревки и… даже никто не услышит и не увидит, и никогда не узнает…»
Мысли вихрились в голове, как вихрилась внизу, возле самой спины, вода.
«Нет, назад нельзя. Значит, можно только вперед».
Осторожно, неторопливо стал он продвигаться дальше. Руку вперед. Ногу подвинул. Перехватился другой рукой. Подтянул вторую ногу. Холодные языки воды, отбросив в сторону полы куртки, пробиваясь через рубашку, лижут спину. А лицу жарко. Кровь прилила к лицу. На лбу испарина. «Ползти дальше? Или пока не поздно, пока не оставили силы, начать двигаться назад?.. Нет, нет… Вперед!»
Вода как будто бы уходит вниз. Почувствовал, как обвисает, но уже более не полощется, как будто кто-то ее теребит, намокшая куртка. Мокрая рубаха не липнет к спине — тоже отвисла. Не кажется уже, что голова ниже ног. «Значит, — мелькнула радостная мысль, — средину потока прошел. Самое страшное позади. Теперь уже, значит, не сорвет, не смоет, не закрутит, как Николая».
И сразу прибавилось сил. Руки движутся торопливее, ноги тоже — скорее, скорее. Берег уже где-то близко. Теперь приходится ползти вертикально вверх. Слышно, как натруженно поскрипывает близкое дерево. Вдруг… Не сразу и понял, почему рвануло вниз. Казалось, что летел долго-долго и ударился… Потемнело в глазах. В ушах звон. Руки вцепились и не выпускают веревки.
Руки вцепились и не выпускали веревки.
Она порвалась. Где-то там, на средине, где минуту назад висел над потоком. Порвалась и… Только потому, что все-таки не выпустил своего конца из рук, сейчас он не крутился в ревущем, облизывавшем ноги потоке. Нащупав выщербинку в скале, оперся ногою. Вокруг другой ноги тут же обмахнул висевший конец веревки. Перевел дух. Собрался с силами. Стараясь находить в скале малейшую неровность и опираться о нее ногами, полз вверх, обливаясь потом и задыхаясь. Подняв голову, увидел вдруг, что дерево, за которое зацепилась веревка, как бы вползло на самый обрыв, только несколько корешков, еще не переломившихся, удерживают его на каменной стене. Но вот и они, эти корешки, захрустели… Опять потемнело в глазах. Опять ждал… Но это показалось, что падал. Все-таки еще дерево держалось, и он, прильнув к скале, как бы вдавившись в нее, тоже держался…
Наверху, почувствовав под собою твердую землю, боясь оглянуться назад, на ревущий поток, чуть не отобравший у него жизнь, на четвереньках он отполз от обрыва и рухнул, уткнувшись лицом в ладони.
А внизу еще яростнее, еще свирепее ревела и металась вода, словно взбешенный хищник, упустив добычу, бился в слепой ярости о каменные стены тесной клетки.
«РЫБАК»
Освободившись из жуткого плена, Мичил снова взял направление на запад и, делая лишь самые короткие остановки для отдыха, шел, шел, шел. Там, на западе, Алдан. Там люди. Там можно будет сообщить в экспедицию, что он жив и здоров. Там можно будет рассказать о бродягах, скрывающихся в тайге. Их должны обязательно поймать. Они хуже, страшнее бешеных волков. Сколько людей они уже загубили. И Николай погиб из-за них. Больного человека увели в тайгу, запугали, забили…
Без ружья плохо. Питаться приходится лишь ягодами и грибами. Хорошо, что в эту пору ягод в тайге сколько хочешь. Но много ли их съешь? На зубах оскомина, во рту саднит.
Дремучая тайга молчалива и неподвижна. Лишь иногда ветер, раскачивая верхушки деревьев, заведет однообразно-унылую песню. Или обломится под собственной тяжестью засохший сук. Редко-редко протрубит неподалеку лось. И опять неподвижно-дремотный покой. Полосатый бурундук беззвучно юркнет из-под ног на дерево. Дятел с красным лоскуточком на темени промелькнет мимо и, будто простонав, пожалуется на нелегкие свои заботы. Филин со слепым безучастием посмотрит с дерева. Обычно вверх, в гору, припустит спугнутый с лёжки зайчишка… Когда-то Мичил спросил у деда: «Почему заяц бежит всегда вверх? Удирать же под горку легче?» — «У зайца, видишь, задние ноги длиннее передних. На таких ногах в гору ловчее, чем под гору. Вот, наверное, потому при опасности и выбирает он дорогу вверх».
Голодного парня усталость иногда одолевает так сильно, что ему начинает всякое мерещиться. Видит вдруг человека ка коне. «Надо попроситься, чтобы взял к себе», — раздумывает в сонном отупении. И только лишь остановившись перед высоким, обгорелым пнем, с трудом приходит в себя. Никакого человека. Никакого коня… Безлюдье и мертвенная, оглушающая тишина.
Однажды вечером, когда солнце уже запуталось в верхушках деревьев, Мичил подошел к широкой низине, посреди которой поблескивало озеро.
«Бээ! Напиться хотя бы!» — подумал и ускорил шаг. Вдруг видит: у самой веды, на краю кочковатой трясины, которой окружено озеро, человек. Нагнулся, чем-то занят.
«Тыый! Опять мерещится, что ли? — остановился Мичил, вгляделся пристально. — Нет, в самом деле человек. Пошел вдоль берега… Человек!! — Сердце затрепетало от радости. Захотелось сложить руки трубочкой возле рта и закричать громко, во всю силу легких. Но тут же шевельнулось подозрение: —А вдруг это опять бродяга? Как же… Да нет, не может быть!»
Устроившись за деревом, Мичил стал наблюдать за человеком. Его уже плохо было видно. На ложбину ложились длинные тени деревьев. Полусумрак выползал из всех уголков. Лишь серебряная чаша озера блестела еще ослепительнее, и на фоне этого слепящего сияния перемещался темный силуэт.
Человек вроде бы поднял палку, пошел обратно.
«Да это же старик туусут![16] — сообразил Мичил, раньше не раз рыбачивший с дедом и хорошо знавший этот промысел. — Бедняга палку искал. Верши ставит».
Значит, где-то совсем близко живут люди. Может быть, неподалеку становье колхозных косарей? Может быть, смолокуры или еще какие-то промысловики. Старик, наверное, снабжает рыбой целую бригаду. А у них, конечно, и лошадь есть. Надо попросить, и скорее в сельсовет! Чтобы там уже обо всем, обо всем рассказать председателю.
Мысли, радостнее одна другой, теснились в голове. Сердце часто-часто стучало. Глаза засвербило — просились слезы радости.
«К старику! Помогу ему. Вдвоем скорее закончим его дела и — к людям! В сельсовет!» Радость словно дала ему крылья: не чувствуя под собой земли, понесся он к озеру, к старику рыбаку.
И все же, когда выбежал в молодой березняк, которым кончался лес, окружавший кочковатое болото, остановился. Подумал: «Человека, который один в тайге, можно напугать неожиданным появлением». Решил, что выйдет на открытое место чуть в стороне и пойдет вдоль озера к старику. Так и сделал. Прошел немного по березняку, выбрался на зыбкие кочки, посмотрел — старика нет.
«Куда же он девался? — Обеспокоенный, позабыв все прежние мысли, понесся как ветер, перелетая с кочки на кочку. — Вот он, кажется, в камыше. Возится с вершей. Рыбу, наверное, сейчас вытащил!»
Вдруг, попав ногой на высокую, но тонкоголовую кочку, которая сильно нагнулась под тяжестью, не удержался и со всего маха ухнул в «окно» — неширокое пространство чистой, незаросшей воды. К счастью, было неглубоко, и Мичил с тем же шумом, с каким в нее свалился, вскочил. Смахивая тину, которая густо облепила лицо, чувствуя себя сконфуженным (напугал, наверное, бедного старика, устроив такой шум за его спиной!), Мичил взглянул на камыши… Перед камышами, видимо выскочив из-за них на неожиданный шум, на задних коротко-толстых лапах стоял матерый… медведь. Взгляд маленьких глазок, вперившихся в существо, поднимавшееся из воды и тины, был полон недоумения и злого огня.
…На задних коротко-толстых лапах стоял матерый… медведь.
Мичил обмер от неожиданности. Даже рука, убравшая липкую тину с глаз и лежавшая сейчас на носу, так и осталась там, будто пристала.
Когда-то дед, бравший его охотиться на медведя, долго рассказывал о повадках этого зверя, учил, как поступать при неожиданной встрече с хозяином тайги. Говорил, что летний сытый медведь первым на человека не бросится. Зарычит, повернется да и уйдет. Надо не растеряться и, самое главное, не разозлить косолапого. Много историй о встрече человека с медведем знал парень. А сейчас… Так неожиданно было появление огромного зверя на месте старика, к которому летел на крыльях радости, таким огромным казался он, стоявший над камышом, такою свирепостью полнились его глаза, что… Мичил вдруг дико, как поросенок под ножом, взвизгнул, вымахнул на кочки и полетел. Как ветер. Как пуля. В жизни своей никогда так стремительно не бегал. Но может быть, именно эта стремительность, а может быть, дикий, нечеловеческий визг разбудили в медведе кровожадность. Глухо рыкнув, упав на все четыре ноги, неуклюже, словно кто-то кидал полно набитую меховую суму, понесся он следом за парнем.
Мичил летел, не оглядываясь. И далее не понимал, визжит ли по-прежнему в диком страхе или просто захлебывается воздухом, бьющим в широко раскрытый рот. Мыслей никаких — словно кто-то обухом ударил по голове. И все-таки сообразил. Какое-то неведомое чувство подсказало, что еще секунда — и косолапый достанет до его спины… «Как медведь на поворотах» — эти слова, которые повторял дед, ворча на внука, если был недоволен его нерасторопностью, вдруг вспомнились. Мелькнули. И… свалившись с кочки, Мичил отпрянул в сторону.
Как огромный черный мешок пролетел рядом. Еще несколько быстрых семенящих шагов сделал медведь, перевернулся кубарем через голову, встал на дыбы мордой к Мичилу и… дико ревущий, бегущий по кочковатому болоту парень опять почувствовал, что зверь его настигает…
Болтавшиеся на ремне ножны больно били по бедру. И в какое-то мгновение Мичилу вспомнился, словно встал картиною перед глазами, рассказ дедушки о том, как охотятся на медведя эвенки. Мичил будто опять увидел, как над ним пролетает черный мешок…
Выхватив на бегу нож, не увертываясь в сторону, Мичил упал за высокую кочку и, когда голый живот медведя распластался над ним, ударил сильно… Рев оглушил парня. Нож вырвало из рук. Хотел подняться, бежать, но ноги подкашивались. Сил не было. «Разорвет! Конец!» Медведь ревел рядом. Совсем рядом, за спиною. Он словно с кем-то боролся. Он словно забыл про Мичила. А тот, шатаясь, утопая чуть не по горло, брел между кочек. В березнячке, выбравшись на сухой берег, подгоняемый страшным, остервенелым рыком, не то еще доносившимся с болота, не то уже умолкшим, но в ушах все еще гремевшим, он свалился за толстую гнилую валежину. Лежал. Не шевелился. И только теперь понял, что страшных рычаний с болота уже не доносилось.
Медведь при прыжке напоролся на нож. Мичил это определил потом, когда, осторожно выбравшись из укрытия, неслышными робкими шагами вернулся к озеру, где лежал затихший остывающий косолапый. Живот распоролся так сильно, что вывалились потроха. Медведь рвал их, приближая свою гибель. Наверное, попадись в ту минуту Мичил на глаза подыхающему зверю, несдобровать бы парню. Хватило бы еще у медведя сил разделаться с человеком. Но Мичила спасли мохнатые кочки, укрывшие его от медвежьих глаз.
Наступали сумерки. Опять тишина, такая глубокая, что уши казались заткнутыми ватой, воцарилась в тайге. Из болотистой низины потянуло прохладой.
Мичил, успокоившийся и приободрившийся, натаскал большую кучу хвороста, развел костер. Вырезал кусок медвежатины, зажарил. Сытно поужинав, снял шкуру с медведя. Благо, светила луна и можно было заниматься делом даже в стороне от костра. Разделал тушу на большие части. Перетаскал их к озеру и бережно опустил в воду. Много дней голодал он и потому ценил каждый кусок. Воткнул тут же длинную палку — для заметки.
«Если скоро доберусь до людей, можно будет вернуться и взять медвежатину».
Из шкуры выкроил и сшил вместительную удобную суму. Набил ее жареным мясом. Добрая половина ночи ушла на все эти дела. И только где-то перед рассветом, подбросив в костер побольше дров, завернувшись в остатки шкуры, уснул спокойно и глубоко.
И ВОТ ЭТОТ ЧАС!
Чем далее уходил от болотистой низины, тем все больше в душе поднималась горделивая радость. Надо же! Он, парень, который в комсомоле еще менее года, который, чего уж это скрывать, в последние дни принимался несколько раз плакать, он все-таки вчера не растерялся. Все-таки как настоящий охотник… Нет, недаром он — внук охотника. Недаром кое-чему учился у деда. Без этой учебы, конечно, ему не одолеть бы тайги. Тайга, она тихая-тихая. Будто бы добродушная и безучастная. Но она… В ней на каждом шагу — опасность! И если растерялся — погиб. А не растерялся — она и согреет и накормит.
Сытому, хорошо отоспавшемуся, шагать было легко. И если подсчитать, он отмахал за день порядочное расстояние.
Местность менялась. Пошли сухие долины. Речки в травянистых берегах. Чистенькие, светлые березовые рощи. Все это напоминает родные места, и потому шагалось еще легче.
К вечеру Мичил вышел в долину, особенно просторную и зеленую. Вдоль речки — спокойные, склонившиеся к воде высокие ивы. Островки мелкого кустарника. Поляны… Настоящие, маленькие и большие, круглые и продолговатые, такие, на которых пасутся стада, на которых страдуют, то есть заготовляют сено.
Мичил так обрадовался этим полянам, что не выдержал, побежал.
Травы уже начали блекнуть. С верхушек. Но внизу зеленые и еще сочные. Может быть, здесь их и не косят? Может быть, здесь никогда не бывало ни коров, ни лошадей? Может быть, и нога человека сюда не ступала?
Мичил опять было померк, но вдруг возликовал сильнее прежнего.
«Ба! Да здесь же нет прошлогоднего сухостоя! Значит, в прошлом году тут косили!»
— Иэхэ́й![17] — вскричал и молодым олененком помчался к маленькой изгороди остожья.
Разному радуется человек. Бывало, в прежние годы сколько перевидел Мичил этих маленьких изгородей, какими обносят стога, уберегая их от сохатых, диких козлов и оленей. А теперь готов был плакать от радости и плясать. «Здесь косили, стоговали. Здесь были люди! Люди!»
Широким быстрым шагом спешил он вдоль речки. И радостное предчувствие, что скоро, совсем скоро он должен… Что должен? Не думалось об этом. Ни о чем сейчас не думалось. Только одно — ожидание! Одни лишь расширявшие радостью грудь предчувствия.
И — увидел… Когда солнце уже садилось, на берегу речки, в этом месте чуть поднимавшемся и потому еще залитым солнцем, ётёх!..[18] Небольшая изба. Длинный просторный хотон — помещение для скота. Изгороди…
Как он помчался к этому ётёху!..
Осторожно отворив дверь, обитую шкурой, вошел в избу, Никого… Глиняный камелек посреди избы. Вдоль стен нары из грубо отесанных досок. Стол, сколоченный наспех, но крепко. Плетеные из тальника табуретки. Окна открыты. На стенах — обрывки газет. Посмотрел: 1941 год.
«Значит, здесь этой зимой жили!.. Значит, люди… Они совсем близко, люди, с которыми так хочется встретиться. Которым так многое надо рассказать!»
Он нашел за печкой берестяное ведро и медный чайник с вмятинами на боках. Но прежде чем развести огонь и вскипятить чай, искупался. Он так соскучился по тихой, спокойной воде равнинных речек!
Поставив на камелек чайник, принялся, как хозяин, вернувшийся из долгой отлучки, наводить в избе порядок. Выбросил вон всякий хлам. Расставил табуретки. Затем присел поближе к камельку, любуясь огоньком, задумался.
…Эта изба так напоминает дедушкину на «Белом аласе». Из той избы провожали его в первый класс. Последний раз сидел он в той избе со стариками, перед тем как уехать в Якутск.
Уже собраны и уложены нехитрые и небогатые пожитки: выстиранное, залатанное белье, кое-какие книги, еда на дорогу. Бабушка, сидящая за сверкающим, начищенным, как к празднику, самоваром, не то утирает пот, не то смахивает слезу с морщинистого лица. Голос ее звучит мягко, благословляя и напутствуя.
— Ну, тукаам, веди себя в городе скромно. Учись со старанием. Не ссорься с людьми: умных уважай, глупеньких жалей. Защищай слабого. Перед сильным не гнись — может быть, и сам его не слабее. Учителей, старших как почитал, так и почитай. Да пиши. Пиши почаще с попутчиками.
Дед, сладко, с причмокиванием, потягивая густой, забеленный чай из блюдечка, лежащего на широкой мозолистой ладони, снисходительно смотрит на жену.
— Видали старую! — Голос его сегодня насмешливо-грубоват, кажется, что дедушка тоже расчувствовался и старается прикрыться напускной грубостью. — Как будто малое дитя отправляется в дальние страны!.. В старину, в его годы, я один-одинешенек в какую глухомань не забирался. Какие края не исходил. Ружье в руках да котомка за спиною… А теперь — какое беспокойство? В городе. На людях. На всем готовеньком да чистеньком. В школе окна, поди, шире всей стены нашего дома… До холодов, конечно, трудновато придется. Но вот забьем бычка. С первой оказией мяса пришлем… А может, и сами наведаемся. Давненько в Якутске не бывали… Может, ружье с собой возьмешь? Или старый дробовик? Небось и там есть где поохотиться?
— Рехнулся ты, что ли, старый? Парень учиться идет, а он ему — ружье!.. Чтобы с пути его сбивало твое ружье? Чтобы от школы отвлекало? Он грамоту должен одолевать. Пусть ученым человеком станет. Будет детей учить, как здешний Аркадий Петрович. Или как старший брат. Вон в какие люди вышел наш Петруша, потому что к учебе всегда имел расположение, а не к ружью.
— Однако он белке в глаз попадет…
Вдруг звонке застучала крышка чайника и вернула Мичила из уютной дедушкиной избы в эту, хотя и похожую и очень дорогую тем, что после долгих скитаний вышел к ней, но все же чужую и пустынную.
Когда Мичил поел, уже совсем смеркалось. Он хотел устраиваться на ночлег, но вдруг услышал голоса людей.
«Тыый! В ушах, что ли, шумит?.. Часто стали мне люди мерещиться…»
Подумал так и тут же явственно услышал, как под осторожными крадущимися шагами похрустывают ломкие стебли перестоявшейся травы. Долетел шепот.
— Ты заходи с той стороны. Я — с этой… Надо не выпустить…
Взглянул Мичил в правое окно — черная тень Бородатого в десяти-пятнадцати шагах. Кинулся к левому окну, а там уже вывернулся из-за угла, приближается, припрыгивая и заплетаясь ногами, выставив перед собой ружье, Кривая рожа.
«Вот он — конец! Все-таки не выпустили. Выследили. Настигли… Эх! Пусть лучше от пули погибну. — Мичил сжался в комок и тут же, как развернувшаяся пружина, прыгнул к двери, ударом плеча распахнул ее. — Лучше от пули! К лесу!.. Пусть на бегу!» А сам во весь дух, во всю мочь, захватив полную грудь воздуха, мчался к темневшему вдалеке спасительному лесу.
— Стой! Стой! Застрелю! — Властный крик Бородатого громовыми раскатами разорвал вечернюю тишину. — Стой!
Мичил еще усиленнее зачастил ногами. Лесок! Впереди, в нескольких метрах, негустой, но лесок. Там — в нем, за ним — спасение. Там они не настигнут молодого да быстрого… Грянул выстрел. Второй. Третий. Как подкошенный, с маху, Мичил ткнулся лицом в травянисто-мягкую землю…
* * *
Мичилу потом рассказали: бродяг никаких и не было. Колхозники из Мегино-Кангалазского района, закончив страду на близких угодьях, наконец добрались и до далекого урочища. Уже смеркалось, когда подъезжали к избе. Но кто-то глазастый рассмотрел, что над трубой жилья, которое в это время пустовало, вьется дымок. Тогда подумали, что тут могут скрываться бродяги, о которых в последний год ходило много всяких слухов. Несколько смельчаков вызвалось окружить избу. Когда подошли уже к самым окнам, вдруг из дверей вымахнул человек и пустился наутек к лесу. Кричали ему. Все разом кричали. А потом, чтобы напугать, принялись палить в воздух. В него никто и не стрелял, а видят— свалился. Когда подошли, удивились: «Парнишка? Подросток?.. Оборванный. Исцарапанный. Обросший… Без сознания».
Дробинка, одна шальная дробинка, царапнула по голове. Когда принесли в избу, хотели перевязать рану, он вдруг вскочил. И диким взглядом, как будто опять хочет вырваться и бежать, обвел всех…
Поздно, уже близко к полуночи, когда все наконец успокоились, когда все улеглись спать, Мичил позвал во двор Алексея.
Из разговоров было понятно, что этот Алексей у них бригадиром. Он партиец. И вообще очень надежный человек. Мичил неторопливо и подробно рассказал ему, кто он, как сюда попал и что ему надо.
Тот слушал молча. И когда Мичил закончил говорить, еще долго молчал. Потом сказал:
— Ладно. Понял… До района отсюда кёс[19] десять с лишком. Чтобы поспеть хотя бы к концу рабочего дня, выезжать надо сейчас. Собирайся…
ЧТО ЖЕ БЫЛО ПОТОМ?
Мой любознательный читатель, прочитав повесть, наверное, спросит: «Что же было потом? Добрался ли Мичил к своим? Поймали опасных преступников или нет?»
На все эти вопросы автор отвечает утвердительно. Да, Мичил встретился со своими друзьями, помог выследить и схватить бандитов.
С тех пор много воды утекло. Мичил успел окончить Горный институт, исходить родную тайгу в поисках земных сокровищ вдоль и поперек. Возможно, вы еще встретитесь с Мичилом или в городе алмазов Мирном, или в золотоносном Алдане, или на Яне, где добывают редкие металлы. И на этот раз уже сами продолжите о нем рассказ.
Примечания
1
Тукаа́м — ласковое обращение старшего к младшему.
(обратно)2
Насле́г — большое якутское селение.
(обратно)3
Примерно в 2–3 часа дня. (Прим. автора.)
(обратно)4
Ок-сиэ́! —междометие, выражающее желание. (Прим. автора.)
(обратно)5
(обратно)6
Тыый! — якутский возглас удивления.
(обратно)7
Дого́р — якутское обращение. Буквально: друг.
(обратно)8
Xары́с — якутская мера длины. Расстояние между вытянутыми большим и средним пальцами, примерно 20 ем.
(обратно)9
Сысыл-сысыы — местность в Якутии, где в 1923 году красноармейцы под командованием И. Я. Стродта, окруженные белыми, 18 дней вели героическое сражение. Белогвардейский полковник Пепеляев, пытавшийся снова раздуть пламя гражданской войны на советской земле и двигавшийся от берегов Охотского моря на Якутск, на Сысыл-сысыы был остановлен, а потом разгромлен.
(обратно)10
Хапсага́й — якутская национальная борьба.
(обратно)11
Тойо́ном-хоту́ном — здесь: будет полным хозяином.
(обратно)12
Туй-се! — возглас, выражающий досаду.
(обратно)13
Ок-се́! — возглас удивления, восхищения.
(обратно)14
Бай! — возглас удивления.
(обратно)15
Чабычах — берестяная посуда для хранения молочных продуктов.
(обратно)16
Туусу́т — рыбак, вершами промышляющий мелкую рыбу.
(обратно)17
Иэхэй! — крик радости.
(обратно)18
Ётёх — заброшенное жилье, старая усадьба.
(обратно)19
Кёс — якутская мера длины, равная 10 килрметрам.
(обратно)
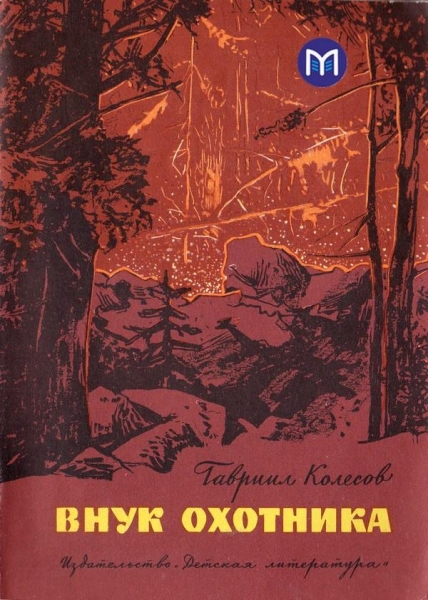

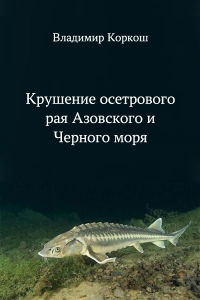



Комментарии к книге «Внук охотника», Гавриил Гаврилович Колесов
Всего 0 комментариев