ЛЕСНЫЕ ШОРОХИ
ПОВЕСТЬ
ХАРА — ВОЖАК БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
В тот год в Моховой пади по весне появилось стадо диких кабанов — Большая семья. Ее привела старая самка Хара, а охранял старый секач Ухуру. Позади остался тяжелый путь: длинная зима, глубокие снега, большие потери в стаде. Каждые три-четыре дня в стаде недосчитывались одного кабана. Это было трудное время. Только такой вожак, как Хара, мог провести стадо через все невзгоды. Она знала, где легче пройти, где легче выкопать корни, найти заросли хвоща, желуди или кедровые орешки. И все-таки осталась в живых лишь половина стада. Но не от голода и истощения погибли кабаны, особенно молодые. Корма было вдоволь. Великий пастух Амба-Дарла брал свою дань.
Хара узнала Дарлу прошлым летом, когда, вместе с Ухуру, чуть ли не нос к носу столкнулась с ним в старом кедраче. Амба-Дарла появился из глухого распадка в ту самую минуту, когда Большая семья подходила туда.
Вокруг Хары только недавно собрались мелкие семьи после весеннего опороса, молодые кабаны еще плохо слушались Закона, хотя и научились добывать себе корм, и Хара приучала Большую семью к послушанию. И вот — Амба-Дарла, Хара и Ухуру хорошо знали его старшего брата, он был в минувшую зиму Великим пастухом у Большой семьи. У Дарлы были такие же желто-зеленые глаза, такая же белесо-желтая шуба в черно-коричневых полосах, такая же манера припадать на передние лапы и прятаться за валежины.
Теперь Дарла займет место старшего брата. Хара и Ухуру хорошо это поняли, пока стояли и смотрели в глаза тигру. Дарла отступил. Не потому, что испугался мощных клыков-ножей Ухуру. Он хитрил. Видно, он уже не первый день следил за Большой семьей: недаром же в последнее время стали исчезать подсвинки.
Что ж, иначе и не бывает. От Великого пастуха не уйдешь. Он был у матери, у бабки и прабабки Хары. От него ведь столько же вреда, сколько и пользы, потому что иначе стадо станет преследовать стая волков — Серых разбойников. Там же, где появляется Великий пастух, Серые разбойники немедленно исчезают: Великий пастух не щадит их. У Большой семьи он берет дань, только когда голоден. А когда Большая семья расплодится и ей трудно обеспечить себя кормом, Великий пастух забирает лишние рты. Такое происходит примерно один раз в четыре года.
А бывает это так. Почти всякое дерево в лесу, родящее орехи и ягоды, не способно обильно плодоносить каждый год. Кедр дает обильный урожай шишек один раз в четыре года. Три года он накапливает силы. Нечто подобное происходит и с дубом, и особенно с орешником-лещиной. Как правило, за урожайным четвертым годом наступает самый неурожайный, и как раз в этот год все живущее бурно размножается благодаря прошлогодним запасам орехов и ягод. А потом начинается Великий голод, приходят болезни, случается мор…
Трижды за свою жизнь Хара пережила такое. Сейчас снова наступил первый год после четвертого. Хара готовилась к нему, пробираясь в Моховую падь с Большой семьей.
Моховая падь простирается на десяток километров вдоль подножия Горбатого хребта. Южный край пади омывает речка Моховка со множеством рукавов, стариц, заводей. Хара хорошо знала эти места. Она была еще молодой, когда ее предшественница впервые приводила сюда Большую семью. Тогда тоже была зима перед неурожайным годом. И семья выжила здесь.
Редко где в округе можно найти столь благодатные места, как Моховая падь. Природа собрала здесь почти все виды деревьев и кустарников, какие растут на Дальнем Востоке. Уссурийские широколиственные леса встретились тут с северными таежными. На сухих релках, на прибрежных обрывах, вдоль стариц и заводей растут там и тут монгольский дуб, черемуха и кедр, береза, ель и дикая яблоня, осина и дикий виноград, лимонник и бархатное дерево. А в подлеске аралия маньчжурская и орешник-лещина, шиповник и красная смородина, актинидия коломикта и жасмин — в низинках, багульник и элеутерококк — на косогорах. Среди несметной рати и пестроты зеленого мира громоздятся буреломы, выворотни, крест-накрест лежат замшелые, оплетенные лианами колоды могучих стволов, образуя укромные убежища.
А если подниматься на склон Горбатого хребта, попадешь сначала в сплошной старый кедрач, лишенный подлеска, потом в дубняк-кустарник, еще выше — в березняк и лиственничник. Так по уступам и доберешься до вершины хребта — каменной осыпи. Вокруг голызины-гольца густо сплелись карликовые стволы, толстые ветви-удавы кедрового стланика.
Вот почему Хара вела сюда Большую семью: здесь на косогорах много желудей, орехов, а в низинах — вкусных корней. Да и подходило время опороса, нужны надежные убежища. Для этого буреломы могли пригодиться как нельзя лучше.
Она подгадывала время так, чтобы прийти в Моховую падь в начале апреля. В это время речка и ее притоки еще покрыты льдом, поэтому можно легко пересечь пойменную низину пади. К тому же на южном склоне Горбатого хребта теперь уже сошел снег, там легко искать корм, особенно желуди.
Незадолго до заката солнца Большая семья пересекла с юга на север Моховую падь, подошла к подножию Горбатого хребта. Начался кедрач. Стадо сразу же рассыпалось в поисках кедровых шишек, но Хара грозным окриком погнала его дальше: надо было спешить. Впереди на косогорах дубняк, там много желудей, и до наступления темноты можно хорошо подкормиться.
Хара не ошиблась. Вскоре Большая семья вошла в дубняк, шелестящий густой листвой-шубой, оставшейся с прошлогодней осени. Стадо весело загомонило: земля повсюду была усеяна желудями, их терпкий запах наполнял воздух, дразнил обоняние. Жадно заработали рты, в лесу стоял хруст разгрызаемых желудей, громкое чавканье. Солнце за день нагрело склон, земля стала духовитой и теплой. Большая семья была вознаграждена за все лишения и опасности. Теперь главные беды остались позади.
ГРОЗНЫЙ ВЛАДЫКА
Первыми известили обитателей Моховой пади о появлении Большой семьи кедровки — эти вздорные крикуньи и сплетницы, доносчицы и воровки. Оглашая окрестности базарными криками, они перелетали с дерева на дерево, по мере того как большая семья двигалась через падь, и разбалтывали на всю округу весть о пришельцах. По их воплям Амба-Дарла мог бы безошибочно проследить, куда движется стадо кабанов. Тараторки отстали лишь в дубняке, когда Большая семья принялась там за желуди.
Неспокойно стало в тот вечер в Моховой пади. Даже старый медведь Мугу-плешивый встревожился и залез в самую глубину огромного бурелома. Разве поймешь этих кликуш, когда они вот так суматошно тараторят: Человек это пришел или еще кто другой? Несомненно одно: кто-то нездешний появился в пади.
Мугу-плешивый больше всего на свете боялся встречи с Человеком. И еще с Огнем. Огонь и Человек сливались для него в одно понятие, грозное и страшное. Ему пришлось однажды с ними встретиться. Плешины на морде, загривке и на левом боку — следы этого горького опыта.
Четыре года назад Мугу промышлял неподалеку от того места, где речка Моховка впадает в Голубую реку.
Он тогда еще не был плешивым. Подходило время ложиться в берлогу, но он накопил так мало жира, что его не хватило бы на весь срок лежки. Пришлось долго кочевать в поисках еды. Поиски привели его к Голубой-реке. Тут-то и произошла его первая встреча с Человеком.
Мугу шел вдоль реки. Дело было поздней осенью. Он уже привык к красным точкам огней, светившихся на столбах по ночам. Это были створы. Иногда в ночи огни плыли по реке и непонятно рычали. То были суда. Время от времени нос Мугу улавливал незнакомый, непонятный, пугающий запах на траве, оставшийся от бакенщика, который проносил здесь керосин. Тогда Мугу сразу сворачивал в сторону и уходил в густую траву пойменных лугов. Но однажды высохшую по осени траву на лугах стал пожирать Огонь. К вечеру он уже подбирался к прибрежной тропе, по которой иногда ходил Мугу; сейчас медведь бродил под обрывом у самой воды в поисках дохлой рыбы.
Учуяв запах гари, Мугу быстро вскарабкался на обрыв и увидел страшное: со стороны сопок к реке широким фронтом приближались танцующие языки пламени. Гонимый страхом, медведь бросился вскачь в направлении устья Моховки, стараясь миновать опасную зону прежде, чем Огонь достигнет тропы. На крутом изгибе тропы он нос к носу встретился с Человеком. В руках у того было ведерко с керосином — он шел заправлять фонари. Медведь мчался так суматошно, что перепуганному Хо смерти Человеку ничего не оставалось делать, как выплеснуть содержимое ведра на голову зверя.
Что это? Что за дурманящая, гадкая вонь душит его? Что за противная, липкая жидкость склеила шерсть на морде, на груди, на загривке? Да она еще щиплет и слепит глаза! Мугу бешено завертелся на месте, стараясь лапами протереть глаза и смахнуть жидкость с морды. Но от этого глаза стало щипать еще сильнее, а лапы сделались скользкими и бесчувственными, словно их залепило грязью. В траву, скорее в траву!
Тут-то и случилась беда: он влетел в Огонь… Шерсть на нем тотчас же затрещала, вспыхнула, он вмиг оказался объят пламенем. В ужасе он кинулся в противоположную сторону, в густой траве не разглядел обрыва и, кувыркаясь, со всего маху шлепнулся в воду, подняв огромный каскад брызг…
До самой ночи Мугу просидел в реке. Когда стало совсем темно, он вдоль берега, шлепая по воде, добрел до устья Моховки и подался в глубь тайги.
Мугу ужасно страдал от ожогов. Его мучил голод. Казалось, приходит гибель. Спасла счастливая находка. К концу третьего дня он наткнулся в пойме Моховки на перекат, забитый осенней нерестовой кетой. Целую неделю прожил он на берегу. Время от времени забирался в воду и швырял на берег огромных рыбин с черно-бордовыми боками. Ел вволю, выгрызая у рыб только мозг. Вода сбивала жар с ожогов, обильная еда восстанавливала силы.
С той поры Мугу-плешивый больше не покидал этот благодатный уголок — Моховую падь. Голая кожа на морде, загривке и левом боку, которую летом поедом ел гнус, а при добыче меда безжалостно жалили пчелы, всегда напоминала ему о том, что нужно пуще всего бояться Человека и Огня. Этот страх и загнал его теперь в бурелом, когда крикливые кедровки возвестили о появлении в Моховой пади неведомого пришельца.
А голод гонит из бурелома. Нет, Мугу-плешивый совсем не отощал. Жир, накопленный перед зимним сном осенью прошлого года, почти полностью сохранился, потому что во время лежки расходовался очень мало. Но зато сейчас, когда Мугу стал двигаться, запасы жира катастрофически сокращались. А впереди еще не меньше двух недель, пока он постепенно приучит желудок к пище. Дело в том, что перед тем как лечь в берлогу на зиму, Мугу-плешивый несколько дней ел травы, обладающие слабительным действием. Ел до тех пор, пока не очистил полностью желудок и кишечник. Почти полгода желудок бездействовал. Теперь нужно есть не больше одной кетиной головки в день, чтобы он вновь привык к пище. А тем временем прошлогодние запасы жира будут поддерживать в нем силы.
Но вот уже четвертый день Мугу-плешивый питался лишь одними желудями. Виной тому не только неведомый пришелец: кто-то разграбил запасы кеты, заготовленные прошлой осенью, когда заходила она в Моховку на нерест. В трех местах закопал Мугу по большой куче наловленной рыбы: две кучи поблизости, на берегу Моховки, и одну у вершины Барсучьего ключа. Так вот этих-то двух ближних складов и не оказалось. Видимо, тут не обошлось без росомахи Уги, воровки и коварной злодейки. Она живет неподалеку в своей старой норе — расселине, образовавшейся под обрывом у подножия Горбатого хребта. Мугу-плешивый ненавидел росомаху. Давним и заветным его желанием было поймать ее и переломить ей хребет. Да только разве ее поймаешь, когда она ходит совсем бесшумно, а сама слышит и чует противника за сотни метров!
Теперь единственная надежда на склад у вершины Барсучьего ключа. Но туда идти довольно далеко, и, не ровен час, наткнешься на Человека. Что же делать? Так и томится Мугу-плешивый в буреломе, терзаемый страхом и голодом. Иногда он высовывает голову из узкого лаза в куче валежника, подолгу слушает и чутко ловит ноздрями запахи тайги. Отовсюду доносятся шорохи — это роются в прошлогодней листве на обсохших бугорках мыши, бурундуки, рябчики, где-то булькает весенний ручей; неподалеку от огромной липы, подделываясь под низкий скрип старого дерева, трещит клювом желна: «дррр», над головой громко разговаривает шумная стайка синиц, из дальнего распадка слышится надоедливое «пить, пить, пить» — это нехитрая весенняя песня маленькой пеночки.
Но вот в стороне, у ближней излучины Моховки, снова затараторили кедровки: сначала одна, потом еще одна, потом все разом. Мугу-плешивый забирается поглубже в свое убежище и, выбрав местечко посуше, снова укладывается. Нет, он не спит. Какой там сон на голодный желудок! Он слушает. Его слух настроен на голоса кедровок.
Кончился день, наступила ночь. А Мугу не спит, все слушает, очень внимательно слушает. Чу! Что-то необычное в шорохах! Вот мягко хрустнула гнилая валежина, вот чуть слышно шаркнул мокрый снег в ложбинке, медленно оседая под чьей-то мягкой лапой. Мугу затаился. Тишина. Потянулся мордой к лазу, ноздри его заработали, то суживаясь, то расширяясь, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Вдруг в темноте, прямо напротив лаза, два золотисто-зеленых огонька… Амба-Дарла! Мугу не впервые видит их: Дарла не раз наведывался в Моховую падь. Мугу-плешивый ненавидел его и побаивался: на его глазах Дарла три года назад схватился с молодой подругой Мугу и в несколько мгновений задавил ее.
Теперь Мугу-плешивому стало ясно, почему тараторили кедровки. Амба-Дарла не частый гость здесь, его появление — событие. Что же, это лучше, чем Человек. Дарла никогда не нападает на сородичей Мугу, а если он напал на его подругу, то она сама была виновата в этом: не следовало трогать недоеденного кабана, когда Дарла отлучился на минутку, чтобы попить воды; ведь он всегда так делает, когда ест только что задавленную добычу, — по нескольку раз ходит лакать воду.
Мугу-плешивому стало понятно и другое; раз появился Амба-Дарла, значит, сюда забрело стадо кабанов — Большая семья. Любопытно, не Хара ли привела ее, ведь Мугу не раз встречался с ней в Моховой пади. Это хорошо, что пришла Большая семья, можно неплохо поживиться, особенно после того, как Мугу приучит желудок к пище. Ведь тогда у него будет отличный аппетит, а в Большой семье всегда находится какой-нибудь молодой беспечный простофиля, добыть которого совсем не трудно.
Ах, какое вкусное мясо у молодого кабанчика! Сравнить с ним можно разве только кабарожье. Но поймать в его-то годы кабарожку — дело почти безнадежное. Вот уж сколько в последние годы он следит за красавицей Элхой, что кочует по Моховой пади. А что проку? Только проглотит слюнки, когда Элха птицей вспорхнет при его появлении, на том и кончается охота.
Когда он был молодым, у него все ладилось гораздо лучше. Зато и любил же он в молодости озорничать!
Как-то осенью брел он над обрывом в верховьях Моховки. Тот год был урожайный, изобильный орехами и ягодами. Мугу был здоров и сыт и решительно не знал, куда девать силу: то покачает березку, то одним махом легко перепрыгнет через метровую замшелую колоду. И вдруг он увидел под обрывом, у самой кромки воды, кабанье стадо. Большая семья! Ему захотелось потешиться. Что бы такое сделать?
Высота небольшая, метров пятнадцать, но кабаны все равно его не достанут. Камень на них свалить? Подходящего не видно. Ба! Так можно же валежину! Вон выворотень. Подтащил его молодой озорник к краю обрыва макушкой вперед и толкнул вниз изо всех сил. Только не учел он, что широко торчащие корни выворотня у него за спиной. Собственное озорство тут и обернулось против Мугу. Корнями так поддало ему под зад, что он кубарем полетел вниз вместе с выворотнем.
Что было потом, Мугу припомнить не мог. Наверное, спасло его то, что он летел вместе с корнями, они смягчили удар о камни. Только остались в памяти фалды кабаньих ляжек, удаляющихся вправо по берегу, да цокот копыт по галечнику. Сам же Мугу на всякий случай кинулся в речку и вмиг перемахнул — где вплавь, где вброд — на ту сторону. Там только и пришел в себя. Долго потом ныли у него зад и холка — ею он ударился о галечник, когда летел сверху.
Да что там говорить, всякое бывало, и веселое и невеселое, за долгую-то жизнь старого Мугу.
А когда он был еще годовалым пестуном-нянькой у двух своих младших братишек, совсем еще несмышленышей, с ним стряслась настоящая беда. Только накануне мать научила его добывать мед диких пчел. Мед так понравился ему, что он стал прямо-таки одержим: только и бродил вокруг толстых деревьев да глядел вверх, прислушивался: не гудят ли на нем пчелы, не роятся ли возле какого-нибудь дупла.
На старой-престарой липе, метрах в восьми от земли он увидел рой. Забыв о подопечных малышах, быстро вскарабкался по стволу и, не раздумывая, сунул лапу в дупло. Откуда было ему знать, что здесь гнездились не пчелы, а гигантские шершни. Жало у них намного толще и длиннее, чем у обычных ос или пчел. От пчелиных укусов вполне спасала шерсть, против шершней же шерсть почти совсем не защищала.
Вот тут-то Мугу и узнал цену меду. Первый укус он получил в середину переносицы, потом в пятачок носа, потом под глаз, отчего ему показалось, будто из глаз посыпались солнечные брызги. Потом еще и еще…
Он дико орал, больше не мог держаться за ствол и мешком полетел вниз. Но шершни атаковали его и на земле, а заодно и младших братишек. Поднялся несусветный визг. На крик примчалась испуганная мать. Увидев медвежат целыми и невредимыми, она не стала выяснять, кто и почему первым поднял панику. Несколько крепких оплеух нерадивой няньке были достаточно солидным довеском к тому, что уже получил юный Мугу от шершней. И теперь его воспоминания о первом меде были не сладкими…
Гораздо приятнее вспоминать о кабарожьем мясе. Он не раз отведал его в молодости.
Бывало, он любил выслеживать кабарожек перед самым снегопадом, незадолго до того, как залечь в берлогу. В такую пору кабарожки начинают обживать какое-нибудь укромное убежище под буреломом. Заберутся они туда, и тут в самый раз ворваться в их укрытие. Обычно в убежище два лаза, образующих сквозной проход. Когда свободным остается только один, семья не успевает сразу выскочить, и кого-нибудь все-таки удается сцапать.
И еще такое же вкусное мясо у изюбра. Прошлой осенью, в сентябре, Мугу-плешивому на редкость повезло: он напал на молодого самца, когда тот дрался со старым красавцем Гру. Сентябрь — месяц гона изюбров. В такую пору между самцами начинаются жестокие бои за самок. По всей Моховой пади тогда стоит олений рев, слышатся звонкие удары рогов, Мугу-плешивый целыми днями ходит по следам изюбров. В молодости он однажды в такое же время без труда получил еды сразу на всю осень. Два, видно молодых, самца в драке сцепились рогами. Когда Мугу (он тогда еще не был плешивым) ринулся к ним, они оба лежали на земле и зло, натружено хрипели. Мугу перегрыз им обоим глотки, потом натаскал огромную кучу валежника и спрятал под ним добычу.
Минувшей осенью получилось иначе. Заслышав щелканье рогов и злой хрип, Мугу-плешивый кинулся к месту боя и успел вцепиться передними лапами, а потом и зубами в круп ближайшего изюбра. Вдруг он узнал в противнике своей жертвы гордого красавца Гру. Мугу не раз видел его, тот постоянно жил на склонах Горбатого хребта, вблизи солонцов. Гру тотчас же шарахнулся в лес. Изюбр же, в которого вцепился Мугу-плешивый, сначала встал на дыбы, потом со страшной силой ударил медведя задними копытами в пах. Хотя удар получился скользящий, Мугу все же не устоял на задних лапах. Но челюсти старого хищника уже сомкнулись на крупе изюбра. Оба они упали на сухой ствол валежины. И этого было вполне достаточно для Мугу, чтобы успеть сломать изюбру шею.
Вкусное было мясо! Под эти сладостные воспоминания Мугу-плешивый забылся чутким сном.
…Появление грозного пришельца встревожило не только Мугу-плешивого. Все четвероногие и даже пернатые обитатели Моховой пади насторожились и притихли. Амба-Дарла рыскал по пади.
Видно, за зиму, пока он был Великим пастухом у Большой семьи, кабанина надоела ему, и теперь он искал для разнообразия какое-нибудь новое вкусное блюдо. У Тайменной заводи он одним прыжком настиг зазевавшуюся молодую выдру, а на устье Барсучьего ключа сцапал престарелого барсука. Это видели, слышали или чуяли по запаху крови многие обитатели пади и мгновенно затаивались, замирали в своих убежищах.
РОСОМАХА УГА
Прячась в буреломе, Мугу-плешивый, разумеется, не мог знать всего, что происходило в это время в окрестностях. А событий было много.
Как уже сказано, Уга жила в расселине под небольшим обрывчиком у подножия Горбатого хребта. Мало у кого есть столь надежное убежище, как у Уги. Его давно обжила мудрейшая прабабушка Уги, теперь покойная. Расселина почти такая же узкая, как нора у лисицы, в нее может протиснуться только росомаха, и то вытягиваясь в струнку. Любой из хищных зверей, более сильных, чем Уга, — а таковы только тигр, медведь да разве еще волк, — если бы захотел достать Угу, не мог бы этого сделать. В самом дальнем конце нора переходит в маленький грот, устланный сухой травой и листьями. На этой роскошной постели Уга отдыхает после охоты, а зимой великолепно спасается от холода, если не уходит далеко на охоту. А вообще она носит очень добротную темно-бурую шубу с длинной, мягкой шерстью, в которой ей не угрожает самый лютый холод. При необходимости она может спать, зарывшись в сугроб.
В этой же расселине жил непутевый супруг Уги — Буга, который часто куда-то уходил, а теперь пропадал вот уже второй месяц. Между тем у Уги скоро должны появиться детеныши, и помощь супруга становилась крайне необходимой.
Уга одной из первых пронюхала о появлении в Моховой пади Большой семьи. Запах кабанов она, наверное, уловила бы километров за пять: до того приятен и сладок он ей. А тут стадо проходило совсем близко, метрах в ста. Обычно она охотилась за молочными поросятами: попросту воровала их у матки до того, как к осени Большая семья начинала собираться в одно стадо. Да и после этого столько легкомысленных подсвинков, чуть отбившись от стада, сами подходили к ее засаде и тотчас же попадали к ней в лапы. Так было всегда с появлением в Моховой пади Большой семьи. Уга вдоволь лакомилась поросятиной и прежде, когда предшественница Хары приводила Большую семью в Моховую падь. Однажды они вместе с Бугой, непутевым супругом, даже пытались напасть на молодого секача, но тот так решительно ринулся на них, что пришлось спасаться бегством. Теперь Уга, тайком преследуя Большую семью, узнала этого секача в нынешнем помощнике Хары — Ухуру. Он вырос почти вдвое и был в расцвете сил; Уга заметила это еще в первую минуту, когда стала прицеливаться к отставшим подсвинкам.
Уга была уже совсем близко к цели, когда ее необыкновенное чутье уловило запах тигра. Оглянувшись, она заметила неподалеку Амба-Дарлу. Тот крался к ней так, как умеет это делать только тигр, почти полз на животе, вытянув свое желтое полосатое тело. Ее счастье, что случилось это в толстоствольном кедраче. Она знала, что надо делать, чтобы спастись. При всей ловкости и стремительности Дарлы он не был таким вертким, как Уга, она знала это по прежним встречам с сородичами Дарлы. Правда, с самим Дарлой она встретилась впервые.
Когда Дарла длинными скачками ринулся к Уге, та не стала убегать: бесполезно состязаться с тигром в беге на скорость. Она просто укрылась за толстым стволом кедра. Следя за Дарлой, она одновременно высматривала по соседству следующий подходящий кедр, за который спрячется потом.
Дарла оказался ничуть не хитрее тех своих сородичей, с которыми доводилось встречаться Уге. Он не рассчитал скорости и пронесся мимо кедра; тем временем Уга метнулась за ствол и снова оказалась в укрытии. Теперь нужно затаиться: все сородичи Дарлы замечают только то, что движется. Уга хорошо знала это по собственному опыту. Припав всем телом к земле и замерев, она сквозь прошлогодний, как всегда в кедраче, жиденький папоротник, зорко наблюдала за преследователем. Вот он заметался из стороны в сторону, подняв морду, вынюхивая воздух. Учуял. Прыгнул к убежищу Уги, но та чуть ли не у самого его хвоста проскочила в новое убежище. Пока тигр обогнул кедр, она уже спряталась метрах в десяти, выбрав направление так, чтобы не попасться на глаза Дарле. Снова суматошные прыжки вправо, влево, снова нос по воздуху то туда, то сюда. До чего же глупой выглядела в эту минуту морда Дарлы! Он даже растерялся, этот могущественный владыка лесных дебрей, не знавший поражений.
Но Дарла был не так глуп, как показалось Уге вначале. Вот он остановился, нервно ударил несколько раз своим длинным хвостом. Что же он будет делать дальше? Ага, прилег на землю, подобрал под себя передние и задние лапы, как бы согнутые пружины. Из такого положения он в любую секунду стремительно взлетит в воздух. Голова чуть поднята над макушками папоротника, глаза расширены и напряжены до предела, только пышные бакенбарды чуть вздрагивают…
Уге стало страшно. Шевельнись она хоть чуточку — и на нее рухнут сверху когтистые лапы и могучие клыки преследователя. Спасение в одном: нужно перехитрить Амба-Дарлу. А это значит — ни разу не шевельнуться. У всех сородичей Дарлы зрение днем далеко не такое острое, как у Уги. Но уж лучше потерпеть, чем рисковать. Даже глаз не должен мигать!
Смотрит, смотрит Уга застывшими глазами на уши и выпуклый лоб Дарлы сквозь узорчатые листья папоротника. Смотрит и не мигает. Ей кажется, что Дарла глядит в одну точку. Но нельзя доверять этому: он заметит движение чуть ли не позади себя. Уге кажется, будто Дарла смотрит прямо на нее. Его ноздри все время то расширяются, то суживаются. Неужели учуял? Так и есть! Вот он приподнялся на передние лапы, не отводя глаз от места, где укрылась Уга, ступил вперед раз, другой…
Нет, прежний способ прятаться больше не годится. Дарла уже разгадал его. И тут в организме Уги сработал извечный инстинкт самосохранения. Напрягшись изо всех сил, она освободила кишечник от излишнего груза, как это делают многие звери при испуге, и кинулась за следующий кедр. Дарла, прыгнув вслед за ней, на миг отворотил морду в сторону, словно по ней ударили… потом прыжок, еще, еще! Вот уж он у кедра, за которым спряталась Уга, замахнулся передней лапой… Но Уга вторично освободила кишечник, а сама кинулась наутек.
Как и многие звери, Уга могла смотреть назад; убегая, она чуть повернула голову вбок и видела, как Дарла мотнул несколько раз головой из стороны в сторону, повернул влево и, вместо того чтобы преследовать Угу, длинными скачками понесся в сторону, туда, где паслась Большая семья. Уга же без передышки мчалась до своего убежища.
Только оказавшись в безопасности, она постепенно пришла в себя. Ужасно хотелось есть. И тут она вспомнила про Барсучий распадок. Она знала, что там живет барсук Чфы, супруга которого недавно принесла многочисленное потомство. Уга видела однажды, как барсучиха затаскивала детенышей в нору после солнечной ванны. Обычно в солнечные дни они вместе с Чфы вытаскивают их, еще слепых, из норы и укладывают на солнцепеке, а сами сидят возле, караулят. При малейшей опасности супруги швыряют детенышей обратно в нору и тотчас же сами исчезают в ней. Если в это время быстро подскочить к норе, можно успеть проглотить несколько вкусных, с нежным мясом, комочков.
Уга вылезла из своей норы, понюхала воздух, оглядела окрестности. Солнце уже перевалило за полдень, было тепло, реденькие потемневшие плеши снега лоснились и поблескивали, облизанные апрельским теплом.
Кругом все спокойно, можно идти. Уга шла неслышно, ловила зорким взглядом всякое движение, стараясь оставаться незамеченной. До Барсучьего ключа неблизко, наверное, километров пять. Уга торопилась, но чувство настороженности, особенно после встречи с Дарлой, не покидало ее ни на минуту. Примерно через час она наконец незаметно подкралась к Барсучьему ключу.
…Еще с прошлой ночи Мугу-плешивый успокоился, поняв, что в пади появился не Человек, а Амба-Дарла. Если его не трогать и не мешать ему на охоте, то и он не тронет. Возможно, что даже свернет куда-нибудь в сторону; такое уже случалось, когда Мугу чуть ли не нос к носу сталкивался с тигром. Сейчас Мугу-плешивый не торопился выходить из своего укрытия в буреломе. Просто на всякий случай. Голодать ему не впервой. Только в полдень, когда солнце стало припекать особенно горячо и в буреломе появилась вода, Мугу решил покинуть свое убежище. Пока он пойдет к Барсучьему ключу, к своим прошлогодним запасам кеты.
Кругом было так хорошо! Весна приносит радость всем, в том числе и старому плешивому медведю. Там бурундучка вспугнешь, тут взлетят рябчики, а где-то при твоем появлении белка кинется вверх по стволу, громко царапая коготками кору и зло мурлыча. Все эти зверьки могут стать вкусной едой. Если, конечно, их поймать. Но Мугу-плешивый сейчас никого не хочет ловить. Он бредет по прозрачным весенним лужицам, из которых хорошо похлебать талой водички, перепрыгивает через говорливые ручьи, мнет лапами островки пожухлого апрельского снега. Только ноздри чутко ловят запахи тайги, зорко смотрят глаза и насторожены уши…
Свой прошлогодний склад рыбы он нашел в целости и сохранности. Как ни велик был голод, Мугу-плешивый съел всего пару кетиных головок, снова прикрыл валежником запасы. Потом ходил по лужицам, понемногу лакал из них воду, а больше просто лизал снег — уж очень приятно холодит он рот!
Неожиданно он заметил далеко впереди себя бурую шубу Уги, промелькнувшую на белом фоне снежного островка. Любопытно, куда же это она отправилась? Уж не разнюхала ли про его склад кеты у Барсучьего ключа? Ах, как хорошо бы поймать ее на месте преступления! Нужно попытаться незаметно последить за нею.
Стараясь не терять росомаху из вида, старый Мугу в то же время всячески маскировался: либо прятался за стволами деревьев, перебегая от одного к другому, либо затаивался за валежинами. Если же на пути встречались впадины или ложбина, где можно было укрыться, он мягко скакал по ним, сокращая расстояние между собой и Угой. В то же время главной его заботой было ее шуметь — он знал, каким чутким слухом обладает Уга.
Но что такое? Почему она остановилась, прилегла? Мугу-плешивый тоже прилег за выворотнем, притаился. Только уши да глаза торчат чуть выше валежины. Тут он заметил нору Чфы, а возле нее обоих барсуков. Пригляделся еще внимательнее и заметил потомство Чфы. Барсучата лежали рядком у входа в нору, лениво ворочались, подставляя косым лучам солнца то один бок, то другой, то спину или живот.
Мугу-плешивый понял: Уга кралась к семье многодетного Чфы! Трудно встретить более подходящий миг, чтобы сцапать Угу: все ее внимание сейчас направлено на добычу.
Как все напряглось в Мугу-плешивом! Он почти не дышал, лапы его ступали неслышно, каждый ствол дерева или мохнатую елочку он использовал как укрытие. В то же время он ни на миг не терял из виду Угу. Она ползла почти на животе, подгибая лапы. Расстояние между ней и барсуками быстро сокращалось. Только не торопиться!.. Нужно дождаться, когда она набросится на добычу: тогда она забудет об осторожности, и можно схватить ее.
Но Чфы, оказывается, не зевал. Когда Уге оставалось только сделать прыжок, Чфы вдруг громко хрюкнул и начал быстро бросать детенышей в нору. За ними проследовала его тощая супруга. Уга поняла, что просчиталась. Она встала во весь рост и сладко облизнулась, будто уже поела. Тут-то и ринулся к ней Мугу-плешивый.
Уга явно не ожидала нападения. Она оглянулась, когда Мугу-плешивый был почти рядом, метрах в двадцати. Во весь опор кинулась она наутек, распустив свой пушистый хвост. Однако расстояние между ними заметно сокращалось; как на грех, почти не попадались толстые деревья, за которыми можно было бы прятаться…
Мугу-плешивый давно не бегал с такой прытью. Он видел, что заметно приближается к цели, и это прибавляло ему резвости. Он старался обойти росомаху справа — в той стороне находится убежище Уги. Но та, видимо, разгадала замысел старого медведя и стала вилять, как лыжник на слаломе, скрываясь за деревьями.
Но и Муру-плешивый понял ее маневр. Он не стал повторять ее маршрут, а спрямлял путь все с той же правой стороны.
Когда между ними осталось всего семь-восемь метров, Уга вдруг круто вильнула влево. Расстояние между нею и преследователем сразу увеличилось метров на пять. Мугу-плешивый не сумел так круто повернуть вслед. Но этот маневр Уги не пошел ей на пользу. Впереди было мелкое редколесье, заболоченное место, а дальше открытый берег Большой заводи. Тогда Уга прибегла к новому маневру: стала выписывать восьмерки. Это помогло ей несколько отдалиться от врага, и она понеслась напрямик к своей норе. Мугу-плешивый снова стал заходить справа, хотя хорошо знал, что где-то здесь недалеко, слева, есть куча старого валежника. Уга великолепно воспользовалась просчетом своего страшного преследователя. Она мчалась в сторону кучи. Мугу-плешивый понял это и приналег из последних сил. Вот уж она видна, эта куча. В каких-нибудь десяти метрах от нее Мугу-плешивый почти догнал Угу: казалось, вот-вот он ухватится зубами за ее хвост… И вдруг в глазах у него потемнело, в ушах поднялся звон: Мугу-плешивый с размаху треснулся о валежник, раза два перевернулся через голову и оказался по ту сторону кучи.
Вскочив на ноги, он, как очумелый, завертелся на месте, словно гоняясь за собственным хвостом. Когда он пришел в себя, то сразу даже не мог сообразить, где он перед тем был и что делал. Только почувствовал страшную жажду. Из первой же попавшейся лужи он долго хлебал талую воду. Жалкий вид был у него в эту минуту. С мокрого брюха и груди лохмотьями свисала линялая шерсть, плешины на морде и шее были исцарапаны, из них сочилась кровь.
Несладко чувствовала себя и Уга. Она видела, как кувыркнулся медведь через кучу валежника, под которой она проскочила сквозь узкий проход, видела, как он завертелся на месте, но скорости бега не сбавила. Так она домчалась до своей расселины и, хотя теперь за ней никто не гнался, щукой скользнула в свое надежное убежище. Через несколько минут она разрешилась от бремени — один за другим у нее появились на свет три щенка. Двое оказались мертворожденными.
А перед самым утром в расселину протиснулся долгожданный гость — ее непутевый супруг Буга. В зубах он держал крупного селезня, совсем еще теплого. Селезень пришелся как нельзя кстати, ведь Уга уже много часов ничего не ела…
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МНОГОДЕТНОГО ЧФЫ
У барсука Чфы всегда пропасть забот. А в эту весну их стало особенно много — барсучиха принесла девять детенышей вместо семи или восьми, как обычно.
Чфы должен был не только кормить и оберегать потомство. Каждый день он вытаскивал детенышей из норы, чтобы хоть несколько минут подержать их на солнце, а потом затаскивал обратно. В это время его подстерегало множество опасностей. То ветер нанесет запах ненасытной Уги, то вверху зашуршат ветки, — значит, там крадется кровожадная рысь Фура либо коварная куница Харза. А то вдруг послышатся тяжелые шаги Мугу-плешивого — тогда нельзя мешкать ни секунды, надо хватать зубами полуслепых барсучат за загривки и швырять их в нору. А вот теперь появился Амба-Дарла…
Но опасности опасностями, а детеныши с каждым днем подрастают, материнского молока им уже начинает не хватать, и, стало быть, нужно по целым суткам метаться в поисках лягушек, мышей, бурундуков или дохлой рыбы, нужно совершать по многу раз в сутки рискованные маршруты по окрестностям…
А радостная весна весело шла по Моховой пади. Уже совсем стаял снег, окончательно очистилась ото льда Моховка. Сквозь прошлогоднюю листву пробились нежные завитки папоротника, там и тут голубели подснежники. Стояла теплынь и сушь. Лес был полон шорохов. Это промышляли в сухой прошлогодней листве мыши, бурундуки, рябчики, пернатая мелочь.
Однажды солнечным, теплым утром, высунувшись из норы, Чфы услышал треск под огромным буреломом, что нагромоздился неподалеку от норы, возле самого берега Барсучьего ключа. Осторожно выглянув из-за каменного уступа рядом с норой, Чфы зло хрюкнул: под буреломом устраивала себе логовище старая Хара. Чуть дальше, вдоль — ключа, паслась и вся Большая семья. Чфы понял, что Хара ждет потомство. Не везет в эту весну бедному Чфы! Теперь Большая семья все время будет толочься вокруг, распугает и разгонит всех бурундуков, мышей, лягушек!
Пока Чфы сердито ворчал, наблюдая за непрошеными гостями, Хара уже натаскала гору прошлогодней травы, лесной ветоши, плотно обложила ею кучу веток. Потом подсунула нос под край кучи и подползла под нее на брюхе, подкидывая понемногу груз на себя. Вскоре она вся скрылась под кучей. Теперь ничто не выдавало ее присутствия.
Так к множеству забот многодетного Чфы прибавилась еще одна — необходимость далеко ходить на промысел. А ведь где-то постоянно бродят Уга и Амба-Дарла… Да еще со дня на день должно прилететь, а может быть, уже прилетело семейство орланов — Белохвостый Клек и его жестокая супруга. Прошлым летом она унесла одного из барсучат, когда Чфы вывел свое семейство на длительную прогулку к берегам Моховки.
Многоголосый писк за спиной напомнил Чфы о его отцовских обязанностях: потомство требовало еды. Что ж, надо отправляться, как это ни опасно.
Чфы тщательно вынюхал все запахи, доносимые бродячим весенним ветерком, повертел своей узкой мордочкой, украшенной двумя черными лентами, идущими от черного пятачка носа к ушам, и лениво затрусил к устью Барсучьего ключа. Его серовато-желтая шубейка сливалась с сухой прошлогодней листвой. Мешало только, что слишком громко шуршали листья под лапками, будто по жестянкам бежишь.
Слева показался Мышиный склон, спускающийся на юг, к Моховке. На нем растет преимущественно лиственный, не очень густой лес. Сейчас лес еще голый, и солнце хорошо прогрело землю. Здесь излюбленное место весенней охоты Чфы: склон густо населен мышами. Здесь раньше, чем в других местах, стаивает снег, и это привлекает сюда наголодавшихся за зиму грызунов. Вот и сейчас в лесной тишине по всему Мышиному склону слышно множество шорохов. Это мыши ищут под листьями прошлогодние орехи лещины, зернышки семян пробкового дерева и аралии маньчжурской; то там, то тут мелькают бурундуки в своих желтых, маскировочных шубках с продольными полосками вдоль спины. Хвосты бурундуки держат торчком, распушенными, кончики их все время вздрагивают.
Теперь надо затаиться. Бурундуки настолько глупы, что, если замереть на одном месте, они подбегают к самому носу. Но следить нужно не только за добычей, а и за окрестностями: как бы не появился кто-нибудь из опасных врагов Чфы. Вон, кажется, кто-то небольшой промелькнул внизу. A-а, старая знакомая, енотовидная собака — отшельница Эдуни. Она не опасна, сама озирается кругом, боится. Чфы часто встречается с Эдуни, та обычно промышляет у берега Моховки и там живет под завалью коряг; когда-то в этом месте произошел оползень и нагромоздил непролазный хаос деревьев. Сейчас она тоже, видимо, пробирается сюда, на богатое мышиное угодье. Так и есть. Вон уже сделала стремительный скачок, кого-то схватила…
Пока Чфы наблюдал за Эдуни, возле него появился довольно крупный мышонок. Чфы без труда прихлопнул его лапой и тут же съел. Не стоит из-за такой мелочи бежать к норе, а потом обратно. Надо дождаться добычи покрупнее. Чу, кто это там так сильно шуршит? Ага, бурундук, да какой крупный и толстый! Понятно: беременная самка. Чфы замер, затаился так, что веко не моргнет. Ну подойди же, подойди поближе! Нет, вертится возле одного места, ищет, видимо, учуяла что-то вкусное. Улучив минуту, когда самка скрылась за стволом дерева, Чфы неслышно двинулся туда и замер возле кустика дудника с прошлогодними семенами. Он знал, что бурундуки охотно едят их. Расчет оказался верен: вскоре самка подскакала к кустику, взобралась на полутораметровую высоту, к зонтику. Этого как раз и ожидал Чфы. Ловким броском он на лету поймал добычу, и самка даже пикнуть не успела, как хрустнул ее хребет в зубах охотника,!
Чфы опрометью помчался домой. Барсучиха поджидала его у входа в нору. Она с жадностью вырвала добычу из его рта.
Раз пять сбегал Чфы на Мышиный склон, за это время сам съел трех мышей и был почти сыт, как вдруг попал в беду.
Находясь в засаде, он услышал где-то у себя за спиной дальний шорох листьев. Мгновенно оглянулся и замер: Дарла! Тот находился метрах в двухстах — как раз между Мышиным склоном и норой Чфы. Видимо, он пробирался к Барсучьему ключу в поисках Большой семьи. Значит, путь к норе закрыт! Что же делать? Не мешкая ни минуты, Чфы скользнул за ближайший ствол дерева. Замереть бы, как это ловко делает Эдуни: пусть хоть наступит на нее враг, она даже оком не моргнет и ухом не поведет!
Но у Чфы были свои способы укрываться от опасности. Он отлично умел использовать впадины, небольшие кустики, коряжины. Так, от укрытия к укрытию, и уходил Чфы от врага. Вскоре он оказался вне поля зрения Дарлы и что было сил поскакал в сторону, противоположную той, где пролегал маршрут грозного владыки. Он уже чувствовал себя в безопасности, как вдруг почти нос к носу столкнулся с извечным своим врагом — Бугой.
Чфы давно знал Бугу. За последние пять лет тот съел двух его жен. Спрячется у норы в засаде и ждет, когда кто-нибудь появится из нее. Несколько раз он так подстерегал и самого Чфы, Но молодой барсук был необычайно осторожен и всегда скрывался раньше, чем Буга выскакивал из своей засады. И вот встреча, нос к носу…
К счастью, рядом оказался бурелом. Чфы юркнул под него и стал петлять по лабиринту, стараясь выбирать самые узкие лазейки. Буга тотчас же кинулся вслед. Он оказался ничуть не менее проворным, чем Чфы, и в одном месте чуть не цапнул его сзади. Спасла узкая щель между колодиной и землей — Чфы сумел протиснуться через нее. За буреломом начиналось редколесье, а дальше просматривался открытый галечный берег Моховки. Теперь нужно было, пока Буга блуждает в буреломе, проскочить редколесье, добраться до берега Моховки, а там рукой подать до оползневой завали, в которой живет Эдуни.
Расчет оказался вереи: Чфы был уже на том краю редколесья, когда Буга выбрался из бурелома. Он так и не понял, куда девался Чфы, и долго еще рыскал разочарованный вокруг бурелома, заглядывал во все лазейки, прислушивался, вынюхивал воздух. Чфы ловко одурачил его!
А тем временем Чфы был уже под обрывчиком, которым кончается редколесье у берега, и под его прикрытием во все лопатки улепетывал в сторону оползневой завали. Но обстановка оказалась гораздо сложнее.
В стороне, вверх по течению Моховки, кружили над отмелью коршун Тиня и его супруга, повторяя по очереди: «Ти-иня, ти-иня, ти-иня…» Но ни Тиня, ни его супруга никогда не нападали на семейство Чфы.
Чфы почуял опасность, когда его накрыла огромная тень. Белохвостый Клек! Барсук метнулся под обрывчик, под бахрому корней, свисающую до самого галечника. Его обдал ветер от крыльев. Белохвостый Клек снова взмыл вверх метров на десять и стал выписывать крутые виражи, часто махая своими метровыми крыльями, видимо, выслеживая, надежно ли спряталась его добыча. Между стенкой обрыва и бахромой корней и корневищ было ровно столько места, сколько нужно, чтобы уместилось щупленькое туловище Чфы. Правый бок даже слегка оттопыривал бахрому. Будь Белохвостый Клек чуть сообразительнее, он мог бы запустить когти в этот бок.
Из своего ненадежного укрытия Чфы разглядел метрах в десяти от себя толстую облезлую корягу, наполовину замытую галечником и мелким гравием. Под ней виднелась великолепная ниша, почти такая же узкая, как его родная нора, и не меньше метра глубины. Это была обычная вымоина. Если спрятаться в ней, то там не достанет не только Белохвостый Клек, но и сам Буга, не говоря уже об Амба-Дарле.
Но как проскочить это опасное расстояние? Как обмануть Белохвостого Клека?
Чфы следил за каждым движением своего врата. Тому, наверное, уже надоело часто махать своими тяжелыми крыльями, он рванулся кверху и стал парить на уровне макушек леса, потом исчез из поля зрения. Куда же он делся? Может, совсем улетел? Чфы напряг слух. Ага, понятно: свист крыльев прекратился, Чфы ясно услышал, как когти орлана царапнули кору, как зашуршали перья — тот сложил крылья. Значит, решил караулить.
А между тем, не ровен час, появится Буга. Занавеска из корней совсем не защита от него. Э-э, была не была! Пока Белохвостый Клек поймет, в чем дело, Чфы будет в надежном убежище — в нише под корягой. И он кинулся туда. Уже возле коряги он увидел, как Белохвостый Клек камнем ринулся на него с вершины сухостойника, он даже почувствовал спиной волну ветра. И когда юркнул в нишу, что-то больно царапнуло его у самого основания хвоста. Это был коготь Белохвостого Клека. Крючок когтя дернул его назад, но Чфы, упершись всеми четырьмя лапами в землю, рванулся вперед и сорвался с когтя. Он забился в самый закуток ниши, откуда его нельзя было бы достать никакими силами, и там затаился, замер. Не скоро он пришел в себя, а когда наконец успокоился и стал прислушиваться, то понял: Белохвостый Клек сидит на коряге, караулит его. Время от времени слышно, как он клювом перебирает, трогает перья, переступает с лапы на лапу, царапая кору.
Если бы они умели разговаривать, между ними, наверное, произошел бы такой диалог;
— И чего ты сидишь тут, — сказал бы Чфы. — Ты же все равно меня не достанешь.
— Ладно, ладно, — отвечал бы Белохвостый Клек, — мне тут ни жарко, ни холодно, а тебе не просидеть долго в твоей грязной дыре, все равно вылезешь.
— Не вылезу!
— Вылезешь, голод выгонит…
Нет, за день Чфы не сдохнет с голода, а ночью он все равно удерет. Ночь для него — родная стихия.
Как долго тянулся для Чфы этот неудачный день! Его мучила жажда, Да и есть уже изрядно хотелось. Перед закатом солнца запрыгнула в нишу старая лягушка — видимо, пряталась где-то тут же под корягой, — и барсук поймал ее.
Чфы особенно не тревожился за свою судьбу. Он знал, что Белохвостый Клек к ночи всегда улетает в свое гнездо. Кроме того, супруга его наверняка уже высиживает яйца, а ее в это время нужно кормить.
Уже затемно Чфы услышал, как Белохвостый Клек грузно подпрыгнул, сильно царапнув корягу когтями, как зашуршали перья расправленных крыльев, потом засвистело в воздухе — охотник улетел восвояси. Но Чфы еще долго не покидал своего убежища, опасаясь засады. Только когда совсем стемнело, Чфы высунулся из ниши. Он долго прислушивался и ловил ноздрями запахи, прежде чем окончательно выйти на свободу.
Первым делом Чфы кинулся на Мышиный склон. Там он досыта наелся улиток, которые начинают выползать в эту пору, закусил парой мышей, поймал для барсучихи крупную мышь и неторопливо потрусил домой.
Но барсучихи в норе не было — по-видимому, ушла на промысел, хотя обычно она уходила на охоту, только когда в норе появится Чфы. Как же это они разминулись? Ведь она тоже всегда промышляет на Мышином склоне. Чфы отдал добычу на растерзание барсучатам. Те долго возились с ней, то и дело начинали драться и визжать.
Подождав с полчаса, Чфы решил поискать жену. У выхода из норы он чутьем отыскал свежий запах ее лапок и потрусил по следу, не отрывая носа от лесной подстилки. Вот он круто повернул вправо, скачки стали длиннее. Но что это? Кажется, запах Буги? Так и есть. Случайное это совпадение или Буга гнался за барсучихой? Но разве могут состязаться в беге росомаха и барсук! И вот через три десятка метров следы схватки — слежавшиеся прошлогодние листья взрыхлены метра на три кругом, и на них капли крови… А вот и финал битвы: под кустиком видны остаток хвоста и обглоданный череп — все, что осталось от барсучихи…
Всю ночь он мотался между норой и Мышиным склоном, таскал мышей, лягушек, а под конец приволок даже гадюку. Только под утро осиротелая семья была сыта, и намотавшийся за день Чфы улегся зоревать. Во сне он то и дело вздрагивал. Еще бы! Столько злоключений за один день! А дальше будет еще труднее — ведь надо одному прокормить такую ораву…
ВЛАДЫКА НЕБА
Орлан Белохвостый Клек поселился в Моховой пади три года назад. До этого он с молодой супругой жил у Голубой реки. Они свили там первое свое гнездо и вывели двух птенцов. Но случился лесной пожар, и Огонь уничтожил их гнездо вместе с желторотыми птенцами. И тогда они подались в иные края.
Прижиться в Моховой пади им было нелегко.
Как и в каждом лесу, обитатели заселили здесь все три этажа. Нижний этаж — сама земля с ее норами, корнями деревьев, с буреломами, старыми колодами и выворотнями — населен особенно густо. Здесь можно обнаружить и обширные апартаменты со сложными лабиринтами коридоров, со спальнями, кладовками и целыми залами. Их великолепно умеют строить мелкие грызуны — мыши, бурундуки, кроты. А рядом увидишь убогую ночлежку — простое логовище дикого кабана или изюбра, медведя или кабарги, зайца или самого владыки нижнего этажа — Амба-Дарлы. Из их соседей по этажу, пожалуй, самые удобные жилища устраивают себе барсук, лисица, росомаха и енотовидная собака. Правда, не у каждой росомахи убежище подобно тому, в каком живут Уга и Буга. Бывают и бродячие, «бездомные» росомахи. Они тоже иногда появлялись в Моховой пади. Но Буга и Уга быстро изгоняли пришельцев из своих угодий.
Второй этаж — стволы деревьев и нижняя часть крон — имеет меньшую жилплощадь. Но и он населен довольно густо. Куница Харза и летяга, даже бурундук и колонок часто находят себе пристанище или еду на втором этаже. В большом дупле живет старая сова, а рядом в мелких дуплах — дятлы, поползни, синицы. Им остаются те дупла, в которые не могут пролезть их соседи и враги. На тонких ветках, особенно в подлеске, можно найти аккуратно свитое гнездышко соловья-красношейки, дубоноса, синицы, иволги, а на развилках более толстых веток устраивают свои гнезда голубая сорока и кедровка, черная ворона и ястреб-тетеревятник, дикий голубь и сойка.
Но владыка второго этажа в Моховой пади — рысь Фура. Она гроза всего живого. Среди толстых веток она устраивает засады также и на обитателей первого этажа. Стоит зазеваться кабарге или косуле, барсуку или енотовидной собаке, даже изюбру, как на него камнем упадет сверху Фура и тотчас же перегрызет горло.
Меньше всего заселен постоянными жильцами третий этаж — самые макушки крон и пространство над ними. Его владыка, владыка самого неба — Белохвостый Клек. Соседствуют с ним только коршун Тиня с супругой и разбойная семья черных ворон во главе со старым Карром.
Казалось бы, столько простора, о чем спорить? Но нет, едва только появились здесь Белохвостый Клек с супругой и уселись на сухой вершине Древнего могучего кедра, как вокруг них началось столпотворение.
Первыми поднялись в небо коршуны. Зло и надоедливо они запели дуэтом: «Ти-иня, ти-иня, ти-иня!..» Тотчас же откуда-то появилась разбойная семейка старого Карра и с сумасшедшими воплями закружилась над незваными гостями. «Карр, карр, карр, карр!» — гремело на всю Моховую падь. Потом отозвались кедровки, подняли в лесу дикий гвалт.
Белохвостому Клеку скоро надоел этот шум, да и проголодался он изрядно, пока летел от Голубой реки. Он подпрыгнул, широко расправив крылья, и стал кружить над поймой Моховки: решил поискать добычу. Зрение у Белохвостого Клека превосходное, разве еще Тиня может сравниться с ним в этом отношении. С высоты в сотню метров Клек видит на берегу поймы и змею, и самого маленького зверька. Вмиг окинув взором берега Моховки, он сразу же заметил выдру Ласу; та выползала из тальниковой уремы, а потом стала крутиться у заводи, заваленной коряжинами. Белохвостый Клек, сопровождаемый птичьим граем, стал делать виражи.
Он не раз за свою жизнь залетал во владения собратьев по семейству — коршунов, но никогда еще не случалось, чтобы хоть один из них осмелился пикировать на него. А тут он вдруг увидел, как Тиня, сложив крылья, ринулся сверху к нему. Пришлось чуть ли не перевернуться на спину, чтобы вовремя отразить атаку.
Тиня тоже не впервые встречался с орланами. Как-то, лет пять назад, сюда залетел в поисках владений для себя совсем молодой орлан, наверное, годовичок или двухлеток. Очень скоро Тиня понял, что он в воздухе проворнее молодого орлана. Раза два Тине удалось спикировать на спину пришельца и в одной атаке даже как следует долбануть его по затылку. Орлан стал после этого осторожнее и пугливее. Тиня заметил это и не давал ему покоя. Иногда вместе с самкой, иногда в одиночку он непрестанно преследовал молодого орлана, едва тот поднимался на крыло. Так и выжил его из своих владений.
По-видимому, он и теперь рассчитывал вызвать страх у нового пришельца. Но Белохвостый Клек оказался не трусливого десятка.
После неудачной атаки Тини, Белохвостого Клека атаковала самка коршуна. Она подкралась незаметно, сбоку, и сверху ринулась на спину орлана, но в самую последнюю секунду он сумел отбить ее крылом.
Тут осмелели и черные вороны. Они кружились возле орлана, отвлекая его внимание от атак коршунов. Тотчас же на помощь Белохвостому Клеку ринулась его подруга. Она стремительно атаковала Тиню, но тот увернулся и вмиг оказался выше ее. Как и в драках на земле, в воздухе преимущество у того, кто окажется сверху. Орлану трудно состязаться с коршуном в маневренности, поэтому коршуны все время висели над четой орланов.
Белохвостый Клек и его супруга скоро вернулись на сухую макушку старого кедра. Теперь никто не мог атаковать их с воздуха без риска получить смертельный удар мощного орлиного клюва. Коршуны улетели к своему гнезду, а свора разбойного Карра расселась вокруг, хотя и угомонилась. Только кедровки продолжали тараторить в гуще крон. Они видели всю картину воздушного боя и теперь, как всегда, не слушая одна другую, громко болтали, видимо, комментировали событие.
Потом подобные свары повторялись еще не раз, но чета молодых орланов не обращала на них внимания. Оставшись в тот год бездетными, Белохвостый Клек и его подруга хорошо питались в новом угодье и скоро стали полными владыками неба над Моховой падью. К ним уже никто не смел приближаться.
Следующей весной они вновь вернулись сюда из теплых краев, построили себе гнездовище на том же старом кедре и вывели двух птенцов. Когда те уже пробовали летать, один из желторотых оказался слишком беспечным и самонадеянным и спустился на самый нижний сук соседнего дерева. Там его задушила рысь Фура. Второй птенец этой весной отстал где-то на пути в Моховую падь. Да это и лучше, ему все равно пришлось бы скоро покидать родительские владения — таков Закон.
Появление орланов нынешней весной в Моховой пади никого не удивило: к ним уже привыкли. Но теперь и барсукам, и енотовидной собаке, и выдре, и зайцам следовало глядеть в оба еще и на небо и остерегаться открытых мест.
Сейчас самка орлана почти безвылазно сидела в гнезде, прикрыв теплыми перьями и подпушкой три больших грязно-белых яйца. Через тридцать восемь дней из них вылупятся птенцы. Теперь Белохвостый Клек должен добывать еду не только для себя, но и для самки. Обычно он сидел где-нибудь неподалеку от гнезда на макушке самого высокого дерева, предпочитая голую сухую ветку. Оттуда ему хорошо видны окрестности, главным образом отлогие галечные берега Моховки. В эту пору от его взгляда ничто не ускользнет вокруг.
Вот он уловил какое-то еле заметное движение среди камней у берега заводи на той стороне Моховки: от старого ивняка к воде ползет гадюка. Орлан тяжело сорвался с ветки. Несколько взмахов крыльями у самого галечника, лапы чуть коснулись земли, и вот он уже взмыл. В его когтях извивается гадюка. Несколько ударов клювом, и змея повисает мертвой плетью. Он не улетает далеко, усаживается на ближайшую корягу, некоторое время оглядывается вокруг. Потом начинает терзать добычу — отрывает по куску и с жадностью глотает, длинно вытягивая и выгибая шею.
С наступлением сумерек над Моховой падью слышится: «Клек, клек, клек». Это самка зовет Белохвостого Клека домой. Подходит ночь, и ей, наверное, страшновато оставаться одной в гнезде. Мало ли что может угрожать ей, прикованной к гнезду материнским долгом. В эту пору в кронах начинает охотиться рысь Фура, зеленые огоньки ее глаз нет-кет да и сверкнут где-нибудь неподалеку. А то где-то рядом кто-то царапнет когтями древесную кору, потом тишину нарушит предсмертный крик какой-нибудь задремавшей птахи. Это вышла на охоту одна из самых опасных хищниц — куница Харза, а может быть, и соболь. Беспокойно тогда чувствует себя владычица неба.
И самец прилетает. Походит по краю гнезда, чуть приспустив крылья, потом усаживается на давно облюбованной ветке по соседству, складывает плотно крылья, вбирает голову. Значит, он погрузился в дремоту, чуткую, настороженную.
БИТВА ЭТАЖЕЙ
Амба-Дарла великолепно устроился в Моховой пади. Он нашел старое свое логовище среди скалистых уступов у истоков Барсучьего ключа. Логовище было хорошо защищено от солнца, дождя и ветра огромной елью, разросшейся на следующем уступе. Но самое главное, отсюда, если чуть поднять голову над обломком скалы, можно увидеть не только весь распадок, но и сам Барсучий ключ до того места, где он сворачивает вправо, чтобы влиться там в Моховку, — туда уходит лесной коридор.
Дарла теперь охотился обычно по ночам, а дни проводил в своем убежище. Он то дремал, чутко ловя ушами лесные звуки, то слегка поднимал голову и подолгу наблюдал со своей вышки за тем, что происходит на берегах Барсучьего ключа. Вот Ухуру вышел из зарослей, уткнул морду под кочку прошлогоднего папоротника, легко перевернул ее и пошел пахать вокруг. Он то и дело вскидывал свою клыкастую морду, что-то жевал, с грозных его клыков свисали корневища. Вскоре вокруг него появилось несколько молодых секачей.
Но Большая семья не интересовала сейчас Дарлу, он был сыт. Как и всегда после урожайного года, нынешней весной в изобилии наплодилось разной живности, и владыке Моховой пади не стоило большого труда добыть себе еды. То заяц сам наскочит, то зазевается какой-нибудь барсучишка, то налетит косуля, вспугнутая рысью или росомахой.
Хорошая пора весна! Лес полон птичьего гомона, шорохов, движения. Прилетели из теплых краев насекомоядные птицы, и теперь их голосами полнилась вся Моховая падь. Любит Амба-Дарла этот весенний шум, музыку весенней природы. Под нее хорошо и сладко дремлется, особенно в безветренный солнечный день.
Но такая вольготная жизнь весной не у каждого обитателя Моховой пади — только у всесильного владыки. Вниз по Барсучьему ключу, там, где он впадает в Моховку, растет крупный кедрово-широколиственный лес. Могучие липы и кедры, многовековые дубы и березы, маньчжурский орех и амурский бархат, черемуха и дикая груша перемешались здесь в буйном хаосе. Пожалуй, этот уголок наиболее плотно населен. Именно тут живет на третьем этаже разбойная семья старого Карра, а несколько в стороне находится гнездо Белохвостого Клека. Сюда же постоянно наведываются сова Спуля, ястребы-тетеревятники. Все они питаются жильцами первого и второго этажей — мышевидными грызунами и мелкими птицами. А их тут великое множество.
Здесь, в сильно увлажненном районе Моховой пади, многие деревья имеют гнилую сердцевину, поэтому редко встречается дерево без дупла. Главные их строители — дятлы. Вместе с многочисленными синицами и поползнями они составляют великую рать лесных санитаров и строителей. Зимой и летом, весной и осенью не прекращается в Моховой пади перестук молоточков. Вот колотит по стволу своей кувалдой черная большая птица, чуть меньше вороны, с красной макушкой. Это черный дятел-желна, самый крупный из дятлов. Неподалеку слышатся удары несколько слабее — это орудует большой пестрый дятел.
Каждый дятел пробивает гораздо больше дупел, чем ему требуется. Но от этого он не становится богаче жильем. Только пробил, начал сооружать гнездо, отлучился на часок, а уже кто-то поселился в дупле — либо бурундук, либо вовсе страшный квартирант вроде амурского полоза. Этому ничего не стоит заползти в дупло даже тогда, когда там находится сам хозяин или временный жилец, съесть его, а самому поселиться в роскошных хоромах.
Но дупла образуются еще и другим путем: то сгниет сук, то ветер сломает толстую ветку, а то треснет старое дерево на развилке больших отростков, и тогда там откроется нора — обнажится гнилая сердцевина, тысячи насекомых заселят ее, напичкают своими личинками. Птицы — поползень, синица, дятел — начнут здесь раскопки и в конце концов разрыхлят гнилушку, которую еще будут разлагать микробы, размывать дождь, выдувать ветер, сушить солнце; и кончится тем, что образуется просторное дупло — пещера на дереве. И вот готово жилье для куницы, летяги или совы, а то и для самого гималайского медведя.
Каждую весну происходит дележка жилья на втором этаже. Возвращаются те из пернатых, кто улетал на зиму в теплые края, а их подавляющее большинство; переселяется на второй этаж полоз, который зимовал на первом этаже где-нибудь под корнями, подыскивают себе удобные сухие дупла белка-летяга, куница Харза, лесной кот.
А рядом, на ветках, тоже идет строительство и захват другого, менее комфортабельного жилья — гнезд. Самые мирные и безобидные пернатые — насекомоядные: соловей-красношейка, пеночка, крапивник, дрозд, трясогузка — стараются поселиться там, где их не достанет хищник. Снизу сюда не подберется четвероногий хищник: его не удержит ветка, а сверху не ударит пернатый хищник: ему трудно лавировать в гуще веток. А когда разрастутся листья, то гнездо будет великолепно укрыто и сверху, и снизу.
Нелегкая жизнь у мирных обитателей второго этажа. И если по весне они поют, околдовывая полуночные лесные дебри, то вовсе не от избытка хорошего настроения. Все проще и прозаичнее: нужно напомнить своим собратьям, что эти владения принадлежат ему, поющему. А когда выведется потомство, песня будет служить для переклички между родителями и выводком. И те, и другие тогда будут точно знать, кто где находится, откуда угрожает опасность. Вот почему весенний и летний лес полон птичьего гомона. Здесь меньше простора, чем на третьем этаже, но больше, чем на первом. Здесь нужны маленькие крылья, которые при необходимости можно складывать в полете, чтобы проныривать в воздухе меж ветвей, стволов и листьев. Здесь зеленая кутерьма, в которой нужно уметь быстро рассыпаться и быстро собираться в стаю, поэтому нужна хорошая «диспетчерская» связь. Для нее и служит голос. Не потому ли «говорящие» есть только среди обитателей второго этажа, и нет ни одного «говорящего» четвероногого или пернатого среди живущих на третьем этаже? Не потому ли мирный и беззащитный бурундук, обитающий летом большей частью на первой ступеньке второго этажа, умеет свистеть по-птичьи при опасности, клокотать по-птичьи, отыскивая подругу, тогда как все его четвероногие враги — хищники на первом и втором этажах — не обладают таким даром?
Самая глухая и молчаливая жизнь — на первом этаже. Да это и не мудрено. Наибольшая масса его обитателей — мышевидные грызуны строят себе жилье в глухом и темном подземелье. Там они зимуют, плодятся, воспитывают потомство.
Подземные обитатели, пожалуй, лучше всех других обеспечены жильем. Но это вовсе не значит, что у них самая вольготная жизнь. Стоит грызуну выйти из своего убежища, как он уже беззащитен против Четвероногих и пернатых хищников. Даже дикий кабан охотится на него. Никого из жителей Моховой пади не истребляют в таком количестве, как мышевидных грызунов. Вот почему если тигрица рожает лишь один раз в два-три года, да и то одного-двух детенышей, а выдра двух-трех детенышей за два года, то большая лесная полевка приносит потомство четыре-пять раз в год, и в каждом помете — от пяти до восьми мышат.
В нижнем этаже жил и неведомый владыке Моховой пади один из обитателей этого леса — старый бурундук, хитрый Пиик. За свои пять лет он многое повидал и испытал в этом лесу. Трудно ли ему жилось? Пожалуй, да, хотя, конечно, легче, чем многодетному Чфы: ему не приходилось заботиться о воспитании потомства. А главное, он был хитрее всех, равных с ним по росту. У него были квартиры на обоих этажах — на первом и втором. Зиму он коротал в норе, вырытой под корнями какого-нибудь большого дерева. Там у него было несколько складов с кедровыми орешками, орехами лещины, плодами маньчжурского ореха. Никто на свете, кроме разве медведя да кабана, не может добраться до Пиика и его запасов. Весной он начинает заглядывать и на второй этаж. Хитрый Пиик ищет такое дупло, чтобы в него могла протиснуться голова: у всех его врагов, кроме ласки, голова больше, чем у него. А если нужно, он спускается на первый этаж и находит себе укрытие в зимней квартире.
Но нынешней весной он опасался заглядывать в свою зимнюю квартиру. Минувшей зимой он жил там с семьей. Самка только что принесла пятерых детенышей. Накануне у них кончились запасы орехов, а резервный склад разграбила Большая семья. Пиик так проголодался, что съел одного бурундучонка. И тут случилось неожиданное: самка вцепилась ему зубами в холку. Пиику удалось прогнуться так, что зубы ее соскользнули и сомкнулись под кожей. В тот же миг Пиик цапнул самку за переднюю лапу, она разжала зубы, и этого проворному Пиику было достаточно, чтобы успеть выскользнуть из норы.
Не повезло ему сначала и на втором этаже. Едва он сунул голову в свое прошлогоднее дупло, как получил по носу такой удар клювом, что у него потемнело в глазах. Откуда было знать хитрому Пиику, что дупло уже захватила самка дятла! Но у него в запасе были еще два дупла, в которых он не раз жил прошлым летом. В одном из них, в старой-престарой липе, он благополучно поселился.
В тот день он скакал по веткам соседней ели и вышелушивал семена из прошлогодних шишек, оставшихся на ветвях. Когда наелся досыта, стал набивать семенами свои защечные мешки. Они у него довольно емкие — до восьми кедровых орешков помещается в них. Раз пять он принес себе в дупло полные мешочки еловых семян, как вдруг после очередного рейса увидел чуть выше своего дупла на толстой ветке какое-то движение. Кто там? Так и есть — желтая с зеленоватым оттенком шерсть подгрудка и шеи, темная голова и черно-бурая задняя часть выгнутого тела с пушистым хвостом. Куница Харза!
Хищная и кровожадная разбойница готовилась к прыжку. Хитрый Пиик тотчас же выплюнул добычу, громко свистнул, предупреждая своих собратьев, и понесся с ветки на ветку. Харза — за ним. Скорее на тонкие ветви, они не удержат Харзу! К счастью, по соседству белела береза, вплетавшая свою плакучую крону в ветви липы. Пиик кинулся к березе и, как паук по паутине, помчался среди тонких ветвей. Харза прыгнула вслед, нацелившись на более толстую ветку, но сорвалась и попала на сук пятью метрами ниже. А хитрый Пиик уже вернулся на старую липу и скоро исчез из вида, спрятался в свое дупло.
После этого он Стал осмотрительнее — подолгу наблюдал за окружающими сучьями, прежде чем вылезти из дупла. А когда возвращался с промысла, он с минуту прыгал по веткам возле дупла, провоцируя невидимого врага. Малейшее движение где-нибудь неподалеку останавливало его на миг, он изучал его, нервно вздрагивая хвостиком в серебристых остьях, и либо стремглав кидался в дупло, либо мчался по знакомому маршруту на тонкие ветви березы.
Но куница Харза больше не появлялась. Значит, ее дупло где-то в другом месте, значит, одной опасностью меньше. Один раз на глаза Пиику попался колонок, выслеживавший глухарей. Довольно часто он видел рысь Фуру, она обычно лежала, вытянувшись вдоль какого-нибудь самого нижнего толстого сука и смотрела вниз. Пиик знал, чем она занята: выслеживает крупную добычу. Недавно он видел, как она прыгнула сверху на годовалого кабанчика и после короткой борьбы загрызла его. Доверять ей нельзя, и лучше не появляться близко: ее когтистая лапа действует как молния.
Убедившись окончательно, что ему пока ничто не угрожает, он теперь день-деньской носился в поисках еды по ветвям деревьев, по валежинам, громоздившимся там и тут. Придет время, и он запоет: «Клу-клу… клу-клу-клу… клу…» Это значит, что он ищет себе подругу. Разумеется, если сносит голову до той поры.
В ЦАРСТВЕ ЛАСЫ
В конце апреля — начале мая, когда окончательно сходит снег и вскрывается лед на Моховке, бурная жизнь пробуждается не только в Моховой пади, но и в пойме реки и в самой воде. С низовьев сюда возвращаются после зимовки в глубоких местах стаи хариусов, гольянов, порознь и табунами устремляются ленки, в одиночку, по-отшельнически, движутся, придерживаясь заводей, крупные таймени. Они идут царственно, неторопливо. Обгоняя их и шарахаясь в стороны, когда таймени делают резкое движение, стремительно мчатся против течения серебристые стаи чебачков.
В это время вода в Моховке, особенно в заводях или старицах, быстро прогревается, и тогда для выдры Ласы начинается золотая пора — приволье, обилие еды. День-деньской водит тогда Ласа хороводы с подругами в серебристых струях реки.
Моховка… Она рождается в западных отрогах Сихотэ-Алиня, ее принимают в свое приволье, манят в синюю даль равнины, леса, пойменные луга. Весело, с перезвоном мчится она в свои дали дальние, воды ее гладят золотые песчаные косы и гремучие, отмытые до блеска галечные берега…
А в светлых струях Моховки, свивающихся в сказочные кружева, носятся стремительные, как молнии, серебристые хариусы, расшитые по бокам красными шнурками; у галечного дна переливаются подвижные как ртуть, пугливые стайки гольянов. А где-нибудь в заводи, рядом с которой шумит стремительный поток перепада, можно увидеть застывшего в засаде серого лейка. Только по чуть шевелящимся полупрозрачным брюшным плавникам отличишь его от палки. Стоит ленку заметить добычу или малейшую опасность, как он мгновенно, будто им выстрелили, срывается с места и бесследно исчезает.
А в иной такой заводи заметишь живое почти двухметровое бревно — белобрюхого тайменя. Этот по-барски важен. Он то замирает, да так, что не пошевелит ни одним плавником, то лениво изогнется, пройдет туда-сюда. Никого из рыб не боится этот подводный медведь. Напротив, все они для него — добыча. Да разве только они! Сядет ли утка на заводь, появится ли на воде бурун, бегущий поперек течения (это переплывает Моховку мышь, белка или колонок), как туда стремительно кидается таймень Хап, и вот уж нет буруна на воде… Одну только Ласу он обходит, да и она не ищет с ним встреч.
Однажды, два года назад, в середине лета Ласа повела на прогулку выдрят, чтобы научить их ориентироваться в Моховке. День был солнечный, тихий, вода просвечивала почти до самого дна, в ней как бы растворилось золото. Ласа принялась играть с детишками. Она то крутилась веретеном, то изгибалась волной, ныряя до самого дна или всплывая к поверхности. Выдрята ни на шаг не отставали от нее и неуклюже повторяли все ее движения. И вдруг… Все произошло так неожиданно и мгновенно, что Ласа не успела что-либо сообразить. Она как раз, выгибаясь, пошла книзу, когда в воде пронеслась огромная тень; задним зрением Ласа лишь уловила белый блеск — брюхо тайменя. Когда она опомнилась, возле нее уже не было дочки, а оставшийся выдренок трепетал у нее под брюхом…
Конечно же, это был Хап. Ласа допустила непоправимую оплошность: не огляделась как следует вовремя. Только теперь она обнаружила неподалеку под обрывом, возле замшелых бревен-топляков, облако мути. А ведь именно такие топляки — любимое место засады Хапа, он маскируется под них.
После этого она покинула заводь и переселилась в другую, на полкилометра ниже по течению. Эта поменьше, здесь не такая глубина, но заводь не промерзает до дна, а главное, на дне почти нет бревен-топляков, где бы Хап мог устраивать засады. Прежде чем рыть нору, она вылезла на трехметровый прибрежный обрывчик, тщательно обследовала его и долго вертелась возле толстой полусгнившей колодины. Сюда она выведет ход из своей подземной норы.
Запрятав выдренка под бахрому корней, свисающих с обрывчика, она нырнула на дно и принялась за работу: стала рыть нору.
Несколько дней пробивала она свой тоннель. Там, где чутье подсказывало ей верхнюю границу подпочвенных вод, она раскопала довольно просторный зал — будущее логовище. Потом стала рыть наклонно вверх: то ли по звуку, то ли по степени влажности грунта, а возможно, и по запаху трухлявой древесины, впитавшемуся в землю, но она точно вывела свой тоннель под колоду, облюбованную накануне. Чтобы обезопасить себя сверху, она не сразу вышла наружу — метра два еще тянула нору в гнилой сердцевине старого тополя до его комля. Потом она принялась собирать ветошь — сухую прошлогоднюю листву, мягкую траву — и таскать ее в логовище. Скоро там была устроена мягкая, удобная постель. Ни один из обитателей Моховой пади не сможет теперь достать Ласу, она может быть спокойна за себя и свое потомство. Под водой у нее нет опасных врагов, кроме тайменя. Опасаться ей приходится только семейства орланов.
Нынешней весной Ласа принесла еще трех выдрят, самца и двух самочек. Больше десяти дней у них не открывались глаза: в них не было пока нужды в кромешной тьме подземелья. Зато развивались другие части организма, необходимые в первую очередь: эластичный мех с тончайшей подпушкой, которая предохранит потом тело от воды, а стало быть, и от переохлаждения; плавательные перепонки между сильными пальцами, чего нет у других животных из семейства куниц, к которому принадлежит Ласа; в ушах образовались, специальные клапаны, которые потом пригодятся: будут защищать слуховые трубы от проникновения воды; развивались легкие — в такой степени, чтобы они могли задерживать воздух по крайней мере на несколько минут. Наконец, рос длинный и мощный хвост с утолщением у основания — рулевое весло, без которого невозможно нормальное плавание. Без всех этих приспособлений жизнь в воде была бы невозможной.
Теперь для Ласы наступила самая трудная пора — нужно было дать детенышам первые уроки плавания и охоты. Насколько это опасное время, Ласа хорошо знала по опыту прошлого года.
Перед тем как в первый раз загнать отпрысков в воду, Ласа отправилась на разведку. Она обследовала каждый закоулок заводи, особенно в тех местах, где лежали топляки: нет ли засады, поднялась на поверхность и осмотрела окрестности Моховки: нет ли поблизости орланов. Но все было спокойно. Поймав по пути небольшого хариуса, она вернулась в логовище. Между тем она заставила детенышей поголодать: пусть голод поможет ей загнать их в воду; по опыту Ласа уже знала, как неохотно они впервые покидают уютное убежище. Зверята с визгом набросились на хариуса и вмиг растерзали его. Но рыбешка только раздразнила аппетит выдрят.
Теперь время гнать их в воду. Стоило послать одного, другого носом в нижнюю нору, как они по рыбьему запаху-следу поспешили туда, откуда он шел. Стоп, вода! Выдрята попятились назад, запищали. Ласа, работая носом, без обиняков затолкала их одного за другим в воду и, не обращая внимания на их сопротивление, гнала до самого выхода из норы. Очутившись на дне заводи, они дрожали, часто семенили лапками, льнули к бокам матери, начинали метаться вокруг нее. Она же неторопливо направилась по наклонному дну к берегу и скоро вылезла на суглинистый уступчик под обрывом, завешенный бахромой корней. Здесь была хорошо защищенная сверху подмоина. Выдрята резво, последовали за матерью, стараясь залезть ей на спину: их колотила дрожь.
Но вот они успокоились, огляделись и начали шарить вокруг — обнюхивали камешки, корни, копали лапками суглинок, перемешанный с галечником. Откуда-то из-под камня вылезла пучеглазая лягушка. Выдрята разом отпрянули от нее, но потом, видно, уловили знакомый запах: Ласа за последнее время часто приносила детенышам лягушек. Нашелся и храбрый — он кинулся на лягушку, придавил ее обеими лапами, стал обнюхивать, потом с великой жадностью начал рвать ее. Его более робкие сестренки не успели разобраться, в чем дело, а храбрец уже с аппетитом облизывался.
С этой минуты он словно ошалел: метался, пищал, начинал копать глину там, откуда вылезла лягушка, потом жалобно заглядывал в глаза матери, как бы умоляя: «Ну помоги же!» А Ласа облизала выдрят, тихонько о чем-то посвистела, а точнее, пропищала им и бесшумно, без единого всплеска, сползла в воду. Она, наверное, приказала детенышам никуда не отлучаться из ниши, потому что выдрята сразу притаились, замерли. Она вернулась минут через пять, держа зубами за живот довольно крупного чебачка. Он еще трепыхался, но Ласа придавила его лапами, прокусила ему затылок и снова бросила в воду. Первым кинулся за чебачком храбрец. Он схватил рыбину пастью за живот и расторопно вскарабкался с добычей на сушу.
Несмотря на отличное укрытие, Ласа не переставала с беспокойством оглядываться по сторонам и прислушиваться. Иногда она совала голову в воду и подолгу водила ею там, осматривая все кругом.
Но вот она тихо-тихо сползла в воду и пошла по откосу дна, припадая всем телом к земле. В ту же минуту у поверхности воды показался почти метровый обрубок бревна. Таймень! Он двигался медленно, лениво пошевеливая плавниками. Потом повернулся головой к берегу, остановился; его рот открывался и закрывался. И вдруг что-то темное метнулось со дна к его брюху. Это была Ласа. Таймень попытался выскочить из воды, но на поверхности показалась лишь его зеленовато-темная спина, зубы Ласы уже намертво сомкнулись на мягком брюхе рыбы. Вода взыграла бешеной коловертью, волна хлестнула в нишу. Выдрята отпрянули к стенке, сбились кучкой. На расстоянии какого-нибудь метра от них шла смертельная схватка. Таймень то кидался вверх, то опрокидывался на спину, то устремлялся головой вниз и со страшной силой бил своим толстым хвостом по поверхности воды, поднимая каскады серебристых брызг. Вода вокруг закраснела.
Несколько минут продолжалась борьба, пока таймень наконец не всплыл пораненным брюхом вверх. Видно, Ласа отпустила рыбину в надежде, что она мертва, а возможно, чтобы проверить, не попытается ли жертва уйти. Таймень, действительно, скоро изогнулся, стал делать круг. В ту же секунду Ласа кинулась к его затылку и прокусила его. Борьба была закончена.
Ласа с трудом вытащила свою добычу на берег: таймень оказался крупнее самой выдры. Его хвост оставался в воде, а голова упиралась в стенку ниши. В первую минуту выдрята просто взбесились. Они метались вокруг тайменя, хватали его зубами то там, то тут, но зубы скользили по гладкой чешуе. Им на помощь, пришла мать. Она разорвала кожу вдоль спины рыбины, и выдрята теперь легко отрывали куски серовато-белого полупрозрачного мяса своими мелкими зубами.
…Шум борьбы под обрывом и запах рыбы привлекли вездесущего Бугу.
В Моховой пади никому не жилось спокойно, даже владыкам. Владыка неба Белохвостый Клек боялся земли. Владыка подводного царства Ласа боялась и земли, и неба. Владыка суши Амба-Дарла обходил старого секача и старого медведя, потому что его сородичи не раз по легкомыслию или опрометчивости становились жертвами острых кабаньих клыков-ножей или могучих медвежьих зубов. И уж вовсе панически боялся Амба-Дарла Человека. Все эти «владыки» всегда жили настороже, ни на минуту не забывая об опасности. Малейшая беспечность могла привести их к гибели.
Вот и сейчас Ласа, оказавшись на суше, не переставала чутко прислушиваться ко всем звукам, проникавшим в ее укромное убежище. Вдруг она перестала терзать добычу и подняла кверху свою по-рыбьи уплощенную мордочку: со стороны леса послышался подозрительный шорох. Прошла минута, другая. Тихо. Снова прильнула к добыче и снова вскинула мордочку: треснула ветка… Тревожный, еле слышный писк матери заставил насторожиться и выдрят — они затихли.
И вдруг над обрывчиком послышался оглушительный треск, что-то грузное, путаясь в бахроме корней, шлепнулось рядом в воду. Росомаха! Забыв о детях, а может быть, уверенная в их находчивости, Ласа стремглав юркнула в сторону и кинулась в заводь. Она ушла на самое дно и там замерла.
Муть, поднятая падением Буги, мешала разглядеть что-либо вблизи берега. Ласа долго лежала без движения, ожидая, когда она осядет. Но муть все стекала по откосу с берега: видно, Буга, сидя в воде, жрал там тайменя. Неожиданно Ласа разглядела неподалеку от себя двух своих детенышей. Они так прилипли ко, дну, слившись с его рыжевато-темным цветом, что их почти невозможно было заметить. Это были дочки. Но где же храбрец, первым поймавший на берегу лягушку?
Не мешкая, Ласа подползла к детенышам и повела их к норе. Возле входа в нору она обнаружила храбреца. Он заглядывал в нее, видимо, не решаясь залезть в убежище.
Вскоре все семейство поднялось по норе в свои апартаменты. Мать накормила детенышей молоком, и они быстро уснули. А она еще долго облизывала их шубки, а потом принялась за свою, ибо чистота — залог здоровья. Пройдет еще немало дней, пока Ласа выведет детенышей из норы.
В МОХОВУЮ ПАДЬ!
Корней Гаврилович Бударин, старый зоолог, как-то сказал о себе:
— У меня, кажется, уже окончательно выработался рефлекс, присущий перелетным птицам. Как их с наступлением весны манит в полет, так и меня неотступно тянет в тайгу, в просторы…
Нынче уже в марте на его письменном столе появилась карта южной части Сихотэ-Алинских гор. Это как раз тот район, где находится Моховая падь: она лежит у самой северной границы карты, с западной, материковой стороны системы гор. Время от времени, большей частью на досуге, по вечерам, Корней Гаврилович расстилает карту на столе, склоняется над ней, поставив левую ногу на стул и облокотившись левой рукой на колено, и теребит пальцами роскошную седеющую бороду-лопату. В пальцах правой руки он вертит красный карандаш. Карандаш слегка касается то одной, то другой жилки — речушки или ключа, бродит между ними, пересекает извилины горизонталей. А ученый думает, по часу, по два. Чего он ищет?
В конце прошлого года Дальневосточная комиссия по охране природы при Академии наук СССР приняла решение образовать в Моховой пади заповедник, разработать предложения об охране животных и растений этого уникального района. Нынешним летом состоится первая серьезная разведка Моховой пади.
Предстояла интереснейшая экспедиция. В ней должно быть всего четыре человека. Кого включить в нее? Одна (кандидатура не вызывала сомнений. Лет пятнадцать назад в экспедиции на реке Архаре познакомился Корней Гавриловиче местным охотником-гураном Кривошеевым. Гуран — забайкальское название дикого козла. Сто лет назад перекочевали на Амур и Уссури забайкальские казаки и образовали здесь Амурское и Уссурийское казачества. Козел был постоянным объектом охоты казаков. Ценился он не только своим превосходным мясом, но и шкурой со светлой шерстью, легкой, как пшеничная солома, и теплой настолько, что ее не прошибали самые лютые дальневосточные морозы. Казаки шили из этих шкур дохи и папахи, рукавицы и обутки. Из-за этой одежды и стали называть казаков гуранами.
Евстафий Кузьмич Кривошеев, невысокий, плотный и коренастый, как монгольский дубок, с темно-смуглым лицом, в меру усыпанным рябинками — следами оспы, с чуть раскосыми глазами, был человеком внутренне очень собранным, тихим, чрезвычайно скромным, спокойным и точным в каждой мелочи. Улыбался он редко, но улыбка у него была обаятельная, теплая и искренняя, от нее становилось светло на душе. В свои тридцать с небольшим он уже успел прослыть по всей округе одним из лучших охотников. О нем ходили легенды. Из своего боевого карабина он без промаха снимал бегущего козла за полкилометра. На десятки километров окрест знал все медвежьи берлоги, и когда нужно было добыть медведя, шел наверняка и возвращался с добычей. Но он никогда не брал лишнего на охоте. И на это обратил внимание Корней Гаврилович, наслышавшись о Кривошееве. Они подружились, а через год Кузьмич был зачислен лаборантом-препаратором филиала Академии наук. Фактически же он был и охотником, и следопытом, и проводником, и рабочим, и помощником Бударина, незаменимым в экспедициях: никто не умел так вести себя наедине с дикой природой, как Кривошеев.
Но кого взять еще? Нужны были люди достаточно грамотные в биологии и вместе с тем хорошие охотники и следопыты.
Как раз в это время приехали на практику в эти места два студента-дипломника из сибирского пушного института. Корней Гаврилович тотчас пригласил их к себе. Когда-то он сам кончал этот институт и знал, что выпускник-дипломник готов горы свернуть ради защиты диплома, понимал его одержимость и способность вынести все трудности исследования дикой природы. С интересом всматривался он в их лица, вслушивался в интонации голоса, вдумывался в их ответы на вопросы, реплики.
Перед ним стояли двое молодых людей, одинаково рослые и стройные, одинаково улыбчивые и строгие, чуть стеснительные, растерянные и вместе с тем собранные и настороженные. Один из них, Сергей Прохоров, был черняв, с чуть расширенными монгольскими скулами, с узким лицом и слегка сгорбленным носом; в нем было что-то и от цыгана, и от ойрота. Его коллега Юрий Квашнин, напротив, выглядел типично русским: серые глаза, круглая открытая физиономия, соломенная шевелюра. В нем была видна прямота, стеснительность, а в широких плечах и размашистых жестах чувствовалась затаенная удаль.
Уже одним своим внешним видом ребята покорили «старого Будду».
— Та-ак, — сказал он, выслушав их. — Темы ваших дипломов вполне согласуются с моей тематикой. Ну, а вот скажите, например, вы, Юрий, как добыть огонь, если у вас нет спичек?
— Это зависит от того, где буду находиться и чем располагать. Будет оружие — холостым выстрелом. Не будет оружия, но будет металлический предмет, высеку о камень искру на трут…
— Что вы сказали? На трут? — изумился Бударин.
— Ну конечно.
— А где вы его возьмете?
— Он у меня всегда в кармане.
И вот в руках Корнея Гавриловича древесный гриб — «личерика» с мягкой пластинчатой изнанкой, напоминающей плотно сбитую, гофрированную вату.
— Сварен?
— Да, в растворе золы…
— Всегда берешь в тайгу?
— Всегда, как соль и спички. Но спички могут промокнуть.
— Да-а… — раздумчиво протянул старый зоолог. — Ну, а слышали вы о моей экспедиции?
— Смутно.
— Тогда слушайте. Уезжаем на все лето. Местность труднодоступная, дикая, абсолютно безлюдная. Все может случиться. Мы должны в меру своих возможностей исследовать район Моховой пади, а точнее говоря, хорошо сориентироваться в нем и дать затем общее описание его четвероногих и пернатых обитателей и растительного покрова. В целом это должно быть убедительное обоснование, по которому соответствующие научные и государственные организации могли бы принять решение об организации там заповедника. Вы хорошо знаете, что хозяйственная деятельность человека ведет к необратимым изменениям в природе. Поздно создавать заповедники там, где человек уже нарушил естественное равновесие в природе. В Моховой пади пока этого нет, там все первозданно. Эта первозданность и должна быть сохранена для потомков. Это будет музей живой природы.
Бударин встал, развернул на столе карту, склонился над ней, молодые охотоведы тоже.
— Вот небольшая речка Моховка. Видите? — он пробежал по ее извилинам красным карандашом. — Вот район Моховой пади. Как видите, она лежит на западных склонах Сихотэ-Алиня. — Карандаш пополз влево. — Растут тут темнопихтовые и кедрово-широколиственные леса. Помните книги Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» и «Дерсу Узала»? Наш район находится несколько севернее, там, где встречаются и глубоко проникают одна в другую две зоны — тайга и широколиственные леса. Вы знаете, вероятно, что значительная часть территории нынешнего советского Дальнего Востока подвергалась нескольким оледенениям. Южный край последнего оледенения дошел до низовьев Амура, но его ледяное дыхание опалило весь Средний Амур и центральный Сихотэ-Алинь и даже проникло в южную его половину. Тогда здесь был жаркий климат. Вот тут-то и произошло до сих пор занимающее исследователей Дальнего Востока взаимопроникновение северных и южных форм фауны и флоры, их смешение. В Моховой пади это взаимопроникновение и смешение видно особенно ярко, поэтому она и выбрана как место будущего заповедника.
Поздно ушли молодые охотоведы. И вновь Корней Гаврилович сидел за своим письменным столом и уже в который раз просматривал список снаряжения. Предстояло два рейса вертолета: первый — чтобы завезти экспедицию, второй — чтобы забросить партию норок для заселения поймы Моховки. Этот новый на Дальнем Востоке пушной зверь уже акклиматизировался в центральном Сихотэ-Алине. Теперь предстояло распространить его южнее.
Начальник экспедиции не должен был забыть ни единой мелочи. Список предметов, необходимых в экспедиции, все рос и рос. Корней Гаврилович любил составлять такие списки, он делал это каждую весну. Сейчас он брал многое из списков прежних экспедиций, но нынешняя ведь была особенной и потому требовала дополнительной оснастки. Надо не пропустить ни одной вещи, необходимой там, в Моховой пади. Палатка… Она должна быть достаточно просторной, чтобы разместить в ней раскладные кровати и стол (стульями будут чурки, напиленные на месте). Еще нужно было захватить оружие, два фотоаппарата, рыболовные принадлежности, самую легкую постель — надувные подушки и байковые одеяла, микроскоп, сетки для ловли животных, продовольствие и еще многое-многое другое…
ВНИМАНИЕ — ЧЕЛОВЕК!
В один из ясных дней конца мая, когда в Моховой пади обычно стоит солнечная, сухая пора и благодатная тишь, с низовьев Моховки, со стороны Голубой реки послышался в небе гром. Он катился лавиной, с каждой минутой становился все громче. Вот уже он грозно рокочет вблизи, сотрясает тишину над падью. Но что это? Гром исторгает бескрылая птица-громадина. Она напоминает стрекозу, выросшую до чудовищных размеров.
Вот она приближается на высоте какой-нибудь сотни метров к старому кедру, на усохшей вершине которого высиживает детенышей супруга Белохвостого Клека. Орлан, оказавшийся неподалеку, бесстрашно взмывает навстречу неведомой птице. Могучая волна ветра тотчас же швыряет его вниз. Клек едва не ударяется о макушки деревьев. Он выправляется на крыле и с яростью вновь стремительно атакует грозного врага. Но тот же могучий ветер снова бросает его вниз, на этот раз чуть ли не до самой земли. Ужасный удар ветра чувствует на себе и орлица. Она срывается с гнезда и устремляется к злой птице-стрекозе, так нагло вторгшейся в их владения. В тот же миг ветер переворачивает ее, как перышко, и она лишь случайно повисает на ветвях старой липы.
А неведомая птица-стрекоза как ни в чем не бывало продолжала свой полет вверх по течению Моховки. Где-то неподалеку от устья Барсучьего ключа она повисла на месте, потом опустилась тремя лапами на галечный берег у Черемуховой релки, и гроза стихла.
Белохвостый Клек поднялся в поднебесье и теперь парил там над поймой Моховки, не выпуская из вида неведомого врага. Когда тот опустился вблизи релки, на берегу (где возвышается замытая коряга-выворотень, любимое место трапезы орланов), и на галечник вышли двуногие существа, орлан понял: птица-стрекоза принесла Человека. Клек видел Человека не раз, там, у Голубой реки, где было первое гнездо молодых орланов. Никого так не боялся Белохвостый Клек, как этого двуногого существа, умеющего исторгать гром и Огонь. Поэтому он никогда не подпускал к себе Человека даже на сотню метров — немедленно улетал при первом его появлении.
Орлица, наблюдая за супругом, грозно парящим в небе, постепенно успокоилась: страж на месте — и уселась в гнезде. А Белохвостый Клек все кружил, кружил в поднебесье, продолжая зорко следить за каждым движением пришельцев.
Но вот чудовищная птица-стрекоза завертела своими крыльями, исторгла гром и вновь поднялась в воздух. Она направилась туда, откуда прилетела, в сторону Голубой реки. На этот раз орлан не пытался атаковать ее, он лишь с беспокойством следил с высоты за гнездом, видел, как орлица вся сжалась в комок, когда мимо пролетала птица-стрекоза, и вобрала голову в плечи, а потом распластала крылья по гнезду, как бы стараясь закрыть его. Но птица-стрекоза, видно, не обратила на нее внимания и скоро скрылась за поворотом реки. Теперь орлица успокоилась окончательно, поднялась на лапы, встряхнула перьями и вновь уселась в удобной позе, в какой сидела все время. А Белохвостый Клек все парил и парил в небе над тем местом, где остались пришельцы.
Птица-стрекоза улетела, унеся с собой грохот, и жизнь в Моховой пади пошла своим чередом. Снова затараторили где-то сплетницы-кедровки, снова запели соловьи-красношейки, дрозды и синие мухоловки, у Барсучьего ключа закуковала кукушка, в кедраче завел свою грустную песню дикий голубь: «Ху-гууу, ху-гууу…»
Но вот пришла ночь. На Черемуховой релке, видимой со всех окрестных сопок, окружающих Моховую падь, и из самой пади, засветился большой красный глаз костра.
Никто из обитателей Моховой пади, кроме Мугу-плешивого, Амба-Дарлы и Белохвостого Клека, никогда не видел Огня: здесь не было лесных пожаров и на памяти нынешнего поколения зверей ни разу не появлялся Человек. А промышляло в эту ночь немало обитателей пади. Как только смерклось, вылезла из своего убежища в прибрежном завале отшельница Эдуни. Завал находился у верхней оконечности старицы, рядом с Мышиным склоном. Эдуни в эту ночь вышла промышлять лесных лягушек. Они обычно зимовали в илу старицы и теперь, выметав икру, перекочевывали в Моховую падь и на склоны Горбатого хребта. Здесь они проводили лето, охотясь за насекомыми.
Увидев красный глаз в темноте, Эдуни некоторое время в нерешительности сидела возле лаза в свое убежище, наблюдая за непонятным существом. Она знала, как светятся в ночи жуки-светлячки, гнилушки, некоторые мухи на мокрых стенках каменных ниш, глаза рыси Фуры, Амба-Дарлы и даже кабарожки Элхи, если на нее падает лунный свет. Но это свечение имеет либо зеленоватый, либо бледно-синеватый оттенок. А этот — красный. Кому же принадлежит глаз? И Эдуни затрусила вдоль песчано-илистого берега старицы. Она больше опасалась леса, где бродят ее враги, поэтому все ее внимание было обращено туда.
Увидела красный глаз и кровожадная Фура. Прошлой ночью она поймала огромного глухаря, а под утро прыжком из засады, с ветки, настигла зайца. Поэтому она была сыта и, как всегда в таких случаях, проспала часов двадцать в своем убежище под скалой на склоне Горбатого хребта. Поздним вечером она проснулась и постоянной своей тропой отправилась в прибрежный лес, где обычно охотилась. Лет пять назад, когда Фура только появилась в Моховой пади, здесь были владения семейства лесного кота. Фура яростно ненавидела своего хитрого и свирепого соперника и в первый же месяц задушила двух котят. Остальные коты благоразумно покинули Моховую падь.
Появление в пади Амба-Дарлы доставило рыси немало хлопот: каждую минуту следовало опасаться встречи с этим грозным владыкой лесов. На ее памяти дважды случалось так, что ее сородичи попадали в лапы тигра. Но Фура знала, что тигр не живет постоянно на одном месте, он вечный бродяга и, наверное, скоро покинет Моховую падь. Что же касается пищи, то с появлением Амба-Дарлы ее ничуть не убавилось, даже напротив, ведь тигр пришел сюда вместе с Большой семьей, за счет которой уже не раз поживилась и сама Фура.
Между прочим, Фура чрезвычайно разборчива в еде, она питается только свежей, еще теплой добычей, предпочитая всему прочему горячую кровь жертвы. К недоеденной добыче она никогда не возвращается. Поэтому ей необходимы обширные владения. Сейчас ее владением была вся Моховая падь, но предпочитала она все-таки вот этот прибрежный участок, протянувшийся вдоль Моховки от устья Барсучьего ключа до гнездовья орланов и еще дальше вниз по течению речки, потому что здесь всегда можно что-нибудь поймать.
Еще не выйдя на берег, она увидела сквозь заросли большой красный глаз на Черемуховой релке. Как у всех кошачьих, у Фуры великолепно развито ночное зрение, как, впрочем, и слух, но зато слабо развито обоняние. Она остановилась и долго разглядывала непонятный «глаз». Заросли мешали ей, и она, неслышно ступая, прошла поближе к берегу. Только теперь она увидела, что это вовсе не глаз, а красная вода, которая течет вверх. Но что за существа возле нее? Они произносят какие-то непонятные гудящие звуки, похожие на переменчивый говор ручья…
Страх перед незнакомым животным присущ каждому зверю, даже самому свирепому и кровожадному; этот страх свойствен даже человеку, даже гиганту слону. Известны случаи, когда слон обезумевал от страха перед ежом или мышью, а лошади бились в ужасе, впервые увидев верблюда. И даже человек с ожесточением сбивает рукой неведомое насекомое, опустившееся ему на шею, пусть это будет безобидный кузнечик или жук. Именно этот страх перед неведомым живым существом заставил Фуру уйти подальше от опасного места. Она отправилась к Барсучьему ключу. В распадке, по которому он бежит из отрогов Горбатого хребта, обычно обитают рябчики, и она сегодня будет охотиться на них. Фура большая лакомка, ей всегда требуется перемена блюд; питаться все время одними и теми же животными она не любит, а рябчик ей как раз давно не попадался. Правда, она знает, что неподалеку, чуть ниже по течению ключа, находится логовище Амба-Дарлы. Но он только вчера задавил самку изюбра и теперь наверняка будет долго спать. Просто надо держаться от его убежища подальше.
Возле Барсучьего ключа, уже в безопасном месте, она облюбовала ствол пихты и, встав на задние лапы, принялась царапать кору — точить когти, как это делает домашняя кошка. Когти — ее первейшее оружие, и она очень заботится о том, чтобы оно всегда было безупречно острым. Когда она ходит, то тщательно убирает когти, чтобы они не тупились об землю, и выпускает их наружу, только нападая на добычу. Убедившись, что оружие достаточно остро, Фура опустилась на все четыре лапы и стала выслушивать звуки, рождающиеся в тишине распадка. Она готова к охоте.
В это же время неподалеку от Барсучьего ключа промышлял Мугу-плешивый: выгрызал натеки лиственной смолы. Он уже приучил желудок к пище и давно управился с запасами рыбы (ему помог в этом и Чфы, разнюхавший склады), съел несколько молодых кабанчиков, уйму улиток, кедровых орехов — после прошлогоднего обильного урожая шишки продолжали висеть на ветвях и время от времени падали на землю. В эту пору орешки не в пример осенним — вызревшие, подсохшие, очень маслянистые. К тому же пошла зелень, всюду выбрасывались навстречу солнцу молодые побеги. Мугу-плешивый поедал их в огромном количестве. А в конце апреля он расцарапал кору на нескольких стволах пихты и лиственницы, теперь там постоянно наплывали натеки смолы, и Мугу-плешивый время от времени лакомился ими. Никто не знает, почему он это делает, может быть, лечится от гельминтов — глистов? Это знает только сам Мугу.
За этим занятием он и учуял подозрительный запах. Неужели дым? Старый медведь с беспокойством начал ловить ноздрями воздух. Так и есть — дым! Откуда же его наносит? Мугу-плешивый прошел взад и вперед, запрокидывая голову кверху, даже встал на задние лапы. Ага, поймал струйку — дым тянет со стороны Моховки. Забыв о смоле, Мугу повел нить — струйку запаха дыма, стараясь не потерять ее. Скоро он очутился на Мышином склоне, откуда хорошо видна Черемуховая релка. Так и есть — Огонь… Ба, да там и Человек! Панический страх охватил Мугу-плешивого.
В эту ночь ему было уже не до охоты. Скатившись по крутому откосу к Барсучьему ключу, он перемахнул его двумя прыжками и подался на восток, откуда бежит Моховка. Жаль было ему покидать свои благодатные владения, но что поделаешь!
Запах дыма поднял из логовища и Амба-Дарлу. После сытной трапезы он отсыпался в своем любимом убежище, на уступе скалы возле Барсучьего ключа. Запах дыма, как и запах Человека, был хорошо знаком Амба-Дарле — где только не побывал он за свою долгую бродячую жизнь. Случалось ему убегать от лесных пожаров, натыкаться на охотничьи избушки, встречаться нос к носу с Человеком на лесосеках, даже переходить через железную дорогу. Он не испытывал такого панического ужаса перед Человеком, как Мугу-плешивый, однако из осторожности обходил его или уступал дорогу при встрече. Потому что знал — тот может извергать молнию и гром, а это всегда очень пугает Амба-Дарлу. (У тигров вообще очень слабые нервы. В сихотэ-алинской тайге был однажды пойман годовалый тигренок. Пока его, закутанного в одеяло, выносили из тайги, у него случился инфаркт миокарда, и зверь погиб.)
Не удивительно, что Амба-Дарлу охватило беспокойство. За полтора месяца, прожитых в Моховой пади, его чуткий нос впервые уловил запах дыма. Тигр шел прямо на запах, на Мышиный склон. Он не удивился, когда увидел Огонь, по опыту зная, что там, где дым, там есть и Огонь. И почти всегда Человек. Он долго рассматривал костер и людей, сидящих возле него. Что ж, ничего страшного нет. Из Моховой пади он не уйдет: здесь такое обилие еды для него! Просто надо быть теперь очень осторожным и точно знать, когда и где будет ходить Человек, чтобы случайно не встретиться с ним. Амба-Дарла вернулся в свое укромное логовище и снова задремал. Только более чутко, чем до сих пор.
У каждого обитателя Моховой пади свой обзор окружающей местности. Конечно, он связан главным образом со способом добывания пищи. Дальше и лучше всех видят местность жители третьего этажа — коршун Тиня и его супруга, ворон Карр, но особенно, конечно, Белохвостый Клек: он видит на десяти километров вокруг, не говоря уже о самой Моховой пади и ее ближайших окрестностях. На его глазах совершаются все драмы и трагедии, происходящие в урочище. Ему знакомы многие обитатели пади. Теперь объектом его наблюдений стал Человек. Белохвостый Клек беспокойно провел эту ночь. И без того-то сон его всегда очень чуток и насторожен, а тут еще этот Огонь… Орлан чуть ли не каждую минуту открывал глаза, чтобы проверить, не приближается ли Огонь к гнезду орлицы.
В числе прочих обитателей Моховой пади, ведущих сумеречный и ночной образ жизни, были еще два, внимание которых привлек ночной Огонь, — кабарга Элха и заяц Пишки. Элха проводила много времени среди скал, которые начинаются за устьем Барсучьего ключа вверх по течению Моховки. Там у нее было несколько «отстоев» — утесов, на недоступных вершинах которых она искала убежища, когда ее преследовали гнус или хищники; никто из ее врагов не мог взобраться туда. Большей частью за ней охотились росомахи и куница Харза. Несколько попыток поймать ее сделал Амба-Дарла, а еще раньше — Фура, но Элха, словно птица, улетала от них.
Паслась же она обыкновенно на Черемуховой релке. Здесь легко можно было укрыться от преследователей. Хищники редко заглядывал# сюда. Элха великолепно плавала и при малейшей опасности бросалась в Моховку и отстаивалась на быстрых перекатах по брюхо в воде: ни куница, ни росомаха не могли подплыть к ней, их сносило быстрое течение; иногда же она скрывалась на той стороне речки.
Правда, однажды, у вершины Черемуховой релки ее окружили три куницы — семейство Харзы. Элха, как обычно, кинулась в Моховку и остановилась там на быстрине. Тогда куницы пробежали метров двадцать берегом вверх по течению, Харза бросилась в речку, и течение быстро понесло ее вниз. Хищница, начала пригребаться так, чтобы поток нанес ее на добычу. Когда Харза была уже метрах в двух от Элхи, кабарга подвинулась в сторону и поток стремительно пронес хищницу мимо. Неудача постигла и остальных двух куниц. А Элха перебралась на противоположный берег Моховки и скрылась в тальнике.
Месяц назад Элха принесла двух кабаржат. Теперь она прятала их в густых зарослях вейника неподалеку от устья Барсучьего ключа. Она приходила к детям, только чтобы покормить их молоком, а остальное время они тихо лежали, слившись с прошлогодней травой.
Вот и сегодня в сумерки, спустившись с утесов, она покормила детенышей, тщательно облизала их и отправилась пастись в самый конец релки. И вдруг… Что это там светится красное? И что за животные там? Элха замерла на месте, стала водить своими длинными ушами-звукоуловителями. Ничего подозрительного. Элха сделала еще десяток неслышных шажков своими стройными ножками, словно обутыми в лакированные изящные туфельки-копытца, и снова замерла. Может быть, какой-то древний инстинкт подсказывал ей, что если хищники боятся Огня, уходят от него, то вблизи него ей будет безопасно? Или это было желание получше разведать, не угрожает ли опасность ее детенышам, которые прячутся неподалеку отсюда. Трудно оказать, что именно влекло Элху к Огню, но она всю ночь паслась вблизи него. Только на заре, когда Огонь погас, Элха пришла к детенышам, накормила их и улеглась отдыхать в сторонке.
Зайца Пишки Черемуховая редка привлекала тем же, чем и Элху, — отсутствием хищников. Жизнь Пишки полна тревог. Кто только за ним не охотится. Медведь и тигр, росомаха и соболь, рысь и куница Харза, орлан и ястреб-тетеревятник и даже ворона! Опасности подстерегают его на каждом шагу. И если Пишки дожил до своих четырех лет, то тут уж надо отдать должное его осторожности, величайшей бдительности да еще очень быстрым ногам: как и Элху, его спасают ноги. Большинство же его сородичей попадает в лапы хищников уже на первом или втором году жизни.
О зайце говорят много несправедливого. Например, обзывают косым. Он вовсе не косой. Нет другого животного, которое одновременно видело бы все вокруг и у которого до такой степени был бы развит слух. А Пишки, не поворачивая головы, видит и спереди, и сзади, и справа, и слева. Уши его способны поворачиваться на сто восемьдесят градусов каждое. А еще говорят: «Труслив как заяц». К Пишки это ни в коей мере не относится. Прошлым летом на этой вот релке его атаковал ястреб-тетеревятник. Пишки, разумеется, Пустился наутек, однако не успел добежать до укрытия: преследователь спикировал на него, но неудачно. Взвившись в воздух, ястреб напал второй раз. Но тут случилось совершенно неожиданное: Пишки опрокинулся на спину и в ту самую секунду, когда враг готовился вцепиться ему когтями в горло, с силой саданул его задними лапами. Ястреб тут же издох, а Пишки умчался своей дорогой.
С Элхой, как и с красавцем Гру, Пишки был в дружеских отношениях — они часто паслись вместе, предупреждая друг друга об опасности.
Пишки несколько позднее Элхи обнаружил костер и сразу насторожился. Несмотря на умение видеть все вокруг, зрение у Пишки, как, впрочем, и обоняние, в общем-то не сильное. Понаблюдав за костром с расстояния в сотню метров, Пишки счел за благо отойти подальше от непонятного предмета. Здесь он пасся до утра, а с зарей перекочевал в заросли вейника, в которых укрывала своих детенышей Элха. Там он улегся на покой в неглубоком своем логовище.
С этой ночи почти все приметные обитатели Моховой пади стали еще более осторожными, чем прежде.
КРУТЫЕ ОТРОГИ
Место, в которое перекочевал Мугу-плешивый, находилось километрах в пятнадцати вверх по течению Моховки, на правом ее берегу, и называлось Крутые отроги. Местность здесь была более пересеченная, чем в Моховой пади. Горбины увалов сменялись неширокими долинами, по дну которых бежали ключи; невысокие, разрезанные распадками плато круто обрывались к берегу речки.
Пока старый медведь брел в поисках нового обиталища, он изрядно проголодался. В дороге ему было не до охоты — подгонял страх перед Человеком. Только очутившись в безопасном месте, он стал искать еду. Занималась утренняя заря. На востоке, за хребтами Сихотэ-Алиня, небо с каждой минутой светлело. Потушенные наступающим рассветом, одна за другой гасли звезды. В такую пору Мугу-плешивый обычно укладывался на покой после ночной охоты. Сейчас сон не шел к нему — одолевал голод.
Для начала он решил поискать муравьиные кучи или гнилые пни, обычно заселенные муравьями. Однако вскоре он обнаружил, что все пни начисто разрушены, а земля на их месте зализана. Не иначе как это работа черного гималайского медведя: он страсть какой охотник до муравьев. Некоторые «зализы» были еще свежие. Значит, здесь владения черного медведя. Ростом он меньше бурого, к расе которого относился Мугу-плешивый, но зато проворнее и подвижнее, а главное, великолепно лазит по деревьям. Даже берлогу на зиму устраивает в дупле старого дерева. Соседство с таким соперником не обещало ничего хорошего Мугу-плешивому, потому что за черным медведем ему трудно поспевать на охоте. А голод сосет, гонит вперед. Очень плохо, когда не знаешь местности, не знаешь, где и что искать. Какая благодать была для Мугу-плешивого в Моховой пади! Что ж, придется теперь обживать Крутые отроги.
И вот показались могучие, бронзовые стволы старого кедрача. Солнце только что поднялось из-за хребта, лучи его пронизали кроны кедров, наполнили бор золотым сиянием. Первым делом надо поискать, нет ли кабаньих порытей. Мугу обошел окрестности — нет, значит, кабанов здесь не ищи. Ну что же, можно полакомиться орехами. Кругом довольно много шишек, упавших уже после снега, весной, но почти все они уже вышелушены белками, бурундуками или кедровками. Мугу-плешивый с жадностью разгрызал каждую полную шишку, смачно ел вкусные перезрелые орешки.
Вдруг он услышал недалеко вверху треск ветки. Шлеп! — на хвойную подстилку упала крупная шишка. Пока Мугу-плешивый добежал туда, рядом шлепнулась вторая шишка. Он вскинул морду кверху. Ба! Почти на самой макушке кедра сидит черный медведь, едва заметный в гущине кроны. Да ведь это же Черный Царап, давний знакомый Мугу-плешивого! Они не раз встречались в Моховой пади, Царап время от времени наведывался и туда.
Бурый и черный медведи, как правило, не ссорятся между собой, но и не дружат. Они стараются не жить в одних и тех же угодьях, кто-то в конце концов должен уступить владения другому. Но Мугу-плешивому нет никакого резона уходить отсюда: раз тут растет кедр, сюда могут заходить кабаны, изюбры, которые тоже лакомятся кедровыми орехами. Нет, он не намерен уступать владения Черному Царапу. Пусть, если хочет, переселяется в Моховую падь.
Хотя Мугу-плешивый делал все, чтобы не обнаружить себя: прятался за толстые стволы кедров, старался бесшумно разгрызать шишки — Царап скоро обнаружил, что «работает на дядю». Он стал было спускаться, видимо, предвкушая приятный завтрак, и вдруг повис на нижней развилке ветвей: увидел Мугу-плешивого. Удобно усевшись на суку, он уставился злыми, навыкате, глазами на старого знакомца и сказал угрожающе: «Гурр!» Мугу-плешивый вскинул морду вверх и сладко облизнулся. С минуту они смотрели друг другу в глаза, Мугу — добродушно, Царап — свирепо. Он снова сказал сердито, с угрозой: «Гурр!» и несколько раз фыркнул. Старому бродяге было ничуть не страшно: уж с Царапом-то он без труда справится. Но стоит ли доводить дело до драки? Пожалуй, лучше уйти, тем более что голод уже почти утолен, а на сытый желудок кому охота ссориться!
И Мугу-плешивый отправился к речке. Он спустился по косогору в распадок и по его дну направился к Моховке. Он ступал почти неслышно, чутко прислушиваясь и зорко вглядываясь в заросли кустарников: в таких местах можно встретить зайчонка нынешнего помета, самку рябчика, высиживающую птенцов, а то и затаившегося детеныша кабарги или изюбра.
Стоп — знакомый запах! Старый медведь повел носом, стал вынюхивать землю, кустики. Так и есть — прошла медведица с детенышами, и не далее как вчера вечером: по следу уже пала роса, но пахнет он еще довольно резко. Вот раскоп — тут медведица добывала корни дудника. Ага, след ведет вниз по распадку, туда же, куда держит путь и Мугу-плешивый. Видимо, медведица идет к речке. Что ж, последуем за ней. Тут она сделала прыжок. Кого же она настигла? Ага, вот перья рябчика и запах крови. Значит, нашла гнездо. Яйца съел кто-то из детенышей. Судя по следам, их трое: два — нынешнего помета и один — уже взрослый, пестун.
Тщательно распутывая следы, Мугу-плешивый не заметил, как очутился возле Моховки. В этом месте склоны распадка раздвинулись в стороны на добрую сотню метров, между ними образовалась просторная «падушка» — небольшая падь. Вся она была в белом цвету — тут росли черемуха, дикая яблоня, груша. Надо приметить — осенью здесь будет много ягод. Вон на верхнем развилке высокой черемухи охапка сухих веток, наверное, прошлогодняя работа его случайной подруги либо Черного Царапа: они обламывали ветки, объедали ягоды, а ветки складывали под себя в развилке. Сейчас в пади стоял шумный птичий гомон — пели дрозды, кричали голубые сороки. В кронах гудели пчелы, в траве звенели цикады, над полянами шелестели крыльями стрекозы.
Мугу-плешивый пересек падь. Вот он, отлогий галечный берег Моховки, а впереди — необозримые просторы дальних и ближних сопок, волнистая линия хребтов, поднявших свои заснеженные вершины к самому небу. Места нравились ему.
След медведицы и ее детенышей терялся на берегу. Не иначе как семейство переправилось на ту сторону Моховки — она здесь неглубокая, даже камни торчат из воды посредине, на перекате. Старый медведь вдоволь напился и потом долго стоял, не зная, продолжать ли поиски медведицы или выбрать уголок поукромнее и немного подремать. Ноги у него гудели и ныли от усталости.
Все-таки надо отдохнуть. Он сейчас не очень голоден, а семья все равно далеко не уйдет. Отыскав песчаную вымоину под корнями старой-престарой черемухи, Мугу-плешивый улегся в ее прохладном ложе и устало закрыл глаза. Сладкая истома разлилась по всему телу. Уже через минуту он забылся чутким сном.
В Крутых отрогах действительно обитала позапрошлогодняя подруга Мугу. После их встречи в Моховой пади она поспешила покинуть владения старого медведя, опасаясь за своих детенышей. Она ушла километров за пятьдесят вверх по течению Моховки, но там ей не повезло: непутевый бродяга Буга загрыз одного из детенышей. Уходить дальше не было смысла: там начинались березовые леса, а в них всегда мало живности. Тогда-то она и вернулась в Крутые отроги. Здесь она хорошо отъелась на кедровых орешках да на нерестовой осенней кете и вовремя залегла с оставшимся детенышем на зимовку в великолепной берлоге. Зимой она принесла еще двух детенышей и теперь натаскивала их. Ее беспокоило присутствие в Крутых отрогах Черного Царапа, и, если он появлялся поблизости, медведица начинала преследовать его, пока не отгоняла как можно дальше.
За этот год она хорошо узнала все кормовые места Крутых отрогов, и ее охотничьи маршруты теперь почти всегда были удачны. Вот и сейчас, переправившись на левый берег Моховки, она повела своих чад на Дубовую сопку, что видна километрах в пяти к югу. Прошлой осенью там созрел обильный урожай желудей, до сих пор вся земля устлана ими. Там можно не только вволю полакомиться желудями, но и встретить кабанов или изюбров, которые тоже любят посещать дубняки. С голода не помрешь.
Там она и паслась со своим семейством весь этот день. Под вечер она напала на след кабанов. Судя по запаху, дикие свиньи кормились здесь прошлой ночью. Медведица стала рыскать окрест. Опыт подсказывал ей, что кабаны не должны уйти далеко: летом после сытного ночного выпаса они обычно спят весь день. Вскоре легкий ветерок и в самом деле нанес запах гайна — места отдыха стада. Медведица великолепно умела различать этот запах среди прочих таежных запахов. Теперь нужно зайти с подветренной стороны, неслышно подползти к кабаньей спальне и выкрасть добычу. Чтобы ей не мешали детеныши, медведица отвела их в сторонку на северный откос сопки, а сама отправилась на охоту.
Между тем старый медведь, хорошо отдохнув под черемухой, полез в речку. Он вдоволь набарахтался в воде — купаться он любил, — потом вылез и, отряхнувшись, стал бродить по берегу. Очень скоро он отыскал вчерашний след семейства медведицы и отправился по нему.
ЧЕЛОВЕК
Судя по тому, как устраивался бивак на Черемуховой релке, люди собирались прожить здесь не один день. На самой горбине релки, там, где сплошную вереницу старых черемух рассекает сквозной коридор, забелела большая палатка. Мощные кроны старых деревьев хорошо укрывали ее от солнца и дождя. Рядом — очаг, вырытый в земле и укрытый от дождя навесом из бересты, неподалеку под кроной черемух — землянка для хранения продовольствия.
Черемуховая релка представляет собой узкую, длинную возвышенность, начинающуюся возле устья Барсучьего ключа и протянувшуюся, километра на полтора вдоль правого берега Моховки вниз по течению. По гребню ее тянутся заросли черемухи, дикой яблони и боярышника, — значит, релка не затопляется во время паводков. По другую, северную, сторону релки протянулся неширокий залив, по-видимому, старица, оставшаяся от прежнего русла Барсучьего ключа. Теперь старица заросла рогозом, стрелолистом и кувшинками.
На противоположном берегу старицы возвышается пятиметровый глинистый обрыв, а над ним — стена дремучих лесных дебрей. Здесь начинается равнина километра в три шириной и около десяти километров в длину, лежащая между поймой Моховки и подножием Горбатого хребта и сплошь заросшая старым кедрово-шираколиствемньш лесом с густым двухъярусным подлеском. Это и есть Моховая падь. Экспедиция намеренно поселилась в стороне от нее: людям не хотелось нарушать покой обитателей Моховой пади.
С восходом солнца бивак ожил. Из палатки вышел рослый бородач. Его рыжая от солнца, дождей и непогоды шляпа с изогнутыми полями, яловые бродни-ичиги (свободные сапоги на мягкой подошве), перевязанные у щиколоток и колен ремешками, кожаная потрескавшаяся куртка — все говорило о том, что этот человек немало побродил на своем веку. Это был Корней Гаврилович. Утро стояло тихое, росное, прохладное. Солнце еще не выглянуло из-за отрогов Горбатого хребта, но его сияние уже позолотило верхнюю кромку гор; веер розовых лучей развернулся по всему восточному краю неба.
Первым, как всегда, встречал солнце Белохвостый Клек. Вот он взмыл с макушки сухостойника и круг за кругом стал набирать высоту. И вдруг вспыхнул золотом — попал в солнечные лучи! Он явно наслаждался своей привольной купелью, величаво парил большими кругами над Моховой падью, время от времени оглашая просторы боевым клекотом.
— Ну, как погода, Корней Гаврилович? — Это из палатки вышел Кузьмич.
Бударин указал на орлана:
— Как купается, а? Значит, будет нынче хорошая погода.
— Да, чуть он вчера не угодил под винт вертолета, — мягко и тихо заметил Кузьмич. — Не иначе гнездо где-то.
— Хозяин осматривает владения. Орлица-то, видно, в гнезде, скоро птенцов выведет.
Они помолчали, любуясь красотой утра. Из-за среднего отрога показался слепящий край солнца. Приветствуя его лучи, неподалеку в черемухах затенькали синицы, им из тайги ответили дрозды, а где-то затараторили кедровки. Вскоре гомонила уже вся тайга.
— Однако надо бы на ушицу поймать рыбешки, — предложил Кузьмич.
— Мысль дельная, — согласился Корней Гаврилович. — Буди ребят, пусть попробуют бросить спиннинги. А я пройдусь, посмотрю релку.
Ничто не ускользало от опытного глаза старого натуралиста, пока он неслышно шагал в своих мягких броднях вдоль релки. Вот со свистом шмыгнул по стволу черемухи бурундук. Он уселся на ближней ветке и, подрагивая вздыбленным хвостиком, уставился черными бусинками глаз на незнакомое существо. Щеки его были вздуты, значит, собирал на земле прошлогодние семена трав. Корней Гаврилович медленно двинулся к нему. Бурундук тотчас же выплюнул содержимое защечных мешочков, озорно свистнул и пулей полетел по веткам к вершине черемухи.
Там, где кончалась старица, между релкой и подножием Мышиного склона протянулась широкая луговина, заросшая старым, высоким вейником. Она тянулась почти до самого распадка, из которого бежал Барсучий ключ. Бударин уже хотел пересечь ее, как увидел стремительную серую птицу, которая по-ястребиному носилась зигзагами над самыми макушками прошлогодних трав. Только внимательно приглядевшись, натуралист угадал в ней кукушку. Он замер на месте и, догадываясь, в чем дело, стал наблюдать за ее проделками. Не прошло и минуты, как из зарослей вылетела птаха и тотчас же снова исчезла в траве. Кукушка сделала крутой вираж над тем местом, откуда выпорхнула птица, и, покружив несколько секунд, опустилась в заросли вейника.
Корней Гаврилович улыбнулся в бороду, произнес про себя: «Ах, чертовка, все-таки выкурила». Он не спускал глаз с того места, где скрылась кукушка, примечая каждую былинку. Минут через десять кукушка снова взлетела и направилась в сторону леса. Вскоре оттуда донеслось: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»
Стараясь не потерять из вида место, где она взлетела, Бударин побрел туда. Он осторожно разгреб густые заросли высокого, в рост человека, вейника. Вот и примеченные метелки. Так и есть — гнездо трясогузки, и в нем четыре пестреньких яичка. Одно из них лишь чуть-чуть отличается от остальных величиной: его снесла кукушка.
Корней Гаврилович долго рассматривал это яичко, удивляясь сходству. Как это кукушка умудряется подбирать гнезда тех птиц, которые несут яйца, похожие на ее собственные? И весит ее яйцо не больше трех-четырех граммов, а ведь по размерам и весу кукушка раза в три превосходит трясогузку.
Натуралист связал в пучок несколько пригнутых макушек вейника, как вдруг заметил промелькнувшую тень. Он замер на месте, весь превратившись в зрение и слух. Вскоре он разглядел, как качаются метелки на лугу: похоже, там кто-то бежал. Но вот над ними птицей промелькнула кабарга, видимо, перемахнула колдобину. Что бы это значило? Корней Гаврилович осторожно зашагал туда, где впервые увидел тень кабарожки. Что она делала здесь: паслась или отлеживалась? И то и другое можно определить по поедям — обкусанным макушкам растений и по вмятине в траве — лежке.
Вот это место. О, да тут не просто проследок, а настоящая тропинка в густой траве. А вон и маленькая проталинка в самой гуще. Что там, лежка? Корней Гаврилович, стараясь не делать резких движений, заглянул в прогалинку. Так и есть, лежка, а в глубине белые крапинки. Да это же кабаржонок. Он весь прильнул к земле, длинно вытянув шею, а шерстка его слилась своей бурой окраской с цветом прошлогодней травы. Да он не один, за ним виден другой и точно в такой же позе. Велик был соблазн подойти к этим милым крошкам, погладить, разглядеть их. Но этого делать не следовало: запах Человека, оставленный прикосновением руки, может отпугнуть кабаргу, и она потом уведет детенышей с этого места. А Бударину очень важно пронаблюдать, когда и как приходит к ним мать, чтобы покормить.
Корней Гаврилович связал в пучок несколько метелок вейника, как и возле гнезда трясогузки, и неслышно ушел к релке. Отсюда он снова оглядел луговину, убедился, что отметка хорошо видна, и продолжал знакомиться с местностью. Так он дошел до верхнего конца редки и очутился возле устья Барсучьего ключа. Местность здесь оказалась на редкость живописной. Правый берег Моховки, начиная от Мышиного склона, полого поднимался и переходил в столообразное плато, тянувшееся вдоль луговины. У верхнего основания релки его рассекал довольно широкий распадок, по дну которого с шумом и пенистыми перепадами бежала неширокая речушка, вливавшаяся в Моховку. Это и был Барсучий ключ. Склоны распадка поросли густым широколиственным разнолесьем, оплетенным актинидией и лимонником. Распадок полнился сейчас птичьим гомоном. В небе кружил одинокий коршун.
За устьем ключа начинались скалистые отвесные обрывы, ниспадающие прямо в Моховку. Над ними в воздухе сшибались черные вороны — это развлекалась на утренней разминке разбойная семейка старого Карра.
Близ устья Барсучьего ключа заросли черемухи, тянувшиеся по горбине редки, обрывались. Местность тут понижалась, покрывавший ее густой молодой тальник стоял барьером между руслом Моховки и луговиной. Берег Моховки вдоль релки галечный, у тальника он становился песчаным. Корней Гаврилович решил пройти по нему до устья ключа. Не успел он ступить на песок, как справа, там, где кончились заросли черемухи, сорвался с дерева нарядный, как гусар, самец уточки мандаринки.
Не часта увидишь эту интересную птицу с черно-желтыми, синими и лиловыми перьями. На Дальнем Востоке ее называют еще дуплянкой, потому что она гнездится и выводит птенцов в дуплах деревьев, растущих вблизи речных плесов с тихими заводями. Еще не оперившихся птенцов-пуховичков мама начинает всячески выманивать наружу. Птенцы вылезают из дупла и шлепаются на землю, иногда с немалой высоты, но густой и длинный пух смягчает удар. После этого уточки-родители и выводок уже не покидают воды, пока детеныши не поднимутся на крыло. Потом семья обычно пасется в лесу: ловит насекомых, собирает семена, но особенно эти птицы любят желуди: на них мандаринки жируют перед осенним отлетом на юг. Самец и самочка мандаринки очень дружны и в Китае считаются символом супружеской верности.
Мандаринка всегда была объектом добычи охотников — из-за красивых перьев и вкусного мяса. Может быть, потому она и избрала жилищем дупло.
Корней Гаврилович всегда питал к этим птицам какую-то особенную любовь, и ему хотелось лучше узнать их жизнь. Вот и сейчас, проследив стремительный полет самца над водой, он стал искать дупло на ближайших черемухах. Скоро он разглядел его на полузасохшей старой черемухе, косо наклонившейся с релки над галечным берегом. Дупло находилось на высоте в три-три с половиной метра. Потом он облюбовал густую куртинку диких яблонь, в которой можно хорошо укрыться. Здесь будет постоянный наблюдательный пункт: нужно проследить прилет самца мандаринки к гнезду, в котором самка сейчас высиживает потомство, и определить примерно, чем он потчует самочку. Заодно нужно сфотографировать его.
Внимание натуралиста теперь привлекла песчаная коса, протянувшаяся вдоль прибрежной стены тальника до устья Барсучьего ключа. Золотистая, чистая, она была похожа на неисписанный лист бумаги. Но «лист» был не совсем неисписанным: кое-где виднелись строчки следов, и это заинтересовало зоолога: здесь можно было кое-что прочесть. Вот замысловатая кружевная строчка куличковых лапок-крестиков. Она то идет зигзагами, то тянется прямым шнурком, то начинает петлять. А это что за пятачки с четырьмя кончиками-когтями? Они идут косыми парами, расставленными довольно далеко одна от другой, сантиметров на десять. Корней Гаврилович присел, стал внимательно разглядывать их. Черепаха! Кожистая уссурийская черепаха! Нужно проследить ее маршрут. Так, вот она вышла из воды, направилась через косу к тальникам. Зачем бы? Ведь она водяное животное. Натуралист полез в заросли тальника. Не прошел он и пяти метров, как услышал впереди сильный всплеск. Вскоре он оказался возле неглубокого, округлого озерка с темно-янтарной прозрачной водой — пересыхающего болотца с илистыми берегами. Вот и след черепахи на иле — она только что бросилась в воду, облачко мути еще расходилось от берега.
Кожистая уссурийская черепаха — не часто встречающаяся рептилия. От своих сородичей — степных и морских — она отличается чрезвычайно скрытным образом жизни и осторожностью, агрессивным характером и далеко не черепашьей подвижностью. Она водится у нас только на Дальнем Востоке: в бассейне Уссури и по Верхнему и Среднему Амуру. Ее родная стихия — вода, преимущественно тихие протоки, заводи, пойменные озера, где она питается раками, моллюсками и мелкой рыбешкой. Но встречается она также и в самом русле Уссури и Амура. Рыбакам случается ловить ее на крючок с живцом при помощи перемета или закидной удочки.
На верхних правобережных притоках Уссури, в частности на Имане, были случаи, когда она укусами наносила серьезные раны купальщикам. Клювообразные ее челюсти — костяные пластины с острыми краями — способны замыкаться намертво, отрезая, словно щипцы-кусачки, захваченный участок кожи.
В питании эта черепаха — активный конкурент таких полезных промысловых рыб, как сазан, сом, верхогляд, желтощек и другие. Кроме того, она в большом количестве поедает икру рыб, нерестящихся на траву в пойменных озерах и протоках, и лососевых рыб, нерестящихся в донном галечнике таежных рек.
Корней Гаврилович решил во что бы то ни стало добыть черепаху, чтобы изучить содержимое ее желудка, а мясо можно будет употребить на суп, оно почти не отличается по вкусу от гусиного. Он шуровал палкой в болотце до тех пор, пока черепаха не вцепилась в нее намертво. Тогда он вытащил ее на берег и в таком положении принес в лагерь.
Возле очага уже хлопотали Сергей и Юрий, варили уху. Улов оказался отличный: два ленка и небольшой таймень. Завидя шефа с черепахой на палке, они пришли в изумление.
Пока Кузьмич доваривал уху, ребята, вооруженные ножом и скальпелем, принялись вскрывать черепаху, предварительно умертвив ее. Желудок ее оказался заполненным мелкой рыбешкой — мальками осенней кеты.
— А ну-ка, подсчитайте вес пятидесяти взрослых кетин! — обратился Бударин к своим ученикам. — Минимум полтора центнера — годовое пропитание одного человека! Ну а теперь пора завтракать да браться за дело.
ДЕТЕНЫШИ И ДЕТОУБИЙЦЫ
Как и всегда после урожайного года в тайге, Большая семья нынешней весной увеличилась — ее поголовье почти утроилось. Одна лишь Хара принесла двенадцать полосатых поросят. Первые три дня она совсем не вылезала из своего тайна, надежно укрытого под кучей валежника и лесной ветоши: нужно было дать им окрепнуть да и самой отдохнуть после родов. Поросята в это время только сосали молоко и спали под шерстистым, теплым брюхом матери. Но с каждым днем они становились все более активными, и на четвертый день Хара вылезла с ними из своей темницы на свет. Сначала полосатое племя льнуло к ее ногам, боясь отойти в сторону хоть на шаг, но вскоре освоилось и стало шустро искать корм вокруг. Детенышей манили аромат прошлогодних листьев, молодая зелень, проснувшийся весенний лес.
Уже через неделю поросята сделались настолько любопытными, что того и гляди разбегутся и попадут в лапы хищников. Кстати, к этому времени выводок уже недосчитывался двух поросят. Одного унесла рысь Фура, а другого украла отшельница Эдуни! Эта угрюмая притвора умела великолепно затаиваться и прикидываться мертвой, и не только в минуты опасности, но и на охоте. Надоедят улитки и лягушки, слизняки и мыши, и Эдуни начинает поиски птичьих гнезд, лежек зайчихи с выводком, мелких детенышей копытных.
Через две недели Хара перекочевала с выводком на склон Горбатого хребта, в заросли дубняка. Скоро туда перебрались и другие многодетные семьи. Своим шумом и визгом поросята выдавали место выпаса стада, и из-за этого секачи, особенно такие умудренные, как Ухуру, старались держаться подальше от суматошной Большой семьи и паслись в одиночестве. Вся забота о сохранении детенышей ложилась только на матерей. Потому-то мудрейшая в стаде старая Хара и стала вожаком Большой семьи.
Но что она может сделать безоружная, ведь у нее нет таких клыков, как у Ухуру! А хищники уже тут как тут. Первыми пронюхали о появлении Большой семьи в зарослях дубняка росомахи Буга и Уга. Они устраивали засады где-нибудь поблизости и поджидали добычу.
Но росомахи держали ухо востро; не ровен час, появится сам Великий пастух Большой семьи, владыка Моховой пади Амба-Дарла. Его приближение выдавали не только легкие шорохи, но и специфический запах, который росомахи улавливали при попутном ветре за добрую сотню метров. Во время таких визитов Буга и Уга потихоньку убирались подальше. В эту пору найти пропитание не составляло большого труда: детеныши вывелись не только у Большой семьи.
Если спуститься на дно какой-нибудь долинки, особенно вблизи кедрача, то попадешь в места выпаса изюбров. У них тоже сейчас детеныши. Прислушайся в тихие сумерки, когда каждый шорох слышен за сотни метров, и до тебя долетит короткий жалобный крик, похожий на телячье мычание. Это изюбренок, затаившийся где-то между старых колодин на мягкой постельке из лесной, ветоши, зовет мать. Буга и Уга не торопятся туда сломя голову, они ждут, когда щелкнет где-нибудь копыто по валуну. Потом услышат, как зачмокали губы у соска: значит, мать подошла. Тогда и надо красться, наверняка выйдешь безошибочно на добычу по свежему запаху парного молока.
А хочешь поймать зайчонка, иди в светлые березняки, на какой-нибудь увал — отрог Горбатого хребта. Там любимое место самок зайца-беляка, когда они начинают котиться. Их шубки, белые даже летом, почти незаметны среди березовых стволов, а серые шубки детенышей отлично сливаются с прошлогодней травой и листьями, ставшими теперь мягкой ветошью. Но это вовсе не препятствие для пронырливых детоубийц. У них дьявольски развиты слух и обоняние, они необычайно осторожны и прекрасно ориентируются в дебрях в любое время суток; вот почему так привольно живется им в весеннюю и летнюю пору, когда обитатели тайги приносят детенышей.
Так же привольно живет в эту пору и разбойная семейка прожорливой хищницы куницы Харзы. Она, как и росомаха, пожирает чужих детенышей, даже детенышей копытных животных. Но у Харзы есть преимущество перед Бугой и Угой: она отлично лазит по деревьям.
Искусство прятаться и маскироваться у зверей и птиц достигает весной и летом наивысшего совершенства. И это вполне понятно: звери заботятся о сохранении потомства. В апреле — мае им обзавелись почти все четвероногие. С каждой неделей потомство становится все более прожорливым, требует все больше еды. А между тем у соболя, колонка, куницы, енотовидной собаки, рыси да и других все заботы о пропитании потомства ложатся только на самку. От нее в эту пору требуются невероятная активность и ловкость, вот и рыскает она день и ночь по зарослям в поисках еды для себя и детенышей. Она ничем не брезгует, будь то птица, грызун или земноводное, — все становится ее добычей. Меню соболя, например, включает тридцать пять блюд, в том числе растительных.
Но именно в мае все пернатые кладут яйца и высиживают птенцов. А это значит, что самки вынуждены неотлучно находиться в гнезде, а самцы — обеспечивать их пропитанием: насекомыми, их личинками, грызунами, мелкими птичками, рыбой, змеями, ящерицами. Такие гнезда с затаившимися большими и маленькими наседками разбросаны повсюду: на земле, на ветках в развилках сучьев, в гуще кустарников, в дуплах. Но попробуйте их найти! Для этого нужно обладать искусством ищейки. И такое искусство выработали в себе многие хищники, и в том числе Харза. Помимо всех прочих приемов, она еще в совершенстве овладела умением лазить по деревьям, отточила слух, обоняние, зрение, выработала феноменальную осторожность, ничуть не меньшую, чем у росомахи.
Но и их пернатые жертвы не такие уж простофили! Тот, кто наблюдает жизнь птиц, хорошо знает любопытную их особенность — огромную разницу в расцветке оперения самца и самки. Не в пример людям, самочка у птиц одевается, как правило, чрезвычайно скромно: серенькое в белую или светло-желтую крапинку платьице — вот и весь ее наряд. Но зато как разодет, скажем, фазан или селезень кряквы! Там фиолетово-атласная, сине-зеленая нашивка, там пунцово-красная или яркобелая манишка, там ярко-желтые колечки по черному полю. Да каких только нарядов не увидишь у птиц! А сколько среди них, главным образом среди перелетных насекомоядных мелких птах, великолепных певцов! Именно они околдовывают пением весенний лес.
Яркое оперение птиц — средство дезориентации хитрого врага. Когда самочка сидит в гнезде, верный супруг не только кормит ее, он еще оберегает ее покой, все время находясь где-нибудь рядом. Вот недалеко от гнезда соловья-красношейки, крошечной пичужки, появилась куница Харза. Опасность! И самец, запрокинув головку и выпятив красную грудку, начинает тревожно верещать. Но певцов в такую пору в лесу много, они вовсе не отвлекают хищника, враг приближается к гнезду. Вот уж до него рукой подать, и тогда самка выпрыгивает из гнезда и начинает беспомощно падать с ветки на ветку, притворяясь больной или ушибленной. Напрасно хищник царапается с одного сука на другой, нацеливаясь для прыжка, — птаха держится на почтительном расстоянии, да еще среди самых тонких ветвей, которые не смогут удержать ее преследователя. Так и уводит его подальше, одурачивает, а потом, вспорхнув, исчезает в зеленой кутерьме листвы, чтобы поскорее вернуться в покинутое гнездо. Интересно и то, что большинство пернатых начинают кладку яиц, только когда достаточно разовьются листья, чтобы можно было укрыться среди них.
Тревожное это время для мирных обитателей тайги — конец весны и начало лета. Буйствуют слепые, но целесообразные силы природы. Не потому ли именно в эту пору лес полон птичьего гомона и щебетания, не потому ли так вкрадчивы тогда лесные шорохи, не потому ли так тревожны ночные крики в лесу? Наконец, не потому ли так красочны цветы и так дурманящи их ароматы? Окинь мысленным взором жизнь тайги в конце мая — начале июня, вглядись в каждый кустик, в каждую лесную куртину, вслушайся во все звуки, что рождаются в лесу ночью, когда в черном небе мерцают лишь далекие-предалекие звезды, или днем, когда солнце стоит в зените, и перед тобой предстанет удивительный в своей многосложности и многокрасочности процесс: природа воспроизводит самое себя… У, нее нет заботливой повитухи в это трудное время. Напротив, именно в это время жестокая борьба достигает наибольшего накала.
Но не может ли стать такой повитухой для природы Человек? Ну, скажем, защитить ее мирных жителей от прожорливых хищников? Это сложный вопрос. Человек пока еще недостаточно разобрался в тайнах природы, чтобы окончательно решить, целесообразно ли его вмешательство. Нет ничего опаснее, чем нарушить естественное равновесие в живом мире. Не будь четвероногих и пернатых хищников, грызуны с их феноменальной плодовитостью и приспособленностью к любым условиям очень быстро заполнили бы леса и поля. Разве кролики не стали в свое время угрозой существованию самой цивилизации в Австралии? На Дальнем Востоке известны случаи, когда в годы, благоприятные для размножения диких кабанов или кабарги, их поражала эпизоотия, и дело кончилось массовым мором этих животных.
Между прочим, в свое время в уссурийских лесах почти не было волков: их уничтожал тигр. Сократилось число тигров — распространились волки. А где они появляются, там резко уменьшается поголовье промысловых копытных.
Еще более сложны взаимоотношения в мире пернатых. Взять хотя бы кукушку. Прежде чем подкинуть свое яйцо, она выбрасывает из гнезда хозяйские. Обычно кукушонок вылупляется из яйца первым и начинает эксплуатировать своих приемных родителей: он необычайно прожорлив и все время кричит, требуя еды. Тем временем один за другим вылупляются остальные птенцы, и слепой еще подкидыш-кукушонок начинает разбойничать. Вот он почувствовал рядом с собой теплое и еще влажное тельце. Воспользовавшись отлучкой взрослых птиц, он начинает подлезать головой под другого птенца, и наконец тот оказывается у него на спине, в небольшой впадинке между основаниями крыльев. Тогда кукушонок поднимается на лапки и выбрасывает свой груз вон из гнезда. Так он делает до тех пор, пока не останется один в гнезде.
Одна кукушка подкидывает за сезон до двадцати яиц. Тем самым она уничтожает до двадцати выводков мелких насекомоядных птиц. В кладках этих птичек по четыре-пять яиц; таким образом, кукушка может уничтожить за сезон около сотни мелких птах! Правда, она, как бы стараясь искупить свои грехи перед лесом, который приютил ее, пожирает множество волосатых гусениц — очень опасных вредителей леса. Только немногие птицы уничтожают их. Двадцать взрослых кукушек в течение одного дня могут очистить лес от многих тысяч опасных вредителей. Не окупает ли кукушка своей добросовестной службой тот вред, который она наносит беззащитным птахам?
Насекомоядные — самые полезные из птиц, а среди них на первом месте стоит прославленный доктор лесов — дятел. Он оперирует стволы деревьев, долбит древесину и таким образом лечит лес. А инструмента у него никакого, кроме долотообразного клюва. И выходит, что голова — это молоток, а шея и само туловище птахи — рукоятка. Ну-ка, что будет, если стукать вас головой об дерево изо дня в день всю жизнь? Не у каждого плотника или столяра долото доживает до пяти лет. А вот живое долото, дятел, иногда доживает. Правда, редко.
Из пернатых меньше всех живут мелкие насекомоядные и зерноядные, немногим дольше — более крупные их конкуренты в питании; дольше других птиц живут хищники и всеядные. Никто в Моховой пади не знает, сколько лет старому разбойнику Карру, который пережил десятки поколений своих мелких собратьев. Случайная жертва зайца Пишки, ястреб-тетеревятник, которым в свое время хорошо пообедала выдра Ласа, говорят, прожил больше тридцати лет. Отцу Белохвостого Клека было за шестьдесят, когда он стал жертвой охотника.
Продолжительность жизни пернатых, безусловно, связана с затратами усилий на добычу пропитания. Почему бы не жить долго разбойнику Карру, если у него всегда есть еда? Он редко голодает. Всплыла дохлая рыба — съел. Растерзал хищник добычу, всего не съел — Карр тут как тут, и пошла тризна! Выследил, сидя на дереве, гнездо какой-нибудь птахи, и обед обеспечен, будь то яйца или птенцы. Выследил выводок зайчихи — и вот уже справляет кровавый пир. Он не утруждает себя ловлей грызунов, насекомых, сбором семян или ягод.
Иную природу имеет долголетие пернатых хищников. Они все время парят, а стало быть, очень активно дышат, очень сильно тренируют крылья и грудную мускулатуру. Стремительность, постоянная активность, целесообразно и высоко развитые мышцы, легкая доступность привольных просторов — все это ничего общего не имеет с прозаическим, унылым «тук» да «тук» скромного раба судьбы — дятла.
Среди этих гордых красавцев есть и такие, кто работает на оздоровление природы, уничтожая больных и умерших животных. Иных пернатых хищников называют крылатыми кошками. Речь идет о тех, кто уничтожает грызунов, — о совах, совках, неясытях. Например, сова, отшельница Спуля, за ночь ловит до полусотни мышевидных, а потом весь день спит в своем дупле, время от времени отрыгивая погадки — комочки непереваренных костей и шерсти. Белохвостый Клек и коршун Тиня очищают реку от дохлой или больной рыбы. Орлан уничтожает гадюк и полозов, которые в свою очередь поедают птенцов и лягушек. А между тем лягушка уничтожает бездну насекомых и составляет пищу многих полезных животных и рыб, сберегая таким образом жизнь другим своим добрым сожителям.
Ястреб-тетеревятник… Уже одно название говорит о том, кого истребляет этот разбойник. Его меню, однако, не ограничивается лишь тетеревами, часто больными. Утка и рябчик, дикий голубь и кулик, белка и заяц — больные и здоровые — все это объекты его охоты. Подсчитано, что один ястреб уничтожает за гнездовой период девяносто белок, сто пятьдесят четыре зайца, двести сорок семь соек, сто двадцать две серые вороны, двести одиннадцать голубей, четыреста сорок девять куропаток, восемьдесят два скворца! А ведь все это — полезные пернатые и четвероногие, и наверняка не все из них больные.
Но кто и в какой степени полезен или вреден, в конце концов рассудит Человек. Затем он и изучает природу.
В ЦАРСТВЕ ЗЕЛЕНЫХ ДЕБРЕЙ
Для изюбра Гру начало июня было самым мучительным временем. В конце марта он сбросил старые, прошлогодние рога. Перед тем щиток лба у основания рогов все больше чесался и беспокоил изюбра, рога стали заметно пошатываться, и в один прекрасный день Гру сбил их ударом о ствол дерева. А в конце апреля, когда из земли стали показываться первые нежные ростки — побеги ранних трав, у Гру на месте рогов появились бархатистые шишечки — вестники его будущей красы. Сейчас на рогах уже оформилось по четвертому отростку. Это и были легендарные панты. Очень нежные и чувствительные, они доставляли Гру немало мучений. Прикосновение к ним колючки или сухой ветки причиняло изюбру сильную боль; поэтому Гру старался избегать подлеска и деревьев с низко свисающими ветвями.
Такие места он находил либо в кедраче, либо вблизи гольцов, где его обдувало ветром.
Когда у оленя растут панты, ему нужно много есть. Кормов в эту пору хоть отбавляй — больше семидесяти видов растений входит в его меню. Сейчас почти все они пышно зеленеют, выбирай по вкусу.
Большую часть времени, однако, Гру проводил в кедраче. Вот и сейчас, выбрав удобную впадинку под кедром, он уже третий час лежит без движения. Его светло-коричневая шерсть совершенно сливается с цветом кедрового ствола и хвойной подстилки. Он слышит и видит все, что происходит далеко окрест. Ни один, даже малейший шорох, ни одно Движение не ускользает от его внимания.
Тихо в кедраче. Под глухой крышей крон таинственный уютный полумрак; неподвижный воздух, напоенный терпким ароматом, легок, чист. Наверное, целебные свойства хвойного аромата и привели сюда изюбра. Ничто нигде не шелохнется. Лишь иногда зашепчут вершины великанов деревьев — это ветерок запутался в гуще хвои. Иной раз гулко шлепнется в мягкую хвойную постель крупная шишка с распертыми от перезревших орехов боками. И вот уж кто-то зашелестел: ага, бурундук прибежал на звук, торопливо и искусно вышелушивает орешки, набивает за щеки — надо спешить, не ровен час, прискачет белка. А Гру наблюдает, слушает дальние и ближние звуки. Где-то далеко, вниз по склону, кричат кедровки, еще дальше, в самой низине Моховой пади, едва слышен голос кукушки.
Но вот Гру насторожил уши, повернул голову в сторону Моховой пади: что там за шум? Понятно, Большая семья движется. Гру не враждует с дикими кабанами, но и не питает к ним дружеского расположения, как к зайцу Пишки. Своим шумом Большая семья всегда привлекает хищников, да еще от нее исходит крайне неприятный запах. Сейчас Гру так не хотелось покидать своей лежки, но, наверное, все-таки придется уйти: Большая семья медленно, но верно движется вверх по склону.
Впрочем, пока она подойдет, можно еще поблаженствовать. Гру сладостно прижмуривает глаза. Только длинные, шерстистые уши едва пошевеливаются, чутко улавливая звуки, доносящиеся с той стороны, где пасется Большая семья. Но вот уши вздрогнули, насторожились, замерли, мгновенно выпрямилась шея, широко раскрылись глаза. Что там случилось? Почему в панике сорвалась с места Большая семья? В каком направлении она мчится? Почему она убегает, ведь за ней никто не гонится! Стоп, внимание: что за незнакомые двуногие существа? Они медленно поднимаются вверх по склону. Ноздри Гру расширены до предела и нервно вздрагивают. В глазах — настороженность и любопытство. Никогда ничего подобного он не видел. Опасны или не опасны эти двуногие существа? И куда они направляются? Кажется, идут прямо на него. Их фигуры то появляются, то скрываются в стройной колоннаде кедрового бора. Но вот они круто повернули в сторону… кажется, уходят. Но Гру не перестает внимательно наблюдать за ними.
Это были Корней Гаврилович и Сергей Прохоров. За завтраком натуралисты решили совершить сегодня первые экскурсии по двум маршрутам. Один — от устья Барсучьего ключа вниз по течению Моховки, до конца Моховой пади. По нему отправились Кузьмич и Юрий Квашнин. Другой — от берега релки поперек пади, затем вверх по склону Горбатого хребта до его гребня.
Экспедиция начала свою работу. Натуралисты должны были, во-первых, собрать как можно больше сведений о природе этих мест и, во-вторых, определить вред, который наносят обитателям Моховой пади такие звери, как куница, росомаха, рысь и медведь. Нужно было также отловить как можно больше животных для зоологической базы Дальнего Востока. На этой базе собирают отловленных зверей, чтобы потом отправить в зоопарки и зооцентры Советского Союза и других стран.
В маршрут на гребень Горбатого хребта натуралисты прихватили с собой по полрюкзака соли, чтобы устроить на удобных местах искусственные солонцы для подкормки и приманки изюбров.
Они вошли в бор и стали подниматься вверх по склону. Время от времени то один, то другой приставляли к глазам бинокль и тщательно просматривали местность.
Нет такого леса, который по красоте можно было бы сравнить с кедровым бором. Лишенный подлеска, с толстой подстилкой из осыпавшейся мертвой хвои, накопившейся за десятилетия, он всегда хранит уютную тишину и полумрак под глухой, дремуче-темной крышей густых могучих крон. Бронзовые прямые стволы-великаны стоят просторно, далеко друг от друга, и потому здесь чувствуется какое-то особое, величественное, захватывающее дух приволье. Видно и слышно далеко вокруг, дышится легко, и тебя охватывает необыкновенно острое ощущение могущества и красоты природы.
— Кабаны! — вдруг прошептал Сергей. — Корней Гаврилович, смотрите! — Он указал вперед, немного влево.
Бударин быстро поднес бинокль к глазам.
— Добрая семейка, — сказал он наконец. — Быстренько сфотографируй, тут не больше двухсот метров, телеобъектив вполне достанет. Сделай кадра два-три, а потом попробуем подойти поближе.
Прячась за стволы кедров, стараясь ступать бесшумно, натуралисты приближались к стаду. Сергей успел сделать до десятка хороших кадров, когда старая Хара высоко вскинула морду — учуяла опасность.
— Теперь приготовься сделать еще пару кадров, — вполголоса сказал Бударин, — самых интересных. Готово?
Он вышел из-за ствола и зашагал вперед. В ту же секунду раздалось грозное: «Уррф!», и все стадо, будто стая птиц, сорвалось с места. Особенно любопытно было смотреть, как стремительно неслись самые маленькие поросята — они не только не отставали от взрослых свиней, но даже обгоняли их!
— Надо будет потом добыть подсвинка-годовичка, — сказал Корней Гаврилович, когда стадо скрылось из виду. — На орехах пасутся, вкусное мясо.
— Корней Гаврилович, а почему вы не применили сейчас пульку «наркоз»? — спросил Сергей, когда натуралисты двинулись своей дорогой. Речь шла о наркотизирующей пульке, только что поступившей на вооружение охотоведов. — Интересно бы посмотреть действие наркоза, как следует разглядеть и обмерить кабана.
Сергею Прохорову не терпелось посмотреть действие этой пульки. Ею стреляют из мелкокалиберной винтовки, стараясь попасть в мышцы. Содержащееся в пуле вещество, попав в кровь, почти мгновенно вызывает наркотический сон. Он продолжается недолго, всего десять — двенадцать минут, но этого достаточно, чтобы обмерить зверя, сделать фотоснимки, прикрепить на шею, например, миниатюрный радиопередатчик или пластинку с номером.
Словом, это безвредное оружие дает ученому-натуралисту возможность побыть некоторое время «с глазу на глаз» с любым крупным зверем, не убивая его.
— С этим успеется, Серега, — отвечал Бударин, — сейчас нам не стоит задерживаться, впереди длинная дорога. Да и не было интересного экземпляра, одни матки, подсвинки да поросята. Надо найти крупного секача, они наверняка где-нибудь в окрестностях бродят, раз тут стадо.
Они двинулись дальше, время от времени посматривая в бинокли. Вдруг Сергей проговорил возбужденно:
— Корней Гаврилович, я, кажется, вижу изюбра. Или это коряга? Вон, прямо по ходу, чуть правее вывороти я, под кедром. Кажется, лежит: шея да голова торчат.
Они остановились, направив бинокли на Гру.
— Точно, изюбр! — тихо прошептал старый натуралист. — Как бы подойти поближе да сфотографировать? Не грех бы применить и пульку «наркоз» — посмотреть панты в процессе развития… Нет, ничего не выйдет, — шептал он, продолжая смотреть в бинокль. — Вон как насторожился, заметил нас и гадает, что за новый вид зверей. Однако попробуем усыпить его внимание, пойдем в сторону. Головы не поворачивать в его сторону, смотреть только искоса.
Они прошли с сотню метров и стали незаметно забирать поближе к изюбру, искоса поглядывая на него. Тот продолжал все так же настороженно наблюдать за ними. Но вот они оказались напротив кедра, что рядом с изюбром, его ствол скрыл их от глаз животного. Теперь надо осторожно, бесшумно продвигаться прямиком к цели. Авось удастся обмануть.
— Присядем, подумаем, как это лучше сделать, — почти неслышно прошептал Бударин, хотя до изюбра было метров двести. Он вытер пот с лица: в лесу было жарно, устало опустился на корень возле самого ствола кедра. — Давай сделаем так, — продолжал он шепотом. — Ты пойдешь в том же направлении, в котором мы до сих пор шли, чтобы отвлечь его внимание. Проверим, умеет ли он считать до двух. А я буду подползать к нему под укрытием того кедра. Нарви-ка мне папоротника, только тихонечко, чтобы не трещали корни. Я прикрою им лицо и бинокль, когда буду выглядывать из-за стволов.
Пока Сергей нарвал ему пучок папоротника, Бударин бесшумно вложил в казенник мелкокалиберной винтовки пульку «наркоз», удобно примостил ремешок бинокля на шее, прошептал:
— Валяй. Вот в этом направлении, — он показал вытянутой рукой. — И не вздумай поворачивать голову в его сторону, может убежать.
Все это время Гру лежал, укрывшись во впадинке под кедром. Он знал, что иногда лучше затаиться при виде врага, и тот может пройти мимо, не заметив его. Авось не заметят его и эти непонятные двуногие существа. Вот они скрылись. Внимание! Не подкрадываются ли? Уши направлены в ту сторону, где они исчезли, ноздри вздрагивают. Глаза фиксируют малейшее движение. Кажется, нет ничего подозрительного. Но инстинкт подсказывает: осторожность и еще раз осторожность!
Наконец-то! Вот это существо — оно уходит дальше. А где же другое? Беспокойство еще больше охватывает Гру: нужно раздваивать внимание. Это самое трудное состояние для него. Пока смотришь в одну точку, опасность может нагрянуть с другой стороны. В этом случае самое верное — заблаговременно ускакать.
Не успел Гру решиться на что-либо, как почувствовал укол в холку и услышал резкий щелчок. Его будто подкинуло вверх, но в тот же миг передние ноги подкосились, мрак окутал глаза — он уснул.
— Скорее! — прокричал Бударин. — Да прихвати мой рюкзак!
Гру лежал на боку рядом с впадинкой, в которой только что укрывался. Его светло-коричневые бока едва заметно поднимались и опускались. Глаза были закрыты — такое бывает у живого зверя. У мертвого они открыты.
Подбежав к изюбру, Бударин сразу же бросился к пантам. Покрытые мелким ворсом, они сейчас лоснились, будто смазанные маслом. Натуралист внимательно рассматривал и ощупывал каждый отросток. Он насчитал на их нежной кожице три царапины — две уже зарубцевались, а одна еще слегка кровоточила, но уже затягивалась.
— Сфотографируй в упор голову с пантами, — распоряжался он торопливо, — а я сниму с него мерку. Какой великан, какой красавец! — восхищался старый натуралист, доставая рулетку. — Кажется, впервые встречаю такого. Надо повязать ему шею лентой из марли, чтобы потом понаблюдать за ним и чтобы второй раз не попался, — комментировал Корней Гаврилович, обмеривая зверя… Потом он смазал йодом ранку, оставленную пулей на холке.
Наконец все готово: обмер закончен, снимки сделаны во всех ракурсах, на шее Гру красуется отличительная метка — широкая белая лента бинта. Бударин посмотрел на часы.
— Еще пять минут будет под наркозом, — сообщил он. — Посидим, покурим, а заодно понаблюдаем, как он станет просыпаться.
— Корней Гаврилович, давайте помажем ему губы и вибрисы солью, — предложил Сергей.
— А что, ей-богу, дельная мысль! — воскликнул Бударин. — Доставай быстренько: Кстати, посыпь ему и на круп, по крестцу, он свободно достает его языком. Вот удивится, откуда, подумает, такое лакомство?
На десятой минуте Гру сделал первое слабое движение задней ногой. Потом пошевелил ухом, словно отгоняя муху. Натуралисты отошли за кедр и, укрывшись за его стволом, стали наблюдать. Вот изюбр открыл глаза, приподнял голову, но тут же снова склонил ее на землю. Потом он несколько раз подряд глубоко вздохнул — и вдруг как ни в чем не бывало расторопно вскочил на ноги, но закачался, широко расставил передние нош, вяло опустил голову, с силой помахал ею из стороны в сторону. Потом, осторожно высунув язык, прикоснулся к губам и стал с наслаждением облизывать их. Он облизывался долго, стараясь достать все вибрисы — длинные волосы вокруг рта, своего рода усы. Живость движений возвращалась к нему на глазах. Вдруг он резкими движениями ноздрей стал ловить воздух, весь напрягся, глаза расширились… Резкие повороты головы в одну, в другую сторону, и вот он сорвался с места, длинными прыжками пошел вверх по склону. Скоро топот его копыт затерялся в тишине кедрового бора.
В четвертом часу пополудни Бударин и Прохоров достигли гребня Горбатого хребта. Его верхняя отметка, как показывал высотомер, составляла без малого тысячу метров. Перед ними лежала необозримая лесная страна, окутанная синей дымкой, испятнанная тенями редких текучих облаков, расшитая серебряной канителью речек и ключей. Увалы и впадины, долины и конусы сопок, плато и покати — широкие пологие склоны — какая удивительная фантазия природы!
К югу открывался вид на долину реки Моховки и на всю Моховую падь, огромную прибрежную равнину, замкнутую с востока и запада отрогами Горбатого хребта и защищенную с севера самим хребтом. Сюда не проникал холодный ветер, и вся она была открыта солнцу.
По верхней кромке хребта тянулась почти сплошная цепь обнаженных гольцов и осыпей. Бударин и Прохоров прошли по гребню почти километр. На обратном пути на одной из голых террас они обнаружили множество похожих на глиняные шарики катышков изюбров. Значит, это место посещается изюбрами. Здесь натуралисты и оставили соль, рассыпав ее на площади в две-три сотни квадратных метров.
Уже затемно они вернулись на свой бивак на Черемуховой релке. Кузьмич и Юрий Квашнин уже были на месте. Они сидели у костра, над которым кипел в котле душистый суп из глухарей — охотник подстрелил в походе двух крупных петухов.
— Богатейшие места! — восхищенно говорил Кузьмич. — Зверя много. Двух куниц видели, несколько следов росомахи.
— За нами, кажется, следил тигр, — сообщил Юрий.
— Да нет, это тебе показалось, Юрка, — отмахнулся старый охотник.
— Ну вот, не верит Евстафий Кузьмич, — Юрий обращался к Корнею Гавриловичу, — своими же глазами видел, как он промелькнул позади нас! Желтый бок его видел…
— А следы? — спросил Бударин.
— Никаких следов не нашли, — ответил Кузьмич.
— Разве их найдешь! — с жаром возразил Юрий. — Там же сплошной лист и мелкая трава. Да мы их и не искали как следует!
— Отмахиваться от этого предположений не следует, Кузьмич, — заметил Бударин. — Лучше перестраховаться в таком случае. Что тут тигр есть, вещь вполне допустимая. Мы встретили стадо диких кабанов, — сообщил он в свою очередь. — Ходить будем только по двое, и на двоих обязательно брать один карабин.
В этот вечер они не засиживались у костра. Смертельно усталые, уснули, едва добравшись до постелей.
ЗАБОТЫ АМБА-ДАРЛЫ
Даже находясь в своей лежке, Амба-Дарла видит и слышит почти все, что делается вокруг. По разнообразным шорохам, крикам птиц, треску веток, чьему-то посвисту, по запахам, по полету птиц он знает о многих событиях, которые происходят в Моховой пади. Он всегда знает, где примерно пасется Большая семья, слышит и чует росомаху и медведя, когда они появляются где-то поблизости, слышит и чует, когда кто-нибудь из хищников задавил жертву. Он не вмешивается в дела своих соседей, за исключением тех случаев, когда в округе появятся волки; их он либо изгоняет, либо уничтожает. Обычно он покидает свою лежку, только когда начинает чувствовать голод. Но и отправляясь на охоту, он делает все, чтобы оставаться незаметным. Тогда под его лапой не хрустнет ни одна ветка, не зашелестит ни один листок. Он скользит в зеленой чаще леса, подобно тени.
Сейчас Амба-Дарла не собирался на охоту. Накануне он задавил самку изюбра, но не съел даже половины туши и теперь сыто дремал. Но незадолго до рассвета его чуткий слух уловил со стороны кедрового бора подозрительный звук: там кто-то дико храпел, рычал, кто-то за кем-то гонялся, кто-то с кем-то бился в смертельной схватке. Ничего подобного он до сих пор не слышал по ночам в Моховой пади. Затаив дыхание, и высоко вскинув голову, Амба-Дарла весь превратился в слух, глаза его зорко всматривались в предрассветный сумрак. Вот его слух уловил характерный клокочущий короткий рык. Волки! Серые разбойники напали на Большую семью!
Забыв о всякой осторожности, Амба-Дарла легким прыжком выскочил из своей лежки и длинными скачками понесся сквозь заросли…
Стоит задуматься над тем, почему почти все хищники охотятся не днем, а ночью. По-видимому, это самое добычливое время. Существует выражение «куриная слепота». Это название болезни, которая проявляется в том, что человек плохо видит с наступлением сумерек. Происходит это от недостатка витамина С. Куриной слепота называется потому, что куры перестают видеть, как только стемнеет. Вероятно, многим птицам из семейства куриных, живущим в диком состоянии, она тоже свойственна. Далее, иные из копытных пасутся днем, а ночью спят, а стало быть, утрачивают бдительность. Все «спящие» пернатые и четвероногие становятся ночью легкой добычей хищников. Ночная охота выгоднее дневной, но для нее нужно уметь видеть в темноте. И хищники обладают этой способностью. Иные ночные охотники видят ночью ничуть не хуже, чем днем. Это кошачьи и совиные.
Тем временем на краю кедрового бора происходили поистине трагические события. Серых разбойников было пятеро: старая чета и три молодых волка. Они пришли откуда-то с юга, с левобережья Моховки, преследуемые давней подругой Амба-Дарлы, тигрицей Мяуа. Они оторвались от грозной преследовательницы два дня назад, все это время бежали изо всех сил и порядочно отощали, так как почти не ели. В середине ночи они переправились через Моховку километрах в трех ниже Черемуховой релки и вскоре напали на свежие кабаньи следы. Их оставили Ухуру и пасшиеся рядом с ним молодые секачи. Как всегда к ночи, Большая семья собиралась вместе и укладывалась спать бок о бок в большом общем гайне, удобной впадине, предварительно разрыв дерновину.
Именно сюда и привел Серых разбойников свежий кабаний след. Голод и алчность притупляют «рассудок» у волка. Наткнувшись на гайно, предводитель стаи, старый самец, с ходу кинулся на первого крайнего кабана. За ним последовали остальные волки. Но этим кабаном оказался сам Ухуру. Его бока и загривок покрыты настоящей броней, которую не всегда берет даже картечь: в этих местах у кабана самая толстая кожа, да еще покрытая мощной дремучей щетиной с плотным, свалявшимся в панцирь и пропитанным сухой грязью подшерстком. Против этого панциря бессильные даже клыки-ножи секачей во время брачных битв.
Завязалась отчаянная схватка.
Большая семья спросонья не сразу разобралась, что происходит. Весенние поросята носились вокруг в поисках матерей, волчица хватала их и остервенело рвала, душила. Подсвинки и молодые секачи бросились кто куда. На одного из подсвинков успела насесть волчица, но тот оказался довольно сильным и расторопным. Началась борьба. Несколько раз подсвинок вырывался из зубов ослабевшей от раны хищницы, но в конце концов ей удалось сомкнуть челюсти на горле жертвы.
Между тем Ухуру сумел сбросить со спины вожака стаи и, получив свободу, ринулся на одного из переярков, самого назойливого. Ловким, стремительным ударом он насадил его на клык, кинул через себя, располосовав ему живот. Теперь бы в самый раз удирать, но старый волк снова оказался у него на спине.
В эту минуту и появился Амба-Дарла. Еще издали он разглядел старого волка на спине Ухуру и нацелился на него. Серый разбойник, ослепленный голодом, обнаружил опасность, когда его и тигра разделял какой-нибудь десяток метров. Он успел лишь сделать один прыжок в сторону, когда на него обрушились когтистые лапищи. В следующую секунду могучие клыки впились ему в хребет. Амба-Дарла поднял волка в воздух, с ожесточением тряхнул и загрыз его. Точно так же тигр поступил с двумя другими переярками, которых смертельно ранил Ухуру.
Потом началось преследование волчицы и последнего переярка. Серые разбойники уходили тем же путем, каким пришли сюда. Путь пролегал через Моховую падь, через кустарники, густой подлесок, буреломы, среди которых волкам легче укрыться. Но что Серые разбойники в тайге по сравнению с Великим пастухом! Их родная стихия — открытые просторы или негустые перелески. Поэтому, как ни изощрялись они, выписывая зигзаги на бегу, Амба-Дарла не отставал от них.
Неподалеку от Моховки, там, где находится гнездовье орланов, Амба-Дарла стал настигать волчицу. Рана, нанесенная клыком секача, делала свое дело — хищница начинала ослабевать в беге. Переярок не бросал ее, он был еще недостаточно смышленым, чтобы самому выбрать путь спасения.
Добежав до речки, волки бросились в воду и поплыли на ту сторону. Но куда им состязаться с Амба-Дарлой в искусстве плавания! Волчица не успела доплыть до левого берега, как на ее спину обрушился удар тигриной лапы. Она исчезла под водой и больше уже не всплыла.
Опасность придала прыти переярку. Почувствовав под ногами дно, он помчался скачками. Вскоре он оказался на берегу и во весь дух припустил в заросли тальника. Но Амба-Дарла не преследовал его. Он повернул назад.
Памятуя о Человеке на Черемуховой релке, он не стал спрямлять путь, чтобы не проходить вблизи бивака. Неторопливо переплыл Моховку, вдоволь полакал воды — после битвы с волками его палила жажда — и двинулся в сторону кедрача. Где-то посреди Моховой пади, бесшумно ступая своими мягкими лапами, он вдруг замер на месте: Человек! Только он может издавать такие звуки, напоминающие глуховатый говор ручья, только один он может так ходить: под ногами трещат палки валежника, шуршат ветки и трава.
Амба-Дарла был настолько же осторожен, насколько хитер. Прежде чем решить, куда уходить, нужно разобраться в том, куда направляется Человек. Тигр прилег на живот, весь укрывшись в траве, и настроил чуткий слух только на Человека. Ничего нельзя понять! Вот звук шагов стал удаляться в сторону кедрового бора, но, не затихнув совсем, снова стал усиливаться: Человек повернул назад. Амба-Дарла нервничает, кончик хвоста чуть подрагивает. Кинуться наутек? Но как-то не пристало это ему, лесному владыке. Гораздо спокойнее чувствует он себя, когда незамеченным находится за спиной опасного противника. А Человек все менял свой маршрут. Один раз он чуть ли не вплотную подошел к укрытию Амба-Дарлы — старый тигр уже напряг мускулы, чтобы вскочить и броситься наутек. Но звук шагов круто повернул влево от него и стал удаляться. Тогда Амба-Дарла пристроился ему вслед. Он ходил по пятам Человека почти весь день и лишь под вечер подался к своему логовищу.
Юрий Квашнин был прав, утверждая, что видел тигра. Через несколько дней Кузьмич сам убедился, что в Моховой пади обитает тигр.
Двигаясь по следам Серых разбойников, через два дня после описанных событий в Моховую падь пожаловала давняя подруга Амба-Дарлы тигрица Мяуа. Она быстро нашла след тигра и на рассвете объявилась у самого его логовища возле Барсучьего ключа. Амба-Дарла заслышал знакомые шаги, когда Мяуа была метрах в ста от него.
Уссурийский тигр ведет, как правило, одинокий образ жизни, руководствуясь, должно быть, простой мудростью: одному больше достанется. Но приходит пора, когда он испытывает потребность в брачном свидании. Трудно сказать, случайно или преднамеренно происходят такие свидания. Во всяком случае они бывают тогда, когда возникает необходимость в них.
О своем появлении Мяуа предупредила Амба-Дарлу тихим и коротким «мур-рау». Амба-Дарла тотчас же вскочил и подбежал к ней. Они долго обнюхивали друг друга и тихонько фыркали.
Конечно же, они о чем-то разговаривали в эту минуту. Но о чем? Может быть, Мяуа поведала другу печальную историю, которая произошла с ней минувшей зимой?
А случилось вот что. Мяуа с двумя почти годовалыми детенышами была Великим пастухом у кабаньего стада, что паслось в долине реки Катэн. Однажды она обучала тигрят охоте на подсвинков. Устроив вместе с детенышами засаду на пути, по которому двигались кабаны, она вместе с ними набросилась на крупного подсвинка и мгновенно сбила его лапой с ног. Пока тигрята расправлялись с ним, она погналась за вторым, быстро нагнала его и задавила. Не успела семья закончить трапезу, как Мяуа услышала человеческие голоса, а затем лай собак. А вот и они сами — целая свора. Они мчались прямо на тигрят. Мяуа бросилась на выручку, но неподалеку сверкнул Огонь и раздался ужасный треск. Ничего подобного она никогда не слышала; в ушах у нее поднялся звон. Мяуа так перепугалась, что забыла о малышах и стала убегать. Позади нее снова несколько раз треснуло. Теперь она убегала уже без оглядки, а треск позади все повторялся и повторялся.
Только поздней ночью, когда в тайге стыла глухая, морозная тишина, Мяуа неслышно прокралась к тому месту, где оставила детенышей. Снег повсюду здесь был изрыт, истоптан, в нем еще сохранились родные запахи тигрят, перемешанные с другими, непонятными, а потому пугающими. Это была не первая встреча тигрицы с такими запахами. Мяуа знала, что принадлежат они самым опасным ее врагам — Человеку и собакам.
Долго вела Мяуа их след. Она вынюхивала следы тигрят, но не находила. Наконец уловила. Две небольшие вмятины в снегу. Это в них остался запах. И снова неслышно ступает она по страшному следу. Вот он стал спускаться по откосу сопки к реке. Поворот за выступом, и Мяуа замерла: впереди большой красный глаз — Огонь. Нет, она не пойдет дальше. До сих пор ее еще колотила дрожь страха. Она вернулась к месту, где оставила детенышей, и трое суток пролежала там, раскопав в снегу логовище. Она дышала запахами детенышей, пока обоняние улавливало их.
…Мяуа пробыла в гостях у Амба-Дарлы недолго. Уже в первый вечер она обнаружила костер и Человека на Черемуховой релке. Знакомое чувство страха снова нахлынуло на нее. Как ни старался Амба-Дарла сделать вид, что никакая опасность не угрожает им, Мяуа через двое суток покинула Моховую падь. Амба-Дарла остался в своем логовище. Ему не хотелось расставаться с богатыми владениями. Тем более что он знал по опыту: рано или поздно, а Человек все равно уйдет отсюда.
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ЧФЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В середине июня, раньше обычного, потомство овдовевшего Чфы начало самостоятельно добывать себе пропитание. Быстро подрастая и становясь все прожорливее, барсучата настолько изголодались на скудных приношениях измученного родителя, что у самых слабосильных остались кожа да кости.
И вот, совсем еще несмышленыши, барсучата стали с каждым днем все дальше уходить от норы. Они набрасывались на каждую бабочку, на жуков, выкапывали съедобные корни, клубни, а попутно и земляных червей, снимали со стеблей улиток, ели зелень. За великое счастье почиталось поймать лягушку или мышь.
Но запас кормов вблизи норы, и без того бедный — потому что здесь из года в год паслись предшествующие поколения обитателей норы, а также сами родители, — быстро иссяк. Голод гнал барсучат все дальше от убежища. И вот уже двое из них не вернулись с охоты: они сами стали добычей пронырливого Буги. Через несколько дней, когда Чфы повел свою голодную ораву к Моховке, на обильные корма, третьего унес Белохвостый К лек. Наконец, еще — один, слишком беспечный, припозднившись на охоте, попал в лапы Мяуа, когда она после свидания с Амба-Дарлой вышла знакомиться с окрестностями.
Так за каких-нибудь полмесяца потомство несчастного Чфы сократилось наполовину. И хотя оставшиеся в живых кое-как прокармливали себя, они все-таки оставались еще несмышленышами в этом большом и сложном мире, в котором тебя на каждом шагу подстерегает опасность. Поэтому Чфы сам предводительствовал своим отрядом во время охотничьих походов.
В одну из таких вылазок Чфы повел щенков на Черемуховую релку. Накануне он забегал туда и обследовал в отсутствие людей территорию бивака. Там он поживился кухонными отбросами и теперь решил угостить ими своих отпрысков. Они пришли туда под вечер. Вкусные запахи ошеломили барсучат. Они обшаривали каждый клочок земли возле кухонного очага, подбирая съедобные крошки, иные пробовали проникнуть в палатку, безуспешно подкапываясь под края полога. Один из них, наиболее расторопный, нашел неподалеку от очага пустую стеклянную банку из-под консервов, обнюхал ее. Увидел внутри нее крупного жука, попытался вытащить его лапой — ничего не получилось. Тогда он с трудом просунул в банку голову, но и теперь не смог достать добычу — мешали плечи.
Он не сразу понял, что случилось. Сначала он пятился назад, волоча за собой банку. Потом стал размахивать головой, но и таким способом не смог освободиться. Тогда он завизжал во весь голос, оглушил сам себя криком, стал судорожно метаться. На крик прибежал отец. Но чем он мог помочь? Он бегал вокруг щенка, нюхал его, пытался бить лапой по банке. Наконец, додумался — ухватил барсучонка зубами за хвост и поволок его. Но барсучонок упирался лапами, бороздил землю и еще пуще визжал. Сбежались все остальные барсучата, иные даже развеселились, видимо, приняв происшествие за игру.
Неизвестно, чем бы все кончилось, не появись хозяева бивака. Первым их обнаружил Чфы. По его тревожному «урр!» барсучата разбежались кто куда, а сам Чфы метнулся в заросли черемухи.
Всего этого не видел и не слышал попавший в беду малыш. Ослепленный и оглушенный, он пятился сейчас прямо на людей.
— Что за чудо? — изумился Корней Гаврилович, разглядывая странное существо, составленное из зверька и консервной банки.
— Неудачная встреча с цивилизацией, — смеясь, заметил Сергей Прохоров. — Один — ноль в пользу цивилизации.
— Бедняга, как же это тебя угораздило? — С этими словами старый натуралист сбросил с плеч рюкзак, присел на корточки возле мечущегося зверька. А тот, ничего не видя, все ближе подвигался к его ногам. Наконец, уперся в ступню, сел на нее и стал в отчаянии мотать головой.
Корней Гаврилович осторожно взял его поперек туловища, барсучонок стал сучить лапками, стараясь вырваться из рук.
— Тише, тише, бесенок, — приговаривал натуралист, пробуя, крепко ли сидит на шее банка. — Тебе добра желают. А ну, Сережа, берись за банку, попробую вытащить его… Потерпи, дружок, потерпи немного. Раковины ушей мешают, надо придавить их. Быстренько сломи рогульку в палец толщиной, да чтобы концы как раз приходились на уши.
Получив это нехитрое приспособление, Корней Гаврилович просунул рогульку вдоль загривка барсучонка, придавил ею ушные раковины, и голова зверька постепенно вылезла из горловины банки. Барсучонок стал биться, вырываться, потом цапнул Корнея Гавриловича зубами за рукав.
— Ах, неблагодарный какой. — Старый натуралист взял его за загривок, ласково потрепал. — Ну, что будем делать с ним?
— Посадите его в клетку из-под норок, Корней Гаврилович, — предложил Сергей, — попробуем приручить.
Возле бивака натуралисты прочитали по следам подробности визита барсучьего семейства.
— А ведь они могут тут нашкодить нам, — высказал опасение Корней Гаврилович. — Нужно, пожалуй, поставить клетки-ловушки. Все равно ведь надо отлавливать для зооцентра. А тут сами жалуют.
…Чфы не скоро собрал свое семейство. Только в сумерки к нему прибились четыре барсучонка. Он повел их к завали, где обитала Эдуни: там обычно по весне нерестились в болотцах лягушки, теперь из икры вылупились головастики, а это тоже неплохая еда. И он не ошибся. К полуночи отпрыски были сыты, и заботливый отец, соблюдая все меры предосторожности, благополучно привел их домой. Отбившийся барсучонок так и не пришел под родительский кров, видимо, кто-то поймал его, а возможно, он заблудился и завел собственное убежище.
Так из всего выводка у Чфы осталось лишь четыре детеныша. С каждым днем они заметно подрастали и становились все более самостоятельными. Они все чаще отправлялись на промысел в одиночку или по двое, и Чфы все меньше приходилось заботиться о их пропитании.
Но теперь появилась новая забота: нужно было найти себе подругу. Скучно жить бобылем. Целыми ночами рыскал он по Моховой пади, отыскивая знакомый запах. След привел его на край кедрового бора, и там обнаружилось под корнями старого кедра логовище той, которую он искал. Хозяйки не было дома. Она явилась с охоты перед рассветом и не возражала, когда он последовал за нею в убежище. А в сумерки он повел подругу восвояси. По пути они закусили несколькими мышами, а в полночь уже залезали в нору Чфы. Гостье так понравился дом нового знакомца, что она больше не покидала его.
Барсучатам теперь приходилось ютиться не в главном зале, мягко устланном лесной ветошью, а в проходе норы, на голом полу. Первое время барсучиха только иногда рычала на них, потом стала слегка покусывать, потом начались потасовки. В конце концов мачеха выдворила пасынков из жилья.
Как-то раз Чфы решил сводить свою новую подругу на бивак. Там теперь, наверное, накопилась бездна кухонных отбросов. Они пришли туда ночью, когда люди спали. Чфы сильно перетрусил, почуяв человеческий запах и храп спящих, но тут он услышал знакомое жалобное «урр»… Барсучонок! Впервые в жизни столкнулся Чфы со столь странным убежищем — и не нора, и не бурелом. Сквозь сетку они пошептались нос к носу, и отец заметался вокруг: как забраться к сыну? Почему он не вылезает? Как выручить его? Он вертелся вокруг клетки, заодно вынюхивая съестное. Чу, приятный запах свежей рыбы! Откуда он? А, вот он, ящик. Это из него идет запах. Обежав ящик кругом, Чфы нашел лаз, юркнул туда, и, о счастье, целая рыбина! Чфы мгновенно впился в нее зубами. Стук, раздавшийся позади, испугал его, он бросился назад, но… увы, выхода не было.
Так бывалый, опытный барсук очутился в неволе. «Два — ноль в пользу цивилизации», — повторил наутро Сергей Прохоров, когда люди обнаружили пленника в клетке.
Через полмесяца клетка с двумя барсуками была доставлена вертолетом на ближайшую базу зоологического центра. Отсюда отловленных зверей отправляли в зоопарки.
Сколько страхов испытал Чфы в этом путешествии!
Звери так же различны по характеру, как домашние животные и как люди. Крестьянину хорошо известно, что его буренки и пегашки, курочки-рябы и кошки-мурки, шарики или барбосы и пети-петухи не бывают схожи характерами со своими предшественниками. Конники и собаководы знают характер животных лучше, чем кто бы то ни было, и великолепно используют особенности нрава лошадей и собак для воспитания из них незаменимых помощников Человека.
Чфы отличался мужественным и гибким характером, умел переносить голод и прочие житейские неудобства. Но он часто впадал в состояние уныния и полнейшей апатии, и по этой причине ему случалось принимать опрометчивые решения. Очутившись в неволе, он сначала вел себя довольно агрессивно, рычал и фыркал на людей, когда ему приносили корм, сломал два зуба, пытаясь прогрызть клетку, иногда часами метался из конца в конец своей камеры, стараясь размять немеющие мышцы. Его однообразный быт скрашивало разве только присутствие сына. Забота о его благополучии наполняла содержанием его жизнь. Чфы ласкал сына, даже затевал с ним игры и легкие потасовки.
Но вот началось что-то вовсе непонятное: все под ним стало качаться, окружающее плавало из стороны в сторону и сверху вниз; потом ужасный грохот, который, кажется, разрывал на части все внутренности барсука. Не прекратись этот ад, Чфы, наверное, не выдержал бы — умер. Две миски воды выпил он, когда почувствовал под собой твердую землю. Правда, вода оказалась скверная, не такая, как в Моховой пади.
А потом Чфы очутился почти рядом с родственником росомахи Буги и чуть не сошел с ума от страха. По другую сторону смотрела на него своими злыми зелеными глазами какая-то родственница кровожадной рыси Фуры. Назавтра по соседству появилась за решеткой молодая барсучиха и немного скрасила унылое времяпрепровождение Чфы. Здесь же неподалеку жили сородичи изюбра Гру и выдры Ласы, кабарги Элхи, медведя Мугу-плешивого и куницы Харзы. Появились и другие его знакомые соседи по Моховой пади.
Не все они выжили в новой для них обстановке. Не болезни и голод скосили их — убивал страх, вызывающий нервный шок. Из каждых трех, как правило, погибали двое. Погибли тигр, кабарга, кабан. И если все-таки выжил изюбр, сородич Гру, то тут проявилось особое искусство Человека: изюбра дважды окружали, почти брали в плен, а потом отпускали. Так он постепенно привык к Человеку. И когда его окружили в третий раз и все-таки пленили, он уже не боялся так, как прежде.
На базе зооцентра Чфы провел месяц. Но пришел день, и его снова стало качать и кидать, снова его мучила жажда. Ему не хватало воздуха, он потерял счет времени и уже стал безразличен ко всему, уйдя в себя, как вдруг новая перемена — перед ним впервые открыли дверцу клетки. Не сразу сообразил Чфы, в чем дело. Высунул мордочку, понюхал воздух, огляделся. Слева небольшое озерко, справа скала, очень похожая на ту, что была рядом с норой Чфы на родине. Да там же и нора! Его будто магнитом потянуло к ней. Принюхался. Знакомый барсучий запах! Расстояние до норы метра два. Чфы огляделся и увидел там и тут за озерком людей. Он давно привык видеть их, но страх перед ними до сих пор не покидал его: от них всего можно ожидать. Эх, была не была! Чфы тихонько сказал сынку: «Урр» — и поскакал к норе. Вот оно, наконец, родимое убежище. В нем почти все сделано так, как было там, у Барсучьего ключа. И даже готовая, видимо, забытая кем-то еда! Барсуки сытно пообедали и впервые почти за месяц всласть отоспались на воле. Ночью вылезли из норы и, не обращая внимания на бледноватый свет электрических лампочек, к которому давно привыкли, долго лакали воду, а потом сидели на берегу озерка, отдыхали и время от времени переговаривались на своем языке, обсуждая то, что наблюдали окрест.
Жизнь постепенно входила в норму. Стесняли малые размеры вольера. Но в сравнении с тесной клеткой это было совсем неплохо. К людям барсуки постепенно привыкли и перестали обращать на них внимание. Главное есть надежное укрытие, куда можно каждый миг юркнуть, вдоволь еды, озерко рядом, из него можно в любую минуту полакать воды.
А вскоре еще один сюрприз: в норе появилась та самая молодушка, что еще недавно сидела рядом в клетке. Итак, Чфы снова завел себе убежище, и опять у него была подруга. Начиналась его новая жизнь — в зоопарке.
ЛЕСНОЙ НЕБОСКРЕБ
Белохвостый Клек, остерегаясь Человека, все это время охотился где-нибудь подальше, на стороне. Чаще всего он с утра улетал в урочище Крутые отроги и там среди широкой поймы Моховки, возле устьев ключей выслеживал добычу. Вернувшись как-то с крупной рыбиной в когтях и положив ее перед орлицей, он услышал писк. Супруга спокойно поднялась на своих могучих лапах, осторожно шагнула на край гнезда, несколько раз поклонилась орлану, как бы говоря: «Смотри!» На дне гнезда лежали три желто-белых пуховичка-уродца: неуклюжих, с большими, шишкастыми головами и непомерно большими подслеповатыми илисто-мутными глазами. По краям рта у каждого ярко желтели острые дужки наростов, будто орленок только что поел яичного желтка и еще не успел вытереть клюв. Белохвостый Клек долго смотрел на новорожденных, низко опустив к ним голову, как бы стараясь в чем-то удостовериться, потом высоко поднял голову и победно проклекотал.
Тем временем орлица отрывала клювом мелкие кусочки рыбины, придавив ее лапами, и аккуратно подавала их детенышам. Те с жадностью хватали еду широко раскрытыми ртами и, кланяясь, длинно вытягивали шеи, словно благодаря мать, с трудом проглатывали ее.
В этот день они впервые за многие недели вместе улетели на промысел — Белохвостый Клек и его супруга. Орлица изрядно отощала за эти тридцать семь суток, пока высиживала птенцов, и теперь набрасывалась на каждую мелочь, будь то лягушка, снулая рыбешка или опрометчивая мышь, рискнувшая выбежать на открытый берег речки. Пока орлица кормилась, Белохвостый Клек доставлял детенышам еду — сперва крупного ленка, а потом молодого зайца, пойманного на Черемуховой релке. В этот день орлан особенно внимательно следил за релкой, пока летал к Крутым отрогам и обратно; он видел, когда люди отправились в маршрут, а потом почти не выпускал их из поля зрения, пока они не ушли за два-три километра: опасался за детенышей, оставленных без присмотра. Тут-то он и заметил косого, появившегося неподалеку от бивака.
Появление птенцов добавило орланам множество новых хлопот. Надо присматривать, чтобы их не украли Харза или Фура или кто-нибудь из разбойной шайки старого Карра (эти воры и пройдохи на все способны!). Надо остерегаться Человека и в то же время добывать еду для трех новых ртов. А между тем орлята развиваются очень медленно и только на третьем месяце начинают летать. И все это время они очень прожорливы, кажется, каждую минуту пихай им в глотки еду, и они все равно будут голодными.
Да, не на голом месте вырастает орлиная сила. Это только маленькая пичужка в какие-нибудь две недели поднимается на крыло, но она так и остается всю жизнь пичужкой.
А за неделю до этого вывелись три птенца и у коршуна Тини, и чета коршунов тоже усиленно охотилась.
Между ними и орланами теперь возникали ссоры, в которые часто ввязывалась и ватага старого Карра.
Между орланами, коршунами и черными воронами существовали сложные отношения. Все они «владели» угодьями по берегам Моховки. Орланы охотились на всей этой территории да еще забирались вверх и вниз по течению Моховки километров за десять. Коршуны занимали участки километра на два ниже и выше Черемуховой релки. Что касается ворон, то два их семейных гнездовья раскинулись чуть выше Барсучьего ключа, и там они обычно промышляли, хотя, случалось, долетали до Крутых отрогов и до нижней окраины Моховой пади. Семьи ворон насчитывали до десятка птиц и были чрезвычайно прожорливы. Там, где они обитали, не могла спокойно вывести потомство ни одна из более или менее крупных птиц: ни утка, ни цапля, ни выпь, ни даже голубая сорока, не говоря уже о рябчиках или глухарях. Яичная скорлупа, в изобилии разбросанная там и тут по берегам и откосам Моховки вблизи поселения ворон, красноречиво свидетельствовала о их разбойничьей деятельности. А если к этому прибавить еще птенцов и детенышей четвероногих, украденных воронами, то станет ясно, какие опустошения производили они в окрестностях.
Когда у Белохвостого Клека и его супруги только еще вывелись птенцы, а у коршунов коршунята уже оперялись и вот-вот должны были подняться на крыло, вороньи птенцы уже настолько выросли, что начинали первые вылеты из гнезда, а скоро и вообще научились самостоятельно добывать себе корм. А вывелось их у двух пар в общей сложности девять новых ртов. Пока что они не улетали далеко от своих гнезд, ню скоро придет день, когда они начнут обшаривать всю Моховую падь. Теперь орланам надо следить да присматривать за своими беспомощными и доверчивыми отпрысками.
При этом вороны не пускают в свои владения ни Тиню, ни Белохвостого Клека, атакуют их с оглушительными воплями: «Kаpp!» А сами залетают во владения и коршунов, и орланов. Вместе с тем стоит орлану появиться во владениях Тини, как оба коршуна набрасываются на него и будут пикировать сверху до тех пор, пока не прогонят прочь. Только Белохвостый Клек остается равнодушным и к воронам, и к коршунам, когда они появляются где-нибудь неподалеку от его гнездовища. 0,н выше их скаредной мелочности. Но горе тому, кто дерзнет вплотную приблизиться к старому кедру — родному дому орланов. Уже не один черный вор сложил тут свои кости, когда высматривал, что бы украсть.
Все эти ссоры между жителями третьего этажа происходили на глазах у людей.
— Орлица стала вылетать из гнезда, значит, вывела потомство, — определил старый натуралист.
По его заданию Юрий Квашнин вел календарь наблюдений. Каждый вечер все, кто заметил что-либо интересное, сообщали ему, и в журнале появлялась соответствующая запись.
Как-то после ужина, просматривая при свете керосиновой лампы журнал, Корней Гаврилович заметил:
— Очень любопытно! Вот что, Юра, тебе важное задание: подобрать подходящее дерево неподалеку от гнезда орланов, да такое, чтобы оно было выше гнезда, замаскироваться на макушке и понаблюдать с биноклем и фотоаппаратом за тем, что там происходит. Три дня подряд. А тебе, Серега, — обратился он к Прохорову, — нужно сделать то же самое в районе гнездовищ черных ворон.
Утром Юрий Квашнин очень скоро отыскал место для наблюдательного поста. Это была громадная, старая-престарая ель с могучей конусообразной кроной. Она росла в какой-нибудь сотне шагов от кедра, где гнездились орланы, а ее макушка метров на пять возвышалась над гнездом. Помня о феноменальной зоркости орланов, молодой натуралист старался ничем не выдать своего присутствия. Он подобрался к ели со стороны подножия Горбатого хребта и, когда в просветах орешника разглядел впереди заветный кедр с гнездом на макушке, затаился. С полчаса не спускал он глаз с гнезда, но не заметил в нем ни единого движения. Но вот в воздухе показался парящий орлан. Он сделал круг над кедром, держа в когтях рыбину. Потом плавно опустился и исчез в углублении-лотке. Он оставался там недолго, вскоре вылез на край и минут пять сидел, встряхиваясь, перебирая перья, зорко оглядываясь вокруг. Наконец снова взлетел, широкими взмахами стал уходить ввысь и скоро скрылся вовсе.
Юрий стал бесшумно карабкаться на ель по частым сучьям, как по ступенькам лестницы. Он с нетерпением ожидал, когда покажется гнездо: что в нем, как оно выглядит сверху? Но прежде чем ему удалось добраться до уровня гнезда, в небе вновь появился орлан, видимо, другой. Пришлось вновь затаиться, укрывшись за стволом ели. На этот раз орлан находился в гнезде дольше. У Юрия совсем занемели ноги, но он сидел неподвижно, терпеливо дожидаясь, пока орлан улетит. Еще несколько метров вверх, и вот перед молодым натуралистом захватывающая картина — жилище владыки неба…
Юрий читал, что орланы, селящиеся на деревьях, строят крупные гнезда. Что ж тут особенного, раз крупная птица, значит, должно быть и крупное гнездо. Но то, что он теперь увидел, поразило его. Сооружение представляло собой добрый воз хвороста около полутора метров в диаметре. Оно покоилось на самом верхнем развилке усохшей макушки кедра и походило на опрокинутую копну, только не из сена, а из мелких палок. Верхняя площадка гнезда была несколько шире его нижней части и нависала по краям. В самом ее центре виднелась небольшая впадинка — лоток гнезда. В бинокль отлично были видны три орленка-пуховичка — они спали под жарким солнцем, сбившись в комок.
Юрий долго изучал это громоздкое сооружение, стараясь разгадать замысел его проектировщиков и строителей. Несомненно, мощная нижняя часть гнезда служит для защиты от самых опасных врагов орланов. Ни один даже самый цепкий зверь не сможет пробраться в гнездо по стволу снизу, ему просто не за что ухватиться. Но если он даже сумеет преодолеть гладкий вертикальный ствол, то его остановят нависающие, как карниз крыши, края гнезда. А огромная верхняя площадка — единственная жилая территория семьи орланов; здесь они могут разделывать любых размеров добычу, отдыхать всей семьей.
Но почему же в таком монументальном сооружении при относительном совершенстве «замысла» и исполнения, не предусмотрена крыша над головой? Ведь даже грачи, особенно жарким летом, строят «тент» над гнездом, чтобы уберечь детенышей от солнца. А тут гнездо открыто и палящим лучам солнца, и ливню (бывает же и град!), и ураганному ветру, нередко случающемуся здесь перед грозой, который может как перышки сдуть орлят из гнезда!
Размышляя над этим, Юрий пришел к следующему выводу: жизнь орланов требует спартанского воспитания. Чтобы детеныши превратились со временем в истинных владык неба, они должны стать сильными и выносливыми. А для этого пусть они растут под открытым небом, испытывают жар солнца, узнают силу ветра (на то и когти у них, чтобы держаться!), переносят холодный душ ливня. И тогда никакие невзгоды не будут страшны им!
Но было у гнезда одно уязвимое место, явный «инженерный» просчет: большая парусящая площадь сооружения и слишком тонкая опора — усохшая макушка кедра. Наверняка древесину давно уже разрушают жуки-усачи, и придет день, когда ветер сломает макушку. Об этом подумал Юрий, разглядывая в бинокль вершину кедра у основания развилка. Здесь вся древесина была иссечена лесными вредителями, издолблена дятлами и стала даже ноздреватой. Казалось удивительным: как это она до сих пор выдерживает такой груз? Может быть, орланы умеют каким-то неведомым чутьем определять допустимую прочность? Давно ведь известно, например, что в сейомоопасных районах собаки начинают выть, а кони и другие животные мечутся и даже убегают из селений уже за сутки до катастрофического землетрясения.
Занятый своими наблюдениями и раздумьями, Юрий не замечал, как бежит время, и даже как-то не чувствовал боли в онемевшем теле. Он сидел в самой гуще веток, неподалеку от макушки ели, примостившись верхом на двух соседних ветках и опершись спиной о ствол дерева. На шее у него висели бинокль и фотоаппарат с телеобъективом, из-за пазухи торчала тетрадь с привязанным к ней карандашом. Он фотографировал прилет орланов, кормление птенцов, отлет, отмечал время появления родителей с добычей.
А родители работали в этот день до седьмого пота. За день они принесли семь гадюк, десятка полтора лягушек, с десяток рыбин. Это только детенышам. Видимо, столько же, если не больше, они съели сами. Юрий безошибочно отличал орлицу от орлана: она была чуть поменьше супруга, а главное, более искусно кормила птенцов. Однажды она, должно быть намеренно, бросила в лоток гнезда живую гадюку. Что тут началось! Сначала орлята пятились от змеи, извивавшейся длинной плетью по гнезду. Орлица несколько раз прикоснулась к ней клювом, как бы показывая, как нужно поступить с добычей. Наконец, орлята ухватили змею за голову и за хвост и разорвали ее посредине. Орлица, настороженно наблюдавшая за сражением, прижала мертвую гадюку когтями, стала отрывать от нее куски и раздавать их птенцам.
Дважды за этот день в отсутствие орланов возле их гнездовища появлялись вороны. Судя по размерам и более светлому оперению, это были молодые. Но стоило им покружиться с минуту около гнезда, как тут же появлялся кто-нибудь из орланов, и воронье поспешно улепетывало с громким «карр! карр!»
Лишь незадолго до заката солнца, когда орланы окончательно устроились на покой, Юрий, уставший до изнеможения, бесшумно покинул свой наблюдательный пост.
Сергей Прохоров наблюдал за гнездовьем черных ворон с удобного уступа на скале, нависающей над Моховкой чуть выше Барсучьего ключа. Случайно он обратил внимание на ворону, которая все время что-то долбила у самой кромки берега на галечнике, в сотне метров от скалы. Приложив к глазам бинокль, он разглядел крупную ракушку-перловицу. Ворона, по всему видно, пыталась раздробить ее. Убедившись в тщетности этого занятия, она взяла ее в клюв и взлетела. Вот она поднялась почти вровень со скалой, на которой лежал наблюдатель, потом резким движением устремилась вниз… В тот же миг ракушка выпала у нее из клюва. Затем хитрая ворона опустилась на то место, где упала ракушка, и стала ее клевать. Ракушка была раздроблена, разбита о камни!
Во второй половине дня Сергей заметил в бинокль небольшую стайку каких-то водоплавающих птиц, которые поднимались по заводям левого берега Моховки, в тени тальников, вверх по течению. Скоро удалось разглядеть их оперение и форму — это была чета мандаринок с выводком пуховичков. Сергей насчитал двенадцать штук. По-видимому, спасаясь от коршунов, заботливые мандаринки перекочевывали в более безопасное место.
Они были уже метрах в тридцати — сорока от наблюдателя и поспешно пересекали довольно широкий рукав реки, когда над головой Сергея раздалось призывное «карр!» и несколько черных разбойников сорвалось с макушек деревьев в лесу.
Мандаринки не сразу почуяли опасность. Вороны были уже рядом, когда уточки испуганно захлопали крыльями и стали метаться вокруг детенышей. Птенцы, словно по команде, исчезли под водой, за ними тотчас же скрылись родители. Однако вороны не улетели — одни продолжали кружить над водой; другие расселись на ближайших кустах тальника. Но вот на поверхность воды, словно поплавки, стали выныривать птенцы-пуховички. Два из них в тот же миг оказались в когтях ворон. Сергей не выдержал, выстрелил дуплетом из дробовика в самый центр роящейся над рукавом ватаги. Одна из разбойниц камнем бухнула в воду, другая свалилась на крыло, стала падать вкось, но зацепилась за тальник и села; остальные разлетелись кто куда. Тем временем мандаринки со своим выводком успели исчезнуть. Куда они девались, Сергей так и не смог определить, наверное, попрятались в заломе, что громоздился на протоке ниже по течению.
КРУШЕНИЕ НЕБОСКРЕБА
Июль, солнечная вершина лета…
Буйствует, неистовствует в своем плодородии все живое. Дни стоят тихие, знойные, лишь изредка разразится гроза с ливнем, со шквальным ветром. А потом снова тишь и зной. Зелень всюду густа почти до черноты, сам лес до того непрогляден, что встань возле куста и будешь гадать: обрыв, колода или затаившийся зверь скрывается за ним.
Все растения сейчас еще в зеленых ягодах, с незрелой мякотью плодов, в нежных рубашках, в неокрепших скорлупках орехов; потомство это еще молодо-зелено, растения отдают ему лучшие соки, и потому оно почти на глазах развивается, созревает.
К июлю выводят потомство многие звери и птицы; оно тоже прямо на глазах растет, развивается, становится самостоятельным. Никогда лес не бывает так густо населен жильцами, как в июле. Их сейчас вдвое, втрое больше, чем обитало в Моховой пади весной. И тем не менее ни одно живое существо не испытывает голода. Мириады насекомых, ранние ягоды, молодая зелень — все идет в пищу.
И вместе с тем в июле природа, как никогда, жестока в своем отборе. Ведь к следующей весне население Моховой пади должно стать примерно таким же, каким было минувшей весной. Молодых в июле так много, они так несмышлены, беспечны и беспомощны в этом жестоком мире, что подчас сами идут в лапы хищников. Поэтому для хищников июль — время кровавых пиров. Охотятся не только взрослые хищники, многие из них начинают приучать, «натаскивать» и детенышей. Они охотятся преимущественно на грызунов и на птиц, гнездящихся на земле, — рябчиков, глухарей. И хотя природа дала птенцам этих птиц быстрые ноги, способность маскироваться, незаметно затаиваться где-нибудь под валежиной или в прошлогодней листве, редко какой выводок сохраняется полностью, пока поднимется на крыло.
Уменьшают численность животных и стихийные бедствия.
Как-то в начале июля, под вечер, за поймой Моховки собралась грозовая туча — черная, с жестко-холодным, синевато-стальным налетом посредине и грязно-дымными лохмотьями по краям. Она завесила небосвод, тяжело легла на горбины и заструги хребтов Сихотэ-Алиня и теперь грозным чудищем ползла по ним к северу, подминая под себя отрог за отрогом, неотвратимо приближаясь к Моховке. Оцепенелая, чреватая скорой бурей тишина опустилась на Моховую падь. Не только птицы, даже лягушки и цикады умолкли. Лишь мириады комаров неистово звенели в горячем, застойном воздухе.
Верхний край тучи уже нависал над Моховкой, когда натуралисты собрались на биваке. Все эти дни они продолжали заниматься «переписью» населения Моховой пади — учетом численности и видового состава четвероногих и пернатых. Одновременно они приманивали мелких хищников к клеткам-ловушкам битыми воронами и рыбой, а затем по следам на влажном песке, рассыпанном по дну клеток, определяли, какие зверьки посещают кормушки. Сторожков — приспособлений для лова зверей — пока не ставили. Натуралистам предстояло отловить куницу, росомаху и, возможно, рысь.
Хотя часы показывали около семи вечера, кругом было сумеречно, почти как в начале ночи. По всей южной половине неба время от времени скакали змейки молний, перекатывался из края в край тягучий грохот грома, отзываясь глухим эхом в амфитеатре Моховой пади.
— Однако надо укрепить палатку, — говорил Кузьмич, с беспокойством поглядывая на небо. — Вон как притихло все, шквальная, видать, туча…
Не успели натуралисты натянуть покрепче растяжки палатки, как за Моховкой стал разрастаться грозный гул. Он быстро приближался. Это катился первый вал ветра. Вот он навалился с ураганной силой на левобережные тальники, положил их жиденькую поросль, выгладил ее так, будто катком прикатал. Потом сатанинский его напор ударил в шеренгу черемух на релке, затрепал кроны, расчесывая их до мельчайших веточек. Наконец, ворвался в саму Моховую падь. Тревожно и глухо загудел древний лес. Макушки старых деревьев заходили, зашатались, и странно было видеть такими беспомощными могучих великанов зеленого царства. Оттуда доносился треск сломанных веток, целых стволов сухостойника, в воздухе летели сухие палки. Ветер как бы очищал лес от мертвечины.
— Наверняка сломает макушку кедра с гнездом орланов, — вздыхал Юрий Квашнин, вглядываясь в сторону низовьев Моховки, туда, где жили орланы. Наконец дождь загнал его в палатку. Крупные капли падали не прямо, а летели наискось, почти горизонтально.
Лес стонал под ударами ветра. Перекатистый гул несся по Моховой пади. Потом хлынул ливень. Сила его заметно нарастала, и скоро в палатке-стало казаться, будто с неба низвергнулся водопад.
— Не иначе это левое крыло тайфуна из южных морей, — говорил Корней Гаврилович, прислушиваясь. — Из Приморья он обыкновенно заворачивает на восток, но бывает, что вдается глубже в материк, и тогда левым краем захватывает эти районы.
— А что, Гаврилыч, не подтопит речка-то нашу релку? — высказал опасение Кузьмич.
— Да нет, Не думаю. Пойма здесь достаточно широкая. Левобережье равнинное, излишек воды уйдет туда…
Сухой треск грома, будто тугую парусину, распорол все небо над Моховой падью. Вскоре по пологу палаши что-то защелкало.
— Град! — воскликнул Юрий. — Еще этого не хватало! — Он явно беспокоился за семью орланов, потому что тотчас же спросил: — Корней Гаврилович, не повредит ли орланам град? Ведь они ничем не прикрыты сверху.
— В таких случаях птицы прячут голову под крыло, — объяснил старый натуралист. — Конечно, разные бывают птицы и разный град. Что касается орланов, то их перья — их броня. Иначе им нельзя, под открытым небом ведь живут.
Владыкам неба не пристало прятаться в щели, когда приходит гроза — они встречают ее лицом к лицу. Вот и сейчас, в ожидании удара стихии Белохвостый Клак и его супруга сидели рядом, головами к туче. Время от времени то он, то она встряхивались. По-видимому, так они выражали свое беспокойство. Позади них, сбившись в клубок, беспечно спали птенцы. Они почти уже сменили младенческое оперение и выглядели сейчас, как оборвыши-беспризорники: то там, то тут голое тело, перемежающееся грязно-серыми, грубыми заплатками молодых перьев.
Когда издали донесся шум бури и с макушки кедра стало видно по заметавшимся деревьям, как приближается ветровой вал, Белохвостый Клек поднялся во весь рост, с беспокойством посмотрел вдаль. Он еще раз встряхнулся, слегка распустил крылья, потом дважды обошел гнездо — по самому краю и вокруг гнездового лотка, как бы пробуя прочность своего небоскреба.
Первый удар ветра поднял орланов на крылья, швырнул из гнезда. Птицы с трудом одолели его напор, осторожно спланировали прямо в лоток, к птенцам. Теперь они укрылись за бруствером, окружающим центр гнезда, прильнули телами к орлятам, вобрали головы в плечи.
Новый удар ураганного ветра стал клонить макушку кедра; она кренилась все больше и больше, снизу что-то потрескивало… Никогда ничего подобного не случалось в жизни орланов! Но вот треск раздался где-то под самым гнездом — и вся махина хвороста стала медленно валиться на соседние, более низкие деревья… Орланы в панике взлетели, ветер швырнул их в гущину ближайших крон. Чтобы не упасть или не быть унесенными ветром, пришлось цепляться за первые попавшиеся ветки. «Клек, клек, клек…» — слышалось жалобно среди грохота и рева ветра, среди могучего лесного треска.
А тем временем гнездо опрокинулось кверху дном, верхняя его половина рассыпалась, а нижняя вместе с сухой макушкой кедра заклинилась где-то между деревьями огромной копной хвороста, и теперь ее трепал и сокрушал ураган. Орлята вместе с рассыпанным хворостом падали с ветки на ветку, пока не очутились на земле. Один из них сломал себе крыло и истошно пищал, призывая на помощь родителей. Ни оглушительный шум леса, ни трескучие раскаты грома не помешали орланам расслышать этот призывный писк, и вскоре заботливые родители разыскали пострадавшего птенца. Потом на их клекот неуклюже приковыляли и двое остальных.
Могучие кроны деревьев надежно укрывали их теперь от дождя и града, от ударов бури. Орлица тотчас же забрала орлят под крылья, а Белохвостый Клек стал рядом, грозно и бдительно охраняя безопасность семьи. Непривычная обстановка — дремучие заросли подлеска, буйное разнотравье — не смущала орланов, хотя обычно эти птицы никогда не спускаются на землю в густом лесу. Но ради детей они были готовы на все.
Ураганный ветер прекратился часа через полтора, но ливень продолжался все с той же силой. От бури пострадала не только семья орланов. Почти одновременно с крушением «небоскреба» разломилась вдоль ствола старейшая липа, где квартировал в облюбованном дупле бурундук — хитрый Пиик. Все произошло так внезапно, что Пиик не успел что-либо сообразить. Этот зверек ведет сугубо дневной образ жизни, уже с наступлением сумерек он, намотавшись за день, засыпает где-нибудь в надежном убежище. Так было и сегодня: еще до подхода грозовой тучи Пиик свернулся клубочком на мягкой постельке в уютном своем дупле и крепко заснул. Разбуженный страшным треском, он не успел прийти в себя, как полетел куда-то в преисподнюю.
Кстати сказать, у бурундука коготки устроены так, что он умеет одинаково проворно бегать вверх и вниз не только по любому стволу, но и по тончайшим веточкам. И еще: никто из четвероногих жителей второго этажа, кроме разве летяги, не обладает такой легкостью, стремительностью, способностью мчаться среди ветвей, как бурундук; этот истинный акробат зеленого царства. Но… только днем! Достаточно наступить ночным сумеркам, и он становится совсем беспомощным.
Падая после крушения своего бастиона, Пиик на лету — ухватился за что-то твердое, мгновенно сориентировался, где верх, где низ, и направился вверх. Но вдруг это твердое как-то головокружительно перевернулось, отчего верх оказался внизу. Положение прояснилось быстро — это была половина разломившегося и падающего дерева. Она рухнула на землю, увлекая за собой ошеломленного беднягу Пиика.
К счастью, все кончилось благополучно: Пиика сбило какой-то встречной веткой, он упал на куст, и густая листва приняла его на себя. Вскоре он был на земле.
Куда же теперь податься? Град и ливень были ему здесь не страшны, их принимал на себя лес. Но извечный страх перед хищниками заставил его искать новое надежное убежище. И хотя, казалось бы, сколько места требуется зверьку длиной в ладонь, а не так-то просто найти это место: сунешься в нору или под валежину, а там тебя сцапает либо Харза, либо колонок, от зубов которых погибло немило собратьев Пиика. Поэтому осторожность и еще раз осторожность, и ни одного опрометчивого шага!
Прежде всего ему нужно было найти своих сородичей. Порыскав с четверть часа, хитрый Пиик в конце концов уловил знакомый запах, он доносился из-под корней огромного дерева. Туда и юркнул Пиик. Во избежание возможного конфликта, он не стал забираться в хоромы хозяев, а скромно устроился в каком-то сухом закутке прихожей и уснул под убаюкивающий шум леса и дождя.
Но поспать как следует ему не удалось и на этот раз. Под утро в убежище стала быстро набираться вода.
Пиик, как и домашняя кошка, не выносит ее, он сугубо сухопутный зверек. Скоро вода, по-видимому, затопила хоромы хозяев, потому что они — два юнца зимнего помета — вскоре вылезли в проход и тут наткнулись на незваного ночлежника. Они добродушно обнюхались (тут уж не до ссор, когда над всеми нависла беда!) и стали выбираться наружу.
Рассветало. Дождь продолжал лить. Вокруг корня старой ели, под которой квартировали бурундуки, образовалась лужа воды. Пиик, как старший, был признан вожаком. Осмотревшись, он понесся вверх по стволу ели, Но тщетно он обшаривал его до самой макушки в поисках дупла — его не оказалось. Пришлось примоститься на суку с подветренной стороны. Неподалеку от него нашли приют и лишенные крова юнцы. Вот, может, немного прояснится, и они снова начнут скакать по веткам. А там, смотришь, найдут и новое убежище.
В эту бедственную ночь многие обитатели Моховой пади лишились жилья. Особенно пострадали мелкие грызуны и наземные пернатые.
ЗВЕРИНЫЙ ЛАЗАРЕТ
Ливень и гроза с небольшими перерывами продолжались всю ночь. Но обкладной дождь, с беспросветно пасмурным небом и горячей духотой, не прекращался еще двое суток. Натуралисты почти не вылезали все это время из палаши. Только изредка кто-нибудь выводил взглянуть на Моховку: не угрожает ли она биваку.
А река разгулялась не на шутку. К утру ее уровень поднялся, должно быть, метра на два, а вода все продолжала прибывать. Обычно спокойная, ласковая Моховка теперь форменным образом взбесилась, затопила все равнинное левобережье, переполнила заливы и старицы в правобережье. Грязно-мутные ее воды неслись широким потоком, ломая все на своем пути. Она собрала, должно быть, со всего своего бассейна мусор, коряги-выворотни, гнилые колодины и теперь уносила их прочь. Много плавника набилось в тальниковых зарослях левобережья; там образовались огромные заломы, под которыми были погребены целые кущи тальника. Вода повсюду сделалась настолько мутной, что для питья пришлось выкопать колодец неподалеку от старицы — яму глубиной около метра. Там отстаивалась чистая холодная вода.
На третьи сутки натуралистов разбудило заливистое пение птиц. Гремела вся Моховая падь. Сквозь парусину палатки густо сочилось золото утреннего солнца. Все было нестерпимо ярким — и синева неба, и зелень леса, и разлитый по миру золотой океан солнечного света. От этого торжества и буйства света пернатая живность Моховой пади прямо-таки ошалела — свистела, чирикала, пищала.
Только Моховика по-прежнему буйствовала и бесновалась, яростно завивалась в коловерти, глухо рычала в заломах, нагроможденных там и тут. В ее мутных потоках проносились огромные деревья, вывернутые с корнями, а иногда целые острова тальниковых кустов.
— Смотрите, смотрите! — вдруг закричал Сергей, указывая на корягу, плывущую почти посередине речки. — Медвежонок!
На коряге действительно лежал медвежонок. Он держался за нее передними лапами, а задние свисали в воду.
— Нынешнего помета, — определил Бударин, — совсем юнец. Давайте-ка быстро лодку на воду, поймаем его.
Надувная двухместная лодка всегда лежала наготове возле бивака. Ее бросили на воду, и Сергей с Юрием стали быстро грести, направляясь к коряжине. Вот они поравнялись с ней, подтянулись, и Сергей ловким движением поймал звереныша за загривок. Каково же было удивление Бударина и Кузьмича, когда они увидели, что медвежонок сдался ребятам без всякого сопротивления. Видно, он уже выбился из сил. Все разъяснилось, когда Сергей, обследовав пленника, крикнул:
— Задние лапы перебиты! В заломе, наверное, побывал…
И вот косолапый пленник на берегу, весь мокрый, взъерошенный, неуклюже большеголовый. Он дрожит, смотрит свирепо на людей своими мутновато-синими глазами и то тихо скулит, то угрожающе рычит. Задние лапы у него совсем не шевелятся, лежат на земле, как палки.
— Эка, угораздило тебя! — ворчит Корней Гаврилович, осторожно ощупывая медвежонка. — Обе лодыжки переломаны… Ах, бедняга, бедняга!
— Можно его выходить, Корней Гаврилович? — спрашивает сердобольный Юрий Квашнин.
— Думаю, что сможем. Заготовьте две пары лубков, чтобы как раз по лодыжкам были.
С полчаса провозился старый натуралист, пока ощупью уложил поломанные кости ног медвежонка и затянул их между шинами.
— Поправится, — с уверенностью заключил он. — Кость молодая, да к тому же это медведь, а у них, как у собак, кости быстро срастаются.
— Надо бы окрестить его, — предложил Сергей. — Смотришь, привыкнет к имени.
— Справедливо! — согласился Бударин. — Назовем его Фомкой? И коротко и звучно.
Все согласились с этим.
— А где будем держать его и чем кормить? — спрашивал Сергей, поглаживая своего покорного пленника.
— Придется выкопать ему землянку. А кормить не проблема, он все ест, — сказал Корней Гаврилович. Он велел намазать сухарь сливочным маслам и посыпать сахаром. Когда поднесли бутерброд к носу медвежонка, тот сначала остался равнодушен, потом стал обнюхивать его. Видимо, запах масла напомнил ему запах материнского молока. Звереныш расторопно схватил сухарь и с жадностью стал грызть. Так он съел подряд четыре штуки.
— Что-то теперь с орланами, — вздыхал Юрий.
— После завтрака будем учитывать жертвы тайфуна, заодно посмотрите, в каком состоянии гнездо.
За завтраком натуралисты распределили маршруты. Сергею и Юрию предстояло пройти всю прибрежную часть Моховой пади, а Бударин и Кузьмич отправятся поперек пади — до кедрача и обратно.
Они вышли в маршрут только около десяти часов утра — сооружали землянку для Фомки. Она должна была хорошо укрыть его от жары и дождя и в то же время быть надежной клеткой, из которой он не смог бы уползти.
Следы тайфуна попадались Сергею и Юрию почти на каждом шагу, когда они переплыли на лодке старицу и направились вдоль берега Моховки. Сломанные макушки, поваленные деревья, оторванные от стволов огромные ветки… По-видимому, разрушения оказались здесь столь многочисленными потому, что это был край леса, его первая шеренга, на которую обрушился удар ветра.
В одном месте, вблизи старицы, друзья обратили внимание на свежий залом возле берега и вышли на обрывчик, чтобы лучше разглядеть его. И сразу же увидели рыжий бок изюбра, прибитого волной к коряжинам. Они спустились к воде, чтобы лучше рассмотреть погибшее животное.
— Смотри, Юрка, пантач! — воскликнул Сергей. — Давай достанем! Это же сколько мяса для прикормки к клеткам-ловушкам и для Фомки! Да и панты, пожалуй, еще сохранились. — Он указал на кончик бархатного рога, торчащего из мусора на поверхности воды.
Пришлось раздеться и залезть в воду по грудь, чтобы подтащить труп изюбра к берегу. Судя по всему, зверь погиб недавно, а раны на коленях говорили о том, что он долго боролся с водой, видимо, где-то в заломе. Это был крупный и красивый самец.
— Посмотри-ка, Сережа, кто-то обгрыз ему губы. — Юрий показал на свежие, еще кровоточащие раны. — Не иначе как норка или выдра. Теперь у них пир горой идет. Видно, Моховка поглотила немало жертв.
Оставив изюбра на берегу, молодые люди продолжали свой путь. Наконец они вышли к повороту реки. Отсюда был хорошо виден кедр, на котором еще недавно гнездились орланы.
— Нет гнезда! — с горечью воскликнул Юрий. — Такую красотищу сломало! Неужели птенцы погибли?
— Сейчас посмотрим.
Едва ребята подошли к месту катастрофы, как услышали могучий свист крыльев и треск веток — это взлетели орланы. Они с трудом пробились сквозь гущину крон, но не улетели, а стали кружить над самыми макушками деревьев. Молодые натуралисты тотчас же бросились к месту, откуда поднялись птицы, и услышали характерное пощелкивание, будто кто-то стучал костяшками. Так и есть, орлята! Сбившись в рядок, крыло к крылу, они заняли фронтальную оборону, слегка распустили крылышки, готовясь достойно встретить опасность, и угрожающе щелкали клювами.
Бедняги, как они были беспомощны на земле! Будь на их месте птенцы рябчика, они бы давно разбежались кто куда в этом зеленом хаосе. Орлята же и не думали убегать. Они открыто и честно стояли перед своими преследователями и без тени страха ожидали решения своей судьбы.
— Ну, что будем делать с ними? — спросил Юрий, с любопытством разглядывая орлят.
— Придется забрать, иначе их кто-нибудь из хищников сожрет, — ответил Сергей.
— Пожалуй, верно. — Юрий с тоской посмотрел на копну хвороста, повисшую в кронах деревьев, — остатки разрушенного дома орланов. — Гнездо бы восстановить да устроить их там…
— Это нереальная затея, — возразил Сергей. — Постой-ка, у одного, кажется, крыло сломано…
Орлята уже успокоились, перестали щелкать клювами, но продолжали стоять наготове в оборонительной позиции.
— Да, сломано, — заметил Юрий, присев на корточки. — Без нашей помощи он не жилец, вон как оно повисло, совсем безжизненное.
— Нужно сейчас же соединить места перелома и затянуть шинами, хотя бы корьем, — предложил Сергей. — Доставай индивидуальный пакет, а я подберу что-нибудь подходящее для шин.
Раненый орленок отчаянно отбивался, когда его взяли на руки и стали оперировать. Крыло оказалось переломанным в плечевой кости, лишь в одном месте, поэтому его легко соединили, обернули несколькими витками свежей бересты, а поверх обмотали бинтом. Потом крыло сложили в нормальное положение и вместе со здоровым примотали к туловищу.
— Пожалуй, срастется, — с облегчением сказал Юрий, когда операция закончилась. — Если только не получится нагноения на переломе…
Взять здоровых орлят оказалось не таким уж простым делом — они яростно защищались клювами, злобно пищали, царапались крепкими когтями. Пришлось связывать им ноги и крылья. В конце концов птенцы очутились в рюкзаке Юрия, освобожденном от другой поклажи. Предварительно его наполовину заполнили травой и молодыми веточками, чтобы орлятам удобнее было там разместиться.
А тем временем орланы-родители с тревожным, полным отчаяния клекотом парили у самых макушек деревьев; иногда орлица пыталась пикировать на похитителей ее детей, но всякий раз, столкнувшись с кронами деревьев, снова взмывала вверх.
Все время, пока молодые натуралисты ходили по своему маршруту, орланы висели у них над головой. А когда на берегу им попалась дохлая летяга (видно, кто-то из хищников только что терзал добычу) и ребята стали кормить птенцов ее мясом, один из орланов, видимо орлица, спикировал чуть ли не на голову Юрию. Пришлось выстрелить в воздух, чтобы заставить владык неба держаться на почтительном расстоянии.
Под вечер по пути на бивак ребята завернули к залому, где оставили труп изюбра. Они срезали панты, захватили часть мяса на корм Фомке и орлятам — оно было еще достаточно свежим — и незадолго до заката добрались до Черемуховой релки. Бударин и Кузьмич были уже на биваке и занимались обработкой собранных материалов. Среди их трофеев оказались с десяток погибших птенцов и покалеченный заяц. Это был Пишки. Ему перебило хребет, должно быть, упавшим суком. Было тут и совсем целехонькое тайно — гнездо белки, которое вытащили из развилка макушки поваленного ветром дерева. Гнездо это оказалось довольно занятным сооружением. Размером с обычное сорочье, оно представляло собой шар, искусно сложенный из веток, сухих листьев, лыка липы, черемухи и ольхи; сбоку зияло круглое отверстие — лаз, в который с трудом пролезала рука, а внутри можно было нащупать мягкую и уютную постельку.
— Между прочим, — заметил Корней Гаврилович, наблюдая за тем, с каким интересом ребята изучают строение гнезда, — при необходимости белка закупоривает лаз изнутри, и тогда ей не страшны ни холод, ни хищники. А их немало! Соболь, иногда куница, а то и сама рысь может запустить туда лапу.
— Да, а иждивенцы все прибывают и прибывают, — недовольно говорил Кузьмич, опуская в котел с кипящей водой молодые рога изюбра для консервирования. — Скоро нам только и придется делать, что ухаживать за калеками. Форменный звериный лазарет получается. А когда здоровых начнем ловить, тогда что будет?
— Ничего, через неделю должен быть вертолет, вывезет лишних, — успокаивал его Корней Гаврилович. — Кстати, по-моему, ближнюю кормушку уже посещает куница. Надо будет завтра поставить сторожок, посмотрим, что попадет.
Пока натуралисты занимались своими делами — готовили ужин, кормили Фомку и орлят, перевязывали Пишки, — орланы все время парили над Черемуховой редкой. Они делали круг за кругом примерно в двухстах метрах от земли, и ни разу никто из них не присел на дерево с тех самых пор, как у них забрали птенцов. Они будто наказывали себя за допущенную оплошность. А когда люди стали кормить птенцов и те стали пищать и кидаться к подачкам с широко раскрытыми клювами, орланы заметно забеспокоились, опустились метров до пятидесяти и уже не парили, а часто махали крыльями, готовясь спикировать вниз. Но ни у одного из них не хватило на это храбрости. Когда же орлята были сыты и их поместили в одну из клеток-ловушек, орланы улетели за старицу и расселись на макушках самых высоких деревьев, на виду у бивака. Там они и заночевали.
А Фомка, отдохнув за день в своей уютной землянке, заметно ожил и, более приветливо, чем утром, поглядывал на людей. Когда же ему подали туда тарелку с мелко изрубленными кусками изюбрового мяса, он с жадностью набросился на еду и уж больше не обращал внимания на людей.
— Этот выживет, — с веселой ухмылкой говорил Кузьмич. — Общительный зверь!
— Он еще послужит людям! — добродушно басил старый натуралист, наблюдая за Фомкой. — Смотришь, вырастет артистом цирка, еще не один раз потешит публику! Возраст как раз такой — лепи из него что хочешь. Зверь этот от природы удивительно смышленый…
Плохо обстояло и с Пишки. Он ничего не брал в рот, тяжело дышал и почти по-человечески печальными глазами смотрел на людей. Ему наложили лубки, обвязали и положили на мягкую подстилку в клетке, а возле носа поставили воду.
— Похоже, не жилец он на этом свете, — заключил Кузьмич.
Но он плохо знал Пишки.
ПРОДЕЛКИ ХИТРОГО ПИИКА
Как только кончился ливень и установилась более или менее сносная погода, проныра Пиик решил покинуть юнцов. По веткам ели, укрывшей его от ненастья, он перемахнул на соседнее дерево — старый ильм, а потом пошел писать по кронам, с дерева на дерево. Сначала молодые бурундуки увязались было за ним, но Пиику это не понравилось.
Хитроумным маневром, пробежав сначала по одному столу до земли, а потом по другому — до самой макушки, проворный Пиик оторвался от нежелательных компаньонов и во весь дух полетел в направлении Моховки. Там на берегу он нашел на косогорчике заросль орешника-лещины, разгрыз несколько орешков, но они оказались еще слишком зелеными и горько-терпкими, как древесина.
У каждого четвероногого и пернатого обитателя Моховой пади существует своя промысловая площадь, свой радиус обозрения и прослушивания. Чем больше площадь, необходимая для добычи еды, тем дальше видит и слышит данное животное. У бурундука эта площадь ограничивается каким-нибудь десятком деревьев, дающих орехи, семена или ягоды с косточками, сами ягоды его не интересуют, он извлекает из них косточки, а из косточек — ядра. Как правило, Пиик не делал длинных переходов, а кормился обыкновенно где-нибудь неподалеку от жилья на площади в четверть гектара, разумеется, если там хватало корма. Но если корма не было, Пиику приходилось совершать и довольно далекие путешествия.
Вот и теперь он долго носился по деревьям, по валежинам и буреломам, а места по душе все никак не мог выбрать. Так он доскакал до Мышиного склона, потом оказался в оползневой завали возле старицы, где обитала Эдуни. Сунулся было в одно из укрытий завали, но тотчас же пулей вылетел обратно: в нос ударило свежим запахом хозяйки этих владений — енотовидной собаки. А что, если пробежать вот по этому наклоненному над старицей сухому дереву? Оно образовало мост между берегами старицы, дальше виднелись заросли черемухи — то была Черемуховая релка. Правда, немного опасно, ведь сверху нет никакого прикрытия, а оттуда всегда можно ожидать нападения пернатого хищника. Но в воздухе поблизости, кажется, никого не видно, да и больно уж заманчиво попасть в черемушник, ведь сейчас как раз созревают ягоды, а в их косточках на редкость вкусные ядрышки. А, была не была! И Пиик вмиг очутился на той стороне. Через несколько секунд он был уже под сеныо зеленых кущ черемухи. Какая благодать! То там, то здесь чернели ягоды, правда, не густо (год был неурожайный), но вполне достаточно, чтобы начать делать заготовки.
Вдоволь полакомившись косточками, Пиик стал рыскать в поисках надежного убежища. Он старался найти дупло — оно лучше укрывает от хищников и дождя. Но дупла поблизости не оказалось, и Пиик спустился на землю. Вскоре ему попалась поваленная, но еще живая старая черемуха; когда-то ее раскололо ветром вдоль ствола, и половина дерева лежала на земле, ветки от нее теперь росли вверх и образовали новую крону. От места отлома в глубь ствола уходила нора, проделанная кем-то в гнилушке. Из норы слегка наносило почти выветрившимся запахом мышей: по-видимому, это они проделали нору, но по тому, что запахи едва улавливались, Пиик понял, что мыши давно покинули убежище.
До самых сумерек Пиик занимался тем, что расширял и углублял ход, пока не уперся в небольшой зал. Там гнилушка кончилась, дальше шла здоровая древесина. Маловато, правда, места для гнезда, но зато убежище хорошо укрыто, и к тому же рядом вдоволь вкусного корма.
Назавтра Пиик приступил к заготовкам еды про запас. Для склада он выбрал одно из ответвлений гнилой сердцевины, расширил его так, что там могло поместиться с полведра всяких семян. Теперь он день-деньской носился по ветвям, срывал ягоды, мякоть выплевывал, а косточки прятал в защечных мешочках. Набьет их до отказа — косточек тридцать за один раз, — потом мчится в нору, выплевывает из-за щек поклажу, и снова на черемуху.
Как-то раз хозяйственные заботы привели его к биваку. Сложные, незнакомые запахи заинтересовали пронырливого Пиика. Он помотался возле очага, нашел несколько странных зерен (это был рис). Это еще больше возбудило его интерес — никогда не встречал он таких вкусных запахов и зерен! От очага запах привел его к пологу палатки. Она была тщательно застегнута. Пиик сунулся в одну, в другую складку, и вот он уже внутри палатки. А тут — чего только нет! На каждом шагу то зернышко, то хлебная крошка, то косточка черемухи! И трудиться особенно не надо: собирай подряд да складывай за щеки! Никогда не сваливалась ему такая манна небесная.
Хитрому Пиику так понравилось на новом месте, что он забыл о стволе сломанной черемухи и решил обосноваться здесь навсегда. Тут было полно всяких убежищ, как в хорошем буреломе, выбирай любое! Но главное, кругом изобилие еды, чего не сыщешь ни в одном буреломе. После непродолжительных поисков Пиик остановил свой выбор на небольшой норке, которая вела в просторные апартаменты: если в них натаскать хорошей подстилки, то там превосходно можно и перезимовать. Откуда мог знать Пиик, хотя он и слыл хитрейшим из бурундуков, что его новое убежище было сапогом; он лежал на боку, две трети голенища были придавлены другим сапогом, поэтому в углу образовался вход в голенище, его-то Пиик и принял за нору.
Первой и неотложной его заботой в этот день было обосноваться в новом убежище. В ход пошли обрывки газет (замечательный материал для подстилки, как это он раньше не попадался Пиику), кусочек бинта, грязный носовой платок, найденный на раскладушке, несколько пучков сухого сена, добытых в изголовье чьей-то постели. Предприимчивый Пиик потрудился в этот день на славу, и к вечеру у него было готово великолепное жилье. Помимо прочих удобств, оно еще имело сверху прикрытие — и от непогоды, и от хищников.
Как следует закусив да еще прихватив с собой про запас риса из миски, Пиик рано улегся на покой — сумерки в палатке наступили задолго до заката солнца.
Но сон его в эту ночь вовсе не был спокойным. Началось с того, что Пиик услышал чьи-то тяжелые шаги. Так не ходит даже медведь — топ, топ, только земля дрожит. Потом послышались незнакомые звуки. Пиик затаился, замер, насторожился. А топот ног и непонятные голоса все слышнее. Вот они уже рядом, то приближаются, то удаляются. Удрать бы отсюда, да как знать, вдруг кто-нибудь сцапает тебя? Нет уж, надо затаиться и терпеть, авось пронесет. Ведь случалось же, что в его нору царапались и медведь, и кабан, даже находили и грабили его запасы, но сам Пиик все-таки выживал — спасало терпение. Это же средство спасло его и сегодня. Потом он крепко спал, потом опять трясся от страха, когда снова послышались те же шаги и те же голоса, но все кончилось благополучно, и он остался один хозяйничать в палатке.
Новый день, как и вчерашний, прошел для Пинка в работе. Сегодня он заготовлял себе корм. Под склад он облюбовал второй сапог, что лежал сверху. В его голенище тоже оказался узкий лаз. Скоро туда стало перекочевывать все, что было съедобно с точки зрения бурундука. А во второй половине дня ему повезло, как никогда в жизни. Шныряя между ящиками, Пиик наткнулся на готовый склад зерен. Целый мешок риса! Бурундук легко прогрыз мешковину, и из дырки струйкой потекло зерно. До седьмого пота трудился Пиик на этот раз. К вечеру большая часть сапога была заполнена рисом.
А потом снова раздался топот ног, послышались непонятные голоса. Но все это теперь не пугало Пиика. Бурундук начинал привыкать и приспосабливаться к необычной обстановке. Так прошло несколько дней. Хитрый Пиик великолепно освоился в палатке, сделал себе солидный запас зерен — на две зимы, пожалуй, хватит, — отъелся сам на обильных харчах и теперь все чаще стал выбегать наружу.
Время от времени возле бивака теперь стало раздаваться характерное: «Клу-клу-клу, клу-клу, клу-клу…» Это бурундук звал подружку.
Вскоре подружка отозвалась, и Пиик ввел ее в свой дом. Весь день носились они по раскладушкам, по ящикам, по столу. Чтобы показать свое искусство, Пиик даже пробегал по парусиновой стенке палатки. Не обошлось без курьеза. Как-то раз, вскочив на самый высокий ящик, что стоит в углу, Пиик вдруг нос к носу столкнулся со своим сородичем. По тому, как противник вздыбил шерсть на загривке, и стал нервно подергивать хвостиком, Пиик понял, что встретился с соперником. Брачные бои бывают ведь не только у крупных животных — изюбров или кабанов. Бурундуки тоже устраивают драки в эту пору.
Пиика возмутил вызывающий, воинственный вид соперника. Появился, видите ли, в чужих владениях, да еще дыбит шерсть, скалит зубы и угрожающе колотит передними лапками по доске. И хотя противник уселся в каком-то просвете, уходящем в глубину угла палатки, а стало быть, занимал выгодную позицию, Пиик храбро и стремительно ринулся на него. Что произошло потом, храбрый бурундук так и не понял. Он очутился на полу посреди палатки, получив жестокий удар по носу чем-то очень твердым. Едва придя в себя, незадачливый драчун с гневом вспомнил про обидчика, снова вскочил на ящик и опять очутился нос к носу с врагом. Тот выглядел теперь еще более разгневанным, чем при первой встрече, из рассеченной его ноздри сочилась кровь, глаза горели злобой. Но это не испугало оскорбленного хозяина владений. Еще стремительнее кинулся он на врага — и снова получил по носу ответный удар такой силы, что, кувыркаясь, слетел на землю и едва не сломал хребет о кол-подпорку. В ушах стоял звон, в глазах рябило, из носа текла кровь. Очнувшись, он больше не полез на ящик. Но, по-видимому, и его соперник получил добрую встрепку: он не слезал с ящика и не пытался завладеть Пииковой подружкой. Бедняга Пиик так и не понял, что имел дело с простым зеркальцем, висевшим на опорном колу…
Недолго продолжалось счастливое житье-бытье нашего героя. Однажды утром Пиик, как всегда, проснулся от шума, который обыкновенно начинался с рассветом. Пиик терпеливо выжидал, когда все прекратится и неизвестные существа уйдут из его владений. И вдруг он почувствовал, как зашуршал его склад с рисом: кто-то грабил его! Не успел он что-нибудь понять, как его собственное жилье перевернулось, поплыло в воздухе точь-в-точь как было, когда рушилась старая липа, и Пиик полетел вниз!
Сапоги эти принадлежали Юрию. Обычно он ходил в кедах, в них легче, но тут предстоял маршрут в левобережье Моховки; там много проток, рукавов, и без сапог нельзя обойтись. Обнаружив в одном сапоге склад риса и высыпав его под общий смех, он предположил, что и в другом сапоге что-нибудь должно быть. Поэтому он сначала опрокинул его и тряхнул. Велика же была потеха, когда на землю шлепнулся бурундук!
Заповедь «Не зевай!» была первейшей у хитрого Пиика при встрече с опасностью. Он тотчас же шмыгнул в просвет открытого полога палатки, чуть не угодил кому-то под ноги, свистнул по-разбойничьи — и в лес! На биваке еще долго хохотали над неудачной попыткой дотошного зверька обосноваться под носом у человека.
Но Пиик особенно не отчаивался. Отделавшись легким испугом, он уже через несколько минут пришел в себя под надежной крышей прежнего жилья — в дупле сломанной черемухи. Вскоре он вновь встретился со своей подружкой, которая продолжала жить в палатке, устроив убежище в футляре из-под микроскопа. Теперь Пиик бывал в палатке только гостем, зато после каждого визита туда он возвращался к себе в дупло не только до отвала сытым, но и с набитыми рисом защечными мешочками. За лето он загрузил превосходным кормом две кладовки. Теперь зима ему не страшна!
ЭЛХА В БЕДЕ
Еще в первые дни знакомства с костром кабарга Элха усвоила, что он ничем ей не угрожает. Поэтому она каждую ночь паслась на Черемуховой релке, неподалеку от бивака, не уходя, однако, W от места лежки детенышей на луговине.
Кабаржата быстро подрастали. Они развивались с каждым днем все заметнее и через полтора месяца после появления на свет могли бегать так же быстро, как и их мать. Но они не обладали еще осторожностью матери, поэтому Элха старалась не уводить их далеко от зарослей вейиика — здесь удобно было прятаться.
После ливня Моховка затопила луговину, и Элха с детенышами перекочевала на Черемуховую релку. Но тут слишком часто появлялись люди, и, хотя эти непонятные двуногие существа не делали ей вреда, благоразумнее было избегать с ними встреч. Она увела детенышей на Мышиный склон, к устью Барсучьего ключа. В случае опасности она может укрыться на скалах, что поднимаются в левобережье ключа.
Но на этих переходах ее постоянно подстерегала опасность, все время можно было ожидать нападения извечных ее преследователей — росомах и кровожадной семейки куницы Харзы. Вот и теперь, в первый же день пребывания на новом месте, на нее напали куницы. Как всегда в опасных местах, Элха не столько кормилась сама, сколько сторожила кабаржат. Правда, они уже начинали усваивать непременное правило — соблюдать величайшую осторожность, каждый миг быть начеку, но им было еще далеко до матери.
Приемы, которые применяет куница Харза, охотясь на кабаргу, поистине дьявольски изощренны. Будучи не в состоянии догнать кабаргу на суше, куница старается загнать ее в воду — плавает она быстрее, чем кабарожка. И если Элхе удалось однажды спастись от преследования куницы, то только благодаря тому, что Моховка в том месте оказалась менее глубокой, а течение — более быстрым.
На этот раз кровожадная свора — сама Харза, ее супруг и нынешний их выводок из трех щенков — «спланировала» охоту по-иному. Харза укрылась в засаде неподалеку от устья Барсучьего ключа, там, где пролегает тропа кабарожки к скалам-отстоям, а ее семейка устроила на Элху с детенышами облаву. Никакое другое животное из семейства куньих не умеет охотиться подобным Образом. Здесь все предусмотрено: кто и как будет окружать, куда и каким образом загонять, кто и где должен находиться в засаде. Все эти обязанности распределены с точным учетом способностей того или иного «охотника». Сейчас облавой «руководил» самец, в засаде находилась самка, а роль загонщиков выполняли щенки.
Шорох шагов подкрадывающихся хищников Элха услышала, когда «загонщики» находились еще довольно далеко, метрах в двадцати. Легкий посвист, и кабаржата насторожились. Потом легкими прыжками мать стала уходить к скалам. Пропустив вперед детенышей, она подгоняла их сзади. Но вот, услышав погоню, она снова свистнула, теперь резко и отрывисто, и вся семья будто поднялась на крылья и стремительно понеслась к спасительным скалам. Перемахнув через Барсучий ключ, кабарожки были уже почти у цели, когда в воздухе, поперек их пути, мелькнуло что-то длинное, вытянутое, с распушенным хвостом и бело-зеленоватым нагрудником и брюхом. Расчет хищницы был точен — она упала прямо на спину детеныша, бежавшего первым. Они вместе перекувырнулись, свились клубком, раздался предсмертный крик кабаржонка…
Через минуту Элха с уцелевшим детенышем, перепрыгнув через несколько расселин, оказалась на одном из уступчиков обрыва, отрезанном от материкового склона пропастью. И хотя они были теперь в безопасности, Элха долго еще вся дрожала, а кабаржонок льнул к ней, стараясь найти укрытие под материнским брюхом.
Это было утром. Почти до полудня отстаивалась Элха на скале. А тем временем произошло важное событие.
Растерзав кабаржонка, Харза повела свою разбойничью ватажку в сторону кедрового бора. Там паслась Большая семья. Весенние поросята были еще в таком возрасте, когда две куницы вполне могли управиться с одним поросенком. По пути куницы решили заглянуть в одно местечко, где в последнее время не раз лакомились то битой вороной, то кусками мяса изюбра, то свежей рыбой. Вскоре Харза уловила знакомые запахи. Они привели ее в углубление, напоминающее небольшую нору. Харза, по своему обыкновению, первой кинулась на добычу. Едва она ухватила кусок мяса, как позади что-то хлопнуло, до смерти испугав хищницу. Она кинулась было вон из углубления, но выхода не нашла. Разбойница металась туда-сюда, пробовала царапать стенки, пол, потолок когтями, грызть зубами металлическую проволоку стенок — все напрасно! Она была в клетке-ловушке.
Та же судьба постигла и самца — вместе с одним из щенков он угодил во вторую клетку-ловушку, метрах в тридцати от первой. Оставшиеся на свободе щенки до самого вечера не отходили от клеток, пока не подошли люди.
Во второй половине дня Элха с оставшимся в живых детенышем покинула отстой. На этот раз она решила пренебречь возможной опасностью со стороны Человека и вернуться на Черемуховую релку. Но служилось так, что именно в этот день, под вечер, сюда пожаловали Уга и Буга.
Черемуховая редка еще целую неделю после ливня была похожа на довольно узкий островок шириной метров двадцать — тридцать. Сами черемухи были немного подтоплены лишь со стороны Моховки, со стороны же залива-старицы оставалась незатопленной часть луговины с высоким травостоем: здесь и паслась теперь Элха. У кабарги, как и у всех копытных, великолепно развит слух; не случайно же у них, как правило, длинные, всегда настороженные, очень подвижные уши. Но как будто в противовес этому все хищники, особенно росомахи, умеют ходить почти неслышно. Под их лапой никогда не треснет ветка, не зашелестят листья. Но у росомахи есть слабое место — присущий ей специфический запах, выдающий ее. Такие копытные, как изюбр и кабарга, обладающие на редкость тонким обонянием, чуют его за десятки метров. Не случайно росомаха подкрадывается к своей жертве только с подветренной стороны.
Но сегодня ветер дул с юга, а Черемуховая релка протянулась с юго-востока на северо-запад. Росомахи не знали места выпаса кабарожек, они просто вели их след от устья Барсучьего ключа в надежде выйти на добычу. И след вывел их в таком месте, где кабарожкам трудно маневрировать и использовать первейшее свое средство спасения — быстрые ноги.
Элха учуяла знакомый запах росомах уже в ту минуту, когда хищники появились на Черемуховой релке. В другом месте она тотчас же ускакала бы как можно дальше от него. Теперь путь к отступлению был один — до конца релки. А дальше? Вплавь? Но росомахи лучше кабарожек умеют держаться на воде и быстрее плавают, хотя бегают по суше гораздо медленнее.
Почти неслышным свистом Элха предупредила детеныша об опасности, затаилась, чутко ловя лесные звуки. Вот ее слуха коснулся шелест, потом снова, с той стороны, откуда наносило запахи. Вскоре шелест повторился еще дважды, но теперь гораздо ближе. Это был сигнал опасности. Кабарожки неслышно проскакали легкими прыжками в направлении бивака, придерживаясь окраинки вейниковых зарослей. Через полсотни метров они остановились, опять замерли, и Элха вновь стала выслушивать звуки. И снова тот же шелест, повторяющийся в одном темпе; чувствуется, что росомахи бегут легкой и осторожной рысцой, видимо, по следу кабарожек.
Элха все дальше уходила в конец редки. Метрах в ста от бивака заросли вейника обрывались, прибрежная полоса между шеренгой черемух и старицей была почти голой, на галечнике росли лишь мелкие кустики разнотравья. Теперь Элха была меж двух огней: с одной стороны хищники, с другой — бивак, к которому она прежде опасалась приближаться даже на сотню метров. Но сейчас у нее не было выбора, и кабарожка направилась к биваку. Когда до него осталось с десяток метров, Элха увидела росомах, вынырнувших из вейника. Они тоже заметили ее. Если до сих пор они бежали рысцой, то теперь, обнаружив добычу, понеслись к ней во весь дух.
Вдруг одна росомаха остановилась и прилегла на землю, укрывшись за кустиком; вторая продолжала мчаться под самыми ветками черемух. Элха нырнула в заросли черемухи, но там, на противоположной стороне релки, вода подступала прямо к стволам деревьев. Деревья на релке росли редко, но кустарниковый подлесок был очень густой, и это мешало кабарожкам бежать. Надо сказать, что росомаха, охотясь на кабаргу (особенно зимой, когда хорошо виден след и лес далеко просматривается), обычно берет добычу измором. Напав на свежий след кабарги, хищница, не знающая усталости, преследует свою жертву до тех пор, пока та не выбьется из сил. Должно быть, такой расчет был у росомах и теперь: одна будет гоняться за кабарожками по релке, а другая — сторожить, чтобы не дать им уйти в лес.
Сначала Элху и детеныша преследовал Буга. Иногда он выгонял их на гребень релки, и казалось, что вот-вот он схватит одну из кабарожек, но каждый раз они ускользали у него из-под самого носа. Это, однако, ничуть не обескураживало преследователя.
Страх отнимает силы не только у Человека, но и у животного. Он отнимает волю к сопротивлению, а очень сильный страх может вызвать смертельный нервный шок. Кабарожки были уже, кажется, на пределе сил, когда коварные хищники поменялись ролями: уставший Буга отправился в засаду, а кабарожек со свежими силами стала преследовать Уга.
Все больше ослабевая, Элха тоже прибегла к хитрости: спасаясь от преследования, она стала бегать вокруг палатки натуралистов. Менее поворотливая росомаха тратила на огибание углов палатки больше времени и усилий, чем кабарожки. Сначала Уга пыталась делать засады, выскакивать навстречу из-за угла. Был даже миг, когда кабаржонок не рассчитал прыти и только чудом спасся от ее зубов, совершив огромный скачок через хищницу. Но потом Уга стала бегать только в одном направлении, нудно и упрямо.
Солнце клонилось к закату. Детеныш бегал еще довольно быстро, а Элха уже совсем выбивалась из сил. Вдруг в Моховой пади, примерно в полукилометре от Черемуховой релки, раздались три выстрела. Буга, уже знакомый с этими звуками (по нему неудачно стрелял из дробовика Сергей Прохоров), тотчас же покинул свой пост и тихонько сбежал. Зато Уга так вошла в азарт, что даже не обратила внимания на выстрелы.
Натуралисты возвращались на бивак все вместе, нагруженные двумя клетками-ловушками и тремя парами пантов, добытых при помощи пульки «наркоз». Впереди шагал Кузьмич. Миновав заросли вейника, он первым увидел сцену, происходящую на биваке. Не раздумывая, он быстро сбросил с плеч ношу и вскинул карабин. Меткая пуля настигла Угу, как только она появилась из-за угла палатки.
— Росомаха! — крикнул Кузьмич и бросился к биваку, на бегу передергивая затвор карабина.
Второго выстрела не потребовалось — хищница была убита наповал. Но что случилось с кабарожкой? Она отбежала за кухонный очаг, передние ее ноги подкосились в коленях, и Элха повалилась на бок. Неужели пуля рикошетом попала и в нее? Кузьмич поспешил к ней. Она подняла было полову, посмотрела на Человека своими прекрасными глазами, полными печали и отрешенности, и снова уронила ее на землю. От частого дыхания ее бока трепетали. Это напоминало предсмертные судороги.
Охотник осторожно осмотрел кабарожку, бережно перевалил ее на другой бок, но раны нигде не было.
Когда подбежали все остальные, Корней Гаврилович присел на корточки, долго осматривал и ощупывал кабарожку и наконец заключил:
— Все понятно: животное больное и к тому же почти до смерти загнано этой негодяйкой, — он кивнул на убитую росомаху.
— Почему вы думаете, Корней Гаврилович, что кабарожка больна? — спросил Сергей.
— Пощупай ее бока и спину.
— О, да она страшно худая, — сказал Сергей, потрогав жесткий, словно из мелкой соломы, мех. — А что это за бугорки под кожей? Она почти сплошь усыпана ими!
— Подкожные личинки овода, — пояснил Бударин. — Потому она и худа. Эти паразиты — истинное бедствие для копытных, особенно для кабарга. Известны случаи гибели кабарожек от личинок овода.
Старый натуралист нажал двумя пальцами под основание одного из бугорков, и из-под кожи на поверхность появился белый крупный червь почти в мизинец толщиной и сантиметра в полтора-два длиной.
— Бедное животное, — сказал Корней Гаврилович. — Оно в такой же степени благородно, как и беззащитно. Оно никому не приносит вреда, даже в питании ни с кем не соперничает, потому что кормом ему служат лишь трава и молодые побеги, а зимой — древесные лишайники да хвоя пихты. А как оно украшает нашу природу! И в то же время сколько у него врагов!
Рассуждая, Корней Гаврилович с осторожностью хирурга извлекал из-под кожи Элхи одну личинку за другой и с омерзением раздавливал подошвой. А кабарожка будто понимала, что Человек делает для нее добро, она даже дышать стала реже, спокойнее, ни разу не пошевелилась, чтобы не мешать своему врачевателю. А может, и в самом деле она чувствовала облегчение, под кожей прекращался зуд.
Наконец Бударин встал, велел принести ей воды и соли, в чтобы кабарожка не ушла, когда отдохнет, стреножить ее. Почуяв соль, Элха вскочила на ноги и с жадностью принялась лизать лакомство. Потом она долго пила воду, то и дело вскидывая изящную мордочку, пугливо озираясь по сторонам. По-видимому, ее еще преследовал страх перед росомахой, запах которой она чуяла рядом.
— Беспокоится о детеныше, — заметил старый охотник. — Не бойся, — ласково обратился он к кабарожке, — никуда он не уйдет.
— А вот и он сам! — воскликнул обрадованный Юрий. — Смотрите, — он указал в заросли черемухи.
Кабаржонок стоял метрах в десяти от палатки, искусно укрывшись в кустарнике. Среди зелени листьев видна была лишь его головка с чутко настороженными ушами.
— Он был один с ней? — спросил Бударин Кузьмича.
— Видал только одного.
— Значит, второго растерзали хищники, — заключил Корней Гаврилович. — Было два детеныша, это те, которых мы видели на луговине…
— Корней Гаврилович, почему кабарожка упала после выстрела, хотя вовсе не ранена? — спросил Сергей.
— Почему?.. Во-первых, она до крайности истощена личинками овода, да еще кормила детенышей. Во-вторых, ее измотала росомаха, это ее излюбленный способ охоты — брать добычу измором. И в-третьих, ее, наверное, напугал звук выстрела. Мне думается, между прочим, что росомаха была не одна. Другая находилась где-то на пути к лесу. Иначе кабарожий при их стремительности давно ускакали бы туда. Во что бы то ни стало надо выследить и приманить ловушкой вторую росомаху!
Подобно тому, как сохатые в подмосковных лесах, в условиях ограниченного отстрела, привыкли к людям, потому что не видят с их стороны опасности, так и Элха, вызволенная людьми из беды, вовсе перестала опасаться их. Стреноженная на всякий случай, она, однако, и не пыталась уходить далеко от бивака. Едва только восстановились ее силы, она принялась пастись. Ее спокойствие передалось и детенышу — он все время находился возле матери, иногда сосал ее, хотя людей пугался и при их приближении шарахался в кустарник.
На следующее утро Сергей и Юрий под руководством Бударина часа два выдавливали из-под кожи кабарожки личинок оводов. Более пятисот паразитов извлекли они, прежде чем на теле Элхи не осталось ни одного характерного бугорка. А скоро она стала отзываться на зов и подходить к людям, потому что каждый раз получала какое-нибудь лакомство — щепотку соли, кусок сахара или сухарь. Не привыкал к людям лишь кабаржонок. Натуралисты назвали его Гавриком, всячески приманивали, но он не подходил к ним. Через неделю Элха окончательно поправилась. Шерсть ее стала гладкой, а ребра совсем уже не прощупывались.
Вскоре возник вопрос: как быть с кабарожками дальше? Натуралисты так привязались к этим милым существам, а те к людям, что как-то трудно было представить себе Элху и Гаврика вновь среди опасностей. Студенты предлагали отправить их в зооцентр, откуда кабарожек возьмут в один из зоопарков. Бударин же хотел оставить их на свободе, в родной стихии.
В конце концов было решено ничего пока не предпринимать, пусть пасутся, а тем временем вести наблюдение за их образом жизни, повадками, за изменениями, которые будут появляться с возрастом у Гаврика.
ЛАСА И СВИРА — СОСЕДКИ
Однажды, еще в середине июня, выдра Ласа столкнулась на подводной охоте почти нос к носу с необычными зверьком. В первую минуту она приняла его за соболя, ловкача Брока: у зверька был почти такой же, шоколадного цвета мех, только чуть светлее, и почти такая же форма тела, только чуть уплощенной мордочкой, и он был лишь немного меньше соболя. Ласа хорошо знала Брока по суше: его владения в Моховой пади примыкали к берегу, где обитала Ласа, но она никогда не встречала его в своем подводном царстве. Да и вообще ей до сих пор не приходилось встречать под водой других четвероногих охотников, кроме своих сородичей.
Что же это за диво? Может быть, чей-нибудь детеныш? Величиной он был как раз такой, как выдрята, родившиеся нынешней весной. Но на выдренка он мало похож — у него более тонкое туловище, а хвост короче и более пушистый, сильнее выступают раковины ушей, наконец, перепонки между пальцами передних лап лишь едва заметны, тогда как у выдренка они соединяют пальцы чуть ли не до коготков. Да и в воде он держится не так ловко и свободно, как выдра, и плавает иначе — отталкивается сразу всеми четырьмя лапами.
Ласа осторожно, чтобы не спугнуть, двинулась к неведомому зверьку, но тот поспешно юркнул к берегу и исчез.
С тех пор Ласа время от времени заворачивала к тому месту заводи, где повстречала непонятного зверька. Однажды она застала его, когда он охотился на мелкую рыбешку; то были гольяны, стайка которых, как живое облачко, перекатывалось между крупными камнями. Зверек спрятался под светло-коричневым камнем и там замер, слился с ним и походил теперь на обломок палки длиной сантиметров тридцать — сорок. Но стоило шустрым гольянам приблизиться к камню, как зверек стремительно бросился вперед и успел схватить сразу двух рыбешек.
Нет, такой поселенец Ласе вовсе не нужен. Здесь ее владения, и никто не смеет в них охотиться, брать то, что принадлежит ей по праву хозяйки. Такого закона придерживается каждый зверь, будь то обыкновенная домашняя крыса или сам Амба-Дарла.
И Ласа стала изгонять незваного гостя. После того как зверек поймал двух гольянов, она смело бросилась к нему. Тот не ожидал нападения, стал метаться между камнями, поднял клубы мути, потом устремился к берегу. Очутившись на суше, он нырнул под бахрому корней. Почти перед самым носом Ласы зверек исчез в норе, которая уходила наклонно вверх в толщу обрывчика. Нора оказалась гораздо уже, чем ее собственная, и она едва сумела просунуть в нее лишь мордочку. Сунув нос в нору, Ласа долго нюхала воздух, но так и не смогла определить, что за существо обитало там: подобных запахов она никогда еще не встречала, хотя они чем-то отдаленно напоминали запахи ее собственной норы. Но нужда гнала на риск.
Ласе, разумеется, было невдомек связать это событие с появлением в Моховой пади Человека; она видела его уже несколько раз и инстинктивно остерегалась этого неизвестного двуногого существа. А зверька привез именно Человек. Это была норка Свира. Родом норка из Северной Америки, потом ее завезли в район верхнего течения Северной Двины, неподалеку от Вологодской области. Четверть века назад норок привезли на Дальний Восток и в Сибирь. Бассейн реки Аню я, впадающей в Амур километрах в трехстах к северу отсюда, стал новой родиной Свиры.
Нынешней весной в числе двадцати своих сородичей она попала там в клетку-ловушку, потом больше месяца прожила в ней на промысловой охотоведческой базе, а теперь вертолетом вместе с другими сородичами ее доставили в Моховую падь.
В это время Свира находилась в чрезвычайно тяжелом состоянии: она ждала потомства. Поэтому она не стала особенно тщательно обследовать местность, а сразу же принялась копать нору в первом более или менее удобном обрывчике. Едва она закончила самую черновую отделку жилища, как начались роды. К утру в логовище появилось семь слепых щенят.
И вот встреча с Ласой. На Анюе Свира не раз сталкивалась с ее сородичами и привыкла к тому, что если попадала в их владения, то они обязательно преследовали ее. Свире стало ясно, что она не продержится долго в новых угодьях, хотя ей и понравилось здесь — было много рыбы. Но и уйти она не могла, пока не подрастут детеныши.
А между тем Ласа, обнаружив нору конкурентки, часто наведывалась сюда. По новому запаху и писку, услышанному однажды, она определила, что в норе появилось потомство. Это означало, что скоро на промысел выйдет целая орава. Ласа стала устраивать засады и однажды чуть не схватила Свиру за загривок, когда та высунулась было из норы. Теперь Свира, прежде чем выйти из норы, подолгу вынюхивала воздух, высунув лишь кончик носа. Если не улавливала запаха, то высовывалась лишь чуть-чуть, так, чтобы осмотреться. С такой же осторожностью приходилось осматривать все вокруг по возвращении с охоты, прежде чем залезать в нору.
А однажды, вернувшись с промысла, Свира обнаружила в том месте, где ее нора выходила на поверхность, довольно широкое углубление. Почти на полметра уходило оно в толщу обрыва. Управившись с добычей — довольно крупным чебачком — и покормив молоком детенышей, Свира тотчас же принялась за дело. Она стала пробивать нору вверх и работала без устали до тех пор, пока не вышла на поверхность обрыва под корни молодой елки. Теперь раскопать или расширить нору сверху никто не сможет — помешают корми. Затем она стала расширять логовище, а выкопанной землей забивать нижний ход норы. Она так искусно заделала его, так плотно утрамбовала глину и гравий, что теперь никто не сможет найти ее нору.
Но Свира не возлагала больших надежд и на это убежище, она понимала, что рано или поздно выдра выживет ее из своих владений. Поэтому, пока щенки были еще крохотными и не требовали особенно много еды, Свира каждый день отправлялась на поиски нового места для постоянного поселения. Приспособленная, как и выдра, к полуводному образу жизни, она обследовала только берега Моховки и ее заливов, заводей, стариц.
Сначала она совершила несколько экскурсий по правому берегу Моховки вниз по течению, до самой границы Моховой пади, там, где она упирается в западный отрог Горбатого хребта. По течению норке легче было бы перетаскивать свое многочисленное потомство. Здесь она повсюду находила очень удобные обрывистые берега, перемежающиеся с превосходными заводями, устьями небольших ключей, — идеальные условия для поселения! Но тут ей попадались либо следы ее сородичей, либо их норы, а то встречались и сами сородичи — знакомцы по путешествию с Анюя. Все это были, как правило, сильные самки, как и она, только что ощенившиеся, поэтому нечего было и думать о том, чтобы захватить себе здесь владения. Откуда было знать Свире, что люди давно уже распределили между ее сородичами лучшие угодья. А площадь угодий немалая — четырнадцать-пятнадцать гектаров земли и до двух километров берега на одну особь.
Не в пример Ласе Свира обычно остерегалась уходить в воду далеко от берега, разве только в случае крайней необходимости. Поэтому она еще не решалась переплывать на левый берег Моховки (хотя до него было всего сорок — пятьдесят метров, и, казалось бы, туда легче перетащить детенышей, чем против течения), а принялась обследовать правобережье вверх по течению. Тут, рядом, был длинный залив с пологими берегами, он отрезал голую галечную релку, которая едва возвышалась над водой. Чем выше по течению, тем мельче становился залив, илистее его берега.
Нет, такое место не подходит Свире для поселения, хотя по всем признакам здесь много мелких раков и моллюсков — излюбленной еды норки. Тут нет главного: удобного места для жилья. Нужно подниматься выше. Где вплавь, где по илистому бережку печатает Свира тонкую строчку следов. Но вот залив кончился, впереди небольшая тальниковая урема, за ней начинается крутой бережок. Лучшего места не найти: до залива совсем близко, рядом урема, в которой можно подкарауливать трясогузок или куличков, а в обрыве она сделает себе добротное жилье.
Не успела Свира хорошенько осмотреться, как услышала стремительный свист крыльев, и в ту же секунду черная тень упала рядом на галечник. Орлан! Будто ветрам сдуло Свиру в урему, благо до нее было всего метра три. Забившись под кучу наносного хвороста, она долго пережидала опасность. На Анюе на глазах Спиры пернатые хищники не раз уносили ее сородичей. Нет, здесь слишком опасно.
Где вдоль нижней кромки обрыва, под укрытием бахромы корней, где по верхнему его краю, среди разнотравья и кустарников, Свира все бежала вверх по течению Моховки. И вот новая заводь.
Узким заливом она вдается далеко-далеко в сушу между лесным берегом и Черемуховой релкой.
Берег заводи скоро привел Свиру к подножию Мышиного склона, к оползневой завали — владениям отшельницы Эдуни. Норка тотчас юркнула под первую попавшуюся глыбу земли, опутанную старыми усохшими корневищами. Лабиринтов, ходов тут было бесчисленное множество. Значит, нужна величайшая осторожность. Свира чутко прислушивается, торопливо ловит ноздрями запахи. Опасности, кажется, нет.
Несколько минут она бесшумно бегала по лабиринту, обследовала каждый закоулок, избегая места, где пахнет енотовидной собакой. Лучшего жилья, пожалуй, не найдешь, и оборудовать его легко: нужно просто натаскать вон в ту крайнюю залу лесной ветоши, и можно поселяться. Главное, туда ведет достаточно узкий ход, и, если устроить там логовище, никакой враг не сможет проникнуть в него.
Почти до вечера трудилась Свира над устройством своего’ логовища. Получилось отличнейшее жилье — с мягкой постелькой, сухое, хорошо защищенное от любого врага и от непогоды. Да и угодья кругом, кажется, неплохие. Чтобы подкрепиться, Свира несколько раз ныряла в старицу, поймала небольшого карасика, с полдюжины раков, несколько лягушек. А в сумерки отправилась за детенышами, чтобы к утру перетаскать их в новое убежище.
Щенки встретили мать отчаянным писком — так они проголодались. Накормив и облизав детенышей, она до полуночи отдыхала. Теперь ей предстояло самое трудное. Дневной зверек, Свира выбрала для этой операции ночь, опасаясь пернатых хищников. За семь лет своей жизни Свира не раз спасалась бегством от росомахи и рыси, от куницы и крупного тайменя, от филина и коршуна. От сухопутных врагов она пряталась в воде, от водяного хищника — на суше. Но дневные пернатые хищники — самые опасные, спрятаться от них нелегко.
Первым она понесла самого крупного щенка. Тот даже не запищал, когда мать зажала зубами его загривок, как это делают кошки и другие хищники. Все шло хорошо. Свира бежала все время у самой кромки бережка, готовая в любую минуту в случае опасности укрыться со своей драгоценной ношей в воде. Но вот начался отвесный обрыв, подмытый быстрым течением Моховки: сюда подходила главная стремнина речки. Как быть? Идти под водой? Снесет назад. Подняться на обрыв? Но там в лесу сейчас хозяйничают ее враги. И все-таки Свира выбрала берег, потому что щенок еще не мог долго находиться под водой. Здесь она не мчалась сломя голову, а неслышно скользила по самому краю обрыва меж травинок и кустиков, вся превратившись в слух и зрение. Малейший шорох настораживал ее, она замирала на месте, ловила носом запахи и, только убедившись, что опасности нет, продолжала путь.
Так она достигла оползневой завали. Но возле самого убежища ее до смерти испугала отшельница Эдуни. Енотовидная собака, по-видимому, давно услышала шелест листьев под лапками ночной путешественницы и, по своему обыкновению, замерла, будто окаменела. Легкий ветерок тянул, в ее сторону, поэтому Свира не могла заблаговременно уловить запах. Эдуни, может, ничего не сделала бы ей, потому что енотовидные собаки едва ли нападают на норок, но Свиру напугал резкий запах, когда она почти наткнулась на Эдуни. Она, как это умеют делать лишь норка и выдра, беззвучно шмыгнула в воду, пробежала там по дну с десяток метров и так же без малейшего всплеска вылезла на бережок, прячась в зарослях стрелолиста.
Что же теперь делать? Свира снова крадется к входу в убежище, теперь она с подветренной стороны, и запахи, идущие со стороны Эдуни, хорошо улавливаются. Но вот они почему-то исчезли. Может быть, зверь ушел? Свира неслышно крадется к убежищу, готовая каждую минуту вновь броситься в воду. Но поблизости никого нет. Чу! Всплеск воды… Так и есть: Эдуни ходит по бережку возле того места, где Свира скользнула в воду, видимо, выискивает лягушек. Свира, не мешкая, юркнула под глыбу оползня.
Она отдыхала недолго, положив измученного и дрожащего детеныша в мягкую и теплую постельку. Ведь до утра предстоит перенести еще шестерых детенышей. Присутствие поблизости енотовидной собаки не особенно беспокоило Свиру: та не конкурирует с ней, потому что питается на суше, но запасной подводный выход из логовища сделать необходимо.
А пока она снова неслышно скользит в темноте. На устье заводи, где течение подходит к берегу, залезает в воду и мчится вплавь, увлекаемая быстрым потоком.
Теперь дело пошло быстрее — она хорошо изучила маршрут, разобралась, где более и где менее опасно, наловчилась использовать силу течения. Рассвет еще только наступал, ночная темень лишь едва поредела, а уж Свира несла последнего щенка. Напуганная встречей с Эдуни в первом походе, она теперь останавливалась и затаивалась еще метрах в десяти от входа в убежище. Вот и сейчас, положив детеныша на землю, она встала на задние лапки и, вытягивая шею, долго осматривала край заводи. В сумеречном свете она увидела Эдуни, бродившую у воды далеко от норы. Не мешкая, Свира в несколько прыжков достигла убежища и скрылась в нем.
За эту беспокойную ночь она так вымоталась, что, едва положив в постельку последнего щенка, сама свернулась в клубочек и крепко уснула. Она не чувствовала ни голода, ни боли в стертых до крови лапках.
Нелегкое это дело для зверька — приспособление к новому месту. Свире еще многое пришлось испытать, прежде чем она окончательно освоилась в Моховой пади.
Истинным бедствием был для нее ливень. Правда, за несколько дней до него она уже прокопала нору под воду, а вход в лабиринт под земляной глыбой тщательно заделала. Но логовище оказалось ниже уровня, на который поднялась вода, когда Моховка вышла из берегов. Это случилось под утро, Свира и детеныши крепко спали. Разбуженная подступающей водой — постель стала намокать — Свира растерялась. Детенышам шла только третья неделя, у них глаза откроются не раньше, чем через полторы недели, и они пока совсем не приспособлены к обитанию в воде. Инстинкт подсказал решение. Свира изо всех сил принялась раскапывать ход наклонно вверх. Вскоре она пробилась наружу как раз у верхней кромки глыбы, где она краем упирается в глиняное обнажение, оставшееся после оползня.
Где же укрыть детенышей?
Пока она трудилась, вода полностью затопила логовище; щенята сами выползли в сухую часть норы, они пищали, дрожали, лезли один на другого, соскальзывали снова в воду. Тем временем Свира выискивала подходящее убежище. Вскоре она нашла новую глыбу земли с корнем. Это было основание выворотня старой липы, которая сползла когда-то сверху и теперь росла на новом месте. Снизу под глыбой образовалась просторная ниша. В ней слегка припахивало енотовидной собакой, — по-видимому, Эдуни иногда отсиживалась здесь. Сюда и перетащила Свира на время свое потомство.
Не мешкая, она принялась копать новую нору. Делала она ее, по своему обыкновению, не очень глубокой и к полудню управилась. Лесная ветошь была мокрой от дождя, и Свира соорудила пастель из того, что оказалось в нише, — из мелких корней и сухих остатков прошлогодней травы, сухих листьев, сбитых когда-то ветром.
Но и здесь она не нашла покоя. Уже в первую ночь она почувствовала сильный зуд. Не спали и детеныши — все время ворочались, пищали. Что за напасть? Скоро Свира обнаружила причину зуда. Блохи. Они остались здесь от Эдуни и сейчас атаковали ее семью. Все свободное время Свира ловила и выкусывала этих зловредных насекомых.
В конце концов пришлось выселиться и из этого убежища. После тщательных поисков она нашла себе новое место на Черемуховой релке под корнями старой черемухи, неподалеку от бивака натуралистов. Людей она не опасалась: привыкла к ним за полтора месяца, пока жила в клетке-ловушке. В новом убежище она благополучно и вырастила своих детенышей.
МЕЖДОУСОБИЦЫ В ОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ
В Моховой пади, как мы уже знаем, обитали многие представители семейства куньих: куница Харза и соболь Б, рок, выдра Ласа и росомаха Уга, барсук Чфы и колонок Черр, а теперь вот появилась и норка Свира. Но в семье, как говорят, не без урода, и поэтому ладу в ней никогда и никакого не было.
Между прочим, любопытно, что только куница Харза и росомахи жили семьями и семьями же охотились, тогда как все остальные вели преимущественно одиночный образ жизни. Чфы не в счет, потому что он семьей не охотился, кровожадностью не отличался и не приносил никому вреда.
По характеру питания и условиям охоты относительно близки друг к другу соболь, колонок и куница. Поэтому они и оказались теперь рядом в кедрово-широколиственном лесу с кустарниковым подлеском и буреломами, с резко пересеченным рельефом и с обилием ключей, вблизи речки. Объекты охоты у них тоже одни и те же: мышевидные грызуны, бурундуки, белки, зайцы, многие виды пернатых — от мелких птах до таежных красавцев глухаря и рябчика. Харза, кроме того, нападает на молодняк копытных и даже на енотовидную собаку.
Потому и идет между ними вечный спор за охотничьи угодья, потому и раздирают их кровавые междоусобицы и раздоры.
Брок родился и вырос в Моховой пади, неподалеку от устья Барсучьего ключа. Детенышей было четверо, и Брюк был самым первым и самым сильным в выводке. Кормила детенышей мать (соболь-отец не принимает участия в воспитании потомства). Уже в два месяца Брок начал самостоятельно добывать себе корм, а в четыре, к осени, его уже трудно было отличить от взрослого соболя. В августе родительское гнездо под корнями огромной ели уже не вмещало всю семью, и Брок покинул его, чтобы завести собственный дом и собственный охотничий участок.
В хороших угодьях, богатых разнообразным кормом, соболь в летнюю пору довольствуется сравнительно небольшой охотничьей площадью; обычно же он захватывает до семи гектаров, а зимой этому маленькому «землевладельцу» размером с рукавицу требуется иногда пятнадцать и даже тридцать гектаров, чтобы прокормить себя. Меховая падь — богатое угодье, поэтому весной, летом и осенью Броку хватало совсем небольшой охотничьей площади, а зимой, когда становится трудно добывать корм, его маршруты охватывают порой почти всю Моховую падь и часто достигают даже вершины Горбатого хребта.
Нынешней весной Броку исполнилось восемь лет. Он был в расцвете сил. Первые четыре года он жил припеваючи. Сильный и ловкий, он с успехом отваживал от своих владений сородичей-пришельцев, когда они пытались охотиться здесь. Постоянно остерегался он только росомах и своих извечных пернатых врагов — совы, ястребов и орланов. Других конкурентов он в ту пору не знал. Тигр и рысь не интересовались им, а с Мугу-плешивым он жил даже в дружбе. Дело в том, что Брок любит полакомиться рыбой, но сам ловить ее не умеет. И все-таки каждую осень он вдоволь наедался рыбы благодаря Мугу-плешивому. Тот ловил нерестовую кету про запас, а Брок потихоньку таскал у него рыбу.
Но четыре года назад, под осень, преследуя голодных кочующих белок, в Моховую падь откуда-то забрела Харза с семейством. Им, видно, понравились эти места, и куницы остались здесь на постоянное жительство. Уже в первые дни они буквально терроризовали всех, кто слабее их. Ловкие, сильные, быстрые, они с акробатическим искусством скакали по деревьям. Даже белки не могли состязаться с ними. Одна из них вскоре же стала жертвой Харзы.
Это была молодая белочка прошлогоднего помета. Брок хорошо знал ее: она жила в гнезде почти на самой макушке высокой, стройной ели в охотничьем районе Брока. Не раз соболь делал попытку поймать ее, когда она спускалась на землю. Но белочка пулей взлетала на ближайший ствол, делала два-три головокружительных прыжка с ветки на ветку, с дерева на дерево и мгновенно исчезала из вида.
Харза выследила белочку на второй день после своего появления в Моховой пади, притаившись, по своему обыкновению, в засаде и наблюдая за окружающими деревьями. В сумерки белочка возвратилась с промысла. Едва она скрылась в гнезде, как Харза кинулась на макушку ели. Услышав звук царапающих кору когтей, белка немедленно заткнула изнутри лаз в свое убежище лыковым мочалом. Она сделала это так искусно, что разбойница не смогла определить, где расположен вход, и принялась проламывать дыру в стене гнезда, сделанного из беспорядочно переплетенных палочек.
Но не успела Харза сунуть в пролом морду и схватить зубами жертву, как белочка перехитрила врага — вырвала затычку и через лаз выскользнула из убежища. Головокружительный прыжок — и она на макушке соседней ели, пятью метрами ниже. Но разбойница не дремала и через секунду оказалась там же. Белочке больше некуда было деваться, и она, распушив хвост и раскинув в стороны, как крылья, все четыре лапки, полетела на землю. Пока враг спустится по стволу, она успеет скрыться. Но то же самое сделала и Харза! Она чуть не схватила свою жертву на земле, но белка успела скользнуть на прямой и гладкий ствол осины. Теперь она с непостижимой стремительностью помчалась по стволу не прямиком, а по восходящей спирали. Харза тоже кинулась на ствол. На вершине осины их разделяло всего полметра, и, когда белочка прыгнула на соседнее дерево, разбойница поймала ее на лету.
Теперь подобные драмы происходили в Моховой пади каждый день. Опасались куницы только орланов. Те не давали семье Харзы слишком расплодиться, вылавливая каждое лето на макушках деревьев одного-двух увлекшихся кровавой охотой разбойников. А одну молодую куницу задушил Чфы, когда та хотела украсть его детеныша у норы.
Первое же знакомство Брока с его сородичами едва не стоило ему жизни. Случилось это так.
У соболя, как уже сказано, площадь охотничьих угодий меняется в зависимости от времени года — зимой увеличивается, летом уменьшается. Меняется в связи с этим и его меню, включающее в общем более трех десятков животных и растительных блюд. Грызуны и насекомые, птицы и их яйца, ягоды и кедровые орешки, пресмыкающиеся и моллюски, молодые побели растений, древесные почки — все это служит ему пищей.
Как и многие другие звери, соболь всюду может найти себе безопасное пристанище: в дупле и в норе, в каменной осыпи и просто в толще снега. Он имеет одно постоянное жилище и несколько временных, «дежурных» убежищ на дальних маршрутах, по которым ходит на промысел.
Дальневосточная лесная куница, в отличие от соболя, искусно скачет по деревьям и живет семьей. Она вдвое крупнее соболя. Все это дает ей преимущества в охоте не только на мелких, но и на более крупных животных, поэтому у нее нет нужды, как у соболя, включать в свой рацион моллюсков или растительную пищу. Она не брезгует и своими дальними сородичами, такими, как соболь и колонок, с которыми оправляется без большого труда.
Для прожорливой и кровожадной Харзы требуются большие охотничьи угодья. Ими и стала для разбойной семейки вся Моховая падь, а местом для постоянного поселения она выбрала распадок в среднем течении Барсучьего ключа.
Брок в это время жил неподалеку от устья Барсучьего ключа. Выйдя однажды ночью на охоту, он заметил на дереве две светящиеся зеленые точки. Кто это? Рысь? Нет, непохоже, у рыси глаза и светятся ярче, и расставлены шире. Брок стал подкрадываться, но тут же заметил, что глаза приближаются к нему. Потом он разглядел и незнакомого зверька, которому принадлежали глазка, довольно крупного, с длинным, загнутым хвостом. Хвост был длиннее самого Брока. Оторопевший соболь стал уходить в сторону.
Вскоре он потерял из вида зеленые огоньки и уже стал успокаиваться, как вдруг увидел их впереди. Что за наваждение? Да они снова приближаются к нему! А вон в стороне еще такие же огоньки. Ясно, зверьки преследуют его, пытаясь окружить. Брок стал уходить из окружения, то и дело озираясь по сторонам. Но зверьки не отставали, держась один слева, другой справа. Брок припустил во весь дух на косогор, ведущий к верховью Барсучьего ключа, в противоположную сторону от своего постоянного жилья. Он рассчитывал увести неизвестных преследователей подальше от своей норы. К тому же там, у вершины Барсучьего ключа, среди каменной осыпи у Брока было временное убежище, которым он пользовался на охоте. Туда он и держал теперь путь, чтобы укрыться, если враги не прекратят погоню. Уж в этой завали его никто не достанет.
А погоня продолжалась, и все в том же порядке: один — чуть справа, другой — чуть слева. По-видимому, они были не очень сильными бегунами, потому что стоило Броку поднажать, как они заметно отставали. На пути ему то и дело попадались удобные буреломы и расселины в камнях, в которых можно легко укрыться, но Брок и не пытался сделать это. Не такой он простофиля, чтобы соваться в незнакомое убежище — там легко попадешь в чьи-нибудь лапы. И он уходил все дальше и дальше вверх по косогору в надежде, что преследователи в конце концов оставят его в покое.
Но враги продолжали гнаться за ним. С той же скоростью, в том же порядке, на том же расстоянии. Броку стало страшно. Он никогда еще не встречался с такими преследователями — неотступными и непонятными. Гонялись за ним росомахи, уходил он от рыси, кидался в бурелом при появлении совы или ястреба, но с такими он столкнулся впервые.
Гонимый страхом, он не чувствовал усталости. Спасение было в одном — добраться до каменной осыпи. Успеет ли? Не настигнут ли его эти ужасные в своем упорстве преследователи?
Временное убежище, которым он обычно пользовался зимой, отправляясь на охоту к перевалам Горбатого хребта, находилось в том месте, где в хребет врезался распадок. Здесь, в распадке, у истоков Барсучьего ключа громоздился дикий хаос каменных глыб и буреломов, будто прошел здесь великан и высыпал из мешка под косогор глыбы гранита размером в пол-избы каждая. Между глыбами выросли, состарились и рухнули многие поколения пихт и лиственниц, потом эту заваль мертвых колодин вместе с каменными глыбами оплели дремучие лианы актинидии, лимонника, дикого винограда. Когда говорят о непроходимых местах, то имеют в виду именно такие завали: ни изюбр, ни кабарга, ни человек не могут пройти здесь. Но зато какая благодать тут для соболя, куницы или колонка! И если они не живут здесь постоянно, то только потому, что в завали почти не водятся мышевидные грызуны.
Брок хорошо знал лабиринты осыпи. Добравшись до ее нижней границы, он не нырнул сразу под глыбы, а поскакал поверху. Скоро он заметил, что его враги лучше умеют прыгать с глыбы на глыбу: расстояние между ним и куницами стало быстро сокращаться. Тогда Брок применил хитрость — юркнул под глыбы и, петляя по лабиринту, стал уходить не вперед, а назад. Пока куницы добрались до места, где он скрылся, Брок уже был далеко позади них. Он не стал затаиваться, потому что в спертом воздухе подземелья они легко найдут его по запаху. Сделав несколько хитроумных петель, то выскакивая на поверхность, то снова забираясь в самую глубину лабиринта, он в конце концов добрался до нижнего края осыпи, откуда начинал путь поверху, и припустил во весь дух в направлении Моховки.
Брок не вернулся в свое постоянное убежище и вообще на свой охотничий участок. Поскольку враги обнаружили его там, они наверняка будут подкарауливать его на охотничьих тропах, а то чего доброго выследят и само логовище. Он припомнил великолепное дупло в старой липе неподалеку от заводи, в которой обитала выдра Ласа, Брок нередко наведывался туда с наступлением зимы и отлеживался там в непогоду. С Ласой они не были в дружбе, но и не враждовали. Единственно, кого он мог опасаться, это орланов, но если не высовываться на открытое место, то они не так уж страшны, потому что не могут проникнуть в гущу леса.
В дупле у основания липы он и поселился, но в запасе у него было поблизости еще одно жилье. Это была старая-престарая, покрытая толстым слоем мха холодина тополя, на которой уже давно разрослись густые лианы лимонника, опутавшие окружающие деревья. Сердцевина тополя стала трухлявой, Брок без труда проделал в ней двухметровую нору, которая заканчивалась великолепным гнездом-логовищем. Там со временем он и устроил себе постоянное жилье. Зимой оно было теплым, укрывало от любой пурги, а летом всегда хранило приятную прохладу и прекрасно защищало от ливней и бурь. Вместе с тем это было великолепное укрытие от лесных куниц, которые время от времени наведывались сюда. Наученный горьким опытом, Брок стал теперь гораздо умнее. Выходя, по своему обыкновению, на охоту только ночью, он прежде всего осматривался: не светятся ли где-нибудь два узко поставленных зеленых огонька. И еще он научился разгадывать среди множества прочих запахов запах этих своих противников и, почуяв его издали, уходил прочь в безопасное место. На устье Барсучьего ключа Брок старался теперь вовсе не заглядывать из опасения вновь встретиться с зелеными огоньками.
Об исчезновении Харзы и ее семейки он узнал через несколько дней. Запах их следов и зеленые огоньки вдруг почему-то перестали попадаться на его охотничьих тропах. Что бы это могло значить? Любопытство зверьков известно: обнаружив что-нибудь непонятное, они не успокоятся до тех пор, пока не выяснят все досконально. Недели через две Брок убедился, что его кровные враги исчезли бесследно. Он даже сумел установить, что их следы обрываются там, где их запахи перемешаны с запахами нового, неведомого двуногого существа.
Человека он видел не раз и постоянно избегал его, прятался при его появлении или сразу уходил, встретив знакомый запах его следов. Поскольку след куниц обрывался на перекрещении со следом Человека, Брок сделал вывод, что Человек поймал куниц. Теперь он спокойно скакал повсюду, уверенный, что ему больше не угрожают эти страшные существа с зелеными огоньками глаз.
БИТВА ВЛАДЫК
Вскоре после знаменитого ливня натуралисты стали замечать следы пребывания в Моховой пади медведя: то разрытую муравьиную кучу, то разломанную колодину, в которой, наверное, какой-то зверек сделал себе запасы еды. До появления в Моховой пади людей безраздельным хозяином здешних охотничьих угодий, если не считать тигра, был Мугу-плешивый. После его бегства ни один медведь не заглядывал сюда: летом они не любят кочевок, предпочитая какое-нибудь одно понравившееся им место. Объясняется это просто: летом медведь не испытывает недостатка в пище, хорошо отъедается, а если так, то и незачем бродить по свету, подвергать себя лишним опасностям, делать ненужные усилия. Наоборот, надо сохранять жир.
Ню вот как-то раз Юрий Квашнин и Кузьмич, спустившись в один из распадков, выходящих к долине Барсучьего ключа, увидели метрах в двадцати от себя под откосом медведя. Он что-то искал под камнями на берегу ключа, перевертывая их лапами с боку на бок. Должно быть, шум воды на перекате помешал ему расслышать шаги, а резкий запах водорослей на камнях притупил нюх, и он не почуял приблизившихся к нему людей.
— Вот он! — с придыхом прошептал Кузьмич, вскидывая наизготовку карабин. — Муравьятник…
— Только не стреляйте, Кузьмич!
— Я и не думаю, — отвечал шепотом старый охотник. — Это на всякий случай. — Он кивнул на карабин. — Может, это медведица. Если рядом где-нибудь медвежонок, она знаешь…
Каким-то непонятным образом медведь все же почувствовал людей: он вскинул испуганную заостренную морду, украшенную пышными черными бакенбардами.
— Не шевелись, — прошептал Кузьмич Юрию.
Они замерли на месте. Медведь повертел головой, ничего опасного не заметил и продолжал перевертывать камни.
Воспользовавшись этим, Юрий и Кузьмич неслышно отошли назад, в заросли, и поспешили подальше от этого места.
— Почему он нас не заметил? — спросил Юрий бывалого охотника. — Он же смотрел прямо в нашу сторону.
— Зверь в лесу различает только то, что хоть чуть движется, — объяснил тот. — Если замереть — он не замечает. Один раз белковал я по осени, в конце октября, и присел возле ключа перекусить. Прислонился спиной к стволу кедра, ноги протянул к воде, сижу, ем. Глядь — медведь идет как раз вдоль ключа, по другому берегу. Что тут делать? У меня только мелкокалиберка. Думаю, не буду шевелиться, заметит или нет? И что ты думаешь? Таки не заметил, косолапый! Повертел мордой, когда был напротив, метрах в десяти, по ту сторону ключа; да так и прошел мимо.
Появление в Моховой пади Черного Царапа — а это был он — имело свою историю. Черный Царап был еще сравнительно молодой медведь, ему шел восьмой год. Он родился и вырос в верховьях Моховки, а лет пять назад вытеснил одряхлевшего медведя из охотничьих угодий в урочище Крутые отроги и стал их владельцем. Но осенью прошлого года там устроила себе берлогу подруга Мугу-плешивого. Правда, весной, когда она вышла из берлоги, особенных ссор между ними не случалось. Черный Царап принадлежал к гималайским медведям, которые меньше бурых и ведут несколько иной образ жизни, полудревесный. Может быть, последним обстоятельством и объяснялось их мирное сосуществование в одних и тех же угодьях. К тому же медведица воспитывала детенышей, поэтому она проявляла большую осторожность и старалась держаться подальше от Черного Царапа. Он же попросту побаивался многодетной матери и всегда уступал ей дорогу на охотничьих маршрутах.
Но недавно медведица куда-то исчезла и не показывалась в своих угодьях почти целый месяц. Когда же она снова вернулась в Крутые отроги, сюда стали наведываться ее новые друзья, бурые медведи. Они часто устраивали между собой драки, а потом стали терроризировать и Черного Царапа. Один из них, медведь средних лет, почему-то стал преследовать Черного Царапа буквально по пятам. Куда Царап, туда и тот. Залезет Царап на высоченный кедр, а преследователь сидит у подножия, ждет, когда тот слезет. О том, чтобы вступить в драку с бурым, Черному Царапу нечего было и думать: тот почти в полтора раза крупнее его, сомнет наверняка. Поэтому Черный Царап, вообще-то злой и проворный зверь, всячески избегал встреч со своим северным сородичем. В конце концов он вынужден был покинуть свои охотничьи угодья. Так он перекочевал в Моховую падь.
Здесь сначала все шло хорошо. В Моховой пади у него не оказалось конкурента, и он стал безраздельным владельцем охотничьих угодий. Присутствие Амба-Дарлы, которого он давно знал, не мешало ему: при появлении тигра он попросту уходил. Амба-Дарла тоже давно знал запахи черных, как, впрочем, и бурых медведей, мирился с ними и особой агрессивности не проявлял. Появление в Моховой пади Черного Царапа он встретил почти безразлично.
Но скоро здесь появился и тот бурый медведь, что преследовал Черного Царапа в Крутых отрогах.
Обнаружив появление своего преследователя, Черный Царап переселился на склон Горбатого хребта, в кедрач. Там ему было спокойнее: в достатке имелась еда — прошлогодние кедровые шишки, кругом высокие стволы, на которые можно залезть при появлении назойливого преследователя.
Мурга — так звали этого бурого медведя — не случайно преследовал Черного Царапа. Когда он был еще двухгодовалым пестуном, на него напал гималайский медведь и едва не задушил. Спасла мать, оказавшаяся рядом. Глубокая рваная рана на холке между лопатками давно зарубцевалась, но нет-нет давала о себе значь — связывала движения передних лап, особенно во время драк. Потом у него случилась еще одна встреча с сородичем Черного Царапа. В позапрошлом году весной тот грабил осенние запасы кеты, сделанные Мургой, и он застал вора на месте преступления. В завязавшейся драке Мурга как следует потрепал его, но тот сумел вырваться из его лап и спасся бегством на дерево.
Теперь Мурга преследовал любого из сородичей Черного Царапа до тех пор, пока ему не надоедало ходить по их следам или пока он не изгонял их прочь из округи. Да и по натуре Мурга был агрессивен и не терпел по соседству кого бы то ни было из своих дальних или ближних сородичей. Но в Крутых отрогах, где он искал свиданий со старой подругой Мугу-плешивого, его соперником оказался очень сильный и ловкий молодой медведь, который чуть не сломал ему шею.
Теперь, злой на весь свет, но больше всего на соперника, он срывал старые и новые обиды на Черном Царапе.
В Моховой пади Мурге понравилось, и он решил поселиться здесь. Но уже назавтра он напал на какой-то незнакомый запах на траве и повел след. Дело было в поздние сумерки. Вскоре он очутился на Черемуховой релке. Высунувшись из зарослей вейника, Мурга оторопел: впереди колыхался огромный живой красный цветок, а возле него двигались непонятные двуногие существа. Он никогда не видел Человека, никого в тайге не опасался и поэтому сейчас вовсе не испугался, просто ему стало любопытно. Чем дольше бродит зверь по тайге, тем больше у него случается всяческих встреч. Но не каждая встреча обязательно приводит к нападению. Напротив, подавляющее большинство таких встреч кончается мирно даже среди сильнейших — кто-то сворачивает в сторону и уходит. Осторожность и еще раз осторожность — вот чем руководствуется каждый зверь. И если сильный хищник встретится с объектом своей постоянной охоты, добыча постарается заранее ускользнуть.
Мурга сейчас не охотился, он был сыт — только что объел гроздья дикого винограда со старой лианы, опутавшей куст орешника. Просто его заинтересовали непонятные запахи, а теперь вот и этот живой красный цветок, и двуногие существа. Ничего подобного он еще не видел. Он сделал еще несколько шагов вперед, но в эту минуту на него нанесло дым костра, что-то едкое ударило в нос и испугало его. Чихнув несколько раз, Мурга повернул прочь и рысцой убежал с Черемуховой релки.
С той поры он не заглядывал сюда. Больше того, если встречал в тайге незнакомые запахи, что завели его на Черемуховую релку, — запахи Человека, немедленно уходил в сторону.
В первые же дни обитания в Моховой пади он потерял след Черного Царапа, но напал на следы Большой семьи. К середине июля она еще оставалась в дубняке или кедровнике, добирала остатки прошлогоднего урожая желудей и кедровых орешков. Иногда кабаны совершали круговые обходы всей Моховой пади в поисках более разнообразного корма. Паслись они большей частью врассыпную, но отдельные выводки держались на определенном расстоянии друг от друга и на ночь собирались вместе. Лишь старые секачи отшельничали, паслись и бродяжничали поодиночке, потому что могли выдержать бой с любым хищником.
Мурга хорошо знал диких кабанов. Он не раз охотился на них, получил однажды достаточно хороший урок при попытке напасть на секача и теперь был очень осторожен в выборе объекта для охоты. Вот и сейчас обнаружив знакомый запах у нижней границы дубняка, он повел след со всей осторожностью. След вывел Мургу к среднему течению Барсучьего ключа. Вдруг он почуял запах свежей крови. Забыв об осторожности, ринулся вперед через густую заросль дудника и прямо с ходу наткнулся на тушу крупного подсвинка со свежеразорванным и отчасти выеденным боком. Вот это находка! Мурга придавил тушу передними лапами, прилег на живот и с жадностью принялся отрывать куски совсем еще теплого мяса.
А в это время Корней Гаврилович и Сергей Прохоров возвращались с верховьев Барсучьего ключа, где они учитывали кормовые угодья для соболей. День стоял тихий и душный — лес продолжал испарять влагу, принесенную ливнем. Кроны деревьев полнились птичьим гомоном, характерным для середины июля, когда пернатая молодь, поднявшаяся на крыло, учится своим песням и правильному произношению своих птичьих слов.
Натуралисты шли по правобережному гребню-отрогу, отделяющему Моховую падь от долины Барсучьего ключа. Им оставалось пройти какие-нибудь две сотни метров до того места, где Амба-Дарла задавил подсвинка, отогнав его подальше от выпаса Большой семьи, когда тишину леса разорвал рев тигра. Натуралисты замерли на месте. К реву тигра примешался рев медведя. Рычание то захлебывалось, задушевно притихало, то вновь взрывалось яростно, становилось грозным и страшным. Потом рык стал все короче и напряженнее, все чаще захлебывался, делался каким-то булькающим, глухим, замирающим. Наконец, стал доноситься лишь предсмертный хрип, но скоро и он затих. Все это не продолжалось и минуты…
Кто хоть раз слышал рев тигра в тайге, тот никогда не забудет его. В горловом, клокочущем и немного дребезжащем могучем звуке слышна дикая, грозная сила… У человека кровь стынет в жилах, все живое цепенеет, сам лес как бы замирает в ужасе. Кажется, это злой и грозный рок трубит о безраздельном своем могуществе над всем смертным…
Лица натуралистов были бледны.
— Что это, Корней Гаврилович? — спросил шепотом Сергей.
— Какая-то страшная драма… — тихо ответил Бударин, продолжая напряженно вслушиваться. — Не иначе как схватились сами владыки дебрей.
Долго не решались они двинуться с места. Лес хранил оцепенелую тишину. Ни шороха, ни птичьего голоса, лишь один мирный, приглушенный перезвон ключа доносился со дна долины.
Что же произошло?
Натуралисты были правы — встретились владыки дебрей и не смогли мирно разойтись. Если бы Мурга сохранил присущую ему осторожность и осмотрительность, он бы непременно заметил Амба-Дарлу, который лежал неподалеку возле самого ключа. Он только что полакал воды после свежего кабаньего мяса и теперь облизывался, отдыхал.
Шорох, неожиданно возникший в зарослях дудника, а потом жадное чавканье там, оде лежала его добыча, словно подбросили Амба-Дарлу с места. Он вскочил на ноги, устремил горящие ненавистью глаза в ту сторону, с силой втянул ноздрями воздух. Так и есть — медведь! Не успел Мурга поднять морду, как Амба-Дарла обрушил на него могучий удар лапы. Так он обычно убивал копытных, переламывая им позвоночник. Однако хребет у медведя оказался крепче, чем у изюбра или кабана. Мурга перевернулся на спину, но вмиг вскочил и очутился на задних лапах.
Силы их оказались равными, но проворства, как и бойцовской ловкости, у тигра было больше. Амба-Дарла был яростнее по самой своей природе, поэтому он нападал тогда, как Мурга сначала лишь защищался. Но вот тигру удалось поймать клыкастой пастью левую переднюю лапу медведя. Раздался глухой хруст костей и яростный рев Мурги. Медведь всем корпусом ринулся на врага, нацелив свою широко открытую пасть на горло Амба-Дарлы. Он впился зубами в шею тигра, чуть повыше левого плеча, у лопатки. Кровь хлынула из раны. Чувствуя, что ему не вырваться из железных тисков, Амба-Дарла стал рвать когтями голову Мурги. Медведь разжал пасть, и тогда Амба-Дарла новым ударом лапы по голове сбил его с ног. Падая, тот, однако, успел вцепиться зубами в брюхо тигра, но Амба-Дарла сумел дотянуться до загривка медведя и последним страшным усилием впился ему в затылок… Пасть Мурги постепенно разжалась. Он издыхал. А Амба-Дарла все продолжал терзать его затылок, потом добрался до горла…
Но для него самого все уже было кончено. У него хватило сил только на то, чтобы встать на ноги и сделать несколько шагов к ключу. Добыча, из-за которой произошла эта жестокая схватка, была уже не нужна ему…
Все это натуралисты прочитали по следам, когда со всеми предосторожностями подошли к месту трагедии. Кустарник и трава были вытоптаны и забрызганы кровью, земля взрыхлена, там и тут торчали вырванные корни. Мурга лежал на животе, упершись задними лапами в землю, как бы готовясь к прыжку. А метрах в десяти от него, уткнувшись мордой в воду, на берегу ключа лежал Амба-Дарла. Видимо, он прилег попить, да так и не встал.
С этого дня безраздельным владельцем охотничьих угодий в Моховой пади стал Черный Царап. Только надолго ли?
ОПЫТЫ ЮРИЯ КВАШНИНА
Еще в первые дни существования «лесного лазарета» на Черемуховой релке Юрий Квашнин стал главным его «попечителем». Он показал начальнику экспедиции свою программу опытов и наблюдений. Тот удовлетворенно хмыкнул и сказал:
— Любопытно… Действуй, Юра.
Для зайца Пишки и медвежонка Фомки по предложению Юрия соорудили общую, довольно просторную землянку, разгородив ее посредине металлической сеткой. Это было очень уютное жилье с мягкой постелью из лесной ветоши и приятной прохладой, так необходимой зверям в июльскую жару. Кормили их обильно и питательно: Фомку — свежей рыбой, ягодами черемухи и малины, сухарями, посыпанными сахаром, Пишки — молодыми побегами тальника, сочными стеблями дудника. На десерт они получали разведенное водой сгущенное молоко, к которому оба скоро привыкли и лакали его с видимым наслаждением. Дважды в сутки они получали по таблетке пенициллина, растворенного в воде.
Фомка быстро шел на поправку и уже в начале второй недели стал самостоятельно вылезать из землянки. У Пишки дело обстояло хуже, видимо, сказывались заячьи годы, да и травма была тяжелая — перелом позвоночника. У него все время держалась высокая температура, и он часто дышал.
Молодой натуралист все это время не выходил в маршруты. Он поил Пишки холодной водой, давал усиленную дозу антибиотиков. К концу первой недели кризис миновал, зайчишка повеселел, охотнее стал глодать веточки тальника и даже сухари, которых отродясь не видывал.
Гораздо больше забот потребовали орлята. Сначала их держали в клетке-ловушке, опасаясь, что птенцов задушат куницы, колонок или еще какой-нибудь четвероногий хищник. Орлята были ужасно прожорливы и ежедневно съедали много мяса и рыбы.
Еще в первые дни после гибели орлиного небоскреба у Юрия возникла мысль заставить родителей самих кормить свое потомство. Они не покинули Моховой пади после гибели гнезда. Первые три дня кружили над Черемуховой редкой, ночевали на вершинах деревьев за старицей и, кажется, вовсе не охотились. Потом они стали исчезать, но ненадолго, к вечеру обязательно усаживались на своих излюбленных макушках сухостойника неподалеку от Черемуховой релки. Теперь они не боялись людей, и именно это обстоятельство надоумило Юрия «приручить» их еще больше.
Сначала он хотел было восстановить их старое гнездо, но, осмотрев его, убедился, что это невозможно: оно застряло как раз в гущине кроны, метрах в четырех от земли. Орланы вообще не садились в кроны, они предпочитали сухие макушки деревьев или корягу на открытом берегу.
И тогда появилась мысль соорудить хотя бы простенькое гнездо на облюбованной орланами сухой вершине гигантского старого ильма, который рос за старицей, недалеко от берега. Больше половины его основных ветвей и макушка уже высохли, но старик ильм продолжал цепляться за жизнь, посылая еще соки вверх, питая ими живые ветви. Он возвышался среди ближайших деревьев метров на десять, и лучшее дерево для сооружения искусственного гнезда для орланов трудно было и подыскать.
Это была сложная работа — соорудить там гнездо, не отпугнув орланов. Они улетали очень рано, к полудню приносили то змею, то рыбину, долго сидели на сухостойнике, потом бросали добычу вниз, видимо, в надежде, что ее подберут детеныши, и вновь улетали на полдня. В эти промежутки Юрий ходил к ильму, брал добычу и кормил ею орлят. Потом соорудил крестовину из жердей, в отсутствие орланов залез на ильм и приладил ее на макушке дерева. Заметят или не заметят? Орланы, возможно, и заметили «обнову», но не придали ей значения. Это обнадежило Юрия. Потом он стал таскать туда охапки хвороста и аккуратно расстилать их по крестовине. Он старался делать это так, как было в «небоскребе». И снова наблюдал: садятся орланы на хворост или нет?
Нет, не садятся. Сидят рядом на ветках, но настила избегают. В течение последующих дней Юрий нарастил гнездо, устроил в нем точно такой же лоток-углубление, какой видел, наблюдая за жизнью орланов. Сядут в него или нет? Нет, не сели, по-прежнему ночуют на голых ветках.
Но вот наступил день, когда Юрий забрал в рюкзак двух здоровых орлят, залез с ними на ильм и положил их в лоток. Третьего, с поломанным крылом, оставил на биваке. Он не был уверен, что крыло у орленка срастется правильно и что тот сможет нормально летать. А орлан без крыльев — не орлан. Если не сможет летать, его заберут в город и отправят в зоопарк.
Зная, что орланы прилетят с охоты в семь-восемь часов вечера, Юрий постарался управиться к этому времени. Потом, вооружившись биноклем, стал наблюдать. Вот в небе показались орланы. Они, по обыкновению, покружили над Моховой падью и стали спускаться. Куда же они сядут? Вот они — опустились прямо в гнездо! Как всегда, каждый нес в когтях добычу: Белохвостый Клак — зайца, орлица — рыбину в полметра длиной. В этот вечер Юрий Квашнин был счастлив: орланы признали своих детенышей. Он боялся, что могут отказаться от них.
Третий орленок остался на биваке. В конце августа он выглядел уже взрослой птицей. Внешне перелом крыла не был заметен, но молодой орлан никак не хотел взлетать. Жил он вольно, целыми днями бродил вокруг бивака или, подпрыгивая по стенке полога, взбирался на конек палатки и там подолгу сидел, озирая окрестности. Чем взрослее он становился, тем все чаще и беспокойнее посматривал в небо, когда там появлялись с призывным клекотом его родители. Иногда при их появлении он начинал громко пищать, и тогда орланы делали несколько кругов над Черемуховой редкой. Только один раз — это было в конце июля — Юрий случайно увидел, как на площадку возле бивака опустился один из взрослых орланов, оставил убитую гадюку и тотчас же снова взмыл в воздух. Орленок тотчас же набросился на родительский подарок.
Раненого орленка окрестили Грозным. Уже к концу июля он понял, что это его имя, и шел на зов. Он так привязался к Юрию, что стоило тому появиться на биваке, как Грозный кидался к нему навстречу, то начинал пищать, то пробовал клекотать, хотя еще не умел разговаривать по-взрослому. Он позволял Юрию брать себя на руки, сажать на плечо, не сопротивлялся, когда тот осматривал пораненное крыло. Но все более взрослея, Грозный обретал орлиную силу, поэтому стало небезопасно держать его на плече — орленок слишком крепко хватал «насест» своими железными когтями.
Однажды натуралисты увидели над Моховой падью четырех орланов — это в сопровождении родителей поднялись на крыло детеныши. Несколько дней Юрий все ждал, что вот-вот полетит и его воспитанник. Несколько раз осматривал молодой натуралист сломанное крыло орленка, растягивал его. Оно казалось ему совершенно здоровым, и все-таки Грозный не поднимался на крыло.
Почему же он не хочет летать? Юрий поделился обоими сомнениями с Будариным.
Корней Гаврилович внимательно осмотрел пораненное крыло, нашел его совершенно здоровым и высказал такую мысль: у орленка продолжает действовать «болевой рефлекс», связанный с воспоминаниями о переломе кости, а потом с операцией по ее сращиванию.
— Попробуй, — посоветовал Корней Гаврилович, — взберись с Грозным на макушку черемухи и кинь его в воздух.
— А если сломается крыло?
— Не думаю. Он просто трусит. Ну а если случится перелом, значит, быть ему жильцом зоопарка. Там он безбедно проживет свой век.
Юрий позвал Грозного, который в это время что-то клевал на берегу старицы. Тот припрыгал к нему и, словно солдат, стал напротив по стойке «смирно», длинно вытянув шею и внимательно глядя в лицо хозяину. Юрий взял его поперек туловища под мышку. Грозный, по обыкновению; не оказал никакого сопротивления, даже позволил захватить и поджать себе ноги с цепкими когтями. Но когда Юрий полез на черемуху, орленок стал вырываться.
Очутившись на макушке черемухи, Юрий не сразу решился кинуть вниз своего воспитанника.
— Ну, кидай же! — крикнул снизу Корней Гаврилович. — В случае чего я его поймаю тут.
Юрий погладил Грозного по голове, потом наклонился и выпустил его из рук. Тот явно не ожидал такого «подвоха». Но птичий инстинкт сработал — орленок расправил крылья. Вот уж он часто машет ими почти у самой земли… но вдруг еще несколько сильных взмахов — и Грозный пошел вверх!
— Молодец! — заорал Юрий.
А орленок поднялся выше черемух, сделал круг над Юрием и стал спускаться. Юрий с тревогой наблюдал за ним. Тот помахал крыльями над самой его головой, но сел не на плечо, а рядом, на ветку.
— Слезай, Юра, — распорядился Бударин, — теперь ясно, что будет летать. Пусть отсидится.
Но стоило Юрию спуститься на землю, как Грозный сорвался с черемухи и опустился на конек палатки. С минуту он оставался там, следя за своим покровителем, потом подпрыгнул и спланировал прямо ему на плечо. Юрий погладил орленка по голове и пригнулся к земле, чтобы заставить его спрыгнуть с плеча, когти больно кололи тело. Грозный, однако, не хотел спрыгивать на землю, а полез на спину Юрия, больно царапая ему кожу.
— Ах, негодник! — воскликнул Корней Гаврилович. — Это он хочет, чтобы ты повторил эксперимент! Попробуй, Юра.
Кое-как ссадив Грозного со спины, Юрий снова взял орленка под мышку и полез на ту же черемуху. На этот раз Грозный сам стал готовиться к полету, когда оказался на макушке дерева: он беспокойно заворочался, пытаясь расправить крылья. И вот он снова в полете. Какая уверенность! Лишь два-три раза взмахнул крыльями и пошел широким и величественным виражом над станицей и Черемуховой релкой. По всему видать, он не думал садиться, но и не улетал далеко и не поднимался слишком высоко — парил над лагерем метрах в пятидесяти от земли.
— Слезай, Юра! — крикнул Бударин. — Пусть порезвится!
Грозный долго парил, с видимым наслаждением улавливая потоки воздуха, и то поднимался вместе с ними, то опускался.
Все это происходило под вечер. Оранжевые лучи солнца ярко подсвечивали его крылья. Наконец орленок опустился на конек палатки и уже по пологу сбежал на землю, опять к Юрию.
— Хватит, пусть теперь сам взлетает, — посоветовал старый натуралист.
Но Грозный еще долго ходил с вызывающим видом вслед за Юрием, высоко вскинув голову и слегка приопустив крылья.
— Спрячься в палатку, — посоветовал Корней Гаврилович, — посмотрим, что он будет делать.
Грозный долго стоял возле входа в палатку, где укрылся Юрий, потом повернулся, увидел Корнея Гавриловича и зашагал к нему.
— Ах, негодник! — снова воскликнул тот и взял его поперек, как это делал Юрий. — Ну, лети! — и он кинул его вверх.
Орлан взмахнул крыльями и пошел кружить сначала понизу, а потом по спирали — в вышину… Вот он взобрался на высоту метров в двести, и в это время показались его родители. Они летели с верховьев Моховки. Затаив дыхание, натуралисты наблюдали, что же будет дальше? Какой будет встреча? Грозный находился вдвое ниже родителей, и они тотчас же начали описывать широкие круги, постепенно снижаясь к нему. Между ними и орленком оставалось каких-нибудь пятьдесят метров, когда Грозный стремительно пошел вниз и, с ходу спланировав к биваку, сел на землю.
— По-видимому, испугался, — сказал Корней Гаврилович.
Родители тем временем сделали еще несколько кругов над Черемуховой релкой и улетели в направлении своего гнезда, а Грозный еще долго провожал их тревожным взглядом.
А назавтра он сам стал взмывать с земли и летал без устали почти весь день — над Моховкой, над левобережной поймой. Однако в Моховую падь он почему-то не залетал.
Но однажды под вечер, возвращаясь из маршрута, Кузьмич и Юрий оказались свидетелями любопытной сцены: возле бивака расхаживали три орлана! Увидев людей, они все разом взмыли и полетели в направлении Моховой пади. Который из них Грозный, понять было невозможно. Они уже миновали старицу и почти окрылись за стеной прибрежного леса, как вдруг один из них повернул назад, сделал небольшой круг над старицей и Черемуховой релкой и начал планировать прямо на Юрия. Пришлось подставить ему рюкзак, на который он благополучно опустился. Он смотрел в лицо Юрию и громко пищал, широко раскрыв клюв с розовой пастью: просил еды.
— Сейчас, Грозный, сейчас, — успокаивал Юрий.
Возле бивака он столкнул орлана на землю, вынул из рюкзака четырех бурундуков. В это лето, как всегда после минувшего урожайного года, бурундуков наплодилась целая пропасть. За каких-нибудь пять минут Грозный управился с ними и снова зашагал к палатке, где скрылся Юрий, — требовал добавки. Пришлось брать удочку и идти к старице, в ней хорошо брали чебачки и гольяны. Грозный тотчас же последовал туда: он давно привык к этому способу пропитания. Обычно он становился рядом с удильщиком и следил за поплавком. Стоило поплавку зашевелиться, как орленок начинал беспокойно пищать — тащи, мол! Потом следил за выхваченной из воды рыбиной и бегом бросался к месту ее падения, рискуя попасться на крючок.
Только после шестой рыбешки Грозный успокоился и, подпрыгивая, направился на свое излюбленное место — конек палатки.
На следующий день Юрий проделал еще один опыт. Уходя утром в маршрут, он наловил десятка три чебачков и гольянов и разбросал их на том месте, где однажды собирались молодые орланы. И он не ошибся: по возвращении на бивак увидел здесь уже не только молодых орланов, но и их родителей.
К осени орлята так привыкли к людям, что вовсе перестали бояться их и все время вертелись возле бивака. Правда, в руки не давались. Грозный проводил немало времени в гнезде, но ночевать прилетал в лагерь. Только теперь он садился уже не на конек палатки, а на макушку одной из черемух. И хотя он хорошо научился сам добывать себе корм, при каждой встрече с Юрием клянчил у него еду. Один раз днем даже нашел Юрия километрах в трех от Черемуховой релки, вниз по течению Моховки, на берегу, и не отставал со своими просьбами до тех пор, пока тот не подстрелил ему из мелкокалиберки кедровку.
К концу июля здоровье Пишки поправилось окончательно, и Юрий приступил к своим опытам с обитателями землянки. Задача состояла в том, чтобы подружить их. Молодой натуралист начал с того, что стал поить их разведенным молоком из общей тарелки. Он подсовывал ее под перегородку так, что одна половина оказывалась у Фомки, а другая у Пишки. Сначала, пока тарелка была полной, все шло хорошо, оба лакали спокойно. Но вот молоко остается лишь на дне. Первым упирается в стенку лбом Фомка, потом Пишки. Они давят один на другого лбами, каждый начинает лакать быстрее, Фомка рычит, Пишки что-то бормочет в ответ. Потом Фомка размахивается и с силой бьет лапой по сетке. И тогда Пишки отскакивает от тарелки.
Так продолжалось дня три. И вдруг случилось неожиданное. Во время очередной трапезы Фомка обычным своим приемом отогнал было Пишки от остатков лакомства, но, едва успел он снова приложиться к тарелке, как Пишки в бешенстве налетел на сетку и изо всех сил начал барабанить по ней передними лапами, да так, что вся она зазвенели и заходила ходуном. Фомку будто кинули в дальний угол, забившись туда, он в страхе таращил глаза на своего буйствующего соседа. Юрий хохотал до слез, описывая спутникам во всех подробностях эту сцену.
С той поры при каждом кормлении Фомка начинал опасливо посматривать на соседа, как только пойло подходило к концу, и видно было, что он каждую минуту готов шарахнуться в угол.
— Теперь можно снять перегородку, — сказал Бударин. — Они достаточно научились уважать друг друга. Посмотрим, как сложатся их дальнейшие отношения.
И вот перегородка убрана. Однако в поведении и во взаимоотношениях Фомки и Пишки не произошло никаких перемен. Они по-прежнему спали на своих местах, не заходили на «чужую» половину. Лакомство им давали, как и раньше, в общей тарелке. Но как деликатно они ели, особенно когда содержимое тарелки подходило к концу! Разве только громче сопели, соприкасаясь носами. Поистине, можно было позавидовать их взаимной терпимости.
Еще в первые дни после выздоровления Фомку начали выводить из землянки. Сначала на веревке-шлейке, а потом и без нее. Он мог бродить всюду, где ему заблагорассудится, но есть и спать возвращался в землянку.
Труднее было с Пишки. Этот сразу же после выздоровления норовил удрать, даже пробовал подкапывать стенку в землянке. Ело характер давно сложился, свобода действий казалась ему наилучшей гарантией безопасности. Но к тому времени, когда натуралисты сняли перегородку в землянке, в Пшик ином характере произошли перемены. Теперь он шел навстречу Юрию, а не забивался в угол, как вначале, брал из рук еду; одним словом, перестал бояться людей. Его, как и Фомку, сначала выводили на прогулку на веревке. Потом несколько дней его оставляли на привязи под черемухой. Наконец настал день, когда его вовсе освободили от шлейки.
Получив свободу, Пшики, однако, сначала по-прежнему пасся под черемухой. Потом запрыгал все дальше и дальше от нее, пока не скрылся в зарослях. Где уж он бродяжничал всю ночь и что испытал, известно ему одному. Только утром, когда Юрий заглянул в землянку, зайчишка преспокойно дремал на своем излюбленном месте.
С этого дня землянку больше не запирали — Фомка и Пишки вольны были уходить и возвращаться, когда им заблагорассудится.
Частой гостьей бивака все это время была Элха со своим Гавриком. Кабаржонок быстро рос и к концу августа почти догнал мать. Но он по-прежнему ходил за нею как тень и при малейшем испуге кидался под ее защиту. А пугался он всего — людей, Фомки и даже Пишки, когда тот начинал прыгать в его сторону. Фомки боялась и сама Элха. Дурашливое и веселое существо, Фомка любил устраивать засаду на кабарожек, когда они паслись вблизи бивака. Затаится где-нибудь под кустиком и сразу выпрыгивает, как только возле появляются кабарожки. Но они не убегали от него далеко, просто отскакивали чуть в сторону и продолжали щипать листики черемухи. Наверное, понимали — дурачится баловник. Что касается Пишки, то он предпочитал пастись бок о бок с Элхой, когда она бывала неподалеку. Видимо, их связывала давняя дружба.
В первых числах сентября случилось необычное происшествие.
Бивак всегда просыпался с восходом солнца. В это время здесь бывало особенно оживленно: выходили из палатки натуралисты, вылезали из землянки Фомка и Пишки, прилетали молодые орланы, а иногда поблизости паслись Элха с Гавриком.
В то утро Сергей Прохоров, выйдя первым из палатки, увидел ястреба-тетеревятника, кружившего в небе неподалеку от Черемуховой релки. Сергей кинулся в палатку, схватил двустволку и стал искать глазами пернатого разбойника. Тот, наверное, нацеливался на Пишки — заяц пасся метрах в тридцати от лагеря под укрытием черемуховых крон, а ястреб-тетеревятник кружил как раз в той стороне. Сергей вскинул ружье и дуплетом послал в хищника две порции дроби. Пока он следил, как ястреб, кувыркаясь, падает в старицу, Пишки вдруг сорвался с места и кинулся к Сергею. Очутившись возле молодого натуралиста, он привстал на дыбки и начал колотить передними, лапами по ногам Сергея. Из палатки выбежали остальные натуралисты. Юрию удалось поймать своего подопечного за длинные уши и тем утихомирить у него приступ буйности. Натуралисты так и не могли объяснить причины взрыва ярости у Пишки. Скорее всего он испугался выстрела.
КАК ПЕРЕХИТРИЛИ БУГУ
В середине августа, с очередным рейсом вертолета, доставившего экспедиции продовольствие, Корней Гаврилович получил из зооцентра письмо с настоятельной просьбой во что бы то ни стало отловить росомах, сколько смогут. Заявки на этого зверя у зарубежных зоологов пока что удовлетворены далеко не полностью.
За два с половиной месяца пребывания в Моховой пади натуралисты встретились с росомахой только дважды. Редко еще можно найти столь скрытного зверя. До сих пор зоологи очень мало знают о том, как живет росомаха в естественных условиях. Трудности наблюдения за ней связаны и с тем, что она ведет преимущественно ночной образ жизни и к тому же обладает феноменальной осторожностью, редкостным слухом и обонянием.
И вместе с тем ни один из зверей столько не досаждает охотникам, как росомаха. Бывалые охотники могут рассказать вам бесчисленное множество притч о ее проделках.
У одного она регулярно проверяла всю линию капканов, изучив ее по следам охотника. При этом искусство, с каким она вынимает из капкана добычу, прямо-таки удивительно; сама же она попадает в капкан крайне редко. После ее визита ни в одном капкане не остается добычи. Нет, она не съедает всего, что украла, а прячет под колодины, зарывает в снег или залезает на дерево и засовывает добычу между ветками.
У другого она начисто разграбила палатку. Понятно было бы, если бы она утащила съестное. Так нет же, растаскала, спрятала чайник, ружье, нож, изорвала в клочья постель, одежду, полог палатки. Дальневосточные охотники еще с осени делают себе в промысловом районе запасы на зиму. Для их хранения они возводят лабаз — небольшой крытый сруб на четырех столбах выше человеческого роста. При этом столбы обтесываются довольно гладко, даже бурундук не может влезть по ним. И даже в такой лабаз, как рассказывают приамурские охотники, росомаха умудряется проникнуть.
Буга и покойная Уга убивали гораздо больше, чем могли сами съесть, не брезговали падалью, объедками, оставшимися после рыси Фуры, Амба-Дарлы и Мугу-плешивого; поедали они ягоды, желуди, кедровые орешки.
Несколько лет назад, в середине марта образовался в Моховой пади крепкий наст. После оттепели ударили морозы, и снег покрылся ледяной коркой. Для копытных это настоящее бедствие, особенно для кабарожек с их тонкими ножками и острыми копытцами. Кабарожки проваливались в снег по самую грудь, ранились об острые края ледяной корки. И тут на них напали Буга и Уга, широкие лапы которых великолепно удерживают их на насте. За один раз эти хищники уничтожили почти всех кабарожек, обитавших в Моховой пади. Их тушки потом догнивали всю весну.
Но жертвами Буги и Уги в Моховой пади были не только мелкие копытные и детеныши крупных копытных. Однажды Буга напал даже на старую самку изюбра. Он сидел в засаде возле берега Моховки. Дело было зимой, когда изюбры часто выходят пастись к речке. Буга, подобно рыси, прыгнул с обрыва на спину самке и впился клыкастой пастью ей в шею. Она долго металась по льду Моховки, несколько раз падала, пытаясь сбить Бугу, но так и не смогла ничего поделать — разбойник не отрывался, пока та не обессилела окончательно. Сам весом в семь-восемь килограммов и длиной, вместе с хвостом, около метра, он загрыз животное, весившее раз в десять больше его!
Незадолго до рейса вертолета натуралисты обнаружили в кедраче восемь растерзанных, но не съеденных поросят нынешнего помета. Кто бы мог это сделать?
Медведь, как и тигр, никогда не душит жертв больше, чем может съесть. Волк? Росомаха? На толстой двойной подстилке невозможно было определить следы. Письмо из зооцентра надоумило старого натуралиста сходить в кедрач, проверить, съедены ли поросята. Прошло уже больше недели с тех пор, как их обнаружили.
Поросят на месте не оказалось.
— Значит, это не проходные хищники, здешние, — сказал Корней Гаврилович. — И по всей вероятности, не кто другой, как росомахи.
После гибели Уги на попечении Буги остался только один из трех преждевременно родившихся детенышей. Ему было уже около трех месяцев, и отец стал приучать его к охоте. На склоне Горбатого хребта они выследили двух изюбрят, в березняке у истоков Барсучьего ключа передушили несколько выводков зайчат, в самой Моховой пади ловили глухарей и рябчиков. Напали они и на Большую семью: отпрыск загонял, а Буга, находясь в засаде, ловил и душил поросят.
По-своему, по-звериному, Буга знал о людях, живущих на Черемуховой релке, больше, чем они знали о нем. Он наблюдал за ними днем из засады и ночью, когда они сидели у костра. Он мог идти весь день вслед за Человеком, читать по следу обо всех его делах, наблюдать за ним из укрытия и в то же время оставаться незамеченным. Да и осведомленность его о событиях, происходивших в жизни обитателей Моховой пади, была большей, чем у людей. Уже через — несколько часов после трагической битвы лесных владык — Амба-Дарлы и Мурги — Буга знал обо всех ее драматических перипетиях. Он знал, когда появился в Моховой пади Черный Царап, когда и где он бывает, кого и где задрал. Встречи с ним Буга всячески избегал, потому что боялся его больше, чем Мугу-плешивого: от этого быстрого, проворного и злого зверя росомахе почти невозможно уйти. Но Черный Царап, в сущности, был теперь единственным в Моховой пади врагом Буги, и если быть очень внимательным, то можно заблаговременно укрыться при его появлении.
Вот такого пройдоху и проныру задумали поймать живьем натуралисты.
Выслеживание всякого зверя летом в лесу, а тем более такого на редкость осторожного, как росомаха, дело почти безнадежное, во всяком случае, оно требует большого искусства. Если зимой по белой, открытой книге снега можно прочитать, кто, когда и куда прошел, и в конце концов, проявив огромное упорство, довести след до конца, то летом встреча с подобным обитателем леса — только дело случая.
Тем не менее натуралисты решили изловить росомаху.
Весь вечер, сидя у костра, они обдумывали и разрабатывали план операции. Нужно было прежде всего определить примерный участок, где чаще всего обитает росомаха. Следовательно, придется тщательнейшим образом искать следы. Поскольку этот зверь ведет преимущественно ночной образ жизни, придется устраивать ночные засады-секреты, как только будет выявлен участок его обитания. При себе нужно иметь карманные фонарики и мелкокалиберную винтовку с пулькой «наркоз» на рот случай, если зверь выйдет на засаду. Так, примерно, вчерне представлялся натуралистам этот план.
Весь следующий день они посвятили поискам следов. Была прочесана почти вся Моховая падь от распадка Барсучьего ключа километров на пять к западу и от кедрача на склоне Горбатого хребта до берега Моховки. Выискивались и тщательно обследовались все «пятачки» оголенной почвы — на берегах ключей, на глинистых осыпях, возле свежих выворотней, оставшихся после июльского урагана. Из-за очень тонкого почвенного слоя корни деревьев здесь растут не в глубину, а стелются горизонтально, отчего деревья становятся малоустойчивыми. Падая под напором ветра, такое дерево поднимает «на попа» всю корневую систему, а неглубокая глинистая яма под ним обычно скоро заливается водой. Из этих лужиц звери часто пьют, оставляя на глине отпечатки своих лап или копыт.
Результаты маршрута оказались Малоутешительны. Лишь в трех местах удалось найти различной давности следы росомахи: на берегу Барсучьего ключа, на илистом берегу одного из заливов Моховки километрах в трех от Черемуховой редки, вниз по течению, и на месте свежего выворотня кедра на склоне Горбатого хребта, неподалеку от того места, где были найдены растерзанные поросята. По этому последнему следу натуралисты узнали; что росомах было две — взрослая и молодая, помета нынешней весны.
Вечером, после ужина, Корней Гаврилович набросал на листе бумаги схему Моховой пади, отметил на ней три точки, где были обнаружены следы, соединил их линиями. Получился неправильный треугольник, стороны которого составляли в натуре четыре-пять километров. В центре треугольника он нарисовал кружок.
— По теории вероятностей, — комментировал старый натуралист свой чертеж, — росомахи должны обитать здесь. — Он постучал карандашом по кружочку. — Но вы сами понимаете, что это заключение весьма условно. Три точки — слишком мало, да и они могут оказаться случайными, не характерными для охотничьих маршрутов зверей.
— А если рассудить так, Гаврилыч, — вмешался старый охотник. — Росомахи ведь по-разному живут, некоторые всю жизнь бродяжничают, а другие подолгу, а то и постоянно живут на одном месте. Таких мне не однажды доводилось встречать в богатых дичью местах. Они живут обыкновенно в норах или расселинах. Не поискать ли нам нору?
— Если бы тут была нора, то она давно попалась бы нам на глаза, — возразил Бударин. — Вон барсучью нору обнаружили в первую же неделю…
— Ну нет, — заупрямился Кузьмич, — росомаха — это не то, что барсук. Хитрющая зверюга! Она так замаскирует нору, что с собакой не найдешь. Надо только подумать, где искать.
— А у меня такое предложение, — вмешался в разговор Сергей. — Вот пограничники перепахивают полосы на некоторых участках границы, а потом на этих полосах выравнивают граблями землю. После этого кто бы ни прошел, даже собака или кошка, все равно останется ясный отпечаток следа.
— Так ты что, Сережа, предлагаешь перепахать всю тайгу?! — не без иронии спросил Корней Гаврилович.
— Зачем же всю тайгу? — не унимался тот. — Перекопаем несколько полосок на вероятном участке, да так, чтобы они располагались в шахматном порядке, и тогда ей не миновать их.
— А что, это интересно, — поддержал его Юрий.
— Вообще-то это интересно — для другого зверя, уже серьезно заговорил старый натуралист, — но для росомахи вряд ли подойдет. Слишком хитрый зверь. Если она перепрыгивает через тщательно замаскированный канкан, то на перепаханную полосу и вовсе не пойдет. Думаю, что вернее всего будет продолжать поиски новых следов, чтобы определить примерный район ее обитания, и одновременно высматривать нору. Но не везде, негде попало, а в наиболее вероятных местах — под скалами, под обрывами, у основания крутых залесенных склонов.
В следующие два дня к трем обнаруженным точкам прибавилось еще пять. Четыре из них располагались на склоне Горбатого хребта, и только одна — на илистом берегу залива Моховки, там, где был обнаружен след в первый день. Итак, если продолжить схему, начерченную Корнеем Гавриловичем, то складывается следующая картина: пять точек в районе кедрача, две — на берегу Моховки, в трех километрах ниже Черемуховой релки, и одна — на берегу Барсучьего ключа. Значит, убежище росомахи следует искать между Моховкой и кедрачом на полосе длиной около километра.
— Вот невдалеке от речки и надобно устроить ночную засаду, — предложил Кузьмич, — за две ночи побывала тут один раз. Это она по рыбу сюда ходит.
— А второй пост предлагаю установить в кедраче, — заметил Сергей, — там они оставили за это же время четыре следа.
— Не возражаю! — весело согласился старый зоолог. — Но прежде прочешем всю эту полосу и еще раз поищем их убежище. Если нам удастся его обнаружить, то возле него и надо сделать засаду.
На прочесывание местности ушло еще три дня. За это время было найдено еще шесть следов росомахи. На четвертые сутки утром Юра Квашнин совершенно случайно обнаружил в овражке у самого подножия склона Горбатого хребта, под кустом орешника, какую-то нору.
— Как думаете, Кузьмич, не росомахи ли здесь? — опросил он.
— Они! Крест святой, они! — воскликнул Кузьмич. — Карауль, а я пойду поищу Гаврилыча.
Пока Кузьмич искал начальника экспедиции, Юрий тщательно обследовал нору. Удивительно, как искусно она была замаскирована! Куст лещины у подножия откоса, и все. Надо очень внимательно вглядываться, чтобы заметить под ним черное углубление, уходящее под землю, — расселинку в каменном обрывчике. Под самым кустом чуть просматривалась серая полоска тропы, ведущей из норы. Сверху тропинку закрывало разнотравье, еще выше нависали ветви орешника, а над ними буйно разрослись кроны деревьев верхнего яруса: ель, рядом ильм, кругом много лип. Снизу деревья оплетены актинидией коломиктой.
Вскоре появились Корней Гаврилович и Сергей Прохоров. Осмотрев местность, Бударин сказал задумчиво:
— А знаете, я ведь однажды проходил мимо этого места, но ничего не заметил. Молодец, Юра, хорошо ориентируешься. Ну так вот, если росомахи здесь, они отлично слышат, что мы их обложили. Надо придумать способ обмануть их. Я предлагаю такой вариант. Двое останутся возле норы, чтобы не дать им выйти до ночи. Далее, двое, видимо, вы, Сережа, и Кузьмич должны сходить на бивак и принести электрические фонарики и сетку. Надо успеть до наступления ночи окружить ею кусты возле норы, а потом сколько потребуется, столько и будем караулить. Вон под той елью двое и здесь, в ложбинке ключа, двое. Как только выйдут, а это, безусловно, случится ночью, осветим вход в нору и сделаем по выстрелу в обеих, стараясь только ранить. Если даже кто-то не попадет, зверь все равно кинется наутек, попадет в сетку и запутается. Тогда Сережа и Юра светят фонариком, а мы с Кузьмичом опутываем сеткой. Возможно, попадем в обеих, тогда задача упрощается.
Все произошло совсем не так, как спланировал Корней Гаврилович. Росомахи услышали людей еще задолго до их появления у поры, и Буга заблаговременно увел своего отпрыска из опасного места.
Между тем, ожидая зверей, каждый натер пахучими травами все тело да к тому же еще держал во рту пихтовую или еловую ветку: запах хвои перебивал запахи дыхания. Всю ночь и почти весь день пролежали натуралисты близ норы, тщетно ожидая появления росомах.
Тогда Корнея Гавриловича осенила мысль залезть, насколько это возможно, в нору, прикрывшись проволочной сеткой, и постараться прослушать, есть ли в ней обитатели. Несколько часов пролежал он там, но так и не услышал ни единого звука.
— Зверей здесь нет, — с огорчением сказал он, выбравшись из норы. — Нет, похоже, не сумеем мы отловить росомах!
— Не может того быть, — возразил старый охотник. — Должны мы их перехитрить. — И он изложил свой план, простой донельзя: надо сделать вид, что осада снята, троим уйти, а он, Кузьмич, останется один в секрете.
— Ну а если появятся, что будешь делать? — спросил его Корней Гаврилович.
— А я там посмотрю. Дело покажет, — отвечал Кузьмич. — Только сюда не приходите, пока я сам не явлюсь на стан. Мне оставьте сетку, фонарь и мало-пульку. Да хлеба и флягу воды.
Кузьмич провел большую часть своей жизни один на один с дальневосточной тайгой, здесь он родился и вырос, здесь стал охотником, и ни на какие блага не променял бы он свою профессию. Пожалуй, эта привязанность к своему делу, глубокая, бережная и бескорыстная любовь к природе больше всего характерны именно для охотников такого склада, как Кузьмич. За всю свою жизнь он не сделал ни единого выстрела ради бессмысленного убийства. Он брал на охоте только то, что было ему необходимо.
Практические его познания в живой природе были столь обширны, что он мог свободно консультировать даже такого маститого ученого натуралиста, каким был Корней Гаврилович Бударин.
Бударин и студенты ушли на бивак часа за два до заката солнца. Оставшись один, Кузьмич долго изучал местность. Надо было все тщательно обдумать, предусмотреть все хитрости росомах, когда те будут возвращаться в убежище. Откуда им удобнее подобраться к норе, где будет пролегать их возможный маршрут, под какими кустиками? Нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы они не учуяли засаду. Для этого нужно нарвать побольше молодых побегов пахучих растений, перетереть их и раскидать вокруг своего «секрета». Нет сомнения, что росомахи по запахам догадаются о пребывании человека возле норы и внутри ее. Конечно, хитрющие и осторожные звери не пойдут прямиком в убежище, а наверняка станут обследовать каждый кустик вокруг, прежде чем войти в жилье. Значит, они могут наткнуться на засаду и убежать прочь. Стало быть, ему нельзя оставаться на земле, нужно залезть на ближайшее удобное дерево, хотя бы вон на ту ель, что в трех метрах отсюда.
Кузьмич хорошо знал, что росомахи ходят почти неслышно. Может случиться так, что он и не услышит, как они пройдут в нору. Значит, нужно повалить несколько кустиков на тропу перед входом: они должны выдать появление росомах своим шелестом. И еще задача: как одновременно осветить место у входа в нору, когда там послышится шорох, и успеть дважды выстрелить из малопульки? Придется закрепить фонарик так, чтобы его луч попадал в нужную точку.
До наступления сумерек старый охотник устраивался. Он сделал себе удобное гнездо на двух толстых отростках возле ствола, устлал его помягче еловыми ветками, долго примащивался, пока не выбрал позу, в которой удобнее всего было бы лежать.
И вот засада готова. Медленно тянется время. В тайге — густая чернильная темень. И очень тихо, так тихо, что Кузьмич слышит малейший шорох или шелест листьев, каждый удар сердца. Он беспрестанно жует и неслышно сплевывает терпкие смолистые кончики еловых веточек —.молодые ростовые почки. Время от времени он посматривает на светящийся циферблат часов.
После двенадцати часов ночи его стало сильно клонить ко сну, пришлось несколько раз крепко ущипнуть себя за нос, чтобы глаза не слипались. Может быть, сон еще долго одолевал бы его, но вдруг тишину разорвал страшный стрекочущий крик. Так стрекочет обычно хорек, только гораздо тише. Крик взвился мгновенно до самой высокой, хватающей за душу ноты, чуть продержался на этой ноте, потом сразу пошел на убыль и скоро вовсе оборвался. «Кто-то задавил колонка, — подумал Кузьмич. — Наверное, рысь или соболь».
Почти совсем рассвело, Кузьмич уже перестал было ждать росомах, как вдруг где-то прямо под елью послышался шорох. Старый охотник замер. Шорох проследовал в сторону норы, и тут он увидел на тропе перед норой, там, где были пригнуты кустики, двух росомах.
Перед кустиками они остановились и стали обнюхивать все кругом. Видно, эта миленькая перемена декораций насторожила их. Лучшего момента нельзя было желать. Кузьмич мгновенно послал пульку «наркоз» в правую ляжку одной росомахи, успел передернуть затвор и сделал выстрел по второму зверю, пока тот оглядывался, соображая, что за щелчок раздался в лесу.
Охотник не стал вылезать из своего гнезда, он просто спрыгнул с трехметровой высоты. Пока подбежал к зверям, те уже были под наркозом. Не теряя ни минуты, он связал им лапы, надел веревочные намордники. Развернув сетку, он закатал в одну ее половину Бугу, а во вторую — его сынка. Проверив, не душат ли их нитки сети, он легко забросил за спину пудовую ношу и торопливо зашагал в направлении Черемуховой релки.
Через час звери были благополучно водворены в клетки.
БРАЧНЫЕ ТУРНИРЫ
Как-то в одну из августовских ночей, перед зарей, натуралистов разбудил звук трубы, красивый, необычного мягкого альтового тембра. Звук этот, вонзившийся в чуткую предутреннюю тишину леса, разбудил всех сразу своей таинственной внезапностью. Похоже было, что «трубач» находится где-то рядом, на Черемуховой релке, по-видимому, в зарослях вейника на луговине.
— Изюбр! Вот наглец, — пробормотал спросонья Корней Гаврилович. — Даже не считает нужным остерегаться нас…
— А они шалеют во время гона, — оказал Кузьмич со своей раскладушки. — Теперь до самого конца работы, считай, не будут давать нам спокойно спать. Это они только начинают собирать маток.
Звук трубы, еще более протяжный и настойчивый, снова взвился в предутренней тишине. Эхо раскатилось по всему окрестному лесу, и тотчас же на него откликнулся другой, похожий звук, только чуть повыше;
— Молодняк отзывается, — объяснил старый охотник, — голосок-то жидковат еще.
За время пребывания в Моховой пади натуралисты учли на ее территории и в ближайших окрестностях одиннадцать самцов и около тридцати самок. Пользуясь пулькой «наркоз», они сняли в июле панты с шести рогачей. Этим они, в сущности, лишили их оружия, необходимого в схватке за маток, обрекли их на холостяцкую долю в нынешнем году. Но это обстоятельство не помешает нормальному воспроизводству стада, потому что каждый рогач так или иначе будет набирать себе «гарем» из пяти-шести маток, и «холостяковать» побежденным в драках все равно пришлось бы.
У самца, который первым протрубил начало осенней брачной страды, можно заметить на шее белую полоску. Это красавец Гру. Он до сих пор носит на шее отметину натуралистов — марлевую повязку.
Сейчас. Гру перекочевал из тайги ближе к Моховке, куда обычно выходят в эту пору все изюбры, кроме нынешних телят. Здесь на прибрежных полянах, на релках и открытых галечных берегах извечно завязывались знакомства, происходили турниры рогачей. К этому времени панты уже окостенели, с них сползла, облупилась старая кожица, и они были словно отполированные, с заостренными концами отростков. У Гру их было по пять на каждом роге.
Пойма Моховки не случайно привлекала изюбров; здесь, на открытых местах, к ним не подкрадется незамеченным хищник, не прыгнет на шею рысь, которая вне леса вообще не страшна крупным копытным зверям — она не умеет быстро бегать.
К восходу солнца на зов Гру пришли две красавицы. Он довольно бесцеремонно отогнал их в заросли тальника у верхнего края Черемуховой релки, и они покорно затаились там в укрытии. Из-за хребтов выплыло солнце. Мягкая позолота как бы обогрела чистейшую холодноватую синеву глубокого безоблачного неба, обещающего погожий, по-осеннему ведренный день. В утренней тишине ничто не шелохнется, не пошевелится ни единый листок на дереве.
Натуралисты уже встали, но делали все тихо, разговаривали шепотом, чтобы не спугнуть ночного трубача. Кузьмич и Бударин по опыту знали, что с восходом солнца рев изюбров возобновится.
Так оно и оказалось. «Га-уу-га!..» — мягко протрубило в солнечной тишине со стороны луговины. И тотчас же из-за старицы отозвался второй голос, послабее и повыше.
— Скорее бинокль! — прошептал Корней Гаврилович. — И приготовьте фотоаппараты…
Луговину закрывал выступ черемуховых зарослей. Мягко ступая в своих броднях, старый натуралист неслышно прошагал к выступу, остановился там и стал осторожно раздвигать ветки. «Га-а-уу-гаа-а!..» — снова пропела труба. Корней Гаврилович обернулся и быстро замахал рукой: «Скорее сюда!» — потом свирепо погрозил кулаком: «Тише!»
На поляне, лежащей между зарослями вейника и черемухи, как изваяние из бронзы, стоял стройный красавец Гру. Голова, увенчанная мощными рогами, горделиво вскинута вверх, он то и дело нервно перебирает передними ногами, нетерпеливо стучит копытами по земле, мощная грива-бахрома, свисающая с нижней части шеи, то и дело вздрагивает, длинные уши настороженно поворачиваются, улавливая малейшие шорохи. Вот он поднял морду к небу, и из полуоткрытой пасти вырвалось красивое, звучное: «Гау-у-а-га-а!..» Из чащобы ближайшего леса, что за луговиной, ему отозвался все тот же «жидковатый» рев.
— Сейчас сойдутся… — прошептал Кузьмич.
Противник Гру вынырнул из леса на луговину внезапно, одним сильным скачком, и замер. Бог ты мой, да ведь он же безрогий! Неужели будет драться? Да, идет прямо на Гру, нагнув и чуть сбочив голову, косясь на врага налитыми кровью глазами. Красавец Гру на минуту опешил. Что за чудо? Похоже, самка, а становится в наступательную позу. Тем временем безрогий яростно и стремительно ринулся на него. Гру едва успел подставить ему рога, но их передние отростки пришлись по бокам шеи безрогого; поэтому они с такой силой треснулись лбами, что оба, как мячи, отскочили друг от друга и долго стояли очумелые, помахивая низко опущенными головами.
«До чего же слеп инстинкт! — думал Корней Гаврилович. — Так они могут расшибить себе лбы. Ведь это не бараны, лбы которых приспособлены для таких ударов. Изюбры никогда не бьются лбами, их защищают рога. А тут такая ситуация. Не сообразили мы…»
Тем временем изюбры продолжали стоять все в тех же позах, но их бойцовский пыл явно улетучивался. Постояв так еще минут пять, безрогий вяло поплелся к лесу, откуда пришел. Видно, он счел себя побежденным. Гру не преследовал его, как это бывает, когда побежденный начинает отступать и победитель старается отогнать его подальше от своего «гарема». По-видимому, Гру тоже не считал себя победителем, может быть, в голове у него звенело и ему было не до преследования.
В этот день Гру больше не трубил. Некоторое время он еще пасся на луговине вместе с двумя своими подругами, потом погнал их куда-то к устью Барсучьего ключа. На Черемуховой релке больше его не видели.
Рев изюбров не прекращался все время, пока натуралисты оставались на Черемуховой релке. Трудно было установить какую-нибудь закономерность в периодах рева: его можно было услышать и днем, и ночью, чаще всего на утренней и вечерней заре. Прекращался он лишь в пасмурные и дождливые дни. Но стоило показаться днем солнцу, а ночью звездам, как на берегу Моховки начинали перекликаться трубные звуки. Иногда где-нибудь слышалось щелканье рогов, злое, натруженное мычание, потом дробный перестук копыт убегающего побежденного соперника и преследующего его победителя.
А однажды под вечер на той стороне старицы сошлись два безрогих изюбра. По всем правилам боя они нагнули головы, как бы выставив вперед рога, и грозно пошли один на другого. Стукнулись не сильно один раз, другой, потом уперлись лбами, как бараны, стали напирать друг на друга. Лбы соскальзывали, бойцы по инерции срывались вперед, тыкались носами в землю; каждый норовил поддеть противника под бок, но культяпки рогов лишь скользили, не причиняя бойцам вреда. Так они сражались до тех пор, пока окончательно не выбились из сил. Потом долго стояли, часто и тяжело поводя боками, отдышались и мирно, как ни в чем не бывало, разошлись; наверное, повода для драки и не было — поблизости не видно ни одной самки.
После встречи с безрогим противником Гру не принимал с ними боя и отходил в сторону, если встречал слишком агрессивного соперника. К середине сентября он уже собрал себе гарем из семи прекрасных пленниц и теперь был озабочен только тем, чтобы никто не отобрал их у него, чтобы ни одна из них не сбежала к другому. Трубить он почти перестал, драк старался избегать, поэтому уходил подальше от тех мест, где происходят брачные турниры. Теперь он обычно держался выше устья Барсучьего ключа, неподалеку от обрывов — отстоев кабарожки Элхи и бывших владений старого разбойника Карра. В этих местах много галечных откосов, образующих заливы, Моховка изобилует перекатами, и Гру благополучно кочевал со своим гаремом то по правому, то по левому берегу реки.
Но вскоре и здесь появился соперник. Это был крупный нездешний рогач средних лет, в самом расцвете сил. Он пришел сюда из Крутых отрогов. В эту осень там обосновалось целое семейство медведей. Кроме давней подруги Мугу-ллешивого, в урочище поселился молодой, пронырливый медведь. Подрос и пестун, тоже стал почти взрослым медведем. Был еще и почти годовалый медвежонок. С наступлением брачных турниров у изюбров медведи стали сильно досаждать им. Так же, как в свое время Мугу-плешивый, молодой поселенец Крутых отрогов напал на одного из дерущихся самцов изюбров. Тогда в панике разбежался весь гарем пришельца, состоящий из трех оленух. Ему так и не удалось отыскать их. После этого случая стоило рогачу протрубить позывные или ответить грозным ревом на вызов соперника, как тут же слышался шорох: наверное, опять подкрадывался медведь. Пришлось ему кочевать вниз по течению Моховки в поисках счастья.
Первыми следами сородичей, попавшимися на его пути, были следы Гру и его гарема. Если в эту пору изюбры-рогачи вообще чрезвычайно раздражительны, нервно возбуждены и готовы драться с кем попало, то этот кочующий неудачник был сейчас и вовсе бешеным. С его губ падала пена, глаза, налитые кровью, горели гневом и злобой.
И вот его грозный, вызывающий трубный клич уже гремит над Моховкой, отдается среди скал, катится над левобережной поймой речки, куда Гру в этот день увел свой гарем. Конечно, Гру услышал вызов. Он высоко вскинул голову, беспокойно раздул ноздри. Он не ответил на вызов, только грозным взглядом окинул своих красавиц, беспечно пасшихся рядом: смотрите, мол, не вздумайте соблазниться богатырской силой и удалью трубача! Но те, видимо, ни о чем таком не думали и все так же беспечно пощипывали молодые побеги тальника.
Пришелец проревел второй раз, еще громче, еще более вызывающе. Гру снова промолчал и только нервно защелкал передними копытами по галечнику. Может быть, это пощелкивание — у изюбров феноменальный слух! — уловил пришелец, может быть, он принял его за стук копыт устремляющейся к нему на свидание подруги; во всяком случае, он бешено ринулся на этот звук. Будто и не было перед ним потока — он вмиг перемахнул его и грудью врезался в прибрежную чащу тальников. Впереди — протока. Грозный пришелец-рогач перемахнул и ее, только каскад брызг поднялся в воздух. Словно вихрем пробит тоннель в следующей тальниковой уреме, и вот она — открытая галечная ложбина, видно, обсохшая старица, за ней новая стена тальника, а в ее тени…
Пришелец на минуту опешил, замер на месте.
Гру гордо стоял, повернувшись к врагу. Он давно заслышал его приближение и, пока тот мчался, загнал своих пленниц в тальник. Сейчас они лишь едва виднелись среди листвы.
Гру первым пошел на сближение. Пришелец, видимо, понял, что имеет дело с владельцем большого гарема, и бешено ринулся на соперника. Это была страшная атака. В нее он вложил, кажется, все: и обиду оттого, что ему пришлось бежать из родного урочища, и гнев из-за потерянного гарема, и яростную ненависть к тому, кто стал на его пути к самкам. Но Гру ждал этой атаки. Он мгновенно принял оборонительную позу — широко расставил передние ноги, выдвинув их далеко вперед, задние ноги вытянулись как струны, их копыта впахались по самые бабки в галечник, морда нагнута до самой земли, острия всех десяти отростков выставлены навстречу врагу.
При всем своем бешенстве и неудержимости пришелец проявил осмотрительность и бойцовскую опытность: он не нанес удара, остановился в самое последнее мгновение, потому что не мог поставить рога острие на острие с рогами противника — Гру слишком низко наклонил голову. Воспользовавшись заминкой, Гру теперь сам ринулся в атаку и нанес страшный удар двумя передними, самыми сильными отростка-ми под основание рогов соперника и поддел их снизу вверх. Пришелец не был подготовлен к обороне, не успел принять нужную позу и потому отлетел метра на два и даже сел по-собачьи на задние нош. И тут снова в атаку ринулся Гру. Он ударил рога в рога, когда противник едва только поднялся и еще не успел встать в оборонительное положение. Но он все-таки выстоял. Они сцепились рогами, стали давить друг на друга, в бешенстве волочить один другого из стороны в сторону. Это продолжалось минут десять. Бойцы хрипели, мычали, норовя свалить друг друга. Наконец пришелец не выдержал напора Гру и сел на задние ноги. Он допытался было встать, но у него не хватило сил. А Гру все давил на него, словно намереваясь втиснуть в землю. Передние ноги пришельца начали дрожать. Они дрожали все сильнее и сильнее, наконец подкосились, и он упал на колени. Теперь он выглядел вовсе беспомощным. А Гру все продолжал наступать. Копыта его скользили по галечнику, но он уже заломил голову пришельца назад и, казалось, вот-вот сломает ему шею. Но вдруг пришелец повалился на бок, рога расцепились, он перевернулся и с молниеносной быстротой вскочил на ноги. Гру тоже не зевал и с такой силой ударил противника в бок позади левой лопатки, что один из передних, самых боевых отростков почти наполовину вошел между ребер. Пришелец взревел, отпрянул в сторону, закачался. Гру снова атаковал его сбоку, нанес подряд два ожесточенных удара и снова свалил на землю… Больше Гру не нападал на него: лежачего не бьют. Он горделиво поднял голову и отошел к зарослям тальника, в котором стояли его красавицы. Они все так же пощипывали потихонечку листья тальника, настороженно ловили окрестные звуки. Гру, орудуя рогами, погнал их к Моховке. А пришелец остался лежать на галечнике. Кровь продолжала литься из раны. Он дышал все реже, глаза его стекленели. Перед заходам солнца он затих, только в широко открытых глазах еще светилось что-то живое. Но скоро потух и этот ничтожный проблеск жизни.
Гру, разумеется, не был кровожадным зверем и вовсе не хотел убивать соперника. Он в меру сил охранял Закон Природы.
ПРИМЕТЫ ВЕЛИКОГО ГОЛОДА
Голод… Его можно сравнить разве только с болью, мучительной, изнуряющей. До безумия доводит он Человека, делает жестокими животных. Это он породил пожирание себе подобных в животном мире — явление, в сущности, противоречащее главному Закону Природы — утверждению собственного вида. Это он причина всех драм и трагедий, происходящих каждую минуту в природе. Лекарство против голода одно — еда. Но еды не всегда и не на всех хватает.
Корней Гаврилович еще в начале лета понял: не быть нынче урожаю в Моховой пади. Обильное цветение не дало завязей. Так было у орешника-лещины, у черемухи, у актинидии, у красной смородины, отчасти у дикого винограда, у маньчжурского ореха и амурского бархата (хотя вообще-то, в разной степени, они плодоносят ежегодно), у многих трав, зерна которых составляют пищу не только птиц и грызунов, но и енотовидной собаки, медведя и других. Вовсе не дали урожая кедр и дуб, а они — главные поставщики питания для очень многих обитателей леса, четвероногих и пернатых, особенно кедр: он кормит белку и бурундука, летягу и кабана, медведя и даже соболя. Что касается кедровок, то для них кедровые орешки — основная зимняя пища. Если летом они могут прокормиться насекомыми, различными ягодами, мелкими грызунами и даже птахами, то зимой у них почти единственное блюдо — кедровые орешки. Как и грызуны, кедровки запасают орешки впрок, прячут их в землю. Кстати, при всей вздорности, своего характера — крикливости, суматошности — эти птицы приносят огромную пользу не только тем, что летом истребляют вредных для леса насекомых, но и тем, что они — основные сеятели кедра: за пять-шесть километров разносят они кедровые семена, закапывая их в землю. Часто потом они не находят своих тайников. Проходят годы, и на том месте, где были спрятаны орешки, вырастает целая куртина красавцев великанов кедров. Там, где по соседству с кедровым бором прошел лесной пал, на месте гари тоже вырастет кедр.
Приметы Великого голода стали появляться уже в самом начале осени. Если летом и плохого урожая все-таки хватало на пропитание четвероногого и пернатого населения, то с началом листопада эти запасы стали таять на глазах, ведь потомство нынешнего года сделалось уже взрослым, а стало быть, и очень прожорливым. Кроме того, приближается зима, и многие звери стараются заготовить впрок еду либо накопить побольше жира.
Каждое животное по-своему приспосабливается к этим трудным временам. Те, у кого есть крылья, могут улететь туда, пде нет зимы, где можно прокормиться и переждать голодное время. Но легко сказать — улететь! Пока доберешься до обетованной земли! В пути тебя будут ожидать непогода и хищники, голод и выстрелы охотников. Далеко не каждый крылатый путешественник достигает конечной цели, а тем более возвращается на родину.
Вот почему иные крылатые предпочитают все-таки трудности зимовки трудностям миграции. Это те, кто питается семенами и почками деревьев, кто может добывать в древесине зимующих там личинок насекомых. Из таких пернатых, пожалуй, более всего изобретателен рябчик. Весь короткий зимний день он собирает почки и сережки на ветвях деревьев, пока не набьет ими свой зоб до отказа. А как только наступают сумерки, он зарывается в толщу снега, прячет голову под крыло и спит всю долгую зимнюю ночь напролет, конечно, если его не побеспокоит хищник.
Медведь, бурундук, барсук, отчасти енотовидная собака тоже стараются проспать это трудное голодное время, предварительно накопив под кожей толстый слой жира. Это и горючее, которое будет расходоваться очень экономно, только на работу дыхательных мышц да на очень замедленные процессы жизнедеятельности клеток. Это и дополнительная одежонка, спасающая от холода. Ну, а если зверь почему-либо проснется или его разбудят в самый разгар зимы, что тогда делать? На этот случай бурундук запасает себе килограммов до шести — восьми отборных семян и складывает их тут же, под крышей своего убежища. То же делает барсук, но по-иному: он раскладывает еду вокруг своего жилья. Почему такая разница в способах хранения? Потому, что бурундук абсолютно беспомощен в снегу и на холоде, тогда как барсук может терпеть холод: у него теплая шубка. Может он и бегать по снегу, хотя не слишком быстро. Очень чутко спит енотовидная собака. Но запасов на зиму не делает, в крайнем случае она может охотиться и зимой — на мышей, на птиц, раскапывать под снегом остатки растений и главным образом осыпавшиеся по осени ягоды и семена.
Крепче всех спит медведь. Уж если он залег, то почти ничто не может поднять его с постели, кроме глистных болезней желудка. Поэтому он не делает запасов на зиму.
Но есть четвероногие, которые переносят зиму на ногах. Это хищники и грызуны. Очень это рискованное дело, особенно для мышевидных грызунов. Количество их колоссально, еды требуется бездна, преимущественно орехов и семян трав. А если, как в нынешнем году, еще с осени почти все съедено, что тогда делать? Одно — глодать кору у корней липы и дуба. Но толку от этого мало: только раздувает живот, но не утоляет голода. А в зиму требуется особо хорошее питание.
И тогда начинается мор.
В более выгодном положении в такую пору находятся хищники. Раз наплодилось много живности, то со стола у них ежедневно не сходят мясные блюда. Но это в начале зимы, а потом начинается катастрофическая ее убыль: грызуны либо дохнут, либо перекочевывают в другие места, проделывая тоннели в толщине снега. Поймать же птицу — дело довольно сложное, да и не так уж много в тайге зимующих птиц. Нет, нелегко в неурожайный год даже и хищникам.
Однажды в последних числах сентября перед заходом солнца натуралисты, как обычно, возвращались из маршрутов на бивак. Первыми выходили из тайги Корней Гаврилович и Сергей Прохоров. Они только что подошли к берегу старицы, чтобы обогнуть ее, как Корней Гаврилович, вглядываясь в сторону бивака, сказал:
— Смотри, Сережа, по нашей палатке скачут какие-то зверьки.
— Да это же белки! — воскликнул тот. — Но почему их так много?
Выйдя на Черемуховую релку, они увидели множество белок, шныряющих среди крон черемух. Ягод на деревьях давно уже не было, и чего искали зверьки, непонятно. Они скакали с ветки на вешу, бегали по земле, — носились то вверх, то вниз по стволам. Они совсем не пугались людей, даже не обращали на них внимания. Еще больше их оказалось на биваке: около трех десятков насчитал Сергей, пока натуралисты подходили к палатке. Белки копались в кухонных отбросах за очагом, носились по пологу палатки, видимо, искали лазейку, чтобы проникнуть вглубь. Появление людей не испугало их. Они подпускали к себе натуралистов на два-три шага, только не давались в руки. Пришлось сломать ветки и отгонять их от бивака. Но белки все прибывали откуда-то.
— Не иначе как из-за Моховки, — высказал предположение Корней Гаврилович.
Натуралисты пролезли сквозь заросли черемухи и вышли к берегу речки. Распушив хвосты по поверхности воды, множество белок пересекало Моховку, переправляясь с левого на правый берег. Одни уже цеплялись за берег, другие в это время только отчаливали от противоположного.
Белки пересекали Моховку не только возле Черемуховой релки, но и ниже и выше по течению.
Почти часом позже пришли Кузьмич и Юрий Квашнин. Они уже видели белок в лесу.
— Плохая штука, Гаврилыч, — говорил старый охотник. — Кочевая белка пошла. Может, будем отстреливать? Все равно пропащая животина. А?
— Конечно, будем отстреливать.
Тем временем голодная орда кочевников все шире распространялась по Моховой пади.
Первыми их встретили таймень — прожорливый Хап и выдра Ласа. Где бы Хап ни находился, на какой бы глубине ни стоял, его глаза всегда зорко следили за поверхностью воды. В это лето ему особенно везло на добычу. Июльский разлив Моховки после ливня проносил множество дохлых мышей, бурундуков, даже птиц, и Хап едва успевал глотать все, что попадалось на охоте. Потом вода в Моховке сильно спала, и Хану опять повезло: великое множество рыбешек, особенно мальков, очутилось на сравнительно небольшой площади. Не надо было и ходить далеко: стайки рыбешек всегда рядом, иногда у самой пасти.
А теперь вот появились белки. По своему обыкновению; Хап, увидев бурун на поверхности речки, двинулся вслед, чтобы высмотреть, кто там плывет. Маленькие лапки, тонкая тушка — давно знакомый пловец! Хап стремительно кинулся вперед, и тотчас пловца и след простыл. Не успел Хап опуститься на дно, ка: к увидел новый бурун на поверхности воды, потом еще, еще… Наверное, больше десятка зверьков проглотил Хап, а белки все плыли и плыли.
Полакомилась белками и выдра Ласа, а с нею и ее выводок. Детеныши к этому времени подросли настолько, что мало чем отличались от матери. Они уже не помещались в родительских хоромах и между охотничьими прогулками коротали время либо под бахромой прибрежных корней, либо в поисках удобного места для сооружения собственного жилья. Детеныши не сразу стали ловить даровую добычу, вначале они сами пугались белок. Но мать скоро научила их этому искусству: стоило затянуть жертву под воду, цапнув ее за хвост, как она очень скоро прекращала сопротивление. Теперь детеныши сами питались вволю.
Вволю кормились в эти дни орланы и семья коршуна Тини. Их гнезда были завалены добычей. Грозный, который до сих пор время от времени наведывался на бивак за подкормкой, сейчас совсем перестал навещать натуралистов.
Черные дни переживал бурундук, хитрый Пиик. В его дупло то и дело заглядывала какая-нибудь голодная гостья. Иногда кто-нибудь из пришельцев пытался расширить узкий вход в убежище, видимо, чувствуя там запах съестного. Они уже раскопали гнилую древесину сантиметров на десять в глубину, но дальше проникнуть не смогли. Пиик совсем не выходил из норы все это время. Еще в первый день нашествия он сам едва не стал жертвой одной изголодавшейся белки. Она настигла его в гуще кроны, чуть ли не на самой макушке черемухи. Он и раньше сталкивался с белками, разумеется, уступая им дорогу. Обычно они не трогали его. Эта же сразу увязалась за ним. Пиик понесся вниз по стволу, но тут к нему устремилась еще одна белка с соседней черемухи. Он сделал невероятный скачок и спрятался в паутине ветвей соседнего дерева. Все это происходило как раз над его убежищем, и скоро он юркнул в дупло, еле живой от страха.
Там он отсиживался до лучших времен, прислушиваясь со страхом, как пришельцы то и дело скребутся у входа в его жилище, пробуют порочность запоров Пиикова бастиона.
К началу нашествия белок рысь Фура спала в своей расселине у подножия Горбатого хребта. Как и всякий зверь, а тем более хищный, рысь даже во время сна слышит малейший шорох. Первый шорох она услышала с наступлением сумерек. Что такое? То там, то тут кто-то ползает, скачет по осыпавшейся листве. Такого никогда не случалось, сколько помнит себя Фура! Она вскинула морду, украшенную великолепными бакенбардами и изящными султанчиками на кончиках ушей. Круглые глаза ее вспыхнули зелеными огоньками. Пружиня ноги, она неслышно встала, выглянула из-за камней. Белки! Самая лакомая еда! Вот одна, недалеко другая, а в стороне кедрача видна целая стайка. Фура припала на передние лапы и одним прыжком настигла добычу. Та пикнуть не успела, как оказалась между острых клыков рыси.
Через каких-нибудь полчаса Фура была уже сыта. Она залезла на ближайшую липу, улеглась там на толстой ветке и стала наблюдать за происходящим вокруг. Время от времени белки прыгали и на эту ветку, чуть ли не на саму Фуру. Удар лапы, и зверек летел вниз. К середине ночи все это надоело рыси, она спрыгнула на землю и неслышно ушла в свое логовище. Там она снова впала в сытую дремоту.
Встретился с кочующими белками и соболь Брок. В эту пору он не испытывал голода. С исчезновением из его охотничьих угодий куницы Харзы и росомах Уги и Буги для Брока наступила благодатная пора. Вывелся второй в этом году помет у зайцев, а выводки рябчиков хотя и подросли, но все еще оставались очень беспечными, и добывать их не составляло особого труда. Но главное, у Брока почти не было конкурентов, кроме рыси Фуры и какого-то случайно забредшего колонка; с которым он быстро расправился. Брок не раз охотился на белок, считал их мясо лакомством, но это была случайная охота: ему трудно угнаться за этим зверьком. А тут, выйдя ночью на охоту, он увидел их во множестве вокруг себя, прямо на земле или на ближайших ветках. Но самое главное, они, кажется, вовсе не обращали на него внимания. Брок кинулся на ближайшую, сцапал — и уже сыт. А они все скачут вокруг, дразнят.
Брок поймал еще двух, просто так, из любопытства, спрятал под колодами. Но соболь не делает больших запасов, он не любит протухшей пищи. Потом он скакал вместе с белками, разглядывал их, пока не надоело. Наконец укрылся в убежище, хотел уснуть, но и тут они не давали ему покоя: то и дело заглядывали в пору, а некоторые даже залезали внутрь. Он скалил зубы, фыркал, чтобы его оставили в покое. В конце концов они так надоели ему, что он вообще перестал обращать на них внимание.
Настоящей удачей оказалось нашествие белок для Черного Царапа. Ведь впереди зимняя спячка, голодная весенняя пора, и надо с осени накопить жиру. Для охоты он выбрал место в кедраче и проводил все свое время в засаде под комлем огромного старою кедра. Подбежит белка к дереву, начинает шнырять вокруг в поисках орешков — тут и опускается на нее тяжелая лапа. Царап ел вволю, а то, что уже не мог съесть, закапывал под ближайшим валежником.
Почти целую неделю держались белки в Моховой пади и за это время выбрали все и без того небогатые в эту осень запасы съедобных семян.
Первыми обнаружили ограбление мышевидные грызуны: им стало нечего есть, после того как прошли белки. Сначала семейными кланами, а потом и целыми стаями пустились они на поиски еды. А за ними вслед — совы, некоторые из молодых соболей, даже енотовидная собака.
Пустела Моховая падь. Тревожно и неуютно становилось кругом. Сильные охотились за слабыми, слабые старались искуснее прятаться.
ПОСЛЕДНИЙ ПИР
Еще во второй половине лета появились первые вестники осени — усыхающие былинки трав, сухие листья на кустарниках и деревьях. В августе прекратилось пение птиц. Немногие птичьи голоса, которые теперь оглашали лес, звучали прозаически и односложно: либо «чирик-чирик» — это значит, что поблизости пасется выводок синиц и они переговариваются между собой, либо «тень-тень» — это поползни. А иногда в сумерки услышишь грустное, как стон: «Сплю-у, сплю-у…» Это сыч тоскует в одиночестве и кого-то зовет.
В конце сентября за каких-нибудь три-четыре дня лес на глазах переоделся в новый наряд. Сначала к зеленому стали примешиваться красные и бордовые пятна — это багульник и клены. Потом появились бледно-желто-зеленые мазки рябины и осины. А вскоре заполыхали тепло-оранжевой пестротой сразу все лиственные деревья. И ни одного холодного тона или оттенка! Стояла солнечная, сухая погода, и казалось, будто солнце плавилось с утра до вечера в лесной пестряди.
Меняли расцветку своей одежды и пернатые и четвероногие жители леса. У рябчика желтело оперение, в нем появлялось все больше белых крапинок, у изюбра, кабарги и кабанов белели пах и подбрюшники, блекла желтизна по бокам и на спине.
Во второй половине сентября начался листопад. В лесу стоял таинственный шелест, кроны деревьев с каждым днем все заметнее редели, становились прозрачными. Но вот подул ветер, и лес почти совсем оголился. Сразу исчезли насекомые — бабочки, жучки, гусеницы, пауки. Некоторое время ночной лес еще полнился дружным хором сверчков, но с наступлением осенних утренников прекратились и их однообразные песни. Вслед за ними исчезли и насекомоядные птицы, которые зимуют в теплых краях. Остались те, кто зимует дома: поползни, синицы, дятлы, совы, рябчики, кедровки. На Дальнем Востоке эти птицы почти не поют, даже летом. Суровые условия несомненно накладывают свою печать на характеры здешних лесных обитателей. Голос рябчика, этой крупной лесной птицы, похож на голос малюсенькой синицы, но только он тише и слабее, как у новорожденного цыпленка. Дятлы чаще молчат, а если и издают крик, зычный, звонкий, то лишь в минуту опасности. Смотрите, мол, враг! Голос совы вообще похож на мяуканье кошки, и подает она его очень редко.
Стали особенно заметны лесные ягоды — рябина, лимонник, шиповник, красная смородина, боярышник, калина, дальневосточный барбарис. Пока созревали — маскировались под зелень листвы, но вот листва пожелтела, а плоды вдруг так яростно закраснели, что увидишь их в лесной чаще за добрую сотню метров.
А черемуха, дикий виноград, амурский бархат, аралия маньчжурская, элеутерококк избрали для своих ягод черный цвет. На фоне желтой пестроты лесов эти ягоды тоже видны издалека.
В двадцатых числах сентября в хрустально-прозрачных струях речки стали мелькать какие-то почти черные крупные рыбы в темно-бордовых поперечных полосах, иные (это были самцы) с хищно загнутыми и выдвинутыми вперед зубами, похожими на птичьи когти. Рыбы упорно стремились против течения, шли по самому фарватеру, бились на перекатах. Перед ними разбегались по заливам и ямам хариусы и чебачки, гольяны и даже ленки и таймени. Это было нашествие существ воинственных и бесстрашных, сильных и жестоких к тем, кто становится на их пути. В Амуре и Уссури разбегается вся рыба, даже крупная, когда бывает рунный ход лосося! Это были первые и самые сильные гонцы осенней нерестовой кеты. В одной из головных стай мчались рядом, иногда перегоняя друг друга, Зубач и Беззубка. Он — побольше, пошире, она — поменьше, поуже.
Четыре года назад они родились чуть выше устья Барсучьего ключа, в одной из ям Моховки, в нерестовом галечном бугре. Они ушли отсюда трехмесячными мальками величиной с мизинец. Где только не побывали они за эти четыре года! «Скатившись» вниз по течению Моховки до Голубой реки, они потом попали в Амур, проплыли по нему почти тысячу километров и в конце концов очутились в Татарском проливе, отделяющем остров Сахалин от материка.
Дальше их путь лежал через Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, наконец, через проливы южной части Курильской гряды, ведущие в Тихий океан. Здесь, на бесконечном просторе, где было вволю любой пищи, они росли и развивались. За это время они побывали у восточных берегов Японии, потом, следуя по могучей океанской реке — теплому течению Куро-Сиво, пересекли в восточном направлении Тихий океан, кормились у западных берегов Канады. Но пришел срок, нужно было плыть домой. Океанское течение принесло их к проливам Северных Курил, потом в Охотское море, а уж местное круговое течение доставило их снова в Татарский пролив к устью Амура.
Начинался последний и самый трудный переход в их жизни — против течения. Нужно было пройти почти полторы тысячи километров до родного дома, отыскать его где-то среди сотен рек и речушек, впадающих в Амур.
Войдя в пресные воды, рыбы вовсе перестали питаться. Почему? Чтобы легче было идти? А за счет чего восстанавливать силы? Ведь впереди месяц пути, напряженнейшего труда, безостановочного движения. И тут напрашиваемся мысль: а не для того ли, чтобы сохранить в чистоте какой-то тончайший и совершеннейший химический анализатор, который позволяет лососю найти среди миллионов струй «ниточку», неповторимую в своем химическом составе, ту самую «нить Ариадны», которая приведет его безошибочно к родному дому? Ведь при переваривании пищи в организме будет происходить изменение его химизма, усложнится процесс отщепления «своей» ниточки.
Чтобы хватило сил дойти без пищи до родного дома, кета заранее, перед последней дорогой, накопила достаточный запас жира и белка. На конечном пункте у нее почти вовсе не остается жира, а белка — всего лишь одна восьмая часть первоначальных запасов, ровно столько, чтобы не умереть от истощения до окончания нереста.
Зубач и Беззубка, как и их собратья, входили в устье Амура красавцами, с чешуей, будто отлитой из чистейшего серебра. Сейчас на них страшно было смотреть: они почернели, словно обуглились, их сплющенные корпусы (а когда-то он был, особенно у Беззубки, совершенно круглым) перепоясали в шесть рядов багрово-кровавые полосы, которые почему-то называются «брачным нарядом». Уж какой там брачный наряд!
К устью Барсучьего ключа из трех тысяч рыб, родившихся здесь, вернулось только полдюжины пар. Остальные погибли в пути или попали в сети рыбаков.
Беззубка, орудуя носом, боками и хвостом, стала готовить грядку: разгребла галечник, выкопала траншею около двух метров длины и до двадцати сантиметров глубины почти на том же самом месте, где был нерестовый бугор, из которого она сама вышла четыре года назад. Зубач тем временем крутился рядом. Он не принимал участия в работе, хотя и не стоял без дела — отгонял себе подобных от грядки. Наконец Беззубка опустилась на дно траншеи, и под ней мгновенно появилась горка оранжевых зерен. В ту же секунду Зубач оказался рядом. Мутно-белое облачко возникло над зернами, окутало их. Беззубка тотчас же принялась заваливать икринки крупным галечником. Тем временем Зубач отгонял роившихся вокруг хариусов и чебачков, их ватаги носились рядом, готовые сожрать посев — зернистую икру.
Так продолжалось несколько дней. На том месте, где была раскопана грядка, теперь вырос длинный галечный бугор высотой до трети метра. Сами рыбы имели теперь ужасный вид — израненные, тощие, черные. Им осталось жить совсем недолго, но до самой последней своей минуты они не уйдут от бугра. Тут и умрут.
Но почему именно бугор? В чем его секрет? Люди давно задумывались над этой загадкой, пытались механически воспроизвести его и вырастить в нем мальков лосося. Икра погибала. И только сравнительно недавно, примерно треть века назад, удалось разгадать тайну нерестового бугра. В нем все удивительно целесообразно и рационально. Три условия необходимы для этого подводного инкубатора. Во-первых, у «изголовья» бугра должен быть родничок. Во-вторых, дно должно быть галечным. И, в третьих, вода не должна промерзать. Нарушение любого из этих условий ведет к гибели икры. Зачем родничок? Чтобы икру все время обмывала чистая вода без каких бы то ни было механических примесей. Любые осадки на икринке вызовут ее гибель. Зачем галечник? Чтобы укрыть икру от хищников и чтобы защитить ее от солнечных лучей, иначе икра «засветится» и погибнет. В галечнике образуются лабиринты пустот. Они будут «детским садом» для будущих мальков. В первые же дни мальки, израсходовав пищевые ресурсы «желточного мешочка» икринки, как бы «пришитой» к животу, должны, выходить из дома на поиски пищи. В это время они совсем еще беспомощны, а кругом враги. В лабиринтах же мальки могут укрыться в случае опасности.
И еще одна удивительная «придумка» природы. Из бугра весной выйдет около трех тысяч мальков. Три тысячи голодных ртов! Пусть они совсем малюсенькие, им требуются мизерные крохи, но ведь их три тысячи! Где же брать еду? Но присмотритесь внимательнее: рядом с бугром лежат трех-четырехкилограммовые тушки размытых водой рыбин. Это сами сеятели подводного поля. Они позаботились не только о рождении потомства, но и о его пропитании, принесли себя в жертву детям. Вот почему они не вернулись в вольные просторы океана, где для них есть все — и пища, и тепло. Да и усилий особых не потребовалось бы — течение само унесет тебя. Но родительский долг превыше собственного благополучия — так у всего живого.
Приход в Моховку нерестовой кеты был сигналом для четвероногих и пернатых хищников Моховой пади. Первыми обнаружили кету выдра Ласа, норка Свира, орланы и коршуны. Ласа хорошо знала этих пришельцев, с их появлением она переставала испытывать недостаток в пище. Обычно она ловила только самок: их икра — лакомство для выдры. Но поймать их не так уж просто. На предпоследнем этапе пути, в Охотском море, лососей непрерывно преследовали нерпы, сивучи, белуха. Поэтому при появлении в воде предметов, схожих очертаниями с нерпой, даже если это только бревно, лососи мгновенно шарахались в сторону. А у выдры есть известное сходство с нерпой. Ласа давно усвоила эту особенность пришельцев, поэтому не кидалась на проходящих рыбин, а устраивала засады на дне, там, где кета сооружала нерестовый бугор. Вместе с детенышами, которых она приучила к этой охоте, Ласа каждый день добывала по нескольку кетин, выгрызая у них лишь икряные мешочки.
Не переводилась кета и в гнездах орланов и коршунов. По краям их гнезд выросли целые горы рыбьих костей.
Черный Царап узнал о подходе лососей по остаткам трапезы Ласы — нашел их на берегу неподалеку от убежища выдры. Закусив, Черный Царап тут же отправился на поиски подходящего переката в русле Моховки. Километрах в четырех ниже Черемуховой релки он нашел удобное место. Воды на перекате было чуть выше колен. Царап удобно примостился на каменном табурете — валуне, уставился в воду и замер. Всплески кетин, их горбины, появляющиеся то там, то тут, дразнили охотничью страсть медведя, но он не поддавался соблазну кинуться в воду — знал, что это бесполезно. Нужно терпеливо ждать и не шевелиться. Ага, вот одна идет прямо на него. Ближе, ближе… рядом! Мгновенный взмах лапы, огромный каскад брызг — и на поверхности воды мутно-белое брюшко. Ловкий взмах второй лапы, и рыбина летит на берег. Черный Царап следит, куда она упадет, не упрыгает ли в воду. Успел перехватить, откинул рыбину в траву. А сам снова за свою рыбью «засидку».
Как всегда в это время, на берега Моховки вышел и соболь Брок. Он пронюхал об удачном промысле Черного Царапа и подкрался к добыче медведя. Однако возле кучи кетин он застал соперника — крупного самца норки, тот торопливо рвал своими острыми зубками брюхо икрянки. Увидев соболя, он исчез в кустах, иначе ему бы не сдобровать. Брок уже познакомился с этими новыми поселенцами, отчаянно преследовал их, и если ни одна из норок не попалась ему в зубы, то только потому, что рядом была Моховка и норки спасались в воде. Брок быстро докончил дело, начатое самцом норки, выгрыз всю икру и сладко облизнулся. Потом управился с икрой следующей кетины и неслышно отправился отдыхать.
Последний пир на берегах Моховки продолжался до самых заморозков. Отшельница Эдуни и барсучиха с пасынками, Большая семья и норки, совы, сороки и ястребы — все промышляли сейчас кету. Одни пользовались остатками с чужого стола, другие ловили добычу на перекатах, третьи искали рыбин, выбившихся из сил и вынесенных к берегам.
ПРОЩАЙ, ПИШКИ!
Отводила последние свои праздничные хороводы сказочная, нарядная осень. Холодные, ветреные дожди и ночные заморозки в октябре надолго раздели лес, и он весь почернел от холода. Великий покой водворялся в природе. В безветренный день можно было часами слушать тишину Моховой пади и не уловить ни единого звука.
Еще в первых числах октября покинула Моховую падь семья Белохвостого Клека, через несколько дней улетела на юг и семья коршуна Тини. Перед отлетом Грозный долго кружил над биваком натуралистов, но, как ни звал, ни манил его Юрий Квашнин, молодой орлан так и не спустился на землю.
А в двадцатых числах октября за натуралистами прибыл вертолет. День выдался на редкость теплый, солнечный, тихий. Сияло все — небо, вода в Моховке и старице, хвоя на елях, пихтах и кедрах.
— Такой денек! — воскликнул Корней Гаврилович. — Даже не хочется улетать.
— А завтра, глядишь, снег выпадет, — заметил Кузьмич.
— И то возможно. Ну что ж, сначала давайте подготовим к полету своих приживалов.
Так Корней Гаврилович называл Элху, Гаврика, Пишки и Фомку. Все они стали за лето совершенно домашними, даже Гаврик, который сначала шарахался в заросли черемухи или вейника, когда к нему приближались. Долго ломал голову Юрий Квашнин, как приручить кабаржонка. Протягивал ему на палке хлеб со сгущенным молоком, пучки молодых веточек тальника — ничто не помогало, детеныш не подходил даже к подачке. Кузьмич посоветовал Юрию сделать базок с высокой огорожей и заводить туда на ночь Элху. Юрию удалось при помощи соли, сладостей и ласки так приручить ее к себе, что кабарожка стремглав бежала к нему, стоило только свистнуть. А поскольку Гаврик не отставал от матери ни на шаг, кроме тех случаев, когда она была возле людей, то, по мысли старого охотника, он пойдет за нею и в базок. А уж тогда будет легче одолеть его строптивость.
Базок был сооружен, а чтобы Гаврик не перепрыгнул через забор, его огородили жердями на трехметровую высоту, воротца сделали в рост человека. Элху приучили ночевать в базке; сначала ее при помощи соли заманили туда, потом привязали и дали соли, а воротца оставили открытыми. Покрутившись сначала некоторое время возле базка и с опаской озираюсь на людей, Гаврик в конце концов зашел в воротца. На следующий день Элху выпустили наружу, а Гаврика оставили взаперти — пусть проголодается. Во второй половине дня Юрий положил у ворот пучок молодою тальника и поставил ведерко с водой. Как только он отошел, Гаврик тотчас же набросился на еду и питье. Потом Юрий стал предлагать ему и питье из рук. Кабаржонок долго не решался подойти, но голод и жажда сделали свое дело.
Потом Юрий стал давать Гаврику из рук имеете с веточками и водой еще и соль — на закуску. Натрет солью ладонь и незаметно подсовывает ее к морде Гаврика, когда он пьет. И тот с жадностью начинает лизать ее. Скоро кабаржонок стал следить за ладонью, прежде чем приняться за корм. Когда Юрий убедился, что Гаврик больше не боится его, он перестал давать соль. Поставит корм, а сам отойдет. Вот Гаврик поел, попил, но ему чего-то не хватает, он не спускает глаз со своего хозяина, нетерпеливо топает передними ножками. Тут и подходи, протяни ему посоленную ладонь. Кабаржонок начинает жадно лизать ее своим розовым шершавым языком.
Через неделю Гаврика освободили из плена, но соли не дали. Велика же была потеха, когда он сразу увязался за Юрием, как собачонка, и все время старался лизнуть его правую ладонь. Дело дошло до того, что Юрий натер солью свою щеку, и Гаврик, не задумываясь, забыв про страх и осторожность, принялся лизать ее.
С этого времени базок стал родным домом кабарожек. Где бы они ни паслись, как бы далеко ни уходили, вечером, к приходу натуралистов, они уже вертелись на биваке.
Труднее стало с Фомкой. По мере того как он подрастал, характер его становился все сложнее.
Взять, например, его отношения с зайцем Пишки. После того как убрали сеточную перегородку в землянке, они относились друг к другу не то чтобы дружелюбно, но, во всяком случае, с уважением. И вот Фомка ©друг воспылал дружескими чувствами к зайцу — стал заигрывать с ним, всячески выражал свою покорность, опрокидывался перед Пишки на спину, старался как бы невзначай дотронуться до него лапой. Пишки, существо чрезвычайно строгое и недоверчивое, долгое время не принимал этих знаков расположения. Но однажды на прогулке, принизанные рядом, они начали скакать один вокруг другого, пока не запутались окончательно в своих веревках. Пришлось их распутать и развести подальше.
А вскоре после этого случая они стали спать не по углам, а рядышком, бок о бок.
— Подружились, — торжествовал Юрий. — Может быть, начнем выпускать их на прогулку свободно? Как вы думаете, Корней Гаврилович?
— Заяц наверняка убежит, — отвечал старый натуралист. — А Фомку можно, но сначала нужно покормить его сладостями.
Утром, спустя неделю после этого разговора, Фомку выпустили на свободу, а Пишки оставили в землянке. Медвежонок сразу направился в палатку. Натуралисты с интересом наблюдали: что же он будет делать? В первую очередь Фомка принялся знакомиться с обстановкой. Он обнюхивал и с интересом рассматривал каждый предмет, потом полез на складной столик и опрокинул его на себя; как ни в чем не бывало выкарабкался из-под него, полез под бударинскую раскладушку и вытащил оттуда его сохатиные бродни, связанные вместе. Обнюхал их, прижал передними лапами к полу и попытался рвать зубами.
— Стоп-стоп, дружище, такой гость нам вовсе ни к чему!
С этими словами Корней Гаврилович поймал его за загривок и выдворил из палатки. Но от гостя не так-то просто оказалось отделаться, он вновь и вновь норовил ворваться в палатку. Пришлось дать ему хорошего шлепка по заду и отнести на берег старицы. Медвежонок порычал, свирепо позыркал своими лилово-мутными глазками на человека с бородищей и принялся лакать воду. Потом залез в старицу по самую шею и стал брызгаться, купаться — стояла жара.
Еще два раза попытался он прорваться в «запретную зону», но снова получил по крепкому шлепку. На этом урок закончился. Фомка больше не лез, куда ему запрещали.
Теперь он большую часть времени бродил по зарослям черемухи, лазил по деревьям, вволю купался, а то гонялся за кабарожками; уж очень ему нравилось, как они улепетывают от него. Но от землянки надолго не отлучался — нет-нет да заглянет к своему дружку-пленнику. Когда же Пишки выводили пастись, Фомка не отходил от него. Старик Пишки был не слишком расположен к веселым играм, однако иногда в шутку начинал осторожно барабанить передними лапами по Фомкиному животу, когда тот опрокидывался на спину подле друга. Это, видимо, доставляло удовольствие игривому медвежонку, он становился назойливым. Тогда Пишки попросту переставал обращать на него внимание. Если же тот продолжал досаждать ему, Пишки становился на задние лапы в угрожающей позе; эта поза хорошо была знакома Фомке с тех пор, как заяц свирепо обрушился на него через сетку.
Позже натуралисты выпустили Пишки из землянки, и он стал пастись вблизи бивака.
Теперь, когда они готовились покинуть Моховую падь, возник вопрос: брать Пишки о собой или оставить в тайге? Мнения разделились. Молодые натуралисты предлагали взять зайца с собой и сдать на базу зооцентра, где он мог бы спокойно дожить свой век. Корней Гаврилович и Кузьмич рассуждали по-другому: заяц старый, хорошо приспособлен к условиям, в которых родился и вырос, и ему трудно будет привыкнуть к неволе, перестроить свой характер. В конце концов было решено не брать с собой Пишки.
И вот имущество погружено в вертолет, там же в клетках Элха, Гаврик и Фомка. В последний раз натуралисты осматривают бивак: не забыта ли какая-нибудь вещь? Но где же Пишки? А вон сидит под колесом вертолета и как ни в чем не бывало умывает лапками морду и не подозревая, что наступила последняя минута его беспечной жизни за спиной людей, что через час его вновь, как и прежде, будут подстерегать опасности и опять придется полагаться только на собственные ноги, зрение и слух, на умение вовремя почуять угрозу и заблаговременно скрыться.
— Будь здоров и береги себя! — с этими словами Юрий Квашнин взял зайца за уши и отнес в заросли черемухи.
Грохот мотора разорвал тишину. Птица-стрекоза поднялась в воздух и поплыла туда, откуда первый раз появилась в начале лета. Скоро она скрылась за западным отрогом Горбатого хребта. Шум мотора еще долго перекатывался в блаженной тишине над Моховой падью, пока не затерялся вовсе где-то далеко-далеко…
ЛЕСНОЙ СОН
Опустела, задремала Моховая падь. Грустная пора — поздняя осень. Как будто и не буйствовала здесь еще недавно зелень листвы и трав, не полыхали осенние краски, не гремели хоры птичьих голосов в дремучей чащобе, не парили в небе горделивые красавцы орланы. Все пусто, все молчит, все замирает.
В начале ноября Большая семья ушла из Моховой пади. Съедены все желуди прошлогоднего урожая, не осталось и следа кедровых орешков, выедены до корней заросли хвоща, а корни добывать уже невозможно — замерзла земля. Трудный и долгий путь предстоит теперь Большой семье. До будущей весны надо идти и идти, отыскивать хвощи, разрывать глубокий снег. Нелегкий это хлеб! Как-то сумеет старая Хара провести Большую семью сквозь все невзгоды! Теперь у нее нет Великого пастуха, и ей каждый день будет угрожать стая Серых разбойников.
И все-таки жизнь в Моховой пади не замерла. Прислушайся чутким ухом, и уловишь то шорох листвы, то треск ветки. А кто это там глухо царапает когтями древесину в той стороне, где растет громадная старая липа? Ее изуродованный невзгодами ствол, метра два в поперечнике, чуть наклонен, она почти совсем утратила крону, метрах в десяти от земли, черным провалом зияет огромная дыра — дупло. Оттуда, из дупла, и доносятся глухие звуки.
Кто же это там орудует? Да ведь это Черный Царап! Его почти не видно в глубине дупла, метрах в пяти от лаза. Чем он занят там, на дне этого темного колодца? Понятно: грызет стенки, сдирает с них когтями гнилую древесину. Все дно необычного колодца уже устлано трухой, а медведь продолжает грызть стенки, царапать их когтями. Для чего же? Ах, вот оно в чем дело: мало места, негде удобно улечься, ©от он и расширяет дупло. Значит, здесь он облюбовал себе местечко для зимнего сна. Неплохо придумал! Во-первых, дупло глубокое — попробуй достань его там! Во-вторых, ни одна снежинка не упадет на него, и, наконец, помещение маленькое, его можно обогреть собственным дыханием. И бока не отлежишь, целый «пуховик» устроил себе Царап из гнилой древесной трухи.
Черный Царап залег в спячку не сразу. Несколько дней он обживал берлогу. Ню на землю спускался за это время всего два раза: нм к чему лишний раз оставлять на коре следы когтей. А спускался он искать слабительные травы, чтобы очистить желудок. Он уже больше не ел. Запаса жира, накопленного благодаря кочевой белке и осенней нерестовой кете, ему вполне должно было хватить до весны.
Но вот повалил первый снег, густой, пушистый, с крупными, как бабочки, хлопьями. Даже слышно, как шелестят снежинки, опускающиеся на шершавую кору липы. Под этот шелест и уснул Черный Царап на всю зиму. Правда, сон этот будет чутким, слух будет сторожить каждый звук, доносящийся из леса.
Примерно в это время залегли в спячку и отшельница Эдуни в своей завали на берегу старицы, и барсучиха в великолепных хоромах Чфы. Вскоре после исчезновения Чфы она повстречала другого красавца барсука и пригласила его к себе в гости. Новому ее другу так понравился дом, что он, не задумываясь, остался в нем на постоянное жительство. Перед тем как залечь в спячку, барсуки основательно почистили хоромы — выбросили старую постель и натаскали свежих листьев и сухой травы. А отшельница Эдуни, видимо, порядочная лентяйка. У нее в завали множество естественных ходов, закоулков. Выбирай любой, натащи туда подстилки и устроишься, как в раю. Так нет же, притулилась в первом попавшемся закоулке, свернулась калачиком и так заснула. Видимо, на шубу надеется! Она у нее к зиме стала пышной, мягкой, никакой мороз не возьмет.
Бурундук Пиик, самый маленький из тех, кто залегает в зимнюю спячку, перестал выходить из своего убежища задолго до снегопада — с наступлением первых заморозков. У него настолько жидкая шубка, что не выдерживает даже самого слабого морозца. К началу снегопада он уже крепко спал.
С ноябрьским снегопадом в Моховой пади окончательно водворилась зима.
Есть своя прелесть в переменах, которые несет с собой зима. Чистейшая белизна пушистого снега, прозрачность узорчатых ветвей, какая-то особенная легкость бодрящего воздуха, и ко всему этому — великий покой, разлившийся в природе, — так наступает зима.
Но кто это там уже оставил свой «автограф» на белой, еще не исписанной снежной страничке? Попробуем прочитать пунктирную строчку, о чем в ней говорится? Она не очень мудрена и состоит из правильно чередующихся парных пятачков. Понятно: соболь Брок держит куда-то путь, это его лапки — круглые, довольно широкие. Судя по тому, что на отпечатках наросли ворсистые иголочки инея, он проходил здесь ночью. Откуда же и куда он направляется? Вот перемахнул через колоду, покружил возле нее. Мышей, наверное, искал. Потом нырнул под завесу пышной ели, одетой в белую накидку, покопал там снег возле ствола, кого-то поймал — вон капелька крови. Конечно, мышь. Потом пошел петлять вокруг соседних стволов, копал там и тут, но, кажется, безрезультатно. Но что это? Почему такой скачок, почему он насторожился, впившись в снег всеми четырьмя лапами?
Видишь полянку в окружении елок? Там в снегу какие-то вмятины. Похоже, что снежные комья упали с веток. Но почему все они одинакового размера? И почему рассеялись по самой середине поляны, где не нависает ни одна ветка? И почему пунктир следов Брока так хитроумно петляет вокруг полянки? Стоп! Что это там за росчерк двух маховых перьев крыла возле вмятины? И вон еще возле другой вмятины? Понятно, в снегу ночевали рябчики. Как же чутко они спали в своей пуховой постели, если услышали приближение охотника за пять метров! Из-под снега!
Можно догадаться, как облизнулся Брок не солоно хлебавши. Дальше он не пошел. Видимо, птицы все сразу взлетели. Но и Броку надо отдать должное — вон на каком расстоянии он учуял рябчиков.
Но пойдем дальше по следу нашего ловкого охотника. Его нескончаемый пунктир выписывает зигзаги один замысловатее другого. Куда тодько не заглядывает ночной охотник! Вот пригнул к земле вьющийся стебель дикого горошка, вылущил все стручки. Потом подкапывался под колоду, но безуспешно — раскоп уперся в древесину, которая еще не сгнила, когти Брока оказались бессильными перед ней. Наверное, услышал мышиный писк или шорох внутри колодины. Но Брок не унывает, поскакал дальше. Вот у самого подножия мощной липы отдирал кору — личинок искал. По-видимому, уловил запах. Отсюда след спустился в распадок Барсучьего ключа, нырнул под бурелом и потерялся совсем. Видно, Брок устроил здесь генеральную ревизию, наелся досыта и где-то в лабиринте ходов улегся отдыхать. Он ведь не любит холода, хотя и носит на себе драгоценную шубку. От сильного мороза она все-таки не спасает — бывали случаи, когда соболи замерзали в клетке.
Интересно, а что сейчас делается на Черемуховой релке?
Здесь тоже все белым-бело, и Моховка, и старица окованы льдом, их уже накрыл белый саван снега. О, да тут повсюду столько следов! Вот отпечатки Пишкиных лап возле брошенного бивака. То спаренных, то счетверенных. Все-таки наведывается старик в свое летнее прибежище. Наверное, тоскует. По всему видно, что он не живет в землянке. Подскакал к ней, посидел и подался к зарослям вейника на луговине. Вот погрыз кору на молодом тальничке, посидел под черемухой, оставил круглые катышки и запрыгал в джунглях вейника. Но куда же вдруг делся его след? Что такое? Ба, да он сделал невероятный скачок, метров в пять, и под гущей вейника влетел в снег. А потам? Опять нет следа. Надо искать! Ага, вон куда он прыгнул, чуть ли не дальше, чем в первый раз. И снова нет следа. Искать, искать! Вот еще далеко в зарослях вейника видна вмятина в снегу. Потом в разных направлениях еще и еще… Семь хитроумных ложных прыжков-скрадок! А дальше? Да вот же он! Белая шубка чуть видна в углублении снега, слившись с ним. Пишки отдыхает.
А вон там, возле небольшой наледи на Моховке, бегала норка Свира. Пунктир ее следов помельче, чем у Брока. Не иначе как где-то неподалеку отдушина во льду. Так и есть, под самым берегом видна пропаринка. Здесь норка вышла, значит, где-то рядом нора. Хорошо устроилась Свира: еда рядом, в воде раки, мелкая рыбешка, лягушки. А в убежище мороз не достанет!
Но почему сюда заходит выдра Ласа? Ее след — нескончаемая бороздка, проделанная хвостом в снегу, и два пунктира пятачков, чередующихся по бокам бороздки. А может, это прошел кто-нибудь из ее детенышей? Возможно. Ведь зимой охотничья территория выдр увеличивается, так что не исключено появление здесь если не самой Ласы, то кого-нибудь из ее потомства.
Остается еще разобраться в следах, которые там и тут избороздили чащобу вейника. Конечно же, это бродил изюбр Гру. Наверняка он пасется где-то здесь. Вон съедены метелки, будто косой срезаны. А вот и его лежка — в самой густой заросли. Видно, он решил тут и зимовать. Кругом еда, ветер сюда не проникает, никто ему не угрожает в зарослях. Черный Царап спит, Амба-Дарлы нет в живых, а рысь Фура его не настигнет здесь. А придет весна — отправится он на склон Горбатого хребта глодать побеги аралии и элеутерококка…
СКВОЗЬ МАРТОВСКИЕ СНЕГА
ПОВЕСТЬ
ВМЕСТО ПРОЛОГА
В ту пуржистую мартовскую ночь кое-кто из камчатских радиолюбителей до самого утра не снимали наушников. Прослушивая, по обыкновению, сигналы в диапазоне коротких волн, они уловили подозрительно повторяющиеся позывные на волне 22,358. В эфире звучал беспокойный, какой-то особенно напряженный писк морзянки. Впечатление было такое, будто маленькая птаха-мать, потерявшая птенцов, в тревоге и отчаянии мечется где-то в снежной кутерьме над гористыми просторами полуострова и беспокойно кричит, зовет: «Пи-пи, пи-пи-пи, пи-пи, пи-пи-пи». Потом как бы на помощь ей приходил усталый мужской голос: «Житнев, Житнев, Житнев, как слышите меня, как слышите меня? Я — Бальзам, Я — Бальзам. Ответьте. Прием, прием».
Но безвестный Житнев не отвечал. И тогда из далей дальних вновь появлялась птаха-мать и в отчаянии продолжала свой нетерпеливый зов: «Пи-пи, пи-пи-пи, пи-пии».
Среди тех, кто поймал радиосигналы «Бальзама», оказались вулканологи Никита Колодяжный и Игорь Храмцев.
Одинокая бревенчатая избушка, в которой они ютились в то время, затерялась среди безлюдных просторов так называемого Лавового плато, у подножья одного из вулканов. Месяц назад они вместе с собачьей упряжкой были заброшены сюда вертолетом в связи с «беспокойным» поведением вулканов, примыкавших к Лавовому плато с юга и северо-востока. Вулканологам вменялось в обязанность ежедневно сообщать в институт результаты своих наблюдений за вулканами Кизименом, Двухглавым, Кроноцким, Карымским и Толбачиком. В дальнейшем, когда поступит указание, им предстояло переехать на собачьей упряжке в Долину гейзеров, провести по пути соответствующие наблюдения и выехать к побережью Тихого океана в районе Кроноцкого залива.
Накануне, примерно, около полудня, они наблюдали редкое по силе извержение одного из вулканов, расположенного к северо-западу от них. Чудовищный букет пепельно-зеленоватого газа, разрастаясь и клубясь, поднялся из хаоса гор высоко к небу. Судя по грохоту, который донесся до них, произошло необычное извержение. Скорее это был взрыв. Они предположили, что взорвался либо Ключевской вулкан, самый высокий на Евразийском материке, либо один из группы окружающих его меньших по размеру вулканов. Уже потом, вечером, на сеансе связи с Петропавловском, они узнали, что произошел действительно взрыв — проснулся вулкан Безымянный.
Но они не могли долго наблюдать это редкостное явление природы. Во второй половине дня, как это бывает нередко здесь, в каких-нибудь полчаса разразилась жестокая пурга. Ее фронт шел со стороны Тихого океана, быстро распространился на все Лавовое плато, вплоть до заструг Валагинского хребта. К ночи избушку вулканологов замело по самую крышу, и теперь над ней из сугроба едва высовывалась жестяная труба, да тонкой лозинкой гнулся под ветром штырь антенны.
Вулканологи только что закончили очередной сеанс связи со станцией сейсмической службы, передали сводку о поведении их вулкана и, хотя запас аккумуляторов был на исходе, Колодяжный, по своему обыкновению, «пробежался» но диапазону коротких волн.
Храмцев раскатывал спальный мешок, когда Колодяжный снял наушники и протянул их коллеге.
— Послушай, Игорь. Все время кто-то кого-то вызывает… Наверное, какая-то беда случилась.
Послушав с минуту, Храмцев снял наушники.
— Да-да. Называет по фамилии, голос встревоженный. Не иначе, с самолетом что-то случилось.
В эту ночь они долго не могли уснуть. Колодяжный время от времени включал приемник и подолгу не снимал наушников.
— Все вызывает, — сообщал он.
В такую погодку немудрено стукнуться о какую-нибудь горку. А тут еще взрыв вулкана…
— Конечно, снесет с курса, и все. А отметки кругом в две да три тысячи метров, не сразу перескочишь…
1. ЧЕЙ СЛЕД?
По обыкновению, каждое утро, если позволяла погода, Никита Колодяжный устраивал «прогонку» своей собачьей упряжке, чтобы не обленивались собачки, как ласково называют ездовых собак на Камчатке. Езда на собаках была страстью Колодяжного. О его упряжке ходили были и небылицы среди камчатских каюров. Рассказывали, будто он однажды обставил даже Фому Подкорытова — самого знаменитого каюра восточного побережья полуострова. Сам Колодяжный уверял, что в его упряжке собрана элита камчатских ездовых собак.
Трудно сказать, насколько это была правда относительно всех его собак, но что касается вожака — черного с белым нагрудником, Кучума, то тут нельзя было что-либо возразить. Это была чистокровная ездовая лайка. Колодяжный купил его в Петропавловске позапрошлой зимой у камчадала-каюра, частника с западного побережья, когда тот приезжал по своим делам в областной центр. Говорят, тот каюр изрядно пропился и вынужден был почти даром — за тридцать рублей — продать такую собаку. А поводом для купли явился любопытный эпизод. На одной из окраинных улиц Петропавловска Колодяжный обратил внимание на собачью драку. Целая свора дворняг атаковала одного пса. А снег только что выпал, был рыхлым и глубоким, собаки буквально тонули в нем. Это была потешная сцена. Дворняги старались окружить пса — одна загородит дорогу, а другая тем временем норовит цапнуть то сзади, то сбоку. Пес ловко хватал за загривок ту, что оказывалась к нему ближе, и швырял ее в сторону. Потом уходил вперед, но не прыгал, как все дворняги, а извивался в снегу по-змеиному. Он явно не хотел драки, этот сильный широкогрудый пес. При желании он мог бы запросто раскидать атакующую свору. Или он по натуре был мирным, или была другая причина. Во всяком случае вовсе не трусость и слабосилие. Так он ушел от них, оставив барахтаться свору в снегу, а сам юркнул в соседний двор.
Колодяжный тот час же направился следом за ним и увидел во дворе разбредшуюся вокруг нарты собачью упряжку. Теперь ему стало понятно, почему пес уходил от драки — он был, по-видимому, «приезжий», а кто знает, что может случиться в незнакомом месте. Хозяин упряжки лежал с «синдромом» — в состоянии тяжелого похмелья. У него не было денег, поэтому он особенно не торговался, когда Колодяжный выложил на стол все содержимое карманов — три красных бумажки.
Так всюду, где встречались собаки нужного экстерьера, — широколапые и широкогрудые со стоячими ушами, покрытые густой пушистой шерстью — он старался купить их, не жалея на это денег. Зачем бы, казалось, в век ракет уделять столько внимания этому древнему виду транспорта, тем более — он не каждый день и нужен был кандидату геолого-минералогических наук да и требовал расходов на содержание? Как-никак — двенадцать собак. Главное, конечно, состояло в увлечении, присущем многим людям. Но оно, это увлечение, не было пустопорожним хобби. Многие тысячи километров «намотал» Колодяжный вместе со своим другом и коллегой Игорем Храмцевым на этом собачьем вездеходе по дорогам и бездорожью Камчатки.
Самолеты не летают в пургу, автомобили не ходят по бездорожью, даже вездеходам не все подвластно в гористой местности. В таких условиях собачья упряжка незаменима. Колодяжный усвоил эту истину после нескольких трудных зимних маршрутов к вулканам.
На второй день после взрыва Безымянного и разгула пурги, 13 марта, Колодяжный выехал на очередной «прогон» упряжки. Собаки давно привыкли к этой утренней зарядке и с места весело понеслись во всю прыть. Колодяжный с трудом удерживал нарты в равновесии с помощью толстого заостренного колышка — остола, то и дело запахивая им снег между передними копылками нарты. Кучум уже знал маршрут «зарядки» и вел упряжку уверенно. От подножья вулкана путь пролегал к югу по «сухой» речке — следу лавового потока, сравнительно недавнего, прорезавшего себе дорогу через березник, затем выходил на настоящую речку и только там изменялся в зависимости от настроения каюра — поворачивал вправо или влево. За речку обычно не ездили — там начинались изрезанные оврагами увалы и густой лес.
Вот и сейчас, на подходе к речке, Кучум уже оборачивал назад веселую морду с длинно высунутым языком, и, по-собачьи улыбаясь, как бы опрашивал: куда? Не успел Колодяжный принять решение, как увидел впереди, посредине речки, длинную полосу следа на снегу. По-видимому, увидел или учуял след и Кучум — он повел упряжку туда, добежал, ткнулся носом. Колодяжный остановил упряжку. Такое не часто случается здесь, в глуши — появление человека. Прошла собачья упряжка вверх по течению речки. Кто бы это мог быть и зачем пожаловал? Кучум почти человеческими глазами следил за хозяином, пока тот изучал след, и ждал распоряжений.
Неизвестная упряжка, судя по всему, прошла на большой скорости, снег был сильно взрыхлен и не очень давно — след еще не заиндевел. Колодяжный подошел к Кучуму, потрогал его за загривок, тот лизнул ему руку, заглянул в глаза, как бы спрашивая: «Ну, что будем предпринимать?»
— Пробежимся вверх, — сказал Колодяжный и посмотрел туда, куда ушла упряжка.
Речка эта — Колодяжный знал по карте — начинается в восточных отрогах Валагинского хребта, делает много крутых извилин по Лавовому плато и уходит на восток к побережью Тихого океана.
Колодяжный дважды поднимался по ней вверх на расстояние около десяти километров, за кедровыми орешками, а заодно и пострелять куропаток в зарослях кедрового стланика. Там вообще начинался край великолепных охотничьих угодий — водились олени, волки, в кедровом стланике обитало много зайца и куропатки, рядом — лисицы, выше в горы, среди скал можно было увидеть дикого горного барана — это истинное чудо камчатской природы.
Удобно усевшись в нарты, Колодяжный гикнул, и свора с места припустила изо всех сил — Кучум, по-видимому, понял команду так, что надо во что бы то ни стало догнать безвестную упряжку; время от времени он оглядывался назад, но не на хозяина, а на какую-то из собак, тихо, но грозно рыкал, по-видимому, чувствовал, что одна из собак лукавит, бежит налегке.
Колодяжный знал, на кого рыкает Кучум, — на кобеля со странной кличкой Рында; он купил его у моряка, прошедшего Северным морским путем. Всем был хорош кобель — статью, общительным характером, лаской к человеку, но был неженка и отъявленный лентяй, — сказывалось воспитание. Кучум не любил Рынду.
Сейчас Кучум притормаживал бег, то накоротке нюхал след, то снова мчался, увлекая за собой упряжку. Не было еще у Колодяжнюго в своре вожака более добросовестного и сообразительного.
Минут через сорок слева на увале показались знакомые заросли кедрового стланика. Там, где он подходит особенно близко к речке, неизвестная упряжка останавливалась. Домчавшись до следа стоянки, Кучум затормозил бег, оглянулся на хозяина: «Привал будем делать?» Колодяжный соскочил с нарт, воткнул остол в снег между копылками и сразу — к следу стоянки. Снег вокруг изрядно истолчен, от него уходил лыжный след в сторону зарослей стланика, а потом возвращался: судя по размеру, лыжи — охотничьи, камусные, значит, упряжка принадлежит опытному охотнику. Но он не один. Садились в нарты двое, у переднего след унтов пошире, у заднего такой же в длину, но уже. След нарт опять уходил вверх по речке.
«Если это охотники, — думал Колодяжный, — то что за нелегкая понесла их сюда, по меньшей мере за полтораста километров от ближнего жилья?»
Колодяжный не поехал дальше: в конце концов, какое ему дело до неизвестной упряжки? Новую собаку он все равно не выменяет здесь.
Возвращаясь к землянке, он почти за километр увидел фигуру Храмцева — тот стоял на валуне неподалеку от землянки и размахивал шапкой, явно звал его зачем-то.
Хорошая дружба связывала вулканологов — опытного последователя подземных горячих источников Никиту Колодяжного и молодого сейсмолога Игоря Храмцева. Три года назад, когда Храмцев только приехал на Камчатку после окончания Московского университета, случилось им вместе провести осень на строительстве Паужетской геотермальной электростанции — первой в нашей стране. Тогда они и подружились. Могучему богатырю с добрым открытым характером, Колодяжному, понравилась широкая любознательность и вместе с тем увлеченность Храмцева своим делом, его тонкий ум и поэтическая натура, бескорыстие в дружбе и бескомпромиссная прямота.
Храмцева же привлекала в Колодяжном удивительная душевная чистота и полная неприхотливость. Возрастная разница в десять лет вовсе не замечалась ими, они звали друг друга по имени, хотя со стороны можно было подумать, что Колодяжный годится в отцы Храмцеву. Поэтому Никита всегда подчеркивал свое покровительственное отношение к молодому коллеге.
— Что случилось? — с ходу останавливая упряжку, спросил Колодяжный.
— Куда это тебя таи долго носило? — Храмцев спрыгнул с валуна, подошел к нарте. Невысокий, обросший русой бородкой в кольцах. — Вот, читай, — юн протянул бумажку. — Срочная радиограмма.
«Вулканологам Колодяжному и Храмцеву. Вчера, 12 марта, — говорилось в радиограмме, — в районе к западу от Кроноцкого залива во время пурги потерялся санитарный самолет „АН-2“ с людьми на борту. Точные координаты неизвестны. Вам вменяется в обязанность обследовать местность вокруг в радиусе пятьдесят километров. При обнаружении самолета окажите возможную помощь людям. О ходе поиска радируйте в институт в конце каждого дня. Областной поисковый штаб».
— Теперь понимаешь, кого искали по рации?
— Ясно. Вот, оказывается, куда побежала упряжка, — догадался Колодяжный. Но, подумав, усомнился: — Стоп-стоп, наверное, не то. По речке от побережья будет километров полтораста. На пути нет нигде жилья. За сутки они не могли пробежать такое расстояние.
— Так ты же сам говорил, что когда-то генерал-губернатор Камчатки Завойко проезжал за сутки на собаках до ста километров, — возразил Храмцев.
— То на перекладных. Ну, что будем делать? Надо выполнять задание ведь, а?
— Сначала позавтракаем.
— Чего ты там настряпал сегодня?
— Жареные гольцы. Последнее из улова. Завтра перейдем на концентраты, — уныло сообщил Игорь.
— Не вздыхай, чего-нибудь добудем, — утешил Колодяжный друга. — Вот поедем на поиски и, глядишь, зайчишку подстрелим, а может, куропаток поднимем.
— Да и орешков надо бы собрать. Запас на исходе, — напомнил Храмцев.
— Добудем, Игорек, добудем, — приподнято говорил Никита. Ему явно пришлась по душе радиограмма. Представлялась возможность вдоволь поколесить по окрестностям. За месяц они изрядно засиделись на одном месте.
Завтрак подходил к концу, когда оба вулканолога сразу услышали какой-то отдаленный гул. Прислушались.
— По-моему, самолет, — высказал предположение Игорь.
— Нет, — решительно возразил Колодяжный и выскочил из-за стола. — Вертолет, по звуку чувствую. Не иначе, как ищет вчерашнего…
Они выбежали на двор, как были, раздетыми, без шапок. Их избушка находилась на юго-западном склоне вулкана, почти у самого его подножья. День стоял на редкость ясный, по-весеннему светло-синее потеплевшее небо было без единого облачка.
Далеко на западе подперла небосвод сплошная горная цепь с круто ломаной линией хребта, вся в белых прожилках снега и серых мазках каменных осыпей. То был Валагинский хребет. У северной его оконечности, где-то за горизонтам, очень сильно чадил черным дымом вулкан. К югу, за белой лентой речки, уходило Лавовое плато — относительно ровное, покрытое лесом по увалам, изрезанное неглубокими долинами и оврагами. Там, далеко, поблескивали под солнцем сахарные головы двух вулканов, как бы подвешенных к небу, потому что в снежном сиянии не видно было самих оснований — конусов.
Над всем этим ослепительным снежным простором мерно и дробно гудел мотор. Вертолет был еще довольно далеко, он шел с юго-запада над Лавовым плато на высоте километра полтора. Это был вездесущий «МИ-1».
— По-моему, идет прямо к нам, — говорил Храмцев, вглядываясь из-под ладони вдаль.
— Кажется, да, — согласился Колодяжный. Вертолет действительно держал курс к их вулкану. Вот он стал сбрасывать высоту, как бы под горку опускался напрямик к избушке: по-видимому, его привлек дым трубы. Вскоре он уже гудел над головами вулканологов, повисел немного и опустился метрах в пятидесяти, облаиваемый многоголосой собачьей сворой.
— Они меня не разорвут? — кричал молодой чернявый пилот, заглушив мотор и открыв дверцу.
Колодяжный и Храмцев подбежали к машине.
— Ба, Виктор! — почти в один голос заорали Никита и Игорь. — Вот так встреча! Какими судьбами?
— В гости! — Виктор выпрыгнул на снег, долго тряс руки приятелям. Прошлой зимой они все вместе просидели под вулканом Толбачик почти две недели в ожидании летной погоды, изрядно наголодались, и с той поры стали хорошими друзьями.
— Ну, приглашайте в гости! Не голодаете?
— Да нет пока…
— Соленых огурцов и мороженых крабов привез. Хотите?
— Может, и свежего хлеба? На сухарях да на пресных пышках сидим.
— А как же, десять булок. Только не для вас. Но одну — возьмем.
Вскоре они все сидели за столом в жарко натопленной избушке; вулканологи с жадностью уплетали ломти хлеба, закусывая солеными огурцами.
— Вы, конечно, получили радиограмму о санитарном «АН-2»?
— Сегодня утром.
— Вот и я ищу его. Все плато облетел, никаких признаков…
— А где он мог приземлиться?
— Летел вдоль побережья от Усть-Камчатска, потом должен был напрямик к Петропавловску пересечь Лавовое плато и среднюю часть Центрального хребта. Примерно по этому маршруту, только в обратном направлении, мне и приказано вести поиск. Житнев только и сообщил, что идет на вынужденную посадку, а в каком районе — ничего не передал, видимо, не успел или сам не знал.
— Наверное, сам не знал, — заметил Колодяжиый. — Вчера тут творилось такое, что рядом ничего не видно было. А тут в воздухе! Может быть, он в океане сел?
— Вообще-то, высказывают и такое предположение в Петропавловске.
— Да-а, задача, — вздохнул Храмцев. — И много людей было?
— Пятеро. Два пилота — Житнев и Мурутян и три пассажира, в том числе беременная женщина, которой требовалась неотложная помощь.
— Трагедия… — Колодяжный в раздумье покачал головой. — Слушай, Виктор, ты не видел с воздуха собачью упряжку? Она проскочила сегодня утром как раз в том направлении, откуда ты прилетел.
— Как же, видел! Километрах в пятидесяти отсюда. Бежала вверх по руслу речки, в сторону Валагинскаго хребта.
— Какая она?
— Ну, обычная, шесть пар собак и два пассажира в нарте. Кстати, все собаки белые. Наверное, тоже на поиски…
— Подкорытов! — воскликнул Колодяжный. — Фома Подкорытов, знаменитый каюр и охотник. Я сразу подумал, что необычная упряжка прошла. Но вот вопрос. До ближайшего жилья отсюда примерно полтораста километров. Об исчезновении самолета стало известно всем, судя по радиограмме в наш адрес, только сегодня утром. Не мог Подкорытов пройти с утра такое расстояние. Даже Подкорытов, этот ас среди каюров!
— Чего не знаю, того не знаю. Ну что ж, полечу, — Виктор встал, застегнул на «молнию» куртку, которую не снимал, пока сидел в избушке. — Надо еще слетать в Жупаново, заправить машину. Весь день буду барражировать в воздухе. Так, говорите, с продуктами у вас неважно?
— Концентраты и консервы, хлебушка бы нам, — сиротским голосом отвечал Храмцев.
— Ладно уж, оставлю вам три булки, — раздобрился пилот. — В крайнем случае, если найду их, им хватит на первое время и шести булок, а потом сбегаю на побережье.
— Сухих анодных батарей у тебя, конечно, нет? — осведомился Колодяжный. — Ох как нужны! Последние на исходе. Не подрассчитали…
— Будет оказия — привезу.
Они распрощались. Вертолет лег курсом на северо-восток, в сторону Кроноцкого вулкана.
2. ФОМА ПОДКОРЫТОВ
На восточном побережье полуострова Фома Подкорытов слыл довольно известной личностью. Много было к тому причин. В молодости он лет десять работал курибаном на одном из рыбокомбинатов. С восемнадцати лет пристрастился к этому опасному, можно сказать без преувеличения, труду храбрецов. Нынче курибан — редкая профессия на Камчатке, потому что резко сократился прибрежный лов лососевых ставными морскими неводами, и спроса на курибанов почти нет.
Курибан — японское слово, в переводе оно выглядит довольно прозаически: приемщик лодок. Но все дело в том, что приемщик этот работает не только в тихую погоду, но и во время сильного прибоя, когда к берегу страшно подходить, многометровые накаты тяжелых морских волн обрушиваются на берег, сокрушают и дробят все на своем пути! А в это время с моря со стороны невода приводят до отказа пруженные рыбой огромные остроносые лодки-кунгасы. В каждой тонн пять рыбы. Кунгас выводят на очередную накатную волну, и она стремительно несет его на берег. Считанные секунды — и его разобьет в щепы. Вот тут-то самая работа курибана — восемь или десять смельчаков в проолифенных костюмах и зюйдвестках бросаются навстречу волне, подхватывают концы канатов, выброшенных с кунгаса, успевают убежать из-под нависающего вала и причалить концы к лебедке. Та сию же минуту включается и начинает работать, кунгас сквозь пенный прибой вытаскивается на берег. Трусливому или нерасторопному тут делать нечего. Но зато, если ты настоящий курибан, тебе слава и почет, как раз то, что больше всего любил Фома Подкорытов.
Но работа курибана — сезонная, она только во время рыбной путины, В зимнее время Фома пристрастился к охоте. В двадцать лет он уже имел отличную собачью упряжку. Не было, кажется, на Лавовом плато уголка, в который бы не заглянул он. К концу каждого охотничьего сезона он возвращался домой с полным мешком пушнины — мехов белки, соболя, выдры, росомахи. Заячью шкурку он даже не считал за мех. Охотничья слава его гремела на всю область — редко еще кто добывал за зиму столько пушнины.
Потом пришло время, когда потребовался хороший проводник — в середине тридцатых годов началось изучение вулканов Камчатки, одновременно геологи приступили к поискам нефти, о выходах которой было давно известно. И пошли изыскатели на поклон к Фоме Подкорытову. Тот знал себе цену и, как говорят, «совесть прятал в платочек», запрашивал сумму вполне приличествующую для своего авторитета. Особенно в зимнее время, когда на экспедицию работала и его собачья упряжка.
Но все это — в прошлом. Сейчас Фоме уже под шестьдесят, вулканологи и геологи больше не нуждаются в опытных проводниках, сами хорошо изучили местность на своих маршрутах, и опрос на Фому Подкорытова прекратился. Слава его осталась в прошлом, за исключением разве одного — собачьей упряжки, не знающей себе равной во всей округе. Но это уже чисто спортивная слава, она не дает денег.
А собачки у него действительно на подбор. Как уже сказано, все они имеют одну масть — белую. И экстерьера одного — чистопородные лайки одной отцовской линии. Сам лично вывел эту породу Фома Подкорытов.
Было это так. Лет пятнадцать назад охотился он на соболя в восточных отрогах Валагинского хребта. С ним была отличная, воспитанная им самим охотничья лайка Дамка. Она была щенная, и Фома приберегал ее. Но на этот раз, как назло, взял с собой, потому что накануне нашел след соболя, а для Дамки распутать его — пустяшное дело. След завел их довольно далеко от землянки, прошел по острию гребня одного из отрогов, дальше, на плоскогорье, еще километра три, потом скрылся в дупле старой кривой березы.
Пока Фома обметывал сетку вокруг березы и выгонял из дупла соболя, погода резко стала меняться — запуржило, подул порывистый шквальный ветер. Соболя все-таки удалось поймать, но когда пошли в обратный путь, видимости не стало никакой. Фома пустил Дамку вперед, уверенный, что она выведет его. И вот острие гребня. Его длина — метров сто. Они подходили к концу гребня, как вдруг чудовищный порыв ветра ударил слева. Фома успел упасть, — прильнуть к камням, а Дамку ветер подхватил и, как перышко, швырнул в пропасть. Отгоревал охотник и забыл о собаке.
Это случилось в конце февраля. А в конце июня у двора Подкорытова дома объявилась Дамка… Фома ушам своим не поверил, когда услышал знакомый лай у калитки. Кинулся как сумасшедший во двор, распахнул калитку и — вот она, сама Дамка! При появлении Фомы от Дамки прытко отскочил небольшой белый песик — коренастый, дюжий в груди и стати. Больше двухсот километров от села произошла зимняя трагедия, но собаке пробежать это расстояние ничего не стоит.
Значит, Дамка ощенилась на месте или в пути. Но только ли в этом дело? Вот Дамка напрыгалась и радостно наскулилась возле хозяина, начисто облизала ему руки и бороду, и Фома принялся ощупывать ее. Боже мой, на ней кожа да кости. Так и есть — перелом обеих задних ног выше колен!
Сколько же перенесла она страданий и мучений: добывала себе пропитание с поломанными ногами, ощенилась, прокормила, пусть одного, и вернулась домой! Наверняка щенок был не один, значит, остальные погибли. И если этот, белый, выжил, то уж не случайно.
Песика Фома нарек Белканом, скоро приручил его к себе, старательно обучал, пристально наблюдал за его повадками и развитием. И вымахал Белкан богатырского роста, отличного экстерьера, редкостный собачий красавец: весь белый, только пятачок носа да глаза — черные. К осени Белкан не знал себе равных в собачьих сворах, а зимой стал одним из самых сильных в нартовой упряжке. А еще через год Фома сделал его вожаком.
С той поры пошла от Белкана отцовская линия в упряжке Фомы и сделала ее непобедимой в собачьих гонках.
Три года назад, в пятьдесят пять лет, Фома выхлопотал себе вполне приличную пенсию: несколько академиков, знавших его в молодости еще рядовыми геологами, ходатайствовали за него, своего бывшего проводника. Кроме того, подрабатывал и любительской охотой. Надолго не уезжал промышлять, а так, на недельку-две выскакивал на Лавовое плато, к границе Кроноцкого заповедника, легко добывал там и по ту и другую стороны границы положенных по лимиту десять соболей, попутно потихоньку браконьерничал — стрелял диких оленей, горных баранов.
Прошлой осенью хорошо уродились орешки кедрового стланика. Фома Подкорытов быстро сообразил: при его возможностях, если не пожалеть труда (чувство лени ему было неведомо), то можно зашибить хорошие деньги. Еще бы, на соседних рыбокомбинатах, когда туда приходят с моря океанские рыбаки, можно оптом продавать орешки мешками из расчета по пятьдесят копеек стакан. Рыбаки ведь приходят с большими заработками, и в первые дни на берегу, добравшись до земных благ, денег не считают, тем более когда встречают такой экзотический деликатес.
Но орешками занимался не только Фома, а и многие, кто знал кедрачи и мог добраться до них. Скоро в ближайшей округе их оббили, а забираться далеко не каждый мог. Вот и надумал Фома Подкорытов смотаться в самую глухомань Лавового плато, туда, где когда-то промышлял зверя или водил экспедиции и потому хорошо знал места, где много кедрового стланика. Там даже была его охотничья землянка, сооруженная в середине сороковых годов. Возможно, она уцелела, и тогда можно будет с недельку пожить там, набрать орешков, а возможно, и поохотиться, мяса добыть. С собой он прихватил младшего сына, Владика — студента второкурсника Петропавловского пединститута; он приехал на каникулы дамой, скоро должен был вернуться в институт, но отец все-таки уговорил его помочь ему, даже если это грозит небольшим опозданием с каникул — не было, мол, транспорта.
Они выехали из поселка в полдень 11 марта с тем, чтобы к вечеру добраться до знакомых горячих ключей и заночевать возле них.
3. КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
Около десяти часов утра 12 марта в аэропорт позвонили из облздравотдела и попросили срочно подготовить санитарный самолет к вылету в Быстринский район — один из самых глубинных и труднодоступных в центре камчатского полуострова; там нуждается в неотложной помощи роженица. Акушерка уже выехала на аэродром.
Пилоты прогревали мотор на взлетной полосе, когда в дверце кабины показалась чернявая, курносенькая девчушка в пыжиковой ушанке и явно великоватой по ее плечам меховой куртке, какие носят летчики; огромная санитарная сумка заметно отягощала ее правое плечо.
— Андреевна приехала! — крикнул второй пилот первому. Андреевной пилоты окрестили юную акушерку полгода назад, когда она по окончании фельдшерско-акушерской школы впервые вылетела с ними в один из отдаленных районов.
— Вика Андреевна, — представилась она тогда пилотам с таким солидным видом, будто перед ними была по меньшей мере заслуженный врач РСФСР.
В ответ пилоты хитро перемигнулись, даже не скрывая от нее этого, потом весело рассмеялись.
— Здравствуйте, доктор, — игривым баском приветствовал ее первый пилот, Арсений Житнев.
— Здравствуйте, Андреевна, — в тон ему произнес с армянским акцентом второй пилот, Ашот Мурутян.
Смуглые щеки девушки порозовели, в черных, с камчадальским разрезом, глазах сверкнули сердитые искорки, широкие брови — вороньи крылья — почти сомкнулись на переносье.
— Я прошу называть меня как я сказала — Викой Андреевной, — строго, почти приказным тоном заявила она. Но ее так, и не послушались. Говорят, плетью обуха не перешибешь — величательное «Андреевна» так и прилипло к ней. В конце концов Вика вынуждена была смириться и стать тем, кем являлась на самом деле — простой улыбчивой девчушкой без малейшей претенциозности, очень деловитой, в меру хохотушкой, иногда — остроязыкой пересмешницей.
Пилоты заглушили мотор, когда Вика залезла к ним в кабину.
— Ребята, здравствуйте, — она всегда так приветствовала друзей. — Ну что ж, летим?
— Давай-ка, Андреевна, сначала уточним маршрут полета, — Житнев раскрыл планшет.
Пунктом назначения был поселок оленеводов. Он лежал в долине небольшой речки в среднем ее течении; кругом, горы с отметками до тысячи и больше метров высоты. Речка впадала в реку Камчатку.
— Полетим, как обычно, по долине реки Камчатки, а там свернем в эту долину, — объяснил Жита ев. — Хотя здесь придется лететь не над горами, а по долине, зигзагами, но зато будет вернее, потому что там очень сложная мозаика хребтов и речных долин, можно потерять ориентировку.
И вот самолет в воздухе. Вверху безбрежная голубизна неба, внизу — белизна снега, хаос гор, там и тут видны исполинские конусы вулканов, уперших свои белоснежные шапки, кажется, в самый потолок поднебесья. Над некоторыми из них слегка курится пар. Удивительное это ощущение, быть между небом и землей. Вика не отрывала лица от окна. Позади остались Корякская сопка и Авачинский вулкан — справа, слева — шеренга Ганальских востряков, каменными пиками ощетинившихся по самому острию Срединного хребта, а впереди — широкая и привольная долина реки Камчатки.
Как всегда, когда приходилось пролетать над этими местами, Вика с волнением ждала появления родного села; самолет обычно пролетал над ним.
Вот и сейчас, прилипнув курносым носиком к стеклу окна, она нетерпеливо смотрела вниз — ну когда же оно появится? Ага, вот знакомые квадраты полей, а вон и порядки изб, линии улочек. Она без труда нашла свою избу, даже увидела кого-то во дворе, но разглядеть с высоты, кто там — отец, мать или кто-нибудь из сестренок, — она не смогла.
Вика была коренной камчадалкой, — так здесь называется местная народность, которая давно смешалась с русскими, утратила свой язык, черты быта, но зато сохранила приметы внешности: чукотский разрез глаз, смуглость кожи, черные волосы и еще говор русских первопроходцев, в котором преобладали цокающие звуки: «цо, паря, цаек попьем?» Этой фразой пилоты не раз донимали Андреевну.
Житнев безошибочно определил речку, по долине которой предстояло лететь. Сначала долина выглядела довольно широкой и более или менее прямой. Но чем дальше, тем уже становилась она, выше и круче поднимались горы, начинались зигзаги. Пилоту то и дело приходилось кренить машину на виражах, огибая скалы. Вику кидало из стороны в сторону, пришлось пристегнуться ремнями к сиденью, ее стало поташнивать — она вообще с трудом переносила болтанку.
Наконец долина вновь расширилась, горы стали ниже, и пилоты увидели впереди небольшой поселок. Возле него на снежном поле темнел посадочный знак, а неподалеку толпилась небольшая группа людей. Житнев сразу же пошел на посадку и приземлил самолет на все три точки.
Не успел самолет остановиться, как к нему бросились люди, одетые в кухлянки, оленьи торбаса. Это были эвены. Четверо бегом несли на растянутом пологе больную, следом рысцой семенил молодой человек в белом халате.
— Что с больной? — было первым вопросом Вики к молодому человеку в белом халате; перед нею стоял русский паренек — местный фельдшер.
— Третьи сутки родовые схватки, а родить не может, — уныло отвечал тот. — Видимо, неправильно лежит плод, придется прибегнуть, наверное, к кесареву сечению.
Пока грузили роженицу в самолет и умащивали ее на носилках, возле Мурутяна топтался невысокий эвен лет под сорок и уговаривал пилота взять в самолет переметные сумки из оленьих шкур, до отказа набитые поклажей.
— Товариса летника, я ей музик, понимаете? — вдалбливал он пилоту. — Зынка раз родит — надо хюросый кормезка, тут олеока мясо. Эвен без мяса плохо. Опять зе — молока детке. Будь добра…
— Ладно, кидай.
Но кинуть сумы одному не так-то просто — их с трудом завалили в кабину два эвена.
Пилоты уже завели мотор, когда из поселка выскочила собачья упряжка с двумя седоками в нарте. Один погонял собак, размахивая остолом — заостренной палкой для торможения нарт, другой, что сидел позади, показывал знаки руками, явно выражая просьбу задержать вылет.
— Вечная история, — проворчал Житнев, сбавляя обороты мотора. Он давно привык к тому, что на обратный рейс обязательно просились пассажиры, особенно из глубинных районов.
На этот раз просителем оказался плотный, румяный, как спелое яблоко, паренек, русский, одетый в просторную волчью доху и расшитые бисером торбаса. На голове чуть набекрень сидела новенькая пыжиковая ушанка. Мурутяну, который вышел встретить приехавших, паренек объяснил, что он сын директора местного оленеводческого совхоза, учится в Ленинграде, приезжал на каникулы и теперь опаздывает — не было самолетов.
— Залезай, — коротко бросил Мурутян и, подав стремянку, принял тяжелый рюкзак и модный саквояж.
Самолет легко оторвался от поля и круто набрал высоту. Трасса теперь была хорошо знакома Житневу, погода стояла ясная, и пилот легко и уверенно вел машину над горами. На подходе к долине реки Камчатки оба пилота сразу увидели далеко впереди нечто непонятное: к небу быстро поднимался исполинский сизый гриб. Они переглянулись, как бы спрашивая друг друга: что это? Судя по всему, «гриб» возник где-то в районе северной оконечности Валагинского хребта, по ту сторону от него. Слева, севернее, упирал в небо свой заснеженный конус Ключевской вулкан.
— Извержение!
— Понимаю, — Житнев кивнул головой, продолжая пристально наблюдать за тем, как разрастаются сивые клубы. — Неприятная штука…
— Смотри, Арсений, тянет сюда! — кричал Мурутян, Показывая на левую половину тучи.
Вершина гриба, который продолжал быстро разрастаться в вышину и вширь, действительно надвигалась карнизом на долину реки Камчатки. Самолет отделяли от тучи с полсотни километров, когда под ее карнизом стала образовываться пепельно-серая бахрома. Ее-то и боялся Житнев. Несколько лет назад, возвращаясь из полета, он лопал под такую бахрому в момент извержения Авачинского вулкана. На самолет обрушился ливень песка и мелких камешков, машину сразу кинуло вниз, на обшивке капота мотора появились пробоины, похожие на пулевые, началась невообразимая болтанка. Благо был выход — уйти вправо, в сторону Авачинокой бухты, где светился ясный горизонт. Житнев тогда бросил машину по крутой наклонной, перешел почти на бреющий полет и таким способом сумел ускользнуть от опасности.
Но вот сейчас… Что же предпринять сейчас?
— Ашот, быстро вызови аэродром! — приказал он Мурутяну и поплотнее затянул ремешок наушников. Вскоре в них послышался далекий голос: «Диспетчер слушает». Житнев коротко доложил обстановку. «Значит, уверенности нет, что проскочите зону опасности? Хотя бы до Мильково, чтобы там на время посадить машину?» — спрашивали с аэродрома.
— Гарантии никакой, — отвечал Житнев. — Очень быстро движется на долину изверженная туча.
«А если в Ключи?»
— Они уже закрыты тучей.
«Подождите минутку, доложу командованию».
Вечностью показались Житневу минуты, пока он ждал решения командования. За это время не только карниз, но и сам «букет» изверженного газа и пепла надвинулся на долину реки Камчатки и продолжал расширяться вправо и влево. Самолет шел на сближение с ней. Житнев лихорадочно перебирал возможные варианты решения. Сложность обстановки состояла в том, что вправо и влево на многие десятки километров уходили горные хребты. Надо набирать очень большую высоту. К тому же там трудно совершить посадку в случае необходимости.
Оставалось одно: круто забрать влево, на северо-восток, обогнуть с той стороны тучу, выйти к Тихому океану и вдоль побережья добираться до Петропавловска.
Но вот в наушниках голос командира отряда: «Что вы предлагаете?» Житнев изложил свой план. «С решением согласен. Действуйте. Будьте непрерывно на связи», — прогудело в наушниках.
Тем временем в пассажир ежой кабине шла обычная жизнь. Вика дала снотворное роженице и, по обыкновению, когда самолет шел ровно, прильнула к окошку. К ней подсел студент и без обиняков сказал:
— Познакомимся? Я — Славик.
Он был заметно под хмельком, оттого, наверное, и полыхали румянцем его юношеские тугие щеки. Нельзя сказать, чтобы он был красив, но что-то неуловимо приятное проскальзывало в его уширенном тяжеловатом лице: когда улыбался — в глазах, больших, жгуче-черных; когда говорил — в движении толстых, словно резиновых губ; когда вдруг задумывался — в нервном подрагивании тонких с краснинкой по краям ноздрей. Услышав сухое «Вика Андреевна», он недоуменно спросил:
— А почему?
— Что «почему»?
— Почему так: «Вика Андреевна»? Ты же не старше меня!
— А тебе сколько лет?
— Исполнилось двадцать.
— Ну и мне тоже.
— Ты врач?
— Врачи в двадцать лет не бывают.
— Хотя, верно, фельдшер?
— Акушерка.
— Трудная профессия…
— Ничего трудного. Привыкать надо. Ой, что это такое? — испуган, ню закричала Вика, когда самолет круто лег на левый вираж и в окошке по правому борту, в которое она смотрела, показалась страшная, яростно клубящаяся барашками во все небо сизо-серая туча.
Славик тотчас прилип к окну, и тонкие чуткие ноздри его мелко задрожали.
— Извержение вулкана, — выдохнул он, глаза его по-кошачьи округлились. — Я видел нечто похожее. Пустяки, — утешал он не то себя, не то Вику, — ты не пугайся, он нам ничего не сделает. Обогнем тучу, и все.
Он сказал это спокойно, с самоуверенностью, присущей его возрасту.
— Ну точно, обходим, слева, — добавил он, не отрывая лица от окошка.
Самолет действительно огибал тучу. Он лег курсом на северо-восток, потом прямо на север, в сторону, противоположную его маршруту на Петр опав ловок. Через полчаса он обогнул Ключевской вулкан, вершина которого заостренным конусом торчала из толщи изверженной тучи; пилоты напряженно всматривались вперед.
— Не нравится мне эта картинка, — оказал Житнев, не поворачивая головы к Мурутяну.
«Картинка» действительно производила не очень приятное впечатление. Согласно карте, теперь впереди лежал океан, но воду не было видно. Мутно-белесая плотная мгла укрыла все кругом и стеной поднималась до самого неба, так что определить, где кончается земля и начинается океан, было невозможно.
— Что же, пойдем слепым полетом, по карте, — заметил Житнев.
Он передал управление Мурутяну, а сам взялся за планшет.
Перед ним стояла нелегкая задача — определить береговую линию, вдоль которой они полетят. Одинаково опасно уйти слишком далеко влево, в сторону океана, и слишком уклониться вправо, в глубь полуострова, изобилующего гарными хребтами и конусами вулканов. А видимости на грани берега и океана — никакой. Он не знал, когда точно выйдет к Усть-Камчатаку. Оттуда нужно повернуть под прямым углом и лететь над побережьем Камчатского залива, обогнуть Кроноцкий полуостров, дальше идти вдоль берега Кроноцкого залива, затем обогнуть с востока группу Центральных вулканов — Жупановокий и Авачинский — и выйти на Петропавловск. Этим маршрутом он никогда не летал.
Житнев лихорадочно подсчитывал маршрутные расстояния и скорость полета, прикидывал силу и направление ветра, который дул с востока, сличая все это с масштабами карты. Картина — дрянь. Нужны хоть какие-нибудь визуальные ориентиры, а впереди их нет.
Идти по интуиции? Что ж, иного не остается. Он свернул планшет, подал Мурутяну знак, что берет управление на себя, и твердо положил ноли на педали, накрепко вцепился руками в штурвал.
Началась болтанка. Они летели теперь на восток, в сторону Тихого океана. На «фонаре» — смотровом стекле — расплющивались мокрые снежинки. Заметно образовывалась ледяная корка. Самолет кидало вниз и вверх, словно на качелях. Казалось, они не только не движутся вперед, но их относит назад. Но вот Житнев заложил самолет на правый вираж, выровнял его, снежинки теперь разбивались о левую часть «фонаря», но болтанка не прекратилась.
— Теперь на Петропавловск! — крикнул Житнев.
— Горючее! — Мурутян ткнул пальцем в показатель уровня бензина.
Лицо Житнева помрачнело: горючего оставалось примерно на такое же расстояние, какое, по расчетам, отделяло их сейчас от Петропавловска. Конечно, если все пойдет нормально.
А между тем пурга заметно усиливалась, болтанка стала еще большей. Приходилось делать огромные усилия, чтобы держать машину в ровном положении. Кажется, отпусти штурвал и педали, и самолет начнет кувыркаться подобно перышку, подхваченному ветром.
— Ашот, вызови диспетчера.
Когда в наушниках послышалось: «Диспетчер слушает», Житнев спросил:
— Есть ли где-нибудь просветы в районе Центрального хребта?
— Небольшой просвет — между Авачинским вулканом и Корякской сопкой. Как обстановка?
— Дело дрянь, — равнодушно сообщил Житнев. — Горючего мало. Иду вслепую где-то над побережьем Камчатского залива. Визуальности — никакой. Предположительно обойду с востока Кроноцкий полуостров, поднимусь повыше и лягу курсом прямиком на Центральный хребет, в районе Авачинского вулкана. Он виден от вас?
— Виден.
— Вот и хорошо. Сориентируюсь по нему. Только бы перевалить хребет… Прошу не выпускать меня из поля зрения.
Самолет еще Долго кидало туда-сюда. Шли все время слепым полетом — нигде никаких ориентиров. Только муть пурги. Стремительные снежные нити заполняли все видимое пространство. Они двигались как бы волнами. Или это было так на самом деле, или казалось оттого, что самолет все время кидало.
…Наступили сумерки: это был плотный заряд пурги. Когда Житнев попробовал оттянуть на себя штурвал, чтобы поднять самолет повыше, машина вдруг задрожала, будто ее забила жестокая лихорадка. Самолет не шел вверх, хотя на высотомере было 1500 метров. Вибрация была настолько сильной, что на некоторое время у пилотов потемнело в глазах.
— Горючее! — закричал в самое ухо Житнева Мурутян.
Взглянув на циферблат, первый пилот понял: все! Он повернул слегка побледневшее лицо к помощнику, спокойно приказал:
— Ашот, иди к пассажирам.
— Арсений…
— Иди!
— Слушай, Арсений, вместе…
— Товарищ Мурутян, приказываю немедленно покинуть пилотскую кабину!
— Есть, командир, покинуть кабину!
— Диспетчерская, диспетчерская, говорит Житнев, слушайте меня, говорит Житнев, иду на вынужденную посадку, вынужденная посадка, предположительный район — Кроноцкий залив, Кроноцкий залив. Говорит Житнев, иду вынужденную посадку, иду вынужденную. — Житнев говорил ровно, без интонаций, спокойным, негромким голосом.
Машина падала вниз не то чтобы стремительно, она кренилась то на правый, то на левый бок, планируя. Вытягивая шею, Житнев старался заглянуть — что внизу. Справа показалась темная стена. Выруливая почти свободно планирующую машину (мотор в последний раз прочихивался), Житнев пошел вдоль стены. Видел только: она серовато-бурая, острия скал на ней; от них он старался уклониться чуть-чуть влево, но и не оторваться, понимал — обрыв какой-то долины или побережья океана. Повел вдоль него машину, потом увидел снег внизу, и на этом оборвалась нить его памяти.
4. ПОГРЕБЕННЫЕ В СНЕГУ
Появившийся в пассажирской кабине второй пилот увидел непонятную картину: задняя половина ее была занавешена простыней, возле нее по эту сторону сидел Славик, пряча что-то под широкой полой дохи.
— Идем на посадку, пристегнуть пояса! — объявил пилот.
— Тише, рожает, — прошипел на него Славик. Только теперь Ашот обратил внимание на то, что лицо у студента бледное, на дохе следы крови, а тонкие ноздри Славика нервно подрагивают.
— Что с вами?
— Видите? — Славик открыл полу дохи, под ней оказался белый сверток в красных пятнах.
— Что это?
— Ребенок…
В ату секунду из-за занавески высунулась Вика со вторым таким же свертком.
— Возьми…
— Еще будет? — чувство юмора все-таки не покидало Славика.
— Не знаю.
— Господи, хоть бы только не больше двойни! — взмолился Славик. — А то куда же еще я их буду засовывать?
Оторопевший Ашот смотрел на все широко открытыми миндалевыми глазами. Он явно растерялся, столкнувшись со столь необычным случаем в своей летной практике. У него, этого крепко скроенного парня с гордым кавказским профилем лица, был сейчас вид смешной и обескураженный; наконец он взял себя в руки.
— Подсунь их повыше, — велел он Славику, — повыше, повыше. Вот так. — Потом пошарил за его спиной, нашел там ремни и туго опоясал ими талию Славика.
— Теперь сиди спокойно. Идем на вынужденную посадку.
— На вынужденную? — выдохнул студент. — Да как же я с ними. Ой, заберите у меня их, я же их подавлю…
— Сиди спокойно и пошире расставь ноги, упрись в пол, — приказал Ашот. — К вам можно? — крикнул он за занавеску.
— Одну минутку, Ашот, я сейчас.
Вика торопливо укрыла роженицу кухлянкой, стянула резиновые перчатки, вышла из-за простыни. Вид у нее был возбужденный, глаза поблескивали, щеки зарумянились.
— Ох, вот счастье-то, — возбужденно говорила она. — Хоть и трудно было, но ты понимаешь, Ашот, все обошлось благополучно. Кажется, идем на посадку? Понимаешь, Ашот, когда началась сильная вибрация самолета, тут она и…
Ашот не дал ей договорить.
— Вика (Мурутян редко называл ее по имени), только не пугайся, идем на вынужденную посадку.
— Почему? — она как-то вся замерла.
— Горючее на исходе.
— Боже, это же ужасно. — Вика зажала бледнеющие щеки смуглыми по-детски маленькими своими ладошками. — А где садимся?
— Пока неизвестно. По-видимому, где-то у побережья Тихого океана, — объяснил Ашот, пристегивая носилки с роженицей. — Ты тоже, да побыстрей, кажется, мотор сейчас заглохнет, — скороговоркой бросил он. — Судя по всему, Кроноцкий вулкан обогнули, а это самое опасное место.
Едва оба они пристегнулись ремнями, как мотор несколько раз чихнул и замолк, наступила страшная тишина. Только свист ветра и летящей машины доносился снаружи. Вика сразу стала мертвенно-бледной, она вся обвисла на пристяжном ремне.
— Ой, ой, — стонала она.
— Ничего, Викочка, ничего, милая, — успокаивал ее Ашот, — Житнев опытный летчик, это у него уже не первая вынужденная… — Голос Мурутяна немного дрожал. Он оборвался на полуслове — неожиданный удар кинул всех к стенке фюзеляжа, ужасный треск и звон заглушили вопль Вики. И самолет замер, круто накренившись вправо. Наступила тишина, тишина до звона в ушах. Необычное состояние неподвижности привело всех на минуту в оцепенение. В кабине стало мрачно, как в поздние сумерки.
Первым пришел в себя Ашот.
— Живы? — с деланным спокойствием произнес он.
Мгновенно отстегнув пояс, он кинулся к двери пилотской кабины. Рывок, другой — дверь не открывается.
— Что за чертовщина, почему он закрылся? — Ашот стал барабанить в дверь куланами. — Арсений, открой!
В ответ — тишина.
— Арсений, ты слышишь меня? Открой же!
И снова никакого ответа.
— Что такое, неужели?.. — Ашот помрачнел, постоял в раздумье. — Надо снаружи!
Он кинулся к наружной двери, нервным рывком отворил ее. Белая туча снежного вихря хлынула в пассажирскую кабину, закружила по ней. Стремянка не потребовалась — самолет брюхом лежал на снегу. Ашот выпрыгнул и по пояс оказался в рыхлом, как пух, сугробе.
— Закрой дверь, — крикнул он Вике, — а когда постучусь, откроешь.
Он очутился в объятиях невообразимой круговерти пурги, ни с чем не сравнимой мартовской камчатской пурги.
Было около пяти часов, а казалось, что уже наступила ночь. Видимости вокруг — никакой, весь воздух — белесоватая кутерьма. Ашот буквально выгребался и тонул в снегу, добираясь до нижней плоскости левого крыла, долго залезал на нее, потому что под ногами не было никакой опоры. Шагнул к пилотской кабине, и сердце его замерло: кабина справа смята, оба правые крыла начисто сломаны, за ними темнеет отвесная каменная стена.
Ашот стер рукавом снег со стекла кабины, заглянул внутрь. Холод подступил к горлу: Житнев как сидел в своем левом кресле во время полета, уперев ногами в педали, так и остался в нем. Только руки безжизненно повисли по бокам кресла да голова неестественно откинута назад. А по правой стороне бледного лица бежит и нарастает по краям вишневыми натеками струйка крови. Она уже угасает, но, видно, текла сильно из широкой косой рассеянны на лбу выше правой брови. Кровь залепила глаз, расползлась по щеке, по губам и дальше — по подбородку и шее — уходила под меховой воротник куртки. Но даже в этой безжизненной позе, или, может быть, благодаря нее, особенно ярко вырисовывалось сейчас молодое продолговатое русое лицо, успокоенное и мужественное.
— Ах, Арсюша, Арсюша… — с горечью прошептал Ашот, разглядывая дорогое и близкое лицо командира и друга, и тяжко вздохнул.
Он долго и пристально прослеживал жилки на его виске, вену на шее — не пульсируют ли? И вдруг все-таки уловил — вена пульсирует, чуть-чуть.
«Что же предпринять? — лихорадочно соображал пилот. — Как попасть к нему?»
Он детально осмотрел кабину, обратил внимание, что кресло второго пилота, его, Ашотово, погнуто и сдвинуто к левому сиденью.
Это была его смерть; глубокая вмятина зияла в боковой правой стенке, блок радиоаппаратуры, вмонтированный позади кресла в углу, переломан посредине, перегородка и дверь, разделяющая пилотскую и пассажирскую кабины, перекошена.
«Неужели заклинило дверь? — Ашоту до тошноты стало не по себе. — Что же предпринять, где выход?!»
Сначала возникла мысль разбить «фонарь» — смотровое стекло, но, подумав, он понял, что из пилотской кабины будет еще труднее открыть дверь, чем из пассажирской, тем более что весь инструмент находится в стабилизаторе самолета.
И еще: Житнев сейчас укрыт от ветра и снега. Тепло еще не остывшего мотора сопревает его.
Ашот расторопно добрался до дверц пассажирской кабины, попросил подать стремянку и кашкой взобрался в самолет. К этому времени Вика уложила новорожденных к матери, Славик флегматично прохаживался по кабине, разминая затекшие ноги.
— Житневу нужна срочная помощь, — раздраженно говорил Ашот. — Ты, Вика, готовь йод и марлю, а ты, студент, как тебя зовут? Славик? Так вот, Славик, будем ломать с тобой дверь.
— Он тяжело ранен? — сдержанно опросила Вика.
— Да, находится в бессознательном состоянии, рассечен лоб. Выживет ли… — Ашот тяжело вздохнул, торопливо направляясь в хвост самолета.
Вскоре он притащил сумку с инструментом. Тем временем в самолете стало совсем темно, его занесло снегом, снег белел и в квадратиках окон. Освещали кабину карманным фонариком Славика; аккумулятор с переносной лампочкой находился в пилотской кабине. Почти целый час они трудились, пока удалось наконец расклинить дверь. Каково же было удивление Ашота, когда при свете фонарика он увидел Житнева сидящим прямо.
— Арсений!.. Как самочувствие?
— Что вы там так стучали? — тихим голосом спросил Житнев, вяло повернув голову. Все лицо его было измазано кровью, видно, он вытирался. — Я, кажется, стукнулся крепко. Попить бы…
Ашот вмиг сбегал в хвостовой отсек самолета, где стоял бачок с водой. Житнев с жадностью осушил кружку, спросил:
— Там, у вас, все живы? Сколько сейчас времени?
— Четверть седьмого. Все живы!
— А почему так темно?
— Нас занесло снегом.
— Не понос, так золотуха, — повторил Житнев излюбленную шутку Вики.
— И еще одна новость, командир, у нас прибавилось два человека.
— Да, цур тебе! Родила двойню?
— Ты угадал.
— Мальчики, девочки?
— Девочки.
— Ох-ох! Но где все-таки сели, Ашот?!
— Ничего не понимаю, командир. Знаю только одно — в снег.
— И как это я зевнул этот чертов выступ, — сетовал Житнев, подставляя лицо Вике, которая принялась врачевать его. — Ведь видел: справа — каменистая стена, думаю — посажу впритирку к ней, боялся уклониться влево, полагая, что там будет хуже. И вот он, этот проклятый камень. Сильно покалечена машина?
— Безнадежно. Видишь? — Мурутян осветил фонариком правую стенку кабины.
— Эге-ге, и радиоаппаратура полетела…
— И оба правые крыла, — добавил Ашот. — Как самочувствие, командир?
— Голова тяжела, как с похмелья.
— Может, спиртишка достать из энзэ! Глотнешь капелюшку?
— Подожди, очухаться надо да разобраться, что к чему. А спирт, видно, еще пригодится нам.
— Разбираться-то не в чем. Ясно, пока замурованы в снегу…
5. ГДЕ ОНИ СЕЛИ?
Пурга прекратилась на следующий день утром, и над восточным побережьем Камчатки нестерпимо заголубело огромное, по-весеннему яркое и чистое небо. Только к северу от Лавового плато продолжал чадить аспидно-черным дымом вулкан. Дым клонился в сторону запада, и там, над горами, в небе вытянулся его чудовищный черный шлейф. Линии хребтов и вулканов, осыпей и каменных заструг — все выступало четко и ясно, как сквозь увеличительное стекло.
Едва взошло солнце, — огромный красный шар будто всплыл из глубин темно-синей бесконечно большой воды океана, а над восточным побережьем полуострова в небе уже гудел вертолет. Он шел то прямым, то ломаным курсом, иногда останавливался, или кружил над каким-нибудь участком, спускался почти до земли, потом взмыл вверх и продолжал гудеть в небе. Улетал один, на его место прилетал другой. И так весь день. А потом то же назавтра, на послезавтра…
Искали исчезнувший санитарный самолет. И не только с воздуха. Были оповещены охотники и геологи, вулканологи и жители прибрежных поселков. Несколько собачьих упряжек мчались к месту предположительной аварии самолета — к югу и западу от Кроноцкого заповедника, к западу от Кроноцкого залива, к северу от Центрального хребта.
…Давно сказано: не было бы счастья, да несчастье помогло. Снег, засыпавший самолет по самый верхний фонарь, оказался на время истинной благодатью для людей, находившихся в пассажирской кабине, — он укрыл их от холода. Получился тот самый снежный дом, в каких издревле ютились в зимнюю стужу эскимосы — тундровые жители Заполярья.
После перевязки раны и нескольких глотков спирта Житнев почувствовал себя лучше и без посторонней помощи перешел в пассажирскую кабину; туда же перенесли его кресло, сняв с креплений. Пилотскую кабину решено было закрыть, чтобы не уходило тепло, накопившееся внутри фюзеляжа.
— Ну что же, прошу всех на совет, — сказал Житиен, удобно устроившись в своем кресле.
Помещение кабины было освещено мертвенно-бледным светом переносной лампочки от аккумулятора, тем не менее здесь стало даже уютно. Ничто больше не гремело, не гудело, не выло, глухота подземелья царила в просторном помещении; с относительными удобствами устроились Вика и Славик. Сюда снесли все коврики, чехол от капота, четыре опальных мешка из аварийного запаса. Так что теплый ночлег был обеспечен всем, хотя сон, как это бывает в состоянии нервного напряжения, никому не шел и на ум. Славик сидел на прежнем своем месте возле занавески, спрятав лицо в воротник дохи, и пощелкивал карманным фонариком — включал и выключал свет.
— Послюшай! — вспылил Ашот, — перестань ты игрушками заниматься! Зачем разряжаешь батарейки? Они еще пригодятся.
Сам Ашот полулежал на спальном мешке, разостланном по полу рядом с креслом командира. По другую сторону кресла сидела Вика на своем мешке, поджав калачиком ноги, обутые в торбаса из оленьих, лапок и расшитые бисером. За занавеской тихонько посапывала роженица; измученная вконец, она опала мертвецки.
— Итак, будем держать совет, — повторил Житнев. — Хотя ясности еще во многом нет, мы не знаем, где мы приземлились, что нас ждет впереди, считаю все-таки, что кое о чем надо договориться. Будем исходить из худшего варианта — что мы находимся далеко от человеческого жилья, что нас найдут не скоро, а возможно вовсе не найдут, и нам придется самим искать выход и выжить. Вика Андреевна (Житнев редко называл так Вику), как состояние матери и новорожденных?
— Пока что я затрудняюсь, Арсений Степанович, сказать что-нибудь определенное. — Вика говорила четко, суховато, чувствовалось, что вся она собрана, готова на любые испытания. — Вообще-то, роды прошли более или менее нормально, девочки, конечно, очень маленькие, как обычно при двойне, но, по-моему, вполне жизнеспособные. Мать чувствует себя удовлетворительно, ей сейчас требуется покой хотя бы на два-три дня. И еще большая просьба, Арсений Степанович, — как бы организовать теплой воды?
Житнев задумался, его опередил Мурутян:
— Завтра мы сможем это сделать. Подкопаемся под мотор, спустим отработанное масло и разведем костер, натаем снега.
— У меня последняя просьба. Тут некоторые товарищи — курящие, — Вика посмотрела на Славика и Ашота, — я бы попросила воздержаться пока, не курить. Воздух и без того сперт, а тут младенцы и выздоравливающая мамаша.
— Курение запрещаю, — спокойно объявил Житнев.
— А если выходить в соседнюю кабину? — Славик высунул скучное лицо из воротника дохи.
— Только на улице. Кстати, как вас зовут, молодой человек? Славик, ага. Так вот, Славик, у вас спички есть? Сколько коробков? Один? Сдайте мне его. Сейчас сдайте.
— Почему именно сейчас?
— Потому, что они могут пригодиться для всех. И фонарик тоже сдайте. Он так же может пригодиться для всех. Как только выяснится, что нам ничто не угрожает, я верну вам все это.
Славик нехотя достал спички и фонарик из-за пазухи и кинул их на спальный мешок Вики — он был в двух шагах от нее.
— Можно было бы и подать, — с укоризной заметил Мурутян.
— Извиняюсь, — буркнул Славик и с отрешенным видом снова спрятал лицо в воротник дохи. Оттуда послышался его недовольный басок — Может, завтра нас найдут и вывезут вертолетом, а вы уж вводите тут военный коммунизм.
— Что ж, найдут, будем считать, что мы родились в рубашке. — Житнев пристально посмотрел на Славика. — Что касается военного коммунизма, дорогой товарищ Славик, то извини, я отвечаю не только за машину, но и за жизнь пассажиров, в том числе и вашу, и давайте без обид. Вы человек уже взрослый и должны понимать обстановку, в которой мы все очутились.
Он поправил на лбу повязку — она надвигалась на правый глаз, мешала смотреть — и продолжал:
— Следующий вопрос — о запасах продовольствия. Давайте пока что учтем все, чем мы располагаем, все без исключения. В зависимости от обстановки потом будем или не будем вводить нормирование. — При этих словах Славик еще глубже спрятал лицо в воротник, и у всех создалось впечатление, что он там тихонечко хихикает. Ашот покосился на него зверскими глазами, но промолчал. А тем временем Житнев говорил:
— У нас в аварийном запасе имеется два килограмма галет, шесть банок тушенки, три килограмма сахара, четыре плитки шоколада и десять лачок концентрата мясного бульона.
— У меня два бутерброда с колбасой, сдоба и плитка шоколада, — с серьезным видом доложила Вика.
Житнев широко и добродушно улыбнулся, Ашот весело захихикал, спросил:
— И на сколько это тебе хватит?
— Ты не смотри, Ашот, что я хрупкая, — не то всерьез, не то шутя ответила Вика, — я помногу ем. Эти вот запасы я за один бы рейс умяла, будь все нормально.
— Ашот, — обратился Житнев к Мурутяну, — притащи-ка переметные сумы, посмотрим, что принес муж роженицы.
Ашот выволок сумы, они были добротно сшиты из оленьей шкуры шерстью наружу.
— Андреевна, бери карандаш и бумагу, — весело говорил он, — будем составлять акт на вскрытие…
В сумах оказалось килограммов десять подсоленного оленьего мяса, обернутого целлофаном, с десяток вяленых по-эвенски горбуш и две буханки серого хлеба.
— Слушай, — весело шумел Ашот, — он снаряжал жену не в родильный дом, а на северный полюс!
— Чем вы располагаете, товарищ Славик? — обратился Житнев к студенту.
— Не знаю, что там мамаша напихала в рюкзак и саквояж, она без меня собирала. Хотите — открою.
— Хорошо, откроете, когда будет к тому необходимость. — В голосе Житнева все ясно поняли намек в адрес Славика, смысл которого можно было бы выразить примерно так: «ну и жмот, видно, ты, парень». — А сейчас, пожалуй, пора подкрепиться? — спросил он, обводя всех взглядом.
Вика принесла из-за занавески свою санитарную сумку, извлекла из нее сверток и разложила снедь по спальному мешку. Ашот принес из аварийного запаса галеты, тушенку и плитку шоколада, Славик засунул руки в рюкзак, долго там рылся, наконец вытащил кружок колбасы, — полбуханки хлеба.
— Ну что ж, для успокоения нервов разрешаю израсходовать двести граммов спирта, — объявил Житнев. Все расселись на полу возле кресла командира, Мурутян разлил Викиной мензуркой каждому его долю спирта по стекляшкам, которыми ставят больным банки, сказал:
— Тост командиру.
— Что ж, выпьем за сплоченность.
— И за дисциплину, — поддержал его Ашот.
Спирт согрел души, развязал языки.
— Я все-таки уверен, что нас быстро найдут, — говорил Славик, с аппетитом уплетая колбасу. Лицо его снова закраснело, как днем. — При такой технике и возможностях надо быть идиотом, чтоб не найти самолет на маленькой территории. На Венеру и Марс аппараты садим, запускаем в воздух управляемые снаряды…
— Вы в каком институте учитесь? — спросил его Житнев.
— Физическом, на опецфаке.
— Это что за спецфак?
— Рассказывать долго… Дело связано с электроникой и полупроводниками.
— На каком курсе?
— На третьем.
— Видите ли, Славик, иногда земные дела сложнее, чем мы о них думаем, особенно если смотрим на них с высоты космоса. Не открою нового, если скажу, что звездолетчик тоже должен уметь высекать кремнем огонь и варить лапшу из березовой коры. А если говорить о нашем положении, то может статься, что мы ничуть не в лучшем положении, чем космонавты, высадившиеся на другой планете.
— Ну это уж вы слишком. — Славик покровительственно усмехнулся. — Мы можем выйти пешком к любому населенному пункту, если нас почему-либо не найдут.
— Я как раз об этом и говорю — об умении выйти из того положения, в котором мы очутились. Пока что мы погребены в снегу и не знаем района, в котором приземлились. Может быть, рядом находится населенный пункт, а может быть, его нет и за сотню километров. Вот так, а теперь убирайте скатерть-самобранку, я выключу свет, будем экономить зарядку аккумулятора, — объявил Житнев. — Туалет, как известно, находится в заднем конце фюзеляжа.
И вот в кабине наступила та самая темнота, которую называют кромешной, и с какой-то особенной остротой все почувствовали глухоту помещения. Она угнетала и немного пугала, напомнив всем вновь об опасностях.
Первой заснула Вика. Она сказала:
— Ну, ребята, я залезла в мешок, спокойной ночи.
И буквально через минуту послышалось ее ровное посапывание. Видно, нелегким был для нее этот день.
— Что ж, спать так спать, — послышался в темноте голос Мурутяна. — Бог даст день, бог даст и пищу. Гуд бай, братцы.
Славик уснул молча и, по-видимому, не разделся и не залез в спальный мешок.
Только к Житневу долго не шел сон. Сознание сверлил один и тот же вопрос: что принесет завтрашний День, что ждет их впереди?
6. И НАСТАЛ ДЕНЬ
Когда уснул Житнев, он не помнил. Только проснувшись, он включил фонарик и увидел, что стрелка часов показывает половину десятого. Вечера или утра? Улеглись все спать в восемь часов вечера. Он обвел лучом света помещение кабины и убедился, что все крепко спят. Так что же сейчас, поздний вечер или уже день?
Растолкав Мурутяна, он спросил:
— Слушай, Ашот, не могу понять, сейчас половина десятого — вечера или утра?
— Не знаю, командир, — полусонно пробормотал Ашот.
— Ты выспался?
— Кажется, да.
— И я тоже будто бы выспался.
— Сейчас проверим.
Мурутян вылез из мешка, поразмялся немного, подошел к наружной двери.
— Снег, наверное, должен светиться, если на дворе день.
С этими словами он приоткрыл дверь. За нею белела стена уплотненного снега.
— Выключи, командир, свет. Точно! — вскричал он. — Снег просвечивается, на дворе день. Вот так храпанули!
— Закрой, — велел Житнев. — Давай подумаем, каким способом лучше откопаться. Надо не выстудить кабину, дети здесь…
— Я предлагаю такой вариант: втиснусь в снег, ты закроешь дверь, а я буду пробивать там нору, уплотнять снег, как это делает крот в земле, и вылезу наружу.
Так и было сделано, Мурутян исчез в снегу. Проснулись Вика и Славик, разбуженные говором и стуком двери. Вика тот час же вооружилась карманным фонариком и скрылась за занавеской.
— Как чувствуете себя, мамаша? — послышался оттуда ее голос.
— Хорошо, хорошо, — отвечал слабый женский голос. — Мы уже в больнице?
— Пока еще нет, но скоро будем. Как младенцы — дышат?
— Дышат, дышат, они хорошо спи. Спасибо, дохтур.
Мурутян не давал о себе знать по меньшей мере с полчаса. Только иногда снаружи доносилась его возня. Но вот наконец послышался стук в дверь, ее открыл Славик. В кабину через туннель, пробитый в снегу, хлынул такой яркий свет, что на минуту всех ослепил. В дверях появился Ашот, весь белый — от унтов до макушки ушанки.
— Слюшай, на улице день! — шумел он. — Выходи гулять!
Первым кинулся к двери Славик, доставая сигареты.
— Товарищ командир, разрешите одну спичку?
Прикурив, он нырнул в туннель и медвежевато полез на четвереньках вверх. Вслед за ним выбрался наружу и Житнев. Пурга, по-видимому, давно прекратилась. За ночь снег наверху уплотнился, предутренний морозец схватил его, и ноги почти не проваливались по насту. Кому доводилось видеть мартовский камчатский снег в ясный солнечный день, тот никогда не забудет впечатления от этого зрелища. Слепящая белизна ни с чем не сравнима; достаточно посмотреть на снег пристально с минуту, и в глазах начинает рябить, на какое-то время вы слепнете, как после взгляда на солнце.
В первую минуту Житнев ничего не видел, ослепленный солнцем и белизной снега. Только привыкнув к свету, он смог оглядеть окрестности. Перед ним открылось грандиозное зрелище, картина, которую не часто увидишь в природе. Самолет, оказывается, приземлился на дне ущелья, каньона, с отвесными стенами, уходящими вверх метров на полтораста — двести, шириной не более шестидесяти — семидесяти метров. Таких каньонов немало на Лавовом плато, промытых горными речками в непрочных изверженных породах. Чтобы увидеть верхние края обрывов, нужно до отказа запрокидывать голову назад. Житнев немало подивился тому, как это ему удалось сесть в таких условиях и избежать смертельной катастрофы. Значит, правильно он сделал, «уцепившись» за обрыв, как за ориентир.
— Настоящий каменный мешок, холера ему в дыхало, — изумленный, ворчал Житнев, разглядывая бурые стены ущелья. — Ашот, пойди-ка сюда, ты разумеешь обстановку? — он кивнул на ровное снежное поле, заключенное между стенами.
— Что имеешь в виду, командир?
— То, Ашот, что нам нужно сматываться отсюда; идет крупное извержение вулкана, выбрасывается масса пепла. Если ветер повернет в нашу сторону и принесет тучи пепла, этот снег станет черным и быстро стает, и представляешь, что получится в узком коридоре? А то вдруг ударит сильная оттепель. В обоих случаях мы поплывем всем своим табором. И уцепиться будет не за что.
— М-да-а, — раздумчиво молвил Мурутян. — Вот уж, поистине, не понос, так золотуха… Может, мне в разведку сходить?
— Дельная мысль! Ты пойдешь в разведку, а я начну готовиться к эвакуации, — предложил Житнев. — Но вот вопрос, куда идти в первую очередь?
— А может, мобилизовать в порядке обязательной повинности и Славика? — не без ехидства спросил Ашот. Он кивнул на студента, уныло дымившего в стороне сигаретой. — Он в одну сторону, а я в другую, а?
— А я могу и без обязательной повинности сходить. — В голосе Славика звучала явная нотка обиды. — В какую сторону прикажете?
— За завтраком подумаем и решим, — сказал Житнев. — А раньше давайте соорудим дымовой сигнал. Надо полагать, что нас все-таки разыскивают с воздуха. Заодно вскипятим воды.
— Тоже дело! — поддержал его Ашот. — Этим займемся мы со Славиком. Я думаю знаешь что, командир, тебе сейчас надо бы разобраться — в каком состоянии самолет и что и как можно утащить с собой. Я имею в виду, например, лыжи. Ведь их можно приспособить как сани. Возможно, удастся что-нибудь сварганить и для будки, этакой кибитки, в каких раньше ездили русские помещики. В ней и укроем наше новое поколение.
— Очень хорошо придумано, — согласился Житнев. — А теперь, братцы, задело.
Ашот спустил из баков остатки бензина, около килограмма, смешал его с солидолом, облил этой смесью самый старый коврик и поджег его.
На фоне ослепительной снежной белизны клубы дыма выглядели особенно черными. Но по мере того как дым поднимался на двухсотметровую высоту, он редел, рассасывался в чистейшем воздухе и становился там серым и походил на пар.
— Да-а, — сокрушался Житнев, запрокинув голову кверху, — не тот дым! Жидковато. С самолета будет такое впечатление, что курятся горячие источники, а их ведь много повсюду. Надо добыть отработанное масло.
Вике поручили таять снег и греть воду, а Ашот, по его распоряжению и Славик, стали подкапывать снег под мотором самолета, чтобы добраться до картера мотора и добыть масла.
После авиационного училища Житнев почти десять лет летал на Камчатке, бывал не раз в трудном положении, дважды совершал вынужденные посадки. Поэтому, когда его назначили командиром санитарного самолета, он начал прежде всего с укомплектования аварийного запаса, необходимого на всякий случай. Словом, как это делает опытный шофер автомашины, совершающей дальние рейсы, — ни один свободный закоулок не пустеет в его автомобиле. Такая предусмотрительная запасливость пришлась по душе Мурутяну, начавшему свою летную практику три года назад, сразу в экипаже Арсения Житнева; ему не надо было напоминать, что и для чего нужно. Он хорошо изучил историю развития местных авиалиний Камчатки, знал наперечет все аварийные случаи и вскоре стал достойным помощником своего командира, «хозяйственным мужиком», как звали его пилоты авиаподразделения.
Сейчас, как нельзя к месту, пригодились две лопаты — «грабарки», хорошо приспособленные для очистки самолета от снега. Ими и работали Ашот и Славик, откапывая мотор; через полчаса они добрались до низа мотора, открыли капот и выпустили сразу ведро масла. Потом Ашот отклепал одно звено капота, превратил его в лоток и вылил в него масло. Туда набросали куски резины, отодранной от дверей, всякое тряпье, вплоть до обтирок и ветоши, и подожгли. Густо-черные клубы дыма теперь уходили, не рассеиваясь, на высоту, наверное, с полкилометра.
— Вот теперь чувствуется, что это сигнальный дым, — с удовлетворением говорил Житнев, прослеживая черный букет, поднимающийся к небу. — Будь я на месте того, кто ищет потерявшийся самолет, непременно обратил бы внимание на такой дым!
У всех полегчало на душе. То, что они живы, то, что им пока не угрожает смертельная опасность, кроме быстрого таяния снега, наконец, надежда на то, что их сигнальный дым заметят с воздуха, — все это настраивало всех на благодушный лад. И тем не менее уже за завтраком Житнев ввел норму продовольствия — каждому было выдано (распределяла Вика) по двести граммов хлеба, по небольшой порции оленьей колбасы из запасов Славика и по два кусочка пиленого сахара из «неприкосновенного запаса». Завтрак заметно не обременил никого, но никто даже виду не подал, что не поел досыта.
За завтраком Житнев, еще раз изучив карту, принял решение послать Мурутяна в южном направлении, а Славика в северном. Объяснил он это тем, что самолет шел на юг, впереди должен был находиться Центральный хребет, его контур хорошо знал второй пилот — не раз переваливали его по воздуху вместе. Любая из вершин скажет Мурутяну больше, чем Славику. Если Житнев ошибся в своих расчетах, то потом к северу будет послан Ашот и ознакомится с тамошней обстановкой.
Отослав в разведку Мурутяна и Славика, Житнев принялся за «инвентаризацию» самолета, чтобы знать, какая из деталей пригодится в дороге и как ее демонтировать. Он начал с пилотской кабины, в первую очередь с радиоаппаратуры — нельзя ли использовать в ней хотя бы приемную часть блока. Вскоре, однако, убедился — аппаратуру невозможно восстановить, смяты все детали внутри блока, побиты лампы. Невредимыми оказались аккумуляторы. Их можно использовать как Источник света в ночное время. Житнев отнял их, перенес в пассажирскую кабину. Потом полез под мотор, откопал лыжи, осмотрел их. Они сохранились полностью, только у первой сломалась «нога». Но она и не Требовалась, так как нужна сама лыжа. Он принялся отнимать лыжи, вооружившись набором гаечных ключей. Не успел демонтировать правую лыжу, как услышал скрип снега над головой и голос Мурутяна:
— Командир, вылезь-ка на минутку, ничего не понимаю, — продолжал он, когда Житнев вылез из снежной пещеры. — Пойдем в кабину, посмотрим по карте.
И вот они перед раскрытым планшетом.
— Я прошел километров пять, — стал объяснять Ашот, болезненно жмурясь. — Очень режет глаза, не покраснели? — Он повернулся лицом к окошку, широко открыв веки.
— Слушай, Ашот, они у тебя очень воспалены. Яблоки и веки. Отчего это?
— От снега. Ай, балда. Ведь когда-то взбирался на Казбек, там такой же снег. Все альпинисты обязательно надевают темные очки. Но это хорошо, теперь у нас есть урок. Ну так вот, — продолжал Мурутян, — километров пять шел я по ущелью. Оно все больше там сужается и заметно поднимается. Значит, река течет оттуда. Ущелье стало заворачивать круто на запад, и вдруг развилок, а посредине, клином, небольшая сопочка. Две речки соединяются, и тут увидел не очень далеко кусок горной цепи. Она идет поперек моего пути, значит, с юта на север. Горы довольно высокие и крутые. Вот я набросал в блокноте их линию по горизонту. Не могу понять, что за горы.
Житнев долго рассматривал рисунок, вглядывался в карту, что-то соображая.
— Если я не ошибаюсь, — заговорил он наконец, — это северная половина Валагинского хребта. Где-то неподалеку от его середины, примерно против села Мильково, к востоку. Но как мы могли очутиться в этом месте? — недоумевал он. — Неужели так снесло восточным ветром? Если это так, то вулкан, что вчера извергался, должен быть где-то сравнительно недалеко, к северо-востоку. Вот это загвоздочка… — Житнев осторожно подвинул повязку кверху — она наползала на глаза. — Но самая главная беда в том, что никому и в голову не придет искать нас в этом районе. Нас ищут самое малое километров на двести к югу и юго-востоку. Де-ла-а… — он тяжело вздохнул. — Что же, дождемся возвращения Славика. Посмотрим, какие вести принесет еще он. А мы пока демонтируем лыжи, я уж там одну почти отнял.
Часа три возились они, пока отвинтили все гайки и отсоединили лыжи от шасси. Потом с полчаса вытаскивали их на поверхность снега из пещеры почти трехметровой глубины.
А между тем Славик все не возвращался. Минуло около шести часов, как он ушел.
— Что за чертовщина? — ломал голову командир. — Неужели беда приключилась!
— Еще только этого не хватало! — заметила Вика.
Прошел еще час, а Славик все не возвращался. Пообедали без него. Солнце скрылось за стеной каньона. Начинало смеркаться.
— Ну вот что, Ашот, пойдем на поиски. С ним что-то случилось, — сказал Житнев.
Они проверили ружья, взяли патроны, карманный фонарик и двинулись в путь.
7. ГОЛОС В НОЧИ
Небо над головой еще голубело, лишь слегка подкрашенное оранжевым светом заката, а в каньоне уже сгущались сумерки. Стояла такая тишина, что даже скрип снега под ногами отдавался эхом в узком ущелье, а голоса вызывали гулкий резонанс, какой бывает только в просторном пустом помещении.
Пилоты торопились — надо успеть пройти хотя бы километров пять, пока не стемнеет совсем. Возвращаться ночью не составляло труда — они пройдут по своему следу, освещая его фонариком.
— И дернуло же нас взять вельможного этого молокососа на борт, — думал вслух Мурутян. — Если сейчас ничего страшного не случилось, то мы еще и наперед хватим с ним горя…
— Да-а, парень спесивый.
— Себялюбивый эгоист! По-моему, он прячет по карманам шоколад. Или шоколадные конфеты. Сегодня, после завтрака, когда он вышел курить, а потом вернулся, на его губах темнел шоколад.
— Что ж, понятно, маменькин сынок, баловень состоятельного папаши. Ничего, обобьем павлиньи перья, если прижмет нужда.
Каньон все время делал пологие повороты то вправо, то влево, стены становились выше. Казалось, они смыкаются над головой, то там, то тут над пропастью на стометровой высоте опасно нависали снежные и каменные карнизы, и было непонятно, почему они не срываются вниз.
Но вот стены вдруг разошлись в стороны, стали ниже вполовину, а сам каньон сделался идеально прямым, как городская улица между многоэтажными зданиями; такое впечатление создавали темные силуэты стен, окутанные густыми сумерками.
— Стоп! — вдруг воскликнул Мурутян и замер на месте. — Кажется, голос…
Они остановились, затаив дыхание.
— Повязка мешает, — буркнул Житнев, отодвигая марлю повыше к макушке.
— Точно, слышу голос, — прошептал Мурутян, — кажется, зовет на помощь…
Вскоре и Житнев расслышал далекий, казалось, полный отчаяния вопль.
— А не сова это? — высказал он догадку. — Очень похож на ее крик.
— Нет, голос человеческий, — уверенно заявил Ашот, — я очень ясно его слышал.
Не говоря ни слова, они ускорили шаг. Минут через десять голос послышался уже отчетливо, его усиливало эхо глухого каньона. Он действительно был полон отчаяния, в нем слышались и плач, и стон, и взывание о помощи.
— Ого-го-о-о! — загорланил Мурутян. — Иде-ем! Пошли бегом!
Но оказалось, что бежать быстро нельзя, при ударах ноги глубоко тонут в снег. Пришлось идти мелкими, мягкими, но быстрыми шажками. Впереди что-то затемнело поперек всей реки, похоже, что там зиял провал. Так оно на самом деле и оказалось, то был обрыв, высокий порог. До сих пор пилоты не пользовались фонариком, экономили батарейки. Теперь пришлось включить его. Освещая все впереди себя, они осторожно подходили к обрыву и скоро увидели на снегу след Славика. А тот все взывал и взывал о помощи плачущим голосом, там, где-то внизу. Только, по-видимому, завидя луч света, умоли, потом крикнул почти рядом:
— Помогите! Из сил выбился…
— Без паники, сейчас поможем, — спокойно ответил Житнев.
Они подошли по следу к краю порога, Житнев направил луч света вниз. Порог падал наклонно метров на десять, был отполирован наледью и напоминал ледяную горку, какие устраивают для ребятишек в новогодние праздники. След Славика кончался у верхней кромки наледи. Сам Славик сидел на снегу внизу, у подножья порога, вот, рукой подать, и отрешенно смотрел вверх, по лучу фонарика. Щеки его блестели не то от пота, не то от слез.
— Черти тебя понесли туда! — сердито воскликнул Ашот. — Разве не видел, что обратно невозможно залезть? Нашел развлечение, молокосос! Захотел покататься! — Мурутян явно дал волю своему гневу, сказалась, наверное, кавказская горячность.
— Думал, что вылезу… — слезливо оправдывался снизу Славик. Он встал, отряхнул с себя снег.
— Ну что мы будем с ним делать, командир? — спрашивал Мурутян Житнева.
— Надо что-то придумать… У тебя есть поясной ремень? — опросил он Славика.
— Нет никакого, — вяло отвечал тот. — Батин офицерский ремень в рюкзаке.
— Тогда кидай сюда шарф. Жертва моды, — Ашот зло сплюнул. — Брюки шьют в талию, как у циркачей, чтобы не носить ремня, а батин, офицерский, приберегает, чтобы пофорсить на Невском проспекте. Пижон несчастный.
— А, пожалуй, у нас хватит своих, — сообразил Житнев.
— У тебя есть поясной ремень?
— А как же!
— И ремень куртки. Это два. И шарф. И у меня тоже.
Спасательная операция не заняла и пяти минут. Соединив четыре ремня и добавив к ним шарфы, пилоты опустили один конец Славику и легко выволокли его наверх.
— Ну, а если бы мы не пришли, чтобы ты тогда делал? — опрашивал Ашот, когда Славик понуро стоял перед пилотами.
— Не знаю…
— Черт знает какая беспечность! — бросил Житнев.
— «Не знаю», — передразнил Мурутян. — Электронику и полупроводники на «спецфаке» изучаешь, а до простого не додумался — подойти к стене, найти камень поострее и с его помощью выдолбить порожки во льду. Вот и вся электроника. Первобытный человек наверняка бы додумался.
— Так вы об этом знаете потому, что альпинист, — возразил парень, — а я же не занимался альпинизмом…
— «Не занимался, не занимался», — передразнил его Ашот. — Для этого не надо быть альпинистом, голову на плечах надо иметь.
— Насчет головы…
— Что вы разведали, докладывайте, — перебил его Житнев, когда они двинулись в обратный путь.
— Ничего не разведал, — угрюмо отвечал Славик. — Везде такое же, как здесь, ущелье. Дошел до следующего порога, он повыше и покруче этого, и пришлось повернуть назад. Да и вечер уже приближался.
— Вот тебе еще одна загвоздка. — Мурутян тяжело вздохнул. — А сколько их впереди еще таких порогов будет…
— Каньон идет все время в северном направлении? — спросил Житнев.
— А там толком не поймешь. Поворачивает то в одну, то в другую сторону. Компаса же у меня нет, а по солнцу не разберешься, то она справа, то слева, то позади.
— Надо немедленно сниматься нам с якоря, — заключил Житнев. — Видно, дорога по каньону будет трудной и займет у нас много времени, а тут недолго и до оттепели. Когда все поплывет, считай, каюк нам.
— Что ж, начнем завтра сматываться, — поддержал его второй пилот. — А если нас ищут? — опросил он командира.
— Откопаем самолет, вымажем его в черное, а на снегу посредине каньона выложим черную стрелу, указывающую направление, в котором ушли.
Они вернулись к самолету в кромешной темноте — было уже около десяти часов вечера. Мартовские ночи на Камчатке, как и везде, темным-темны. Было новолуние. Серебристо-синий серпик месяца повисел недолго над каньоном и быстро исчез за черным краем обрыва. Чуткая и, кажется, извечная тишина царила в этом каменном мешке, мертвом закоулке планеты. Да, и чьи голоса могли тут звучать? Зимой здесь, в трубе, со стоном ревут лишь пурги, зажатые в каменные тиски, летом неумолчно грохочет поток, увлекая с собой обломки размытой древней лавы. На изверженных породах ничего не растет, в своем первородном состоянии они еще не готовы, чтобы принять в себя семена растений, нечем их питать; придет время, когда солнце, вода, ветры и морозы изломают их, истолкут в пыль, растворят, просеют, и тогда все станет по-земному — она сможет родить жизнь.
— Ну что ж, Славику двойную порцию за обед и ужин, — объявил Житнев, когда усталые мужчины сели кушать. — Как наш роддом? — спросил он Вику. — Сможем завтра подниматься в поход?
— Что вы, Арсений Степанович, — зам: ахала руками девушка. — Мамаше еще два-три дня нужен полный покой. Ведь такие трудные роды были! Да и новорожденных только сегодня кое как вымыла, подложила под грудь матери.
— Сосут?
— Вовсю! Аж мурлыкают, как котята.
— Кстати, Андреевна, как зовут мамашу? — спросил Мурутян Вику.
— Атка.
— Надо бы окрестить и барышень, а?
— Назовем условно Вера и Надежда, — предложил командир. — Хорошие имена! Как?
С ним все согласились.
— Но вот как мы повезем их?
— А если их всех троих хорошенько утеплить и повезти на санках? — спросил Мурутян.
— Разве только так, — с натяжкой согласилась Вика. — Но ведь это трудно — везти такой груз. У нас же еще хоть какое, но имущество.
— У нас еще аккумуляторы, спальные мешки, коврики и капот мотора, два ружья, — сообщил Житнев. — Все это необходимо в пути. Часть имущества понесем на горбу. Да и лыжи, думается, не будут очень тяжелыми. Они ведь широкие и пустотелые, из легкого металла. Они могут служить даже поплавками в случае необходимости…
— Уж не думаете ли вы, Арсений Степанович, что мы до лета будем все идти? — удивилась Вика. — Что же тогда с нами станет?
— Этого я не думаю, но весна подкарауливает нас каждую минуту. Дело даже не в этом. — Житнев развернул планшет. — Предположительный район посадки пока что будем считать вот этот. — Он очертил карандашом большой круг на карте. — Как видите, тут много речек, местность гористая. Пойдет вода, и нам пригодятся поплавки, а сейчас ничего не остается делать, как следовать только по руслу реки. В конце концов она должна привести нас к Тихому океану. А уж на побережье океана мы сумеем найти способ дать знать о себе.
Пока ужинали и вели разговор, Славик непрерывно зажимал ладонью глаза, то и дело вытирая платочком обильные слезы.
— Что, режет? — первым сообразил Мурутян.
— Ага, невозможно терпеть, — немного в нос, как это бывает при насморке, отвечал тот.
— Еще одна жертва нашей оплошности, — вздохнул Ашот. — Конечно, парень весь день на таком ярком снегу.
— Световое воспаление? — с удивлением спросила Вика.
— Оно самое, — ответил Мурутян. — Я недолго был на солнце, и то резь до сих пор не проходит, а он с утра до вечера.
— Так это же очень болезненно и даже опасно, — сообщила Вика. — Можно ж потерять зрение. Немедленно покой и холодные примочки на глаза, — как заправский врач, распоряжалась она.
Славика уложили в спальный мешок, Вика принесла банку снега, поставила рядом с ним и приказала все время охлаждать им марлю и держать ее на глазах.
— Ашот, подумай, как нам завтра смастерить для всех темные очки, — распорядился Житнев. — А сейчас всем спать. Через пять минут выключаю свет. Вика, твоим подопечным ничего не требуется?
— У них все в порядке. Мамаша хорошо покушала и сейчас спит.
Вторая ночь в замурованном самолете не была такой тихой, как первая. Ворочался, гремел банкой и стонал Славик, иногда начинал пищать какой-нибудь новорожденный, слышались вздохи и бормотание роженицы; она теперь знала, что произошло, и, по-видимому, переживала за детей. Да и Мурутян тоже опал не богатырским сном, его беспокоила резь в глазах. Только Вика, намаявшаяся за день с новорожденными, как залезла в спальный мешок, так больше и не пошевелилась.
Житнев спал чутко, прислушиваясь сквозь сон ко всем звукам, часто просыпался, подсвечивал часы фонариком, чтобы ориентироваться во времени. В последний раз проснулся около семи утра и уж больше не засыпал — вылез из мешка и тихонько вышел наружу.
Утро стояло пасмурное, по небу бежали с востока, со стороны океана, рваные клочья сизых туч, из них плавно сыпался мелкий, как пыль, снежок.
Дышалось легко, воздух был свеж, приятно холодил лицо. Житнев смотрел на уже примелькавшиеся стены каньона, на их суровое величие и красоту и думал о предстоящей дороге. Что-то она принесет? Какие опасности подстерегают их впереди? Нужно все тщательно продумать, предусмотреть возможные трудности. Потом смотрел в небо, затянутое бегущими тучами. Надолго ли они закроют землю? Ведь всякие поиски с воздуха сейчас бесполезны.
Тревожно и неуютно было на душе пилота.
…Они вышли в путь на следующий день рано утром.
Небо все так же было затянуто бегущими с востока тучами, было пасмурно и как-то гнетуще в самой природе. Каньон выглядел сумрачным, и от того еще более грандиозным.
— Прахом пойдут наши указатели, — сетовал Житнев, наблюдая, как мелкий снежок припорашивает самолет, откопанный из-под сугробов и закопченный масляной гарью, а также на стрелу — посредине каньона, выложенную из камней. — Пока погода прояснится, все это будет уже под снегом.
— Мы сделали все возможное, командир, — старался утешить его Мурутян.
Движущийся табор выглядел довольно живописно. Две широкие лыжины от самолета скорее походили на поплавки, соединенные подобно ката: марану с помостом из креплений крыльев. Поверх лежали элероны и рули управления стабилизатора, снятые с самолета. Посредине стояло пилотское кресло, и в нем восседала Атка, закутанная в теплое. У нее на коленях лежали переметные сумы — в них поместили закутанных в теплое Веру и Надежду. Лямки, а это были три стальных штуртроса со шлеями на концах, тащили Житнев, Мурутян и Славик. Воспаление глаз у Славика за полутора суток приутихло, и теперь он мог смотреть нормально через темный закопченный плексиглас — такие «очки» с подвязками были у каждого. Шествие замыкала Вика, она лопатой упиралась и подталкивала воз сзади.
Несмотря на кажущуюся неуклюжесть и массивность сооружения, лыжи легко скользили по снегу, люди шли без большого напряжения, к тому же река имела по ходу небольшой уклон, и это помогало тащить сани.
Примерно часа через полтора они подошли к порогу. Обсудив, как лучше спустить по нему сани, пилоты сделали так: вниз скатился Мурутян, сани повернули задом наперед; Житнев, Славик и Вика осторожно спустили их на тросах прямо в руки Мурутяна.
Атка, вначале серьезно испугавшаяся, пришла в истинный восторг, когда очутилась внизу. Потом туда с шумом и смехом скатились остальные.
И снова лямки через плечо; Вика — лопату под кресло, и табор двинулся дальше.
Вскоре, однако, поднялся встречный ветер, запуржило. Ветер все больше усиливался. Каньон загудел глухо и тревожно, казалось, что стонали его головокружительные обрывы. Идти стало труднее, час целый потребовался, чтобы пройти два километра, отделяющих первый порог от второго. Пока подошли к нему, в воздухе уже висела снежная круговерть. Видимость не превышала четырех-пяти метров.
— Какой высоты порог? — кричал возле уха Славика Житнев; гул пурга заглушал голоса.
— Раза в полтора, а то и больше, чем первый. Но он очень крутой.
— Спускаться опасно, — заключил командир. — Будем устраиваться где-нибудь под обрывом.
На поиски удобного места отправились пилоты. Вскоре они нашли неподалеку от порога удобную нишу — промоину у подножья обрыва. К тому же там было затишье. Из элеронов и рулей управления соорудили наружную стенку, обтянули капотом мотора, а сверху прислонили к ней лыжи, поставив их торчмя, и таким образом устроили кое-какую защиту от пурги. Ниша свободно вместила всех, и путники укрылись в ней.
8. КОНЕЦ ЛИ КАНЬОНА?
Ночью резко потеплело. С обрыва, нависающего над нишей, — убежищем наших путников, — зажурчала вода. Началось это под утро.
Первой закопошилась Атка; каждой матери присущ беспокойный сон. Зачмокали новорожденные вперебой, видно, она сразу приложила обеих к груди.
— Вода потекла, — сказала она как бы сама себе.
Эти ее слова услышали Житнев и Вика. Пилот включил фонарик. Проснулись Ашот и Славик.
— Подплываем? — спросил Ашот не то спросонья, не то в шутку.
— Подплываем, Ашот, — спокойно ответил Житнев. — Вылезь, пожалуйста, посмотри, что там делается. Возьми фонарь.
Ашот долго возился, пока выбрался из ниши. По шороху снега прослеживался каждый его шаг. Ашот бродил, бродил туда-сюда, топал ногой, пробуя, наверное, лед, потом влез в нишу.
— Плохо наше дело, командир, — произнес он, пробираясь на свое; место. — Снег пропитывается водой. Может, двинем вперед? Успеем выбраться по утренней зорьке в безопасное место. А то взойдет солнце, и тогда все поплывет.
Закряхтел Славик. Спросил без улыбки в голосе:
— Будем искать березу, чтобы из коры варить лапшу?
— Это еще впереди, — тоже серьезно ответил Житнев. — Это успеется. А пока — подъем!
Когда человек идет по неизведанному пути, его нельзя осуждать, если он испытывает, может быть, лишние тяготы. Потому что ошибается.
Пока наши путники вновь «монтировали» сани и прилаживали лямки, стало светать. Они шли почти по щиколотки в воде, напитавшей снег. Скоро головки унтов по самые голяшки намокли и набухли, как колоды. Мудрая эта обувь, оленьи обутки шерстью наружу. Шерсть обледенилась, вода почти не проникала сквозь шкуру, ноги оставались почти сухими.
Вскоре подошли к ледопаду, тому, что преградил им путь вчера вечером. По нему уже бежали прозрачные ручейки, образовавшие паутину мелких промоин. Высота — метров пятнадцать. Дальше река заметно шла под уклон. В сотне метров она упиралась в каменную стену. Летняя вода сильно подмыла подошву стены, выстругала под нею длинную нишу. Отсюда каньон круто заворачивал влево, поэтому невозможно было понять — куда он уходит и что приготовил путникам.
На этот раз спуск по ледопаду оказался потруднее, чем предыдущий, уклон оказался более крутым. Все изрядно вымокли, пока очутились внизу, особенно Ашот, спускавшийся первым: сразу же вначале спуска он упал на спину и в таком положении съезжал донизу. Пришлось снимать куртку и долго отжимать из нее воду. Зато благополучно спустили Атку с девочками, а это составляло главную заботу всех.
За ледопадом возок легко пополз по уклону, даже почти не требовалось усилий, чтобы тащить его.
Вот и изгиб каньона. Впереди — длинный прямой коридор, видимый примерно на километр. Река, припорошенная снегом, гладкая и ровная, как широкая дорога, покрытая белой простыней. Как раз в это время показалось солнце из-за верхней кромки правого обрыва. Тень обрыва на снегу казалась черной в сравнении с ослепительной белизной освещенной части реки. Все одели темные очки — нестерпимая белизна снега резала глаза. Снег на этом участке оказался рыхлым, глубоким и липким, как смола. Возок сразу отяжелел, будто в него положили камни. Мужчины до предела натянули лямки тросов. Вика изо всех сил подпирала лопатой сзади, но полозья едва двигались по снегу. Атка заметила все это, оказала:
— Не нада, я пешком пойду.
С этими славами она бережно уложила переметные сумы с новорожденными в кресло, сама сползла на снег.
Ей никто не возразил. Возок пошел легче, хотя полозья по-прежнему прилипали к снегу. Люди еле брели, утопая по колени в мокром снегу.
А солнце поднималось все выше, и его теплое дыхание все сильнее ощущалось в коридоре каньона. Напрягая все силы, Житнев натуженно говорил:
— Скорее надо преодолеть этот участок. Иначе придется плыть. Братцы, посильнее, посильнее…
Картина эта напоминала «Бурлаков» Репина. Мужчины почти лежали на лямках, наклоняясь вперед до крайнего предела. И, как тот юноша в картине «Бурлаки», что шел облегченно, Славик то и дело давал себе «послабинку», часто менял место лямки на плече — не привыкло плечо к нагрузке. Шаг, шаг, шаг… Всего на одну ступню. Капли пота уже падают с лица на снег. Пот застилает глаза, впереди видна только мутная белизна. То и дело кто-нибудь кидает в рот горсть снега: пересыхает горло. А расстояние, кажется, ничуть не сокращается. Солнце поднимается все выше,‘все теплее становится в каньоне.
Мужчины идут молча, тяжело дыша. Труднее всех дышит Славик. Он почти хрипит. Житнев не выдерживает, слушая его тяжелое дыхание.
— Брось, не тяни, — коротко говорит он.
Славик ослабил лямку и вдруг сел на снег, разрыдался.
— Что? Что с тобой? — Ашот стал трясти его за плечи. — Встань!
Славик сидел на снегу и истерично рыдал.
— Нервный шок, — заключил Житнев. — В сани его!
Славика поволокли к возку, стали устраивать в кресле.
— Не буду! — в истерике кричал тот. — Не хочу! Я не мальчик!
— Сиди, сопляк! — гаркнул на него Ашот. — По роже дам!
— Что вы, товарищ Мурутян?! — удивилась Вика.
— Его надо выбить из состояния шока, — объяснил второй пилот. — Такое бывало на альпинистских маршрутах… Со слабонервными…
Вика кинулась к санитарной сумке. Терла виски ватой, смоченной нашатырным спиртом, давала Славику что-то нюхать. Скоро он пришел в себя.
— Извините, — пробормотал он, — я, кажется, устал.
— Лежи на месте, — властно сказал Житнев. — Поехали!
Теперь возок тащили только пилоты. Сзади на последнем пределе сил его подталкивали Вика и Атка.
— Не могу! Не могу сидеть!
С этими словами Славик вывалился на снег, встал на моги и, качаясь, взялся за трос.
— Тяни спокойно, — приказал Житнев, — сильно не напрягайся. Поправь очки.
И снова — шаг, шаг, шаг, шаг…
— Что там впереди, Ашот? — вдруг спросил Житнев. — Фу, давайте передохнем. Это не звери там?
Ашот снял очки, долго смотрел вперед. Наконец коротко произнес:
— Валуны, командир. Обкатанные водой камни. Летом там перекат. Сейчас барьер для нас. Не знаю, как перелезем через этот барьер.
— Не понос, так золотуха, как говорит Андреевна, — в раздумье произнес Житнев.
За полдень путники дотащились до валунов. Между камнями уже пробивались ручьи, на виду вымывая снег между ними. У Житнева пробежали мурашки по спине, пока он разглядывал перекат. Страшно представить себе, что будет твориться здесь после вскрытия реки. А ведь вода вот-вот хлынет, как только напитает до критического предела всю массу снега, что скопился в каньоне.
— Что будем делать, командир? — спросил Мурутян, прервав тревожные думы Житнева.
— Выход один — перенести все на горбу через эти чертовы камни.
— Ну что ж, давай будем демонтировать наш вездеход.
На первый взгляд, протяженность переката не превышала полутораста — двухсот метров. Но дальше каньон снова уходил влево. Что он там приготовил путникам — неизвестно. Житнев быстро распределил обязанности: Ашоту нести переметные сумы с новорожденными да вдобавок вести под руку Атку. Славику поручили его собственный багаж. Вике — санитарная сумка, лопата и скатка тросов. Сам Житнев нагрузил на себя оба дробовика и остатки продовольствия и «НЗ» — неприкосновенный запас. Что касается остального имущества, то решено было, если окажется возможным, забрать потом лишь полозья самолета и растяжки. Все остальное — пилотское кресло и элероны — бросить.
Идти с поклажей по валунам — адовы муки. Подошвы то и дело скользят по мокрым осклизлым лбам камней, иногда нога заклинивается между боками окатышей и ее трудно вытащить оттуда. Шествие возглавлял Житнев, за ним вслед шагали Ашот и Атка; Славик и Вика замыкали колонну, шли рядом, держась друг за друга. Так удобнее, опираясь на соседа, ступая на обкатанный, как бараний лоб, камень. Житнев опирался на приклад ружья, шел уверенно и вскоре довольно далеко оторвался от спутников.
Вдруг он остановился, внимательно посмотрел вперед и отчаянно замахал руками, подзывая спутников. Едва они поравнялись с Житневым, как радостные возгласы раскатились эхом окрест. Каньон, сделав крутой поворот, заканчивался. Дальше начиналась широкая привольная долина, огражденная отвесным обрывом лишь справа. Слева от реки пологий склон, изрезанный такими же пологими мягкими долинами — распадками. Их темные прожилины уходили на запад к громадным высям заснеженных гор. То был Валагинский хребет, линия его ломаных вершин до каждого изгиба была хорошо знакома пилотам.
— Видишь, Ашот, где мы находимся? У черта на куличках!
— Да-а, занесло же нас, — сокрушенно сказал Ашот. Он щурил глаза, изучая линию хребта, подперевшего белесовато-синее чистейшее небо. — Это же до Тихого океана не меньше двухсот километров, а если учесть…
— Не будем отчаиваться, — перебил его Житнев. — Главное, вышли из этой чертовой ловушки, каньона. В конце концов, переждем распутицу на одном из увалов, видишь, сколько там кедрового стланика.
Действительно, на пологих увалах, отделяющих одну долину от другой, темнели огромные острова зарослей. Это был стелющийся кедр, непроходимые чащобы которого растут в горах Камчатки. Там, где они, там — жизнь. Источник ее, маленькие орешки, размером втрое меньше обычных кедровых орехов, почти как подсолнечные семечки.
— Итак, решение, — объявил Житнев. — Дойдем до первого распадка и сделаем большой привал, приведем себя в порядок.
Река шла теперь с еще большим уклоном. До первого распадка оставалось километра полтора-два.
— Если, конечно, не настигнет нас поток, — заметил Ашот. — Снег вон как подплывает.
Не могло быть и речи о том, чтобы возвращаться за имуществом, оставленным выше валунов, — надо было быстрее выбираться из русла реки, замкнутого каньоном. Поэтому они сейчас не стали отдыхать и минуты, а всей гурьбой дружно двинулись вперед.
Последнюю сотню метров они уже брели чуть ли не по колено в воде, напитавшей снег… Ноги у всех давно промокли. Мартовское солнце только перевалило через зенит, было жарко, снег кругом шуршал, оседал под его горячими лучами.
Но вот и первый распадок. Они добрались до зарослей кедровника и все сразу сели под его кущами. Пока что это было спасение.
9. ВСТРЕЧА НА ПЛАТО
— Ну что ж, Игорь, я готов, — прогудел Колодяжный, с трудом согнувшись в три погибели, просовываясь сквозь низенький вход в землянку.
— А может, все-таки возьмешь меня?
— О, оставь надежды! Во-первых, собакам тяжелее, не тот темп будет. Во-вторых, если найду бедолаг — одно место имею в запасе. А в-третьих, ты же знаешь, я не так четко ориентируюсь в сложной обстановке хаоса природы, если кто-нибудь находится рядом со мной. Не та сосредоточенность. Рассеиваюсь, понимаешь?
— Давно понимаю. Врожденная ущербность.
— Она самая.
— Ну и валяй. Давай хоть примерно уточним, когда вернешься?
— Будем ориентироваться на трое суток. А там покажет дело.
— Когда сообщить в институт, что ты уехал?
— Обязательно сегодня же на вечернем сеансе. Ну, Игорек, давай лапу. Погодка-то!.. Эх и промчусь!
Они крепко пожали руки друг другу.
— Куропаток и орешек не забудь.
— Оленя привезу! — лихо пообещал Колодяжный, вылезая из землянки и загораживая свет в дверном проеме.
Игорь последовал за другом и долго наблюдал, как собачья упряжка резво понеслась с места, подняв снежный вихрь. Он провожал взглядом нарту с согнувшимся на ней седоком до тех пор, пока она не скрылась за поворотом реки. На ослепительной белизне нетронутого мартовского снега осталась лишь темная бороздка полозьев нарты и собачьих ног…
Через час, примерно, упряжка достигла развилка: здесь сходились сразу три русла — два с севера и северо-запада и одно с юга. Колодяжный остановил собак, чтобы решить, по какому руслу ехать. В южном он бывал много раз, туда же накануне ушла упряжка, которую Колодяжный пытался догнать. Неоднократно бывал он и в крайнем, северном. Поэтому решил направиться по центральному притоку, уходящему на северо-запад, в сторону Валагинского хребта. К тому же берега здесь были более пологими, почти безлесными, поэтому, при необходимости, можно было легко подняться на увал и оттуда осматривать окрестности.
— Кучум, тах, тах!
Пес рванул лямку, и свора с места помчалась во всю прыть. Позади уже осталось километров десять, собачки заметно притомились и вскоре побежали легкой рысцой. Колодяжный уже присматривал удобное место для отдыха, как вдруг услышал два далеких еле уловимых выстрела оправа. Такое не часто бывает в этом безлюдном краю.
Колодяжный с ходу затормозил упряжку, сорвал с головы шлем, чтобы лучше слышать. Он долго вслушивался, затаив дыхание. Наконец, еще один выстрел.
Выбрав наиболее пологую часть склона, Никита погнал упряжку на левобережный увал. Потребовалось почти полчаса, пока он достиг вершины бугра. Перед Колодяжным теперь открылись широчайшие просторы плато, изъеденного мозаикой долин, испятнанного темными островами кедрового стланика и березняка. Приложив к глазам бинокль, он стал обшаривать взглядом каждый клочок плато.
Прямо на горбине увала, километрах в трех — собачья упряжка, она стоит на месте, рядом — человек. Он нагнулся, чем-то занят рядом с нартой.
Не раздумывая, Колодяжный погнал упряжку вперед. Уже за полкилометра он разглядел, что человек разделывает оленя, видны рога. И вот он рядом с неизвестным. Действительно, на окровавленном снегу лежала распластанная и почти разделанная оленья туша. Никита с ходу остановил собачек, воткнул остол в снег между полозьями.
— Здравствуйте! — громко сказал он.
— Здравствуйте.
Незнакомец выпрямился, повернул лицо в сторону подъехавшего.
— Андрей Гаврилович!.. — Колодяжный сбросил черные очки, соскочил с нарт. — Какими судьбами?!
— Тю! Зятек! Никита!
— Он самый.
— Скажи на милость! Вот так и встречаемся мы с тобой все время! На дорогах.
— А почему вы здесь?
— Трагедия, Никита. Дочку ищу.
— Вику?
— А то кого же. Самолет где-то упал. Она была на нем. Вся область ищет.
— Так это тот самый, санитарный?..
— А какой же.
— Так и я ищу…
— Значит, вместе будем искать. А на оленя не гляди. Волки загнали. Увидел, и за ними. Не успели задавить. Поранили сильно. Пришлось пристрелить. Вот и разделываю.
— Но как вы здесь появились?
— А через Валагинский хребет перевалил. Пошел прямиком от Мильково на восток, выбрал удобный перевал. Сообщали, что самолет потерялся где-то в сторону Тихого океана.
Колодяжного, Вику и ее отца — Андрея Гавриловича — связывали события, о которых следует рассказать.
Это случилось три года назад, тоже в марте. Никита Колодяжный ехал на своей упряжке из села Ключи, что в низовьях реки Камчатки, в Петропавловск.
Под вечер третьих суток, когда он был уже в Ганальской тундре на пути к селу Малка, загудели «востряки» — частокол могучих скал-останцев, шеренгой острых пик вставших по самой вершине Ганальского хребта.
Ганальская тундра… Смотри, путник, в оба, если даже небо ясное, нестерпимо голубое, а над заснеженными просторами властвует тишина! Обманчивым бывает этот первозданный покой. Вон, на востоке, поднялся к синему поднебесью могучий скалистый хребет, увенчанный по гребню длинной шеренгой натуральных каменных пик, кажущихся колоннадой огромных обелисков.
Это и есть Ганальские востряки.
А на противоположной стороне долины, на западе, хаотическая цепь заснеженных вершин Срединного Камчатского хребта…
Ганальская тундра — гигантский лоток, начинающийся на юге у села Начики и незаметной покатью спускающийся на северо-восток по широкой долине реки Камчатки до Тихого океана. В этой исполинской трубе, зажатой между двумя хребтами, бывают едва ли не самые жестокие пурги на Камчатке.
Ганальский хребет крутой стеной отгораживает равнинную тундру — долину реки Камчатки с востока.
Шум возник как-то сразу, в одну минуту, грозный, уходящий к небу и спускающийся на равнину тундры, будто сотни паровозов появились откуда-то внезапно, и вот уже приближаются, тяжело дыша и посвистывая на всех парах.
Никита знал из рассказов бывалых камчадалов об этом удивительном явлении природы: хребет как бы предупреждает о приближении свирепой мартовской пурги.
И пурга не заставила долго ждать себя — через хребет перевалила мрачная волна клубящихся снежных туч, вмиг застлала небо и саму тундру. Сразу стало темно, как в поздние сумерки. Дорога на виду исчезла, ее переметало и засыпало сверху снегом. И вот наступил момент, когда от нее не осталось никаких признаков.
Решение одно: остановиться, чтобы окончательно не сбиться с пути. Колодяжному не впервой приходилось бывать в подобных переплетах, и он недолго ломал голову над тем, что делать. Отвязав собачек, он вытащил из-под сиденья лопату и вырыл широкий окоп в снегу более чем метровой толщины. Вбил в землю металлические колышки и поставил палатку, свой дорожный дом, с которым никогда не расставался. Потом отрыл окоп для нарты и собачек, бросил каждой по одной юколе — сушеной горбуше. Забравшись в палатку, разжег примус, поставил чайник со снегом, открыл фартук в палатке для выхода керосиновых газов.
По тому, как все сильнее провисало полотно палатки, можно было судить о том, что снег окончательно засыпает ее. Несколько раз стряхивал Колодяжныйенег с марлевого окна-фартука, пока сготовил себе чай и выключил примус. Потом включил электрический фонарик и читал до тех пор, пока сон не сморил его. Часы показывали десять вечера.
Его разбудил далекий собачий лай. Никита сразу сообразил, что пурга прекратилась. С трудом откопавшись, он высунулся из палатки и был ослеплен солнечным светом: сияющий его шар только что оторвался от Ганальского хребта. Собачки, ночевавшие под снегом, уже повылезали из своих берлог и теперь мирно сидели, обернувшись к солнцу, и время от времени полаивали. По его расчетам, до Малков оставалось километров двадцать, и он решил не готовить завтрак. Быстро откопал нарту, свернул палатку и стал запрягать собачек, как вдруг услышал собачий лай далеко позади. Там километрах в двух тоже кто-то ночевал под снегом: маячили две человеческие фигуры, занятые тем же, чем и он, убирали палатку.
Колодяжный не стал ожидать их, погнал свою упряжку по снежной целине вдоль вешек, указывающих дорогу.
Не проехал он и получаса, как вдруг прямо за спиной услышал собачий хрип. Оглянулся, а позади рукой подать собачья упряжка. «Черта с два обставишь меня», — подумал Колодяжный и ошалело гикнул на собак. Кучум, наверное, по интонации голоса хозяина понял, что случилось нечто неладное. Он зверски оглянулся на свору, что-то рыкнул ей, и только снежный вихрь заклубился за нартой. Колодяжный сразу оторвался на сотню метров от задней упряжки.
В Малке он не остановился, пронесся чертом по главной улице села и скоро скрылся в тундре. Километрах в пяти от Малки осадил собачек, перевел их на мелкую рысь, то и дело оглядываясь назад, не бежит ли следом соперник. Постепенно забылся, занятый своими мыслями. Вдруг увидел, собачки забеспокоились, оглянулся’ а он вот, на «хвосте». На успел Никита что-либо сообразить, как соперник вихрем промчался рядом, оставив за собой лишь клубы снежной пыли. Только и успел заметить вулканолог, что в нарте сидело двое: впереди крупная фигура, позади — подросток. Оба в малицах — оленьих дошках с капюшонами.
Напрасно гнал своих усталых собачек Колодяжный, соперник умчался от него как от «стоящего».
До самых Начик, села, от которого до Петропавловска оставался один дневной перегон, не мог успокоиться Никита от такого посрамления. Кто же был тот каюр, который так лихо обставил Никиту?
Во время обгона он запомнил собак. При въезде в Начики Колодяжный сразу обнаружил их в одном из дворов. Остановил упряжку, зашел в дом. Здесь уже шумело застолье. Ввалившийся в комнату заснеженный бородач произвел на всех впечатление взорвавшейся бомбы, до того напористым был его вид.
— Извиняюсь за вторжение в честную компанию, — загремел его голос, — мне хозяина упряжки, что стоит во дворе.
— Ну, я хозяин, — немного оробело произнес крепко скроенный камчадал с широкими черными бровями и обветренным мужественным квадратным лицом. Взгляд его черных больших глаз вопросительно уставился в лицо бородача.
— Вы, конечно, извините меня, я вулканолог, — Никита назвал себя. — Просто из чисто спортивного интереса зашел. Это вы так лихо обставили меня сегодня в тундре?
За столом дружно рассмеялись. Помедлив с ответом, камчадал хитровато улыбнулся, сказал неопределенно:
— А я нескольких обставил. Вот не знаю только, которая упряжка ваша.
— Та, что чуть поперед вашей кочевала под снегом.
— A-а, вот оно что! — воскликнул камчадал. — Это тот, которого я попервам не мог догнать? Ясно дело. У вас отличный вожак. Хорошие собачки.
— А вы раздевайтесь, садитесь за стол, будьте гостам, — предложила румяная хозяйка. — Не побрезгуйте.
Камчатское гостеприимство… Едва ли можно сравнить его с чем-нибудь. Терпишь бедствие, все бросятся спасать тебя. Голоден, нужно отогреться, — едва ли не каждый разделит с тобой последний кусок хлеба или место у теплого очага. Колодяжный знал этот непреложный закон сурового края. Знал он и другое: приглашают, не жеманься, не откажи приглашающему! Иначе жестокое оскорбление нанесешь хозяину тепла и уюта.
Стакан горячительного Колодяжный принял без всякого жеманства. Опрокинул его, утер усы и бороду, лукаво оглядел всех и сильным движением послал в рот кусок вареной Горбуши.
Так он стал желанным гостем застолья.
В сумерки, когда обед закончился, Никита вывел камчадала под руку из избы. Познакомились: Андрей Гаврилович Иринархов. Охотник-промысловик. Пассажир — его дочка. Это та, курносенькая и бойкая черноглазка? Она самая.
— Она тоже, что ли, каюр?
— Нет, учится в фельдшерском училище. Кончает нонче.
Последний перегон до Петропавловска две упряжки шли след в след. Вика ехала с Колодяжным, у него нарта была менее загружена. Отсюда завязалась их дружба. Они потом много раз встречались в Петропавловске. Но бывало и так, что подолгу не виделись. Колодяжный никогда не забывал о Вике, где бы он ни был.
Поэтому встреча с Андреем Гавриловичем вернула его к той жизни, на которую не хватало у него времени. Вика… Милая, скромная, хорошая девушка. Неужели она погибла?
Никита вынул свой охотничий нож и принялся за разделку оленя, помогая Андрею Гавриловичу. Когда шкура была снята, мясо разделано, они присели на нарты.
— Ну и что будем делать? — спросил Колодяжный.
— Ты откуда приехал? — спросил в ответ Андрей Гаврилович.
Колодяжный объяснил.
— Значит, решим так, — раздумчиво сказал старый камчадал. — Поезжай к югу, я поеду на юго-запад. А дён через пять встретимся у твоего вулкана. Идет? Вот и хорошо. Валяй на Жупановский вулкан, а я к Бакинену. Бери половину оленя.
Они почаевали, закусывая свежей олениной, а во второй половине дня разъехались каждый по своему маршруту.
10. ПЛЕННИКИ ЛАВОВОГО ПЛАТО
Лавовое плато — один из самых удивительных географических районов Камчатского полуострова. Оно лежит между Валагинским хребтом на западе и Тихим океаном на востоке, между Центральным хребтом на юго-западе и Кроноцким полуостровом на северо-востоке. Само название «Лавовое» указывает на его вулканическое происхождение. Его седоглавые прародители видны там и тут на обозримом пространстве. Их конусы повисли в небе на северо-востоке — вулканы Кроноцкий, Кизимен, вдали — Безымянный, Толбачик, Ключевской. На юге и юго-западе — Карымский, Жупановский, подальше, чуть к западу — Авачинский и Корякская сопка. На востоке — Семлячик. А прямо к западу, на стыке перпендикулярно сошедшихся один к другому хребтов Валагинского и Центрального можно разглядеть остатки некогда разрушенного древнего вулкана Бикинен. Там видны лишь скалистые зазубрины останцев кратера, за которыми угадывается гигантская воронка — кальдера.
В пору своей молодости все эти вулканы вели бурный образ жизни. Век за веком извергали они лаву, та постепенно заполняла гигантскую чашу, обращенную амфитеатром к Тихому океану, и образовала здесь равнину. Теперь вулканы извергаются очень редко, и Лавовое плато больше не получает ощутимого пополнения. Его интенсивно размывают дожди, вешние воды и ледниковые стоки, на нем выросли леса и травы, поселились дикие животные.
Только человек еще не поселился. На всем огромном пространстве плато нет ни дорог, ни даже постоянных человеческих троп. Летом здесь ни проехать, ни пройти, плато изрезано каньонами, оврагами, распадками, по которым бегут потоки воды.
Житнев и Мурутян уже поняли, что находятся на Лавовом плато. Но вот в какой именно точке, пока еще не разобрались. Теперь, когда они вышли из каньона на сравнительно открытую местность, представилась возможность наконец определить точку, где они находятся.
Некоторое время путники молча полулежали на снегу у зарослей кедрового стланика, отдыхали после трудного перехода.
Кедровый стланик — истинное чудо природы. Родной брат могучего красавца лесов — кедра, кедровый стланик стал карликом, очутившись в трудной географической среде. В сущности, он стал похожим на кустарник — стелющейся формой кедра. Как он попал на Камчатку, до сих пор является загадкой. Как, впрочем, и ель, уникальная реликтовая роща которой некогда появилась тоже здесь, на Лавовом плато. По-видимому, их семена занесли сюда птицы. А может быть, явились и другие причины.
Как бы там ни было, кедровый стланик довольно широко распространен по всей Камчатке и Курильским островам, вплоть до самых южных.
Стланик — сущий источник жизни многих пернатых и четвероногих обитателей Лавового плато. Благороднейший это кустарник. Его непроходимые заросли, дебри укрывают от стужи и снега, от лютой камчатской пурги все живое. Природа придумала своеобразный дом, полный изобилия. Кедровыми орешками питаются все прьгзуны, от мыши и белки до зайца, все обитающие здесь птицы, от кедровки до сойки, куропатки и клеста, и даже такие звери, как медведь, северный олень и соболь лакомятся орешками.
Уже за добрую сотню метров от кедровника путники увидели заячьи следы, потом стали встречаться мелкие крестики лапок куропатки. У самого кедрача вдруг обнаружили совсем свежий след дикого северного оленя.
— Мы, кажется, спасены, командир, — говорит Мурутян, немного отдохнув. — Во всяком случае, нам не угрожает голодная смерть, видишь, сколько зверья тут.
— Ты подсчитал патроны к ружьям? — вместо ответа спросил Житнев.
— Девяносто два патрона.
— Это хорошо. — Помолчав, Житнев продолжал: — Слушай, Ашот, насколько я понимаю наше положение, мы сможем выйти к людям не раньше середины мая, почти через два месяца.
— Раньше, раньше, — решительно возразил Мурутян.
— Давай исходить из худшего варианта. Чем будем кормить наших барышень, Веру и Надежду?
— А для чего мать?
— Ну как ты не понимаешь, разве может Атка прокормить грудью двойню? Да еще в условиях, в которых мы находимся!
— Посильнее будем кормить мать. Отдавать ей все лучшее, что у нас будет. Стрелять куропаток, ловить зайцев. Возможно, добудем оленя…
— Тебе не приходилось пробовать сливки из кедровых орешек?
— Нет, не приходилось.
— Можно делать из них самые натуральные сливки — и по вкусу и по питательности. Значит, задача: пока мы здесь, надо собрать как можно больше орешков. Благо, в прошлом году кедрач хорошо плодоносил. Это раз. Второе: сейчас необходимо точно определить, где мы находимся, и только потом решать, что будем делать дальше. И без всякой суеты.
— Согласен, командир.
— И еще, ты знаешь, что такое снегоступы?
— Знаю. Этакие решетчатые лапти на ногах. Вроде теннисных ракеток.
— Они самые. Надо поделать каждому. Из кедровых прутьев. Тогда нам не так страшен будет рыхлый снег. А сейчас пошли на горку, попробуем определиться по карте, где мы сейчас находимся.
Они разговаривали вполголоса. Атка, Вика и Славик, казалось, спали. Все они лежали с закрытыми глазами, разморенные солнечным мартовским теплом. Славик даже похрапывал. Стоило, однако, Житневу встать, как Славик мгновенно вскочил, сказал бодро:
— Я тоже пойду с вами.
— Отдыхай, — грубовато сказал Мурутян.
— Почему вы мне не доверяете?! — почти истерично крикнул Славик.
— Тише, люди отдыхают, — спокойно осадил его Житнев. — Тебе тоже неплохо бы немного отдохнуть.
— А я не нужен? — доверительно спросил Славик.
— Пока нет. — В голосе Житнева послышалась теплота и добрая усмешка.
— Только честно?!
— Честно.
— Хорошо, буду отдыхать.
Пилоты обогнули заросли кедрового стланика и вышли на гребень увала. Это был, в сущности, отрог, который начинался где-то на восточном склоне Валагинского хребта и, изгибаясь меж распадками, подступал обрывом к самому берегу реки, что бежит из каньона. Идти было тяжело — ноги тонули в снегу по самые колени. Впереди шел Мурутян, след в след ему шагал Житнев.
Перед ними все шире открывалась захватывающая панорама снежных просторов, сине-белых далей дальних, вокруг в самом поднебесье висели сахарные головы вулканов, они напоминали — белые зонтики, подвешенные к небесному своду. Увал, на котором находились пилоты, был одним из множества отрогов Валагинского хребта, разделенных долинами. Все они спускались к речке, что вырвалась из каньона. Правобережный обрыв каньона заканчивался впереди километрах в полутора. Дальше речка шла по извилистой широкой долине и терялась в белизне плато.
— Стоп, Ашот, — сказал Житнев и остановился. — Все ясно. — Он открыл планшет, развернул карту. — Иди сюда, — позвал он второго пилота, присаживаясь на мягкий снег. — Видишь? — Он указал на восток, где за равнинной полосой плато все было сине. То был Тихий океан. — Теперь посмотри вон туда, — он указал на запад, где на синем экране неба четко вырисовывалась ломаная линия гор — Валагинский хребет. — А ну-ка, определись.
Мурутян долго рассматривал карту, потам мельком бросил взгляд на Валагинский хребет, пристально поглядел на плато, где оно сливалось с темной синью Тихого океана и сказал:
— Все ясно, командир. Мы находимся в самой юго-западной точке Лавового плато.
— Все точно, Ашот. Твое решение?
— Надо думать.
— Согласен с твоим решением.
Они сидели на снегу, упершись плечом в плечо. Думали, изучали карту, которая лежала на коленях Житнева.
— Можно сказать, командир? — внезапно выпалил Мурутян.
— Говори, что придумал.
— Первое — пробыть здесь два-три дня. Запастись кедровыми орешками, отдохнуть. Второе — визуальным порядком выбрать лучший маршрут к океану. Третье — подготовиться к трудному переходу. Четвертое — сходить за лыжами самолета. Они еще пригодятся нам, впереди вон какие снега…
— Подумаем, — перебил его Житнев. — Надо по снегу уходить отсюда, пока он не поплыл. А сейчас давай набросаем визуально маршрут, — Он снова уткнулся в карту. — Мы, кажется, находимся у истоков речки Жупайовки. — Житнев ткнул карандашом в одну из синих жилок на карте. — Если это так, то по долине реки, учитывая все ее извилины, нам предстоит топать до Тихоокеанского побережья, действительно, километров двести. В условиях бездорожья и весенней распутицы дело это, сам понимаешь.
— Да-а, командир, кажется, мы попали в переплет. — Мурутян тяжело вздохнул, с грустью глядя в бело-голубую даль плато.
— Главное, не отощать бы и не обессилеть. Семеро душ… А потому выработаем следующую тактику, — в тон ему продолжал его мысль Житнев. — На каждый день иметь запас любой еды, будь то кедровые орешки, мясо зверей или птиц. Поэтому главная задача не в том, чтобы спешить идти, а в том, чтобы добывать пропитание.
— Хорошо бы оленя или горного барана подбить, — мечтательно сказал Мурутян.
— Это дело маловероятное. Но вот научиться ловить зайцев и куропаток петлями вполне реальная штука. Я уже имею такой опыт. Медведь скоро выйдет из берлоги. Он тоже может стать нашей добычей. Здешний медведь — зверь беспечный. Ну что ж, Ашот, пойдем готовить убежище на ночь. — Он посмотрел на часы. — Уже половина четвертого.
Когда они вернулись к месту привала, здесь никого не было видно. Переметные сумы с новорожденными лежали на коврике. Под заросли уходил снежный тоннель. Там кто-то копошился, трещали ветки кедрача, из тоннеля вылетали комья снега. Ашот заглянул в тоннель и увидел там Славика, тот орудовал, как медведь.
— А где женщины?
— Пошли искать кедровые орешки.
— Что ты делаешь?
— Готовлю ночлег, — послышался из глубины голос Славика. — Мы же будем здесь ночевать? Посмотрите, какую пещеру делаю.
«Пещера» действительно выглядела уютным убежищем. Стволы и ветви кедрового стланика так плотно переплетались, что протиснуться между ними практически почти невозможно. Только в промежутках между отдельными кущами есть проходы. Сверху, где сплетаются ветви, стланик сплошь завален снегом. Славик как раз и подкапывал в снегу проход между такими кущами. Ветви кедрача смыкались вверху, образовав там глухую крышу, состоящую из хвои и снега.
Житнев залез к Славику, огляделся.
— Молодец, здорово придумано, — похвалил он паренька. — Бели еще проделать вверху отверстие для дымохода, получится совсем хорошо, можно всю ночь держать костер. Будет тепло, как в городской квартире.
— А я как раз об этом и думал, когда проектировал этот вигвам.
— Молодец, Славик, продолжай. — Житнев внимательно посмотрел на студента и добавил: — Если устал, отдохни.
— Что вы! Только разработался!
— Ну что ж, командир, пойдем и мы поищем кедровые шишки? — предложил Мурутян.
По следу, оставленному женщинами, они обогнули кедровник со стороны реки и вскоре увидели фигуры Атки и Вики.
— Ребята, сюда! — крикнула Вика. — Посмотрите, сколько здесь шишек.
Плодоносящий кустарник, оказывается, нашла Атка по крикам кедровок. Женщины уже набрали до полсумки шишек, похожих на обычные кедровые, только размером меньше раза в три.
— Зайца вспугнули, — сообщила Вика, — в нескольких шагах выскочил из-под кедрача, вон след, видите, как маханул. Ужасно перепугал нас.
— Командир, я побегу по следу, а? — попросил Мурутян.
— Ну, если уверен, что догонишь, валяй.
Все рассмеялись. А Мурутян, проверив заряды двустволки, неистово кинулся по следу, делая неуклюжие прыжки по глубокому снегу.
Собирать шишки оказалось делом нелегким. Словно удавы, переплелись у самой земли ветви кедрача. Плоды росли на уровне метров двух-трех от земли, по окраинам их оббили, по-видимому, олени и медведи, внизу — грызуны, вверху — кедровки и куропатки. И только где-то посередине зарослей, на уровне двух метров от земли, оставались изредка рассыпанные, как елочные игрушки, туго набитые семенами бронзовые чешуйчатые шишки размером в детский кулачок.
Житнев залезал в самые дебри зарослей, находил там где-то среди снега опору на сплетении ветвей кедрача и, ловко срывая шишки, бросал их женщинам. Солнце еще не успело лечь на зазубрины кальдеры вулкана Бикинен, это было около шести часов, а уж все нагрузились до отказа дарами кедрача. За это время издали несколько раз долетали звуки выстрелов — то Мурутян охотился. Вот он и сам. На его поясе висели заяц и две куропатки.
В сумерки они вернулись на бивак. Тут уже было готово убежище, сооруженное Славиком. В просторной пещере, со сводами из снега и кедрача могли уместиться человек десять. Земля была мягко устлана хвоей, в центре, через отверстие в снежной крыше просматривалось сапфировое вечернее небо. Посредине пещеры курился костер, распространяя ладановые запахи елового дымка.
— Вот теперь мы, кажется, отдохнем по-настоящему! — шумел Мурутян, оглядывая убежище.
В эту ночь и на самом деле все отдыхали особенно спокойно, отогрелись, хорошо спали. Даже новорожденные не пищали.
11. ЧЬЯ ЗЕМЛЯНКА?
До поздней ночи они не спали, мастерили снегоступы из прутьев кедрача и электропроводов самолета, которые они сняли, покидая машину. Улеглись спать только после того, как было связано десять снегоступов, по паре на каждого.
Мартовское утро наступает рано. Первой, по обыкновению, проснулась Атка. Житнев в полусне слышал, как она подкладывала к груди младенцев и те вкусно чмокали. Потом долго возилась с ними, наверное, перематывала, засовывала в переметные сумы — их спальные мешки. А потом хруст, хруст, хруст… Что это такое? А-а, ясно: грызет кедровые орешки, их много нажарили с вечера на костре. Но не глотает их, хорошо слышно, как сплевывает жвачку в кружку. Сколько же это будет продолжаться?
Когда сквозь дымовое отверстие из убежища ярко заголубело подсвеченное утром небо, все разом встали. По-видимому, давно уже не спали.
— Вроде бы в гостинице побывал, — первым заговорил Ашот. — Даже сны видел, как в детстве, розовые, собирал огромные гроздья винограда. А кругом солнце, смех, радости. Надо же присниться такому! Это к хорошему или к плохому?
— Виноград? Либо будешь пить вино, либо будешь виноват, — пошутил Житнев.
— Хм… Вина не предвидится, это ясно, а виноватым можно легко стать в моем положении.
— А может, нас найдут и, как спасенным, привезут вина? — серьезно предположил Славик.
— Все это мистика, — резковато сказал Житнев, натягивая унты. — Давайте вставать.
— А бутилочки у вас нет, дохтур? — спросила Атка Вику. — Я тут пожаваль еду деткам.
С этими словами она подняла кружку, почти полную жвачки.
— Деткам кормезка на целий день.
Вика достала из сумки новый полиэтиленовый мешочек, подала Атке.
— Перелейте сюда.
— Спасибо, дохтур. Я есе позую… — И она принялась усердно грызть орешки и собирать маслянистую жвачку теперь уже в мешочек.
Завтрак был коротким и не аппетитным, все потихоньку косились на Атку, отворачивались, когда она, согнувшись к мешочку, смачно жевала орешки.
— Это — жизнь, — буркнул Житнев, ни к кому не обращаясь. — Все мы обязаны своим существованием матери. А в материнстве не все так уж розово…
— Что будем предпринимать теперь, командир?
— Давайте решать. Я думаю так. Мы со Славиком отправимся за лыжами, пока приморозило. Тебе, Ашот, вместе с Викой надо насобирать еще орешков, а заодно, возможно, пострелять дичи.
— Принимается! — бодро согласился Мурутян.
Вылезли из-под крыши кедрового стланика — великолепного снежного убежища и ахнули: золотое весеннее утро вставало над просторами Лавового плато. Снежное приволье — земля и воздух розовели под ослепительным солнцем, только что вставшим над горизонтом. Линии гор и мозаика долин и распадков, грани темных пятен берез в правобережье реки и кедровых стлаников в левобережье выступали четно, будто вычерченные добросовестной рукой.
— Красотища! — восторженным полушепотом произнес Мурутян. — Это же и художник не нарисует.
— Да-а, не исключено, что ударит тепло? — ответил Житнев. — Надо поторапливаться, братцы.
Он посмотрел на часы и сказал:
— Ашот, сверим часы. На моих пять минут восьмого, так? В двенадцать ноль-ноль всем быть здесь. А теперь в путь. Мамаша, — крикнул он в снежный лаз Атке. — Вы готовьте еду детям и не беспокойтесь. Мы скоро вернемся.
— Хоросо, командир, — послышалось из глубины снежной пещеры. — Я буду с детками.
Слово «командир» она уже переняла у Ашота.
Житнев и Славик спустились к реке и по берегу направились вверх по ее течению туда, где был оставлен «возок» — лыжи самолета и пилотское кресло на них. Задача: вытащить их к стоянке, чтобы потом решить, брать их в дальнейший путь или бросить здесь. Все будет зависеть от состояния погоды. Вика и Ашот двинулись к дальним кущам кедрового стланика. Вике предстояло собрать как можно больше шишек, а Ашоту попробовать поохотиться.
— Оленя добуду! — пообещал он, кидая ружье на плечо. — А уж зайчишек и куропаток-то настреляю — это верно.
Утопая в снегу по колено, Мурутян пахал дорогу для Вики. Та старалась шагать след в след ему, пока не уплотнялся снег.
— Слушай, Вика, у тебя есть любимый человек? — бубнил под нос Мурутян.
— А зачем тебе это, Ашот?
— Чисто из любопытства.
— Излишним любопытством страдают больше женщины.
— Да-а?
— А ты об этом не знал?
— Нет, не знал. А я думал, что именно я самый любопытный.
— Наверное, не любопытный, а любопытствующий, — поправила его Вика.
— Да-да, именно любопытствующий. — Мурутян рассмеялся. — Ну так вот, меня всегда интересуют человеческие тайны, хитрости, загадки поведения. Хочется все открыть, разгадать и понять.
— А для чего?
— Просто интересно.
— Тебе надо бы стать писателем или психологом.
— Нет, мне надо найти девушку, в которую бы я влюбился.
— По-моему, влюбляются не в разгаданных, а в загадочных…
— Скажи, а что тебе больше всего нравится в мужчине?
— Самостоятельность. А еще — мужество.
— И это все? А красота?
— Так это и есть красота.
— Я имею в виду красоту лица и фигуры.
— Э-э, Ашот, такой красоты хоть отбавляй. Каждый по-своему красив. Если он молод и здоров, да еще имеет спортивную фигуру. Ты знаешь такое слово — «смазливый»?
— Ну, это, по-моему, то, что рисуют на игральных картах или на конфетных обертках.
— Пожалуй, правильно, именно на конфетных обертках. А развернешь, там вдруг окажется суррогатная начинка.
— Слюшай, Вика, а ты очень умный человек! Честное слово!
— Ашот, а ты читал роман Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери»?
— В кино смотрел.
— Помнишь Квазимоду?
— Конечно. Это такой безобразный сторож собора.
— А душа?
— Да, душа красивая и добрая.
— Так вот, у меня есть свой Квазимода.
— Да-а? А как это?
— Очень просто. Человек светится изнутри. Красивый, добрый свет человеческой души.
— Я понимаю тебя, Вика. — Ашот долго молчал, думал о чем-то своем. — А ты бы не могла влюбиться в меня?
— Я уже влюблена, Ашот. В другого…
— В Арсения?
— Нет. В него бы я могла влюбиться, если бы не была влюблена раньше в другого.
— Но кто же этот счастливец?
— А ты не знаешь ело, Ашот. Да и зачем тебе знать это?
— Затем, чтобы знать, кому завидовать, — с улыбкой в голосе отвечал Мурутян.
— Не могу, Ашот, открыть тебе эту тайну. Я не уверена в том, что пользуюсь взаимностью.
— Скажи мне, ради бога! Я заставлю его полюбить тебя. Я расскажу ему, какая ты необыкновенная девушка!
— Спасибо, дорогой Ашот. Сама постараюсь доказать ему это.
Но вот и заросли кедрового стланика. Вика осталась здесь, а Мурутян, взяв ружье наперевес, зашагал дальше по увалу. Он истово, как собака-ищейка, вглядывался в каждый едва заметный след куропатки, зайца или лисицы, как бы принюхивался к ним. Возле одной куртинки кедрача поднял табунок куропаток, прямо из-под ног, выстрелил дуплетом в самый центр табунка и увидел, как три птицы плюхнулись в снег. Собрав добычу на пояс, долго стоял, стараясь разглядеть направление, в котором скрылись куропатки. Увидел темную кущу кедровника вдали и двинулся туда.
Ему пришлось карабкаться по крутому уклону вверх, там угадывался гребень увала. Так и есть: едва он достиг за, рослей, как увидел извилистую горбину. Вчера они с Житневым уже были на ней, но несколько ниже по склону, откуда обзор окрестностей был меньше. Сейчас он находился на более высокой отметке. Забыв о куропатках, Ашот устремился на горбину, хотелось поскорее увидеть, что за ней? Тяжело дыша, на пределе сил наконец выбрался наверх. Облегченно вздохнул: перед ним лежал необъятный простор. Дали равнин и долин, распадков и ложбинок, гигантские конусы вулканов в поднебесье там и тут — все это ошеломляло воображение. Мурутяну казалось, что он видит весь мир, а на востоке, в туманной голубизне, далеко-далеко угадывается Тихий океан.
Несколько минут стоял он в оцепенении, оглядывая простор. Прямо впереди, как бы наслаиваясь один на другой, спускались с ослепительно белого Валагинского хребта, заслонившего запад, извилистые отножины увалов, похожие на руки спрута. Они начинались где-то у самой вершины хребта, как бы отходили от туловища и, извиваясь, становясь все тоньше, подходили к белой ленте реки и тут обрывались, одни — полого, другие — невысокими утесами.
Ашот вдруг обратил внимание на дымок, курящийся километрах в двух на конце одной из отножин. Впился глазами в эту точку — не горячие ли это ключи? Ба, да там, кажется, и собачья упряжка. Избушки не видно, но дымок курится прямо из снега. Может быть, это землянка?
Как сумасшедший кинулся Ашот к своему стану. Время — половина двенадцатого, значит, скоро на стане появятся Житнев и Славик.
Добежав до кущи кедрового стланика, он крикнул Вике:
— Скорее ко мне!
— Что случилось, Ашот? — Вика вылезла из зарослей кедровника, широко открытыми глазами испуганно посмотрела на Мурутяна.
— Жилье рядом!
— Да что ты?!
— Своими глазами увидел. Дымок и собачья упряжка рядом.
— А может быть, это охотники?
— Все равно хорошо. Установим контакты с внешним миром.
Высоко поднимая ноги в рыхлом снегу, они изо всех сил пустились в сторону стана.
Житнев и Славик уже вернулись. Возле лаза в снежную пещеру стоял «возок» — спаренные самолетные лыжи с пилотским креслом на них. Выслушав Мурутяна, Житнев спросил:
— А ты хорошо разглядел все это, Ашот? У тебя не галлюцинации?
— За кого ты меня принимаешь, командир? Как на ладони!
— B таком случае завтра по морозу пораньше снимаемся. Сейчас идти трудно да и опасно. Пойдем по руслу. Я так понимаю, Ашот? Два с половиной километра?
— Да, примерно так.
— Значит, будем считать — два с половиной часа ходу.
12. НОВОЕ КОВАРСТВО РЕКИ
Назавтра, едва забрезжил рассвет, караван уже тронулся в путь. Пилотское кресло не стали брать с собой. Атка заявила, что теперь она будет идти, как и все. Переметные сумы с младенцами удобно уложили на спаренных самолетных лыжах. Возок стал гораздо легче, и мужчины тащили его без большого труда. К тому же идти помогали снегоступы. Хотя в них нельзя было шагать быстро, но зато они не тонули в снегу, а это намного облегчало ходьбу.
Однако же, когда идешь по неизвестному пути, не строй себе иллюзий относительно его легкости. Так оно получилось и с нашими путниками.
Стоило им обогнуть первый левобережный утес, за которым река делала крутую извилину, как лица всех стали унылыми. К этому времени совсем уже рассвело, утренний морозец крепчал, вот-вот должно было взойти солнце, в воздухе чуть ли не блестела прямо-таки кристальная прозрачность, все кругам виделось отлично, как-то особенно четко и выпукло. И потому новый валунный перекат, перегородивший реку между утесами, предстал ясно и зримо на всю длину почти на километр. За ночь потоки воды на валунах приморозило, сплошное их поле блестело серебряными шарами.
— Дальше хода нет, — отрешенно, как бы про себя, молвил Житнев. — Что будем делать, Ашот?
— Будем думать, командир?
— Присядем, отдохнем, — объявил Житнев.
Они расселись до бортам возка, тяжело дыша.
— Не понос, так золотуха, язви его, — тихо сказала Вика, и все рассмеялись ее излюбленной поговорке.
А подумать, поистине, было над чем. Справа еще продолжалась отвесная стена каньона, слева встал отвесный обрыв утеса. Именно им заканчивалась та самая отножина увала, с гребня которого Мурутян увидел дымок какого-то жилья. Идти по обледенелым валунам — дело безнадежное, скользко да и опасно в том случае, если лед растает и забурлит талая вода. Взбираться на увал с возком и грузом почти безнадежно, крутизна градусов в сорок пять и большая высота — метров триста.
— Предлагаю такое решение, — объявил Житнев после долгого раздумья, — вернуться назад, в распадок, где ночевали, и оттуда перевалить хребет, там более пологий подъем.
Так и было сделано. Пока они возвращались к месту ночлега, а потом поднимались на гребень первого увала, солнце поднялось почти к зениту, было около двенадцати часов дня.
— Ну, где твое «жилье»? — опросил Житнев Мурутяна. — Не видно даже никаких признаков.
— Вон там оно должно быть. — Ашот показал в направлении, где заканчивался у реки третий отсюда увал, пологий, сбегающий прямо к берегу.
— А вот там что? Видишь, дымок? — Он курился у подножия второго отсюда увала, почти у самой реки.
— Этого я не видел. Там был дым, а тут, по-моему, легкий парок.
— Наверное, ты что-то напутал, Ашот. — Житнев зорко вглядывался вдаль. Однако, спустимся туда.
Немедленно начали спуск в долину, в том направлении, где курился дым или пар. Вскоре разглядели — это был пар. Но ведь впереди еще один увал. Мурутян утверждал, что именно за ним видел дым.
Преодолев выступ бугра — он на время закрыл дымящуюся точку, — все сразу увидели огромную плешину — горячие ключи! Тотчас же оттуда поднялись два лебедя и взмыли вверх. Они направились на северо-восток, куда двигался караван.
— Зимуют на теплых ключах, — объяснил Ашот.
— Ясно, горячие ключи, зимуют, наверное, — молвил Житнев.
Так оно и оказалось, перед ними были горячие источники. Их насчитывается на Камчатке несколько сотен. Примерно на площади гектара вся земля парила. Тут и там дымили озерки, некоторые доходили до двадцати — тридцати метров в поперечнике. Не над всеми клубился пар. Иные даже имели небольшие забереги льда или белые подпаренные наплывы снега.
Часы показывали начало второго, когда караван остановился возле горячих источников.
— Ну и что будем делать дальше? — спросил Житнев.
— Преодолевать следующий бугор, — отвечал Мурутян.
— Нет, сначала пообедаем и отдохнем.
— А знаете что, — воскликнул Житнев после обеда, — вы все отдыхайте, а я пойду в разведку. Мне хочется убедиться — на самом ли деле впереди есть жилье.
Подъем на следующий увал оказался труднее, чем на предыдущий. Житнев более чем за час смог преодолеть его, шагая на снегоступах. Едва поднялся он на гребень и внимательно осмотрел окрестности, как сразу увидел за следующим увалом, у самой реки на откосе, дымок и собачью упряжку. Она была хорошо видна на белизне снега. Да, это было действительно жилье! До него оставалось примерно около километра. Надо было только пересечь долину.
Не раздумывая, Житнев зашагал вперед. В это время возле упряжки появился человек. Вскинув ружье, Житнев дважды разрядил его в воздух, почти дуплетом, первый и второй подряд. Потом заложил еще два патрона, приготовился сделать новые выстрелы. Теперь возле упряжки появился еще один. Они постояли с минуту. Потом окрылись куда-то. Житнев замер, стараясь все разглядеть. Вот они вновь показались. Житнев еще два раза выстрелил в воздух. И тут увидел нечто необычное: двое мгновенно исчезли, потом вскоре появились и снова куда-то скрылись. «Наверное, готовят помощь», — подумал пилот и присел на снег отдохнуть. Вскоре двое вновь появились возле собачьей упряжки, что-то быстро погрузили на нарты. А потом… потом случилось что-то невероятное. Собачья упряжка помчалась прочь, в противоположную сторону от Житнева.
Не веря своим глазам, пилот поднялся, долго наблюдал за удаляющейся упряжкой. Да, она уходила вниз по руслу реки.
«Что за чертовщина? — проговорил он про себя. — Почему? Надо разгадать это дело».
И он сколько было сил зашатал вперед. Почти час потребовалось на то, чтобы добраться до загадочного жилья. Перед ним предстала любопытная картина: в откосе крутого склона темнела припертая палкой дверь, поверх — снег, из него торчит жестяная труба. Весь снег вокруг двери истоптан, на нем там и тут видны красные пятна крови, а в одном месте, неподалеку от двери, весь снег пропитан кровью. Житнев осторожно убрал палку, подпирающую дверь, и открыл ее. Перед ним была темная, закопченная землянка, пол устлан сопревшей травой, справа и слева — топчаны, застланные сеном, посредине — стол из необтесанных жердочек, справа в углу — жестяная, прогорелая по бокам печь.
Оглядевшись в полумраке, пилот увидел в левом углу кучу сырых оленьих шкур. На них еще осталась свежая кровь. Поднял одну, другую и вдруг увидел оленьи рога, а потом и неободранную голову. Снова шкура, снова рога. А под нею, в рядок сложенные, оленьи неободранные голени с копытами.
— Все ясно, браконьеры, — проговорил про себя Житнев. — А убежище подходящее. Еще один великолепный перевалочный пункт, место для остановки.
Не теряя времени, он подпер дверь палкой, как это было до него, и двинулся в обратный путь.
Диск оранжевого слепящего солнца уже коснулся извилистой линии Валагинского хребта, когда Житнев вернулся к своим спутникам. Тут уже горел костер, на нем жарились на палках-вертелах разделанные тушки куропаток и зайца.
— Ну, что открыл, командир? — еще издали крикнул Ашот, орудуя у костра.
— Открыл чудо, — весело сообщил Житнев. — Притон браконьеров.
— Как так?
— Очень просто. Ты был прав, Ашот. Там действительно оказалось жилье. Землянка. Браконьеры жили. Сбежали. Дурак я, что стрелял. Надо было бы подойти тихо. Имели бы собачью упряжку.
— Так бы они и отдали ее тебе!
— Заставил бы! Сволочи. Я бы взял их за жабры.
— Ну хоть расскажи толком.
Житнев присел к костру, грея руки, подробно поведал о том, что увидел в землянке.
— Так слюшай, командир! Мы же можем прокоротать в ней до самого лета! Еды найдем, раз там олени.
— Подумаем, Ашот…
— Есть подумать, командир! А ты посмотри, что мы открыли. — Мурутян показал вверх на склоны увала. Оттуда текли из-под снега многочисленные ручьи, вливаясь в теплые источники низины.
— Ты не чувствуешь запаха керосина, командир? — Ашот хитрюще посмотрел на Житнева.
— Вообще-то, чувствуется. Но я думаю, что запах идет от лыж. Мы же выпустили прямо на них бензин и масло из мотора.
— А вот и не так! Керосин течет из-под земли!
— Да?! А где?
— Вот, иди сюда.
С этими словами Мурутян повел первого пилота к одному из источников.
— Вот, смотри. Здесь — сероводородный запах. Значит, вода проходит через серу. А вот возьми в ладонь. Чуешь запах?
— Керосин!
— Вот то-то и оно. Наберем?
— А во что и зачем?
— В полости лыж. А зачем? Об этом и гадать нечего, топливо там, где будет трудно разжигать костер.
— Смотрите, смотрите! — вдруг закричал Славик. Он указывал в сторону северо-востока, в небо. Там плавно летели два бело-розовых лебедя. Солнце только что опустилось за Валагинский хребет, но его лучи еще пронизывали верхние слои воздуха, где как раз парили лебеди. В этих лучах они и казались бело-розовыми, даже чуть оранжевыми. Лебеди стали кружиться над теплыми ключами, все более снижаясь. А вскоре просвистела крыльями над самой головой стайка уток.
— Да, помешали мы их зимовью, — произнес Житнев. — Зимовали здесь.
— Найдут себе ночевалку, — вмешалась Атка. — Они тут все знают, где ночевка устраивать.
Действительно, лебеди покружились над долиной и подались куда-то на северо-восток, откуда прилетели.
Сумерки наступали медленно. Чем внимательнее всматривался в окрестности Житнев, тем больше очаровывался этим удивительным уголком Лавового плато. Здесь была неописуемая мозаика колдобин, ручейков на каменистых обрывчиках, мелких озерков, кое-где по косогорам обегал сплошной поток воды в низину, напоминающую обычное болото. И это среди царства снегов, достигающих толщины в полтора-два метра!
А выше по склону долины — кедрачи. Стелющийся кедровник раскинулся островками, разделенными белизной снега.
— Где будем ночевать? — ни к кому не обращаясь, спросил Житнев.
— Я думаю, поближе к самому теплому месту, — первым высказался Мурутян.
— А если пойдет снег?
— Накроемся ковриками.
Так и было решено. Нашли самое теплое место на земле рядом с фуморолой — горячим ключом. Сюда снесли спальные мешки, коврики, взятые с самолета, капот с мотора.
— Дохтур, а мозно деток купать в теплый вода? — спросила Атка Вику.
— Гм… — Вика посмотрела на горячее болото. — Давайте вместе. Сделаем так. Вы будете чуть-чуть ополаскивать, обмывать, а я буду быстро завертывать их в простыни, обтирать и засовывать в спальный мешок.
Так и сделали. Мужчины смотрели на эту процедуру со страхом и вместе с тем с восторженным любопытством: как можно этак обращаться с такими крошками? Оказывается, можно. Скоро Вера и Надежда были водворены в свои опальные мешки — переметные сумы. Потом Ата прилегла к переметным сумам и стала по очереди кормить младенцев грудью.
— Братцы, а не помыться ли и нам, — предложил Житнев. — Ей богу, это здорово, принять ванну!
Мужчины ушли к какому-то озерку, и вскоре оттуда донеслось фырканье. По нему можно было судить об удовольствии, с которым мужчины принимали ванну. Они явились к костру свежие, взбодренные, шумливые. Потом туда же сходили женщины.
К этому времени младенцы уже крепко спали.
— Ну, а теперь план на завтра, — объявил Житнев. — Давайте решать, что будем делать? Я предлагаю выйти по морозу, чтобы — пораньше добраться до землянки браконьеров.
— Возражений нет, командир.
— Так и сделаем. А теперь спать.
13. ЗАГАДОЧНАЯ ЗЕМЛЯНКА
Как и накануне, караван вышел в путь спозаранку — едва стало светать.
Ночлег возле горячих ключей, ванны, принятые вчера, сказались на каждом. Все чувствовали себя отлично, проснувшись ранним утром.
А путь предстоял нелегкий. Впереди вставал самый высокий и крутой увал. Поднимать возок на такую крутизну и высоту было делом нелегким для мужчин. Расстояние в полкилометра до гребня они преодолевали почти два часа. Но вот и гребень. У всех захватило дух при виде панорамы, раскинувшейся перед ними. Только что поднялось из-за океана солнце, но не красное, как это часто бывает, а оранжевое. Облитые его светом снежные просторы, исполинские конусы вулканов, Валагинский хребет казались заглянцеванными червонным золотом.
Хорошо отдохнув на гребне, люди стали спускаться вниз. Теперь оказалась новая трудность — спускать сани по крутому склону; упусти их, и они стремительно помчатся в долину. Для страховки, Атка забрала переметные сумы с младенцами. Перекинув лямки через шею, она двинулась мелкими шажками, бережно прижимая к груди драгоценную ношу.
Опустились, благополучно. Подъем на последний увал не представлял большого труда — он был пологим и невысоким. И вот перед нашими путниками та самая землянка, у которой побывал Житнев. Теперь пришло время как следует оглядеться. Выше по склону, в сотне метров, нависали заросли кедровника. Но самое главное открытие оказалось за ближайшим взгорком. Им подсказали его лебеди, вдруг появившиеся в воздухе, видимо, те же самые, что поднялись вчера с горячих ключей. Первым кинулся туда Славик, туда, откуда они взлетели. Так и есть: огромная парящая темная плешина, окруженная снежными наплывами. Сквозь пар, стелющийся вокруг, поблескивало множество мелких озерков.
Пока мужчины осматривали горячие ключи, Вика и Атка растопили в землянке железную печурку, принялись разделывать головы и лодыжки оленей, таять снег в ведре, которое обнаружили под нарами.
И вот все собрались в землянке.
— Ясно, что здесь обитали браконьеры, — первым заговорил Мурутян.
— Возможно, — согласился Житнев. — Но вот вопрос: откуда они пришли сюда?
— Одно из двух, либо из Мильковекого района, из-за Валагинского хребта, либо с побережья Тихого океана, — безапелляционно заявил Ашот. Он раскрыл планшет и развернул карту. — Вот, смотри, командир, ни одного населенного пункта нет на Лавовом плато.
Пока они обсуждали обстановку, а женщины занимались печкой, таяли снег, мыли мясо, Славик куда-то исчез. И вот распахнулась дверь, в ее проеме появилась фигура Славика. Он был возбужден, лицо его сияло.
— Оленя нашел! — закричал он. — Целую тушу! Пойдемте, посмотрите.
Житнев и Мурутян кинулись за ним вслед. Славик полез на косогор, в который была врезана землянка.
— Смотрите!
Он принялся разгребать снег, и пилоты увидели там красную тушу оленя, только недавно освежеванную — без головы и без ног. Она еще слегка парилась.
— На полмесяца еды! — ликовал Ашот.
Тушу тотчас же приволокли к дверям землянки и принялись разделывать. Несколько кусков мяса сразу же заложили в ведро, где уже была натаяна вода.
— Шашлик сделаем! — объявил Ашот.
Вскоре возле землянки пылал костер из сушняка кедрового стланика. С профессиональной ловкостью орудовал возле него Ашот, на оструганные прутья он искусно насаживал кусочки мяса и укладывал их рядком на снегу. Когда образовались угли, Ашот разложил на них свои изделия, и вот уже запахло в воздухе аппетитным запахом жарева. Глотая слюнки, за ним с нетерпением наблюдали Житнев и Славик.
Они не особенно голодали за все эти дни трудного путешествия, но строго экономили продукты — в основном те, что были в «НЗ» — неприкосновенном запасе, да в переметных сумах Атки; каждому выдавалась ограниченная норма. Поэтому вволю не наедались. Теперь можно было поесть до отвала.
Едва они принялись за обжаренную оленину, как Вика крикнула:
— Человек! Смотрите, человек идет! — она указывала на реку.
Все обернулись туда. Примерно в километре вниз по течению реки действительно темнела на белизне снега человеческая фигура. Неизвестный медленно шел вверх по течению реки, заметно с трудом шагая в глубоком снегу. Прошло, наверное, полчаса, пока он подошел к обрыву увала, на котором находилась землянка. Вот он скрылся за ним, а потом появился уже со стороны горячих ключей. Мужчины вышли к нему навстречу.
Это был молодой рослый парень в оленьей малице с капюшоном, в оленьих унтах, обросший юношеской смоляной бородкой, с угрюмым горбоносым лицом, черными камчадальскими глазами. Он шагал устало, видимо, на последнем пределе сил.
— Здравствуйте, — печально приветствовал он незнакомцев и вдруг разрыдался.
— Что с вами? — Житнев первым кинулся к парню.
— Какое-то непонятное состояние, — скорее для себя проговорил Мурутян.
— Помогите спасти отца, — со стоном в голосе произнес парень.
— Да скажи ты толком! — не выдержал Ашот.
— Снежный обвал… — парень сел на снег и еще пуще разревелся.
— Завалило?.. — Житнев потряс его за плечи.
— Да…
— Далеко?
— Километрах в десяти.
— Что будем предпринимать? — Житнев оглядел друзей.
— Так спасать же надо! — закричал Славик.
— Не ары! — осадил его Мурутян. — Расскажи толком, что произошло? — обратился он к незнакомцу. — Встань!
Парень встал, вытер рукавицами слезы с обветренного лица.
— Снежный обвал рухнул на нарту, — объяснил он. — Я успел выскочить, а вся упряжка и отец оказались под обвалом.
— Это ваша землянка? — опросил Житнев.
— Отцова, давняя. Он постоянно охотится здесь.
— А почему после моего выстрела вы сбежали отсюда? — с жесткой ноткой в голосе спросил Житнев.
— Думали, что охотинспекция.
— Значит, браконьерствовали?
— Это все отец…
— Ну что ж, друзья, давайте собираться.
— Надо же дать отдохнуть парню, а заодно и подкрепиться в дорогу, — предложил Мурутян. — Дорога не близкая — десять километров. А ты заходи, парень, в землянку, полежи, отдохни. Как тебя зовут-то?
— Владик. Подкорытов, — проговорил парень и пошагал в землянку, улегся там на нарах.
Женщины со страхом и настороженностью смотрели на него, когда он лежал кверху лицом на сене, как мертвец, с закрытыми глазами, тяжело дышал.
Мурутян присел у его ног, спросил:
— Что там произошло у вас, почему попали под снежный обвал? Вы же опытные камчадалы, охотники.
— Отец выстрелил в горного барана, прыгал зверь по скалам впереди, — вяло объяснял Владик. — А папа вгорячах не заметил, что на высоком обрыве над нами нависает снежный козырек — карниз. Ну и рухнул он от сотрясения воздуха. Прямо на нас. Я успел отскочить, потому что стоял подальше от нарт, позади. А всю упряжку вместе с отцом завалило.
— Где ты работаешь?
— Студент. Учусь в Петропавловском пединституте. На втором курсе.
— Черти тебя понесли сюда, — мрачно резюмировал Ашот.
— А вы не самолет искали? — спросил Житнев.
— Какой самолет?
— Ну пропавший без вести?
— A-а, это про тот, что вертолетчик говорил. Он садился рядом.
— Что, искал самолет? — насторожился Житнев.
— Ага. Он с неделю назад был у нас.
— И что он говорил?
— Ну, что пропал без вести санитарный самолет, а он искал его.
— Вас просил искать?
— Не просил, а приказал от имени областной комиссии по спасению самолета.
— А что ж вы не искали?
— А где искать? Мы же ничего не знали о месте гибели самолета. Отец решил охотиться на оленей.
— А разрешение было? Лиценция? — придирчиво опросил Ашот.
— Не было.
— Значит, браконьерствовали?
— Ну конечно.
— Комсомолец?
— Да.
— И тебе не стыдно? — Ашот зло сузил глаза.
— Мне с самого начала было стыдно, но отец настоял. Из-за этого я умышленно опоздал возвратиться с каникул.
— Да-а, скверная история.
— Хуже не придумаешь, — согласился Славик.
Пока варилось мясо, Владик отдыхал. Потом уселись обедать. Духовитые куски мяса выложили на детскую клеенку, бульон по очереди отхлебывали из кружки и двух мисок, добытых Владиком из тайника под столом. Оттуда же были вытащены дне банки с солью и сухарями.
Хорошо подкрепившись, мужчины стали готовиться в путь.
— Лопата есть в землянке? — спросил Ашот Владика. — Чем будем откапывать? У нас только две.
— Лопата там, в нарте.
— А вот! — предложил Славик, прилаживая снегоступы к ногам. — Это же лопаты!
— Предложение дельное, — согласился Житнев. — А теперь в путь.
Был двенадцатый час дня, солнце грело по-мартовски, ослепительно яркое в белизне снега, почти горячее. Пришлось всем надеть темные очки, смонтированные еще на месте вынужденной посадки самолета. Снег увлажнился, снегоступы не тонули в нем. Поэтому идти было сравнительно легко. Шли все время по руслу реки. Стена каньона в правобережье все продолжалась. Тем не менее они достигали места обвала только в четвертом часу пополудни. Шли больше трех часов.
И вот картина, представшая их глазам: стометровый обрыв с небольшими уступами и отдельными березками, торчащими на них. Вверху многометровый обрез снежной стены на обрыве. Это место срыва лавины. А у подножия обрыва, в русле реки, рыхлая глыба снега, метров тридцати в длину и метров пяти в высоту. В сущности, это был снежный оползень, сорвавшийся с большой высоты.
— Где находится упряжка? — с ходу спросил Мурутян Владика. — Укажи точное место.
— Вот у этого края. — Владик указал на самое высокое место снежной осыпи.
И хотя после перехода пот заливал глаза каждому, все дружно взялись за раскопку снежной завали. Снегоступы не могли заменить лопат, но работа — плечом к плечу — хорошо спорилась. Вот и задник нарты, из-под нее видны красные лодыжки задних ног освежеванного оленя. А вскоре показался и край оленьей малицы, потом и горб хозяина нарты. Он не лежал, а сидел, согнувшись, как говорят, в три погибели, — голова почти касалась подогнутых коленей, упертых в передник нарт. Его дружно вытащили из снега и положили спиной неподалеку на открытом месте. Он был весь заснежен — горбоносое лицо, курчавая борода, кукуль на голове, прикрывавший лоб до самых бровей; все-таки виделось в его могучей фигуре, красивом рисунке лица что-то живое. Житнев охватил кисть левой руки, стал искать пульс.
— Жив! — воскликнул он. — Сердце работает!
Владик принялся обметать шапкой снег с лица и груди отца. Потом тер лицо и виски голыми ладонями. Там появилась краснота, стали подрагивать веки.
— Жив, папа… — почти шепотом выдохнул он. — Папа! Папа! — закричал Владик почти в истерике. — Проснись, ну проснись!
Но Подкорытов-старший пока не проявлял признаков жизни.
— Массажируй грудь, — приказал Мурутян. — Сними с него кукуль. А мы будем раскапывать упряжку.
Две первые собаки возле передника нарты были мертвыми. Дальше ременная шлейка упряжки круто заворачивала вправо, к подножью обрыва, снег там оказался рыхлее, чем с внешней стороны, и вот следующая пара собачек. Живы! Стали барахтаться, вылезать из снега. С них быстро сняли лямки, и псы резво выскочили на волю.
Живыми оказались и все остальные собаки. Возможно, это так или не так, но, наверное, Белкан спас их: он, судя по всему, кинулся к подножью обрыва, где удар снежной лавины был меньшим. Там оказалась почти пустота — снег был легким и рыхлым. Белкан вдруг сам пробился наружу сквозь его массу. Всех собак тотчас освободили от лямок. Они начали дружно отряхиваться от снега, зевать, а потом стали бегать трусцой, видимо, проминать закоченевшие ноги.
— Ожил! — вдруг заорал Владик. — Папа! Папа!
Все бросились к каюру. Тот широко открытыми, еще безумными, глазами смотрел на всех в упор, потом стал водить ими.
— Владик… — тихо проговорил он. — Пить…
Владик схватил горсть снега, открыл отцу рот, всыпал туда немного. Тот пожевал, полежал еще немного, а потом попытался подняться. Но сил не хватило, он снова откинулся на спину.
— Где больно? — спросил Житнев.
— Спину… — Он прикрыл глаза.
— Сильно?
— Да. Трудно подниматься.
— Перенести на нарты вас можно?
— А зачем?
— Отправить к врачу.
— Если можно, положите.
Пока собак запрягали в нарту, Подкорытов снова попытался встать. Но, посидев немного, опять отвалился на спину.
— Ох! Больно, — сказал он.
Его аккуратно положили в нарту.
— Гони к землянке, — велел Владику Житнев. — Там Вика посмотрит и решит, что надо делать. А мы постепенно дойдем.
— Баран там лежит, — сообщил Владик, показывая вниз по течению реки. — Если не забрать — утащут росомахи.
— Что будем делать, Ашот? — спросил Житнев Мурутяна.
— А нарта поднимет? — вместо ответа спросил Ашот Владика.
— Поднимет. Я буду бежать рядом с собачками.
Барана нашли в снегу метрах в пятидесяти ниже снежного обвала. Это был крупный самец-красавец, камчатский горный баран. Огромные, завитые в спирали назад ребристые рога. Отшлифованные копыта, жесткие широкие шершавые подошвы и пятки под ними — вот благодаря чему он так искусно цепляется за малейший каменный выступ, прыгая над головокружительными пропастями с камня на камень, с утеса на утес.
— И такую красоту надо было загубить, — думал вслух Ашот.
— Вот за это и наказала природа браконьера, — в тон ответил ему Житнев.
Когда приволокли барана к нарте, Подкорытов, морщась от боли, сказал:
— Надо отрезать голову и ноги, лишний груз. — И сам откинул голову назад.
Владик быстро сделал это и положил тушу барана в изголовье отца. Притянул ее к заднику нарты сыромятными ремнями.
— Можно ехать? — спросил он у Житнева.
— Валяй, — безразлично сказал тот, подвязывая снегоступы к ступням.
14. ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
На закате солнца Житнев, Ашот и Славик вернулись в землянку, буквально на последнем пределе сил. Весь этот день на Лавовом плато стояла на редкость ясная, удивительно ясная и умеренно теплая погода. Житнев все время в пути опасался, что вот-вот хлынет вешняя вода из каньона. К счастью, этого не случилось. Напротив, снег даже как-то осел, уплотнился, снегоступы почти не тонули в нем.
Перед тем как подняться на взгорок, ведущий к землянке, они присели возле горячих ключей отдохнуть. В воздухе курился пар, пахло сероводородом, а точнее сказать — протухшим яйцом. Вдруг неподалеку послышался всплеск. Обернувшись на него, все сразу увидели в кисее пара двух лебедей, опустившихся на дальнее озерко.
— Пошли, — сказал Житнев, — не будем им мешать отдыхать. Это те, что летали между ключами, где мы ночевали, и этими. Хорошо, что их не убили браконьеры.
Мужчины поднялись к землянке. Там стояла мертвая тишина. Их встретила Вика у двери.
— Умер, — печально сообщила она.
— Кто?
— Отец этого парня, Владика.
Они тихо вошли в землянку. Здесь стоял полумрак. Слева на нарах, на тех, где утром отдыхал Владик, теперь лежал Подкорытов-старший. В сумерках было видно обострившееся бледное лицо со спокойно смеженными веками; оно уже чуть-чуть посинело. У ног покойника сидел сгорбившийся до колен Владик, положив лицо на крупные темные ладони.
Все сняли шапки, постояли с минуту молча.
— Ну, что будем делать дальше? — тихо спросил Житнев.
Ему никто не ответил.
— Ашот, что будем делать дальше? — повторил первый пилот, обращаясь, по своему обыкновению, к Мурутяну.
— Покойника надо вынести на снег, командир, так я думаю.
— Пожалуй, верно. Ты не возражаешь, Владик? — спросил он у Подкорытова-младшего.
— А что мне возражать? Ему теперь все равно…
Покойника переложили на коврик и осторожно вынесли из землянки; неподалеку от дверей его опустили, прикрыли вторым ковриком и тут оставили. Дали собакам корм — мясные оленьи обрезки и вернулись в землянку.
Тем временем женщины занимались печкой — калили ее вовсю. В землянке стояла жара, и потому дверь все время была открытой. Ужинали молча и молча улеглись спать. Пилоты и Вика в своих спальных мешках на полу, Атка с младенцами — на правых нарах, Славик и Владик — вдвоем на левых. Перед сном Житнев объявил:
— Вставать будем рано. Постарайтесь отдохнуть хорошенько.
На том все и уснули.
Но ранний, утренний подъем не состоялся — ночью ударила свирепая мартовская камчатская пурга. Все враз загудело во второй половине ночи — это все услышали. И когда стал пробиваться рассвет, то из землянки страшно было высунуться — вихри били в дверь, в окошко, сотрясали, кажется, саму землю.
Рассветало. Поднялись все разом. Дверь уже невозможно было отворить, ее засыпало снегом.
— Не понос, так золотуха, — проговорила Вика. Но теперь никто не смеялся, всех еще омрачала смерть Подкорытова и трагедия положения замурованных снегом в землянке. Вылезти наружу, разумеется, не составляло труда. Страшило другое — что ждет их? Март на исходе. Впереди еще длинная дорога до ближайшего жилья, в любую минуту может наступить резкое потепление, и снег обратится в сплошные потоки вешней воды. А это минимум на месяц распутье, когда невозможно ни пройти ни проехать по Лавовому плато. На вертолет рассчитывать было бесполезно. По-видимому, их давно перестали искать.
Пурга продолжалась двое суток. Все это время путники коротали за разговорами в землянке. Собакам отдали все, что оставалось от разделки оленей, вплоть до шкур. В остатке еще было два мешка юколы — сухих горбуш, обычной еды собачек. Но ее строго приберегали на будущее, на время пути — там уже нельзя кормить собак мясом. К тому же все подкорытовские собаки умели великолепно «мышковать» — добывать мышей в снегу, а их обычно очень много в кедровых стланиках.
Вакханалия пурги прекратилась к утру третьих суток. Нестерпимая белизна снега, яркость солнца — такое увидели наши путники, выбравшись из землянки, когда прекратился шум бурана.
— Прошу мужчин на совет, — объявил Житнев, когда все поразмялись на улице.
Все расселись вокруг импровизированного стола.
— Давайте, братцы, решать, — что нам делать дальше, — заговорил Житнев, потирая румяное, обросшее русой щетиной продолговатое благородное, только что вымытое снегом, лицо длинными ладонями.
— Надо пробиваться вперед, — запросто ответил Ашот.
— А если хлынет вода?
— Выроем землянку. Нас теперь четверо мужчин.
— Меня не считайте, я повезу папу хоронить домой, — глухо сказал Владик.
— Да-а, — раздумчиво прогудел Житнев и помолчал. — Может быть, прихватишь женщину с детьми?
— Это пожалуйста. Хотя собакам и будет трудно…
— А если людям трудно — тебя это касается?! — вскипел Мурутян.
— Не кричи, Ашот, — спокойно сказал Житнев.
— Нельзя же быть таким эгоистом! — не унимался второй пилот.
— У меня отец умер, вы это понимаете? — окрысился Владик. — Не могу же я бросить его здесь. Что мне скажет мать, когда я приеду без него?
Но как только сказали Атке, что она поедет в одной нарте с покойником, та в ужасе замахала руками.
— Нет-нет, ехать не буду! Мертвый вместе не могу с детками.
— Я не знаю, над чем вы ломаете голову, — вмешалась Вика. — А почему нам не уйти вместе с нартой всем? Упряжка так и так не сможет бежать. На нарту уложим все необходимое имущество и будем продвигаться потихоньку вперед. Зато все вместе, в случае бедствия будем помогать друг другу.
— Ты согласен на это? — спросил Житнев Владика.
— Согласен, — отрешенно ответил он.
Они начали собираться. Стоял утренний морозец, снег уплотнился после пурги так, что на передувах в нем даже не тонули ноги. Самый раз идти, да и собакам легко будет тащить тяжелую нарту.
Вдруг Славик закричал:
— Нарта! Смотрите! — и он показал рукой вниз по течению реки.
На ослепительной белизне снега, примерно в полутора километрах, четко темнела цепочка собачьей упряжки и нарты. Она бежала посредине речной полосы в сторону землянки. Затаив дыхание, все смотрели туда, ожидая ее приближения.
— Боже мой, — тихо проговорила Вика, когда упряжка находилась уже в нескольких сотнях метров, — неужели?
— Что такое, Вика? — заволновался Ашот. — Что-нибудь страшное?
— Да нет, Ашот, — Вика сжала румяные щеки своими детскими ладошками. — Кажется, наши собачки. Неужели папа?!
Упряжка скрылась за взгорком увала, но вскоре появилась из-за бугорка со стороны горячих ключей. Вика как сумасшедшая кинулась ей навстречу, широко раскинув руки, словно крылья, на которых готовилась взлететь.
— Па-а-па! Папочка!
Она почти налетела на упряжку. Вожак, по-видимому, угадал ее, кинулся к ней лапами грудь, принялся облизывать ее лицо, руки.
— Вика, дочка… — Каюр намертво всадил остол в снег впереди нарты, остановил упряжку, истово бросился к Вике. — Дочка, доченька ты моя, жива. — Он прижал ее голову к своей груди, гладил, приговаривал — Милая, жива, о господи, жива.
Все, наблюдавшие эту сцену, на минутку оцепенели. Только собачки ликовали вокруг, запутав шлейки и длинно высунув розовые языки, улыбчиво оскалив морды; каждой хотелось прорваться к каюру и Вике — к их любимым людям.
— Папочка, но откуда ты узнал, что мы здесь? — спрашивала Вика, когда все успокоились.
— Э-э, дочка, история длинная, — оббивая рукавицами снег с унтов, усмехаясь, отвечал Андрей Гаврилович, — потом расскажу. А сейчас давайте быстро разжигать костер. Здравствуйте, дорогие товарищи, — обратился он к стоящим у землянки. — Неделю ищу вас. Не один. Другие ищут. Надо развести костер, чтобы был дым, сообщить. Так договорились мы с товаришком.
Пока мужчины ходили к зарослям кедрача собирать сушняк, Андрей Гаврилович подошел к нарте Подкорытова.
— Что это? — спросил он, указывая на длинную фигуру, укрытую ковриками.
— Мертвый, — сообщила Вика.
— А кто?
— Подкорытова знал?
— А как же!
— Вот он.
— Ах ты, боже мой… Отчего же?
— Завалило снегом.
— Э-э, теперь все ясно. Это вот там? — он показал рукой вниз по течению реки. — Так я же там пережидал пургу. И там разгадал все — оттуда ушла нарта вверх, человеческие следы. Там лежали две мертвые собачки. По этим следам я и догадался, кто-то ушел вверх по реке. По этим соображениям и пошел сюда…
Вика рассказала отцу всю историю спасения Подкорытова.
— Да-а. — Андрей Гаврилович присел на нарту у ног покойника. — Жил лихо и помер лихо. Хваткий был мужик. Бывали с ним в крутых переделках. Похуже вчерашней пурги. Стойкий был мужчина.
Он прервался на минутку — мужчины с треском и шумом тащили сушняк со стороны кедрового стланика.
— Ну так вот, о самом главном, — продолжал он, закуривая сигарету. — Колодяжный тут. Тоже в поиске, — сообщил камчадал.
— Никита?! — Вика посмотрела на отца широко открытыми глазами.
— А то кто же!
Пока разжигали костер, Андрей Гаврилович дал собачкам по половине сушеной горбуши, достал из нарты мешок с олениной.
— Поди у вас с едой плохо? — спросил он дочку.
— Да нет, папа, — Вика показала на землянку. — Подкорытов набраконьерствовал…
— Э-э. Это он может. Выходит, за это и поплатился. Ишь ты, какого баранчика подвалил.
— Вот из-за него и поплатился жизнью, — сообщила Вика.
Вскоре у землянки заполыхал костер, сдобренный зелеными хвойными ветками; клубы черного дыма столбом взвились к небу.
— Хорош костерчик, — говорил Андрей Гаврилович, по привычке сладко протягивая ладони к огню, хотя, вообще-то, было уже довольно тепло на улице — солнце подходило к зениту и заметно прогрело воздух.
Наконец все собрались у огня, восхищенно смотрели вверх, в ясное небо, куда клубами уходил черный столб дыма.
— Ну так вот, братцы, — обратился Андрей Гаврилович ко всем. — Свою главную заботу я выполнил — нашел вас. Для этого припас из дома вот эту штуку.
С этими словами он извлек из мешка туго скрученный сверток, долго разматывал его, пока не раскутал бутылку спирта.
— Вот она! — торжествующе воскликнул камчадал и потряс ею в воздухе.
— Так некогда, папа, — вмешалась Вика, — упряжку надо отправлять с покойником…
— Так и пусть едут, — согласился отец.
— Пожалуй, это правильно, — вмешался Житнев. — Слушай, Славик, а может, ты поедешь с нартой? — предложил он студенту. — Вдвоем вы быстрее сможете пробраться к жилью. А там сообщите и о нас.
— Я — с удовольствием, — согласился Славик. — Ты, как, не возражаешь? — обратился он к Подкорытову-младшему.
— Да мне что, вдвоем будет даже легче, в случае чего…
— Ну, тогда собирайтесь, — распорядился Житнев. — Перекусите и быстро в путь, пока погода позволяет.
И снова собаки запряжены. Ребята выпили по нескольку глотков разведенного спирта, закрепили в нарте свой багаж, кроме туши барана — ее Житнев оставил у себя.
— Это пойдет в наш резерв, — объявил он. — До свидания.
И упряжка рванулась вниз по склону, к руслу реки. Ее долго провожали взглядами, пока она не скрылась за поворотом. Когда собаки бежали слишком быстро, кто-нибудь из парней или оба сразу присаживались на нарту, отдыхали, тогда упряжка умеряла бег. Потом снова спрыгивали, быстро шагали по бокам от нарты.
Упряжка скрылась за утесом увала, оставшиеся у землянки занялись своими делами. К этому времени Андрей Гаврилович внимательно осмотрел землянку, сходил к горячим ключам.
— Да-а, место здесь сподобное, — заключил он. — Жить можно. В случае чего, не страшно и переждать разлив. Хорошее место подобрал Подкорытов.
— И долго мы будем палить костер? — спросил его Житнев.
— Дак посмотрим, — ответил камчадал. — Должон ответить один, кто тоже ищет вас. Вот тогда и решим.
Появление Андрея Гавриловича было похоже на вторжение — он сразу взял в свои руки «командование», ни у кого не спрашивал мнений, решал все сам. И это естественно, он хорошо знал обстановку да еще был хозяином положения — имел собачью упряжку.
15. ВСТРЕЧА В ПУТИ
На сигнальный костер никто не отозвался до самого вечера.
— Либо что-то случилось с Никитой, либо он уехал к своему вулкану, — высказал предположение Андрей Гаврилович о Колодяжном. — Человек он аккуратный.
— Ну и что будем предпринимать? — спросил придирчиво Житнев камчадала.
— Завтра поутру двинемся в дорогу.
Чуть забрезжил рассвет назавтра, а уж караван был готов в путь.
— Сделаем так, — с хозяйской распорядительностью говорил Андрей Гаврилович, — женщины и дети будут сидеть в нарте, а мы, мужики, пойдем пешком.
С утра, как обычно, приморозило, снег хорошо уплотнился, поэтому идти было сравнительно легко — ноги лишь изредка проваливались в снег. Правда, попадались места, где наносы оказывались рыхлыми — это в затишье прибрежных утесов, — и тогда весь караван сразу оказывался в снежном плену. Часам к десяти они достигли обвала, что обрушился на упряжку Подкорытова. Здесь сделали короткий привал.
— Ну, вы тут пока отдохните, а я… — Андрей Гаврилович не договорил, раскопал в снегу двух собак, что погибли под обвалом, и унес их куда-то за утес. Через полчаса вернулся с двумя красными тушками и мехами. Заметив, что все смотрят на него, сказал как бы в оправдание:
— Чего добру-то пропадать?
И подсунул ношу под задник нарты.
— Пригодится, — коротко бросил он.
— Да-а, вот это настоящий хозяин природы, — про себя проговорил Житнев.
— А он всегда такой, — пояснила Вика.
После короткого завтрака путники двинулись в путь. Но едва обогнули последний утес в правобережье, как увидели собачью упряжку, мчащуюся им навстречу. Приблизившись на полусотню метров к встречным, каюр упряжки лихо всадил остол в снег у передка нарты: не хотел сближаться с встречной упряжкой, может завязаться драка между собаками.
— Никита?! — Андрей Гаврилович остановил свою нарту, сказал Вике: «Подержи собачек», а сам двинулся навстречу Колодяжному.
— Ну, паря, не ожидал… Куда же тебя черти унесли с Жупановской сопки? Ты че, видел ли костер?
— Так сколько же можно ждать, Андрей Гаврилович? Двое суток просидел там и отправился в землянку. А потом увидели мы с другом вчера под вечер черный клуб дыма в небе, сообразили, примерно где это и кто это, вот я сегодня с утра и кинулся сюда. Думал, что вы вызываете меня. А тут навстречу бежит упряжка, и возле нее два парня. Они-то и рассказали мне о вашей находке.
— Ну и слава богу, что все так получилось. А теперь пошли к моей уарте, поглядим, что там делается.
Вика с каким-то настороженным чувством издали наблюдала за разговором между отцом и Колодяжным. Она почти не слышала слов, старалась по жестам разгадать — о чем они там говорят, с нетерпением ждала, когда они пойдут сюда, к ним всем.
— Кто это? — спросил Мурутян еще при появлении незнакомца.
— Мой Квазимода… — почти шепотом ответила Вика. — Вулканолог.
— Почему Квазимода? — спросил Житнев. — Он ведь очень симпатичный человек.
— Это был у нас такой разговор, — сообщил Ашот, — просто шютка…
Мурутян очень внимательно наблюдал за Викой и приближающимся бородачом — Никитой Колодяжным; бросится ли, как ему казалось, кто-нибудь навстречу друг другу? Нет, этого не произошло. У Колодяжного — рот до ушей, горячие, чуть не до слез, глаза. У Вики закаменелое лицо, на глазах слезы.
— Ну, здорово были! — первым сказал Никита, когда они с Андреем Гавриловичем подошли к нарте.
— Здорово были, — прошептала Вика и шагнула навстречу Колодяжному.
Тот сгреб ее в охапку, коснулся лица губами, притянул к себе.
— Ну, вот и повстречались. — Андрей Гаврилович шлепнул рукавицу об рукавицу, сделал вид, что занимается собачками. — А теперь давайте держать совет. Пусть собачки пока отдохнут.
Они расселись на снегу. Первым заговорил Житнев.
— Я попрошу вас рассказать, — обратился он к Колодяжному, — о вашей базе, ее месте и возможностях связи с Петропавловском. И еще, что вам известно о поисках нашего самолета?
— Я начну с последнего вопроса. — Колодяжный зажал своей могучей ладонью бороду в кулак и стал рассказывать о том, как они с Храмцевым узнали о пропаже самолета от вертолетчика, садившегося возле их избушки.
— Теперь о возможностях связаться с Петропавловском, — продолжал он. — Батареи питания нашего передатчика окончательно иссякли, и мы не можем вызвать область. Действует только приемник. К тому же по графику Вулканологического института мы сейчас уже должны находиться в пути к Долине гейзеров, а оттуда двигаться к Тихоокеанскому побережью, в район поселка Жупаново. Там нас должен забрать вертолет или самолет «АН-2».
— Сколько километров от вашей избушки до Жупаново?
— По реке около двухсот километров, а через гейзеры, если идти по плато напрямик, немногим больше ста пятидесяти километров.
— Та-ак, — раздумывал вслух Житнев, — нас всего будет на две упряжки семь человек, не считая новорожденных. Трудно будет выходить… А тут еще со дня на день надо ждать резкого потепления, и тогда все поплывет.
— По многолетним данным метеослужбы, это случится через восемь — десять дней, — пояснил Колодяжный.
— Всяко бывает, — вставил реплику Андрей Гаврилович. — Бывало и раньше и позже…
— Что вы предлагаете, Андрей Гаврилович? — спросил Житнев камчадала.
— Поскорее спускаться по реке к Жупаново, — ответил тот, дымя трубкой. — В случае чего, переждем где-нибудь на берегу. К тому ж ребятам наказали, чтобы они сразу отбили телеграмму в Петропавловск или связались по телефону и сообщили о нас.
— Если сумеют добраться, — заметил Ашот.
— Это тоже верно, — согласился Андрей Гаврилович. — Ну а пока, что ж, будем двигаться до вашей избушки. Никита, — обратился он к Колодяжному, — ты возьми Вику на свою нарту и одного из товарищей летчиков. А остальные будут на моей нарте, мы пойдем вслед.
Было около часу дня, когда караван тронулся в путь. Солнце уже не то, чтобы грело, а натуральным образом припекало. Снег шуршал, оседая под утренней ледяной пленкой. Он заметно становился мокрым, поэтому нарты шли тяжело. Собачки, длинно высунув розовые языки, изо всех сил упирались в ременные шлейки. В нартах сидели только женщины. Мужчины бежали рядом, понукая собак и помогая им.
У передней нарты, в которой сидела Вика, бежали Колодяжный и Житнев, вторую, загруженную сильнее первой, подталкивали Андрей Гаврилович и Мурутян.
— Давайте рассчитывать на худшее, — говорил Житнев Колодяжному, — что нам отрежет распутица дорогу на Жупаново. Какие, возможности есть для того, чтобы выжить?
— Сила воли, выдержка и предприимчивость. — Колодяжный говорил решительно, в голосе звучали стальные нотки. — Я в пятнадцать лет начал партизанить на Украине. Там было потруднее да пострашнее. Враг кругом, голод, смерть подстерегает на каждом шагу. А у нас… Бог ты мой! Крышу над головой делай без опаски в любом месте, кругом много дичи, начиная от зайца, куропатки, кедровых орешков, вплоть до дикого оленя и горного барана. Что нам угрожает?!
— Но это слишком абстрактно, — возразил Житнев. — Я имею в виду конкретный план, так сказать, аварийный. У вас есть запасы продовольствия?
— Мешок сухарей, две пачки соли, килограмма два сахара и десятка два брикетов гороха и гречневой каши. Да еще почти полный мешок кедровых шишек. Если не полениться, можно каждый день добывать дичину. Пять мужиков! Это же силища!
— Очень хорошо. Как у вас с боеприпасами? — спросил Житнев.
— У нас два карабина и около ста патронов к ним.
— Это уже здорово! Скоро выйдет из берлоги медведь, а он в это время жирный. Одного медведя нам хватит на месяц, — думал вслух Житнев.
— Не забывайте еще рыбу, — напомнил Колодяжный, — здесь даже сейчас в теплых промоинах можно натаскать гольца. Удочки у нас есть.
Иной разговор шел у задней нарты.
— Ну, как твои детки, здоровы? — спрашивал Андрей Гаврилович Атку.
— Сдоровы, сдоровы, — отвечала та, лежа в нарте и прикрыв переметные сумы с дочками полой оленьей малицы. — Мы всехта так в тундре возили маленький детка.
— А молоко в грудях есть? — без обиняков спрашивал камчадал.
— Есть, есть маленько, — согласно отвечала эвенка. — Олеска кусай, молоко есть. Однако, орески кедровый зую, кормлю детка.
— Это хорошо.
Ашот с каким-то трепетным чувством слушал этот разговор. И думал: до чего же силен человек, когда он приспособлен к той среде, в которой живет и которую хорошо знает. Отними у него опыт и эти знания, и он погибнет. Не-ет, никак нельзя отрываться от природы-матери, кормящей тебя. Иначе ты не жилец в этом мире, окажись вот в таких условиях.
— А ты — грузин? — вдруг спросил Андрей Гаврилович Мурутяна, словно подслушав его мысли.
— Нет, армянин.
— Вот я вижу — кавказский ты человек. А че, паря, занесло сюда? Там же у вас на Кавказе благодатный климат…
— Сам попросился после окончания авиационного училища. Охота посмотреть другие земли.
— Это хорошо. Чем больше увидишь, тем больше узнаешь. Ну и как, не жалеешь?
— А чего жалеть. Это все пригодится в жизни, — объяснил Мурутян.
— Правильно говоришь, — одобрительно заключил Андрей Гаврилович. — Уж наперед, если что случится, ты будешь крепко стоять на ногах.
— К тому и стремлюсь.
Под вечер караван достиг землянки вулканологов, у подножья исполинского белоснежного конуса вулкана. Еще издали Колодяжный разглядел на белизне снега фигуру друга и коллеги Игоря Храмцева.
— Ну, паря, принимай гостей! — Слово «паря» он сегодня подхватил у Андрея Гавриловича. — Нашлись-таки бедолаги. Задача: приютить, обогреть, вдоволь накормить. Заваривай ведро каши!
Тонкий рисунок поэтического благородного лица Храмцева, окаймленного курчавой русой бородкой и жидковатыми усами, синь открытых добрых глаз — все таило хитрую улыбку.
— Успеем ли, — сказал он. — Час назад я принял радиограмму, что готовится вертолет на поиски нас по маршруту: избушка — Долина гейзеров. Мы срочно нужны в Петропавловске. Готовится международный конгресс вулканологов. Нужны срочные отчеты от нас.
— Ха-а! — заорал во все горло Колодяжный. — Все! Проблема выживаемости снимается.
Но в этот день вертолет не прилетел. Он появился лишь около десяти часов утра назавтра со стороны Тихого океана, с того направления, где находится Долина гейзеров. Это был Виктор. До вечера он вывез всех, в том числе и собак с нартами, в Петропавловск-Камчатский.
АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ И ЕГО КНИГИ
Писатель-дальневосточник Александр Матвеевич Грачев оставил нам свои книги, и судьба его книг завидна. Первая повесть — «Тайна Красного озера» выдержала восемь изданий, вторая — «Падение Тисима-ретто» — шесть. Они издавались не только в Советском Союзе, но и в других странах. Его книги сразу же нашли дорогу к сердцу читателя, и успех их не случаен. Они созданы, когда писатель был уже зрелым человеком, прошедшим нелегкий жизненный путь, и ему было о чем рассказать.
Детство и юность писатель провел на Дону. Крытая соломой хата, в которой родился он в июне 1912 года, долго стояла на хуторе Меркуловском, неподалеку от станицы Вешенской. Отец Грачева еще перед началом мировой войны привез из Прибалтики жену-латышку, но сам после гражданской войны умер от тифа.
Нелегко пришлось вдове поднимать на ноги четырех детей мал мала меньше. Кругом разруха и недружелюбие хуторян из ревнителей казачьих «традиций», которое переносилось и на детей-«латышат». Дома бедность и слезы матери. Мальчик рос впечатлительным, остро воспринимал обиды со стороны сверстников и поэтому стремился уединиться где-либо на берегу Дона или уходил в широкую и привольную степь. Уже тогда у него появилась любовь к природе, которой он остался верен до конца и которая всегда присутствует в его произведениях.
В тринадцать лет, закончив четыре класса сельской школы, он отправился в станицу Мешковскую, где находилась школа крестьянской молодежи, продолжать образование. Там он проучился два года, а затем комсомол направил его учиться в станицу Каргинскую. В этой станице жила мать Михаила Шолохова, над которой учащиеся взяли своеобразное «шефство», а Сашу Грачева влекло в этом доме множество книг.
В 1930 году тысячи комсомольцев пошли в Красную Армию и Флот, среди них оказался и комсомолец Саша Грачев — он стал курсантом Новочеркасской кавалерийской школы. Да и куда еще мог пойти сын казака, чья любовь к коням известна издревле? Казалось, дорога в жизни определилась навсегда.
Но судьба распорядилась иначе. По состоянию здоровья курсант Грачев был отчислен из школы — так в 1932 году рухнула его мечта стать командиром Красной Армии.
В том же году раздался призыв комсомола к молодежи построить город юности на глухих берегах Амура. И вот осенью старенький пароход «Колумб» с очередной партией комсомольцев высадил у таежного села Пермского и Александра Грачева, ставшего строителем будущего города.
Подвиги комсомольцев-строителей Комсомольска-на-Амуре стали достоянием истории. О них немало написано, живы еще и многие из тех, кто прорубал первые просеки в тайге, мерзли в шалашах и землянках, боролись с цингой и, наперекор всему, строили город, имея основным орудием труда топор, кирку и лопату. Хорошо об этом написал сам Александр Грачев в романе «Первая просека»: «Первый удар топора… Как будто это просто: ударил — и все. А между тем надо бы памятник поставить тому, кто сделал это первым: нелегок был труд корчевщиков тайги. Так бы и запечатлеть в мраморе или бронзе фигуру паренька в косоворотке или юнг-штурмовке, в лихо сбитой на затылок кепке, и над ней стремительно занесенный вверх топор — творец бесчисленных деревень и крепостей, посадов и городов земли русской. Надо бы! Да только никогда не узнаешь, кто этот паренек, нанесший первый удар там, где легла первая просека и где суждено было вознестись городу».
В 1934 году Саша Грачев стал сотрудником газеты строителей «Молодой ударник». Эта работа много дала будущему писателю. Постоянные поездки к лесорубам, сплавщикам, по строительным объектам позволили быть в курсе всех событий стройки, дали ему, в виде корреспонденций, очерков, зарисовок, просто заметок, значительную часть материала для будущего романа.
Уже в те годы Александр Грачев стремился расширить свои познания земли дальневосточной. Где он только не побывал! И в стойбищах нанайцев, с которыми немало побродил по тайге, изучая ее буйное и своеобразное богатство; на рыбацких тонях, где знакомился с Амуром, который так полюбился ему, у пограничников и во многих других местах.
Эту жажду познания, острый интерес к людям Александр Грачев сохранил до конца. Можно только по-хорошему позавидовать обилию его друзей в самых разных уголках Дальнего Востока, тому, как легко он сходился с самыми различными людьми, умел открывать в них хорошие черты, и тому, как охотно наши земляки шли ему навстречу.
Первые попытки в литературе Александр Грачев начал еще в юности. И, конечно же, как и большинство его сверстников, со стихов. Некоторые из них даже публиковались в газетах. Но, когда всерьез занялся творчеством, стал писать рассказы. Как автор премированных на литературном конкурсе рассказов, составивших сборник «Литературный Комсомольск», он был участником первой дальневосточной конференции писателей в Хабаровске. Там он познакомился со многими писателями: Петром Комаровым, Трофимом Борисовым, Вячеславом Афанасьевым, Николаем Рогалем и многими другими. Как сам он рассказывал, уже в те годы он задумал написать приключенческую повесть для юношества «Тайна Красного озера», собирал для нее материалы, искал прообразы ее героев.
Но его намерению удалось свершиться не скоро. Началась Великая Отечественная война. Как и все советские люди, бывший конник рвался на фронт, но кто-то должен был ковать оружие, добывать уголь, водить паровозы, растить хлеб, ловить рыбу… Многим пришлось заниматься молодому коммунисту. Одно время он был даже директором моторно-рыболовецкой станции на Амуре.
Накалялась обстановка и на Дальнем Востоке. Союзники немецких фашистов, японские милитаристы, наращивали силы Квантунской армии в Маньчжурии и готовились к захвату нашей дальневосточной земли. Каждый день на границе гремели выстрелы провокаторов-самураев.
Начало войны на Дальнем Востоке против милитаристской Японии Александр Грачев встретил в качестве корреспондента газеты «Тихоокеанская звезда» по Камчатке, и, когда началось освобождение Курильских островов, он вместе с матросами-десантниками высаживался на их скалистых берегах. Многое он увидел своими глазами, и это позже легло в основу его повести «Падение Тисима-ретто».
Первой книгой писателя была повесть «Тайна Красного озера», изданная в 1948 году в Хабаровске.
Верный своему принципу хорошо изучить ту область жизни, о которой собирался писать, Александр Грачев, поскольку главными героями повести являются геологи, сам немало исходил с этими охотниками за богатствами недр. Он на себе испытал, с какими подчас неимоверными трудностями приходится встречаться геологам, и знал, что некоторые из них отдали жизнь в суровой борьбе с природой. Ведь тогда геологи были технически вооружены куда слабее, чем в нынешнее время.
Образы главных героев повести — молодых геологов являются творческой удачей писателя. Молодой геолог Виктор Дубенцов — типичный представитель людей этой отважной профессии. Он мужествен и сдержан, обладает недюжинными знаниями, но скромен.
Он находчив, не пасует ни перед какими препятствиями и находит выход из самых сложных ситуаций, типичных для приключенческой повести. Запомнил читатель и образы профессора Черемховского, проводника Пахома Степановича, Виктора, Анюты и других. Стремительно развивающиеся события повести поданы так умело, что читатель не сомневается в их достоверности. Об этом свидетельствуют многочисленные читательские письма.
Уже эта первая повесть свидетельствовала, что писателя привлекают, в первую очередь, мужественные, сильной воли и цельных характеров люди, преданные своей Родине, готовые ради нее на подвиг. Об этом свидетельствует и вторая большая приключенческая повесть «Падение Тисима-ретто».
Пал «Тисима-ретто»! Ныне мирные Курильские острова — неотъемлемая часть нашей Родины.
Таким образом, и во второй приключенческой повести писатель в основу положил реальные события, а герои повести, образы которых, конечно, собирательны, имеют множество прототипов советских людей среди тех, кого знал писатель.
Известно, что во время Великой Отечественной войны японская военщина, стремясь помочь своим союзникам-гитлеровцам, задерживала, а порой и топида наши корабли, пользуясь тем, что контроль над проливами был в их руках. На Дальнем Востоке вышло несколько документальных книг, рассказывающих о судьбе советских кораблей и их команд, ставших жертвами нападений японских милитаристов. Те, кто случайно оставался жив, прошли муки ада в японских застенках, прежде чем им удавалось вернуться на Родину.
Нечто подобное произошло с командой и пассажирами мирного небольшого парохода «Путятин» в июле 1945 года, которые стали героями повести Александра Грачева. В центре событий образ майора Грибанова. Это умный, волевой офицер-разведчик, боец по натуре, всей жизнью подготовленный к борьбе за правое дело. Он также хорошо знает сильные и слабые стороны противника.
Не меньшие симпатии вызывают и соратники Грибанова: боцман Борилка, военврач Надежда Андронникова, капитан Воронков и ученый-географ Стульбицкий. Это люди разных характеров, возрастов, профессий. Но у всех у них есть общее — горячая любовь к социалистической Родине, патриотизм. Это помогает им стойко и мужественно держаться, когда они попадают в руки жестокого и коварного врага. Пройдя тяжелые испытания, они обрели свободу. Только географ Стульбицкий умер в застенке — не выдержало больное сердце.
Сцены битвы за освобождение Курильских островов занимают сравнительно немного места в повести. Но писателю удалось создать запоминающиеся образы советских воинов, показать их героизм, непоколебимую веру в победу. Удачно обрисованы в повести и представители вражеского стана. Несомненно, что повесть «Падение Тисима-ретто», получившая широкое признание читателей, свидетельствовала о дальнейшем росте художественного мастерства писателя. Можно сказать, что «повзрослели» его герои, они мыслят более широкими категориями, их образы глубже разработаны психологически, события показаны шире, разработаны более глубокие проблемы.
Уже выше говорилось о том, что Александр Грачев был буквально влюблен в дальневосточную природу и она, эта природа, несомненно требовала более щедрого отображения на страницах его произведений. Характерна в этом смысле повесть «Сторожка у Буруканских перекатов», вышедшая в Хабаровске в 1962 году. Это подлинная дань любви писателя к дальневосточной природе. Она обильна, необъятна и щедра эта природа. Но богатства, возможности ее не беспредельны. Забота о богатствах природы, хозяйское отношение к ним, рациональное использование ресурсов тайги и рек давно волновали писателя.
Вот эта проблема и разрабатывается писателем в повести «Сторожка у Буруканских перекатов». И тема повести звучит особенно актуально сейчас, спустя тринадцать лет после ее создания, потому что именно сейчас защите природы, окружающей нас среды уделяется столь много внимания.
Три повести, рассказы, множество очерков. Создавая их, писатель ни на минуту не забывал о том главном, что волновало его все годы: запечатлеть в большом художественном полотне трудовой подвиг комсомольцев тридцатых годов, тех, с кем он вместе воздвигал город юности на берегах Амура.
Замысел романа «Первая просека» писатель вынашивал много лет. Я хорошо помню, как он не раз делился своими планами с товарищами, по перу.
Обилие накопленного материала, личное участие во многих событиях, которые легли в основу романа, стремление все это бережно запечатлеть, наложили своеобразный отпечаток на весь роман. Его страницы, посвященные героическому преодолению сопротивления природы, иногда документально-кинематографичны. Да, именно так, как герои романа, молодые энтузиасты валили лес, потом сплавляли его по Амуру, даже в зимнюю стужу. Именно так, ломом, киркой и лопатой они долбили мерзлую землю, с неимоверными трудностями пробивались на машинах к стройке по амурскому льду, страдали от гнуса, болели цингой, жили впроголодь, мерзли в бараках.
Да, все это было так, писатель тут не погрешил против истины. Но все же главное в романе составляет не борьба людей с суровой природой и препятствиями, которые она воздвигала на пути стройки. Главное в романе — люди, первостроители, как их теперь называют. Они были очень различны, эти люди. Большую часть из них привела сюда тяга к романтике, стремление выполнить наказ комсомола, построить в тайге завод и город. Это такие, как Захар Жернаков, Леля Касимова, Иван Каргополов, Михаил Гурылев, Коста Замегиев и другие.
Некоторых на стройку привлекла погоня «за длинным рублем» и т. п. Некоторые бежали на Дальний Восток, где их трудно было бы разыскать и наказать за содеянное прежде. Были, наконец, и просто враги. Всякие были. И всех их настороженно и угрюмо встретили жители Пермского. Наплыв приезжих ломал давно устоявшийся уклад, обычаи деревни. К тому же и возраст самих строителей составлял что-то около двадцати лет. Естественно, что у многих из них не было серьезного жизненного опыта, еще не устоялись характеры. Некоторые просто не представляли, с какими трудностями они могут встретиться на стройке, не предполагали, что быть первостроителем — значит, первым принимать любой удар, что кроме романтики есть еще изнурительный труд, требующий не только физического напряжения, но и моральной стойкости.
Не сразу молодые строители стали монолитным коллективом, сплоченным отрядом рабочего класса. Не все выдержали испытание. Были и малодушные, потерявшие веру в дело, ради которого приехали, были и просто дезертиры, чьи надежды на легкий заработок и беззаботную жизнь не оправдались.
Писателю удалось нарисовать правдивую картину взаимоотношений таких разных людей, очертить запоминающиеся характеры, показать их развитие в довольно острых жизненных ситуациях. Характерен в этом отношении образ центрального героя романа Захара Жернакова. Образ этот, конечно, собирательный, но каждый, кто знал жизненный путь Александра Грачева, видел в образе Захара многое от биографии самого писателя, от пережитого, увиденного им самим.
Молодой станичный комсомолец полон стремления приложить свои силы к делу, важному для всего народа, но у него еще мало жизненного опыта, он еще по-юношески самолюбив, не может отличить подлинную доброту человека большой души от тех, кто прикидывается добреньким. Он еще легко раним. Вот он и не выстоял против коварной провокации врага, решил бежать со стройки и, по логике, оказался в одном ряду с дезертирами.
Захар находит в себе силы вовремя одуматься, мужественно признать свои ошибки перед товарищами. Сцена его самобичевания на коллективной исповеди одна из сильнейших в романе. Он становится передовым строителем и комсомольским вожаком, непримиримым ко всякому злу.
Писатель рисует яркие картины комсомольской стройки. Все именно так и было. Об этом свидетельствуют и многочисленные отклики на роман первостроителей города.
Но роман — не летопись строительства. Заслуга автора в том, что он сумел художественно убедительно показать нам не только как рос город, но и как росли люди, его воздвигавшие. Хорошо показал автор этот процесс на образах братьев Смородовых. Эти крестьянские парни прибыли на стройку по очень прозаической причине: отец их послал, чтобы они заработали денег на новую избу. Без нажима, без резких скачков писатель показывает, как постепенно расширяются кругозор и интересы этих деревенских парней. Как мало-помалу ограниченное, прозаическое их желание просто подзаработать сменяется большой целью, которая движет всем коллективом. Именно поэтому они становятся знатными строителями города, который они воздвигали.
А медвежеватый Брендин? Поначалу он категорически отказывается быть во главе бригады, а потом становится буквально незаменимым ее руководителем. Или взять разбитного Мишку Гурылева, лихого столичного шофера… Этот щеголеватый парень не скрывает, что с его специальностью на стройке делать нечего, но постепенно он тоже стал умелым строителем, его сердце навсегда прикипело к этим амурским просторам, к этому городу.
Творческой удачей писателя является и образ молодого цыгана Пришицына. Ему-то и вовсе были чужды чувства, которые двигали молодыми строителями. Более того, он оказался пособником врагов. Но постоянное общение с молодыми строителями раскрывает ему глаза, он начинает понимать их, сочувствовать им, а потом и разделять их идеи, их цели.
Не погрешил автор против жизненной правды, выведя в романе образы злобных врагов Советского государства. Случалось, что в некоторых статьях критики, разбирая то или иное произведение, посвященное жизни нашей страны в тридцатых годах, акцентировали свое внимание, как и авторы, на нарушениях социалистической законности и забывали о том, что в тот период были и действительные враги. А на Дальнем Востоке их было немало. Японская разведка вербовала из белогвардейцев-эмигрантов сотни ставорских, рогульников и им подобных, вооружала их и засылала к нам в качестве шпионов, диверсантов, убийц.
Недалеко от откровенных врагов ушел и Аниканов — хитрый и ловкий подлец, образ которого убедительно создал писатель. Сколько бед причинили нашему народу вот такие маленькие и большие аникановы, те, кто свои карьеристские цели, эгоизм, бездушие прикрывали ловкой демагогией, звонкими пустыми фразами. Комсомольский билет для такого прощелыги — лишь трамплин для карьеры, устройства личного благополучия.
Интересен образ секретаря парткома Платова. Это настоящий партийный руководитель. В стиле его руководства ясно видны лучшие традиции партии коммунистов, подлинный демократизм, искреннее внимание к людям, сердечная забота о них.
Запомнятся читателю картины дальневосточной природы, которую живописует Александр Грачев в романе. В этих картинах мы видим не только любовь автора к ней, но и руку мастера-художника.
Александр Грачев мечтал о памятнике тому безвестному комсомольцу, который нанес первый удар топором, пролагая первую просеку для строительства города. Он сам создал такой памятник комсомольцам тридцатых годов своим романом «Первая просека». Он вложил в это произведение вдохновение художника слова, много сил. Не случайно в конце романа стоят данные о времени, когда создавался этот роман: «Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. 1934–1964 гг.». Тридцать лет!
После романа «Первая просека» Александр Грачев успел написать две повести: «Лесные шорохи» и «Сквозь мартовские снега». Они, эти повести, разные, но есть в них и объединяющее: дальневосточная природа, любовь к ней.
Повесть «Лесные шорохи» вышла в свет в 1971 году в издательстве «Мысль», а в следующем году переиздана массовым тиражом в Хабаровске.
На мой взгляд, это произведение занимает особое место в творчестве писателя, в нем особенно ярко проявилась его любовь к природе дальневосточной. Не случайно он сам назвал книгу как «повесть о природе».
В повести параллельно, иногда пересекаясь, прослеживаются две сюжетные линии. Одна из них о людях, охотоведах, заботящихся о приумножении богатств тайги. Другая — о животном мире, населяющем эту тайгу. Писатель показывает, что и человек и «жители» лесов смогут существовать одни рядом с другими безо всякого ущерба, если человек пришел в тайгу, как рачительный хозяин, друг всего живого в тайге. Другими словами, писатель в повести разрабатывает волнующую весь наш народ проблему охраны природы.
Умело и тонко писатель прививает читателю, особенно молодому, интерес и любовь к животным, природе вообще и делает это в занимательной форме. Он даже дает своим героям-животным собственные имена, как бы «очеловечивая» их, показывает их заботы, трудности жизни, опасности, которые окружают многих из них.
К такой манере рассказа о животных прибегали и раньше писатели, создававшие произведения о животных. Все мы помним пантеру Багиру, медведя Балу, питона Каа и других героев книги Киплинга «Маугли». Так же писали о животных и другие известные авторы, как Э. Сетон-Томпсон, Чарльз Робертс.
Возможно, ученые-зоологи найдут у Александра Грачева какие-либо неточности. Но это не снизит ценности его «повести о природе». Разве нет таких неточностей в «Маугли» Киплинга? Еще сколько! Но читателю «Лесных шорохов» запомнятся вожак стада диких кабанов Хара, росомаха Уга, барсук Чфы и многие другие. Писатель щедро делится с читателем своими знаниями и любовью к «братьям меньшим».
И, наконец, в приключенческой повести «Сквозь мартовские снега» Александр Грачев вновь обращается к полюбившимся ему героям: людям сильным, отважным, способным выдержать любые испытания. Это вулканологи Никита Колодяжный, Игорь Храмцев, пилоты потерпевшего аварию самолета Арсений Житнев и Ашот Мурутян, молодая медичка Вика и другие.
Много отваги, выдержки, находчивости и стойкости приходится им проявить, чтобы одолеть все препятствия, спасти жизнь себе и другим. И, опять же, все приключения происходят на фоне суровой и прекрасной природы Камчатки, с которой знакомит писатель читателя. Повесть эта несомненно найдет путь к сердцу наших молодых земляков.
Александр Матвеевич Грачев, писатель-коммунист, ушел из жизни, не осуществив всех своих творческих замыслов. А их у него было много. Однако и то, что он успел написать, долго будет жить, волновать признательных читателей.
Василий Ефименко.



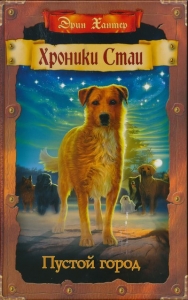


Комментарии к книге «Сквозь мартовские снега. Лесные шорохи», Александр Матвеевич Грачёв
Всего 0 комментариев