Виталий Валентинович Бианки Собрание сочинении в четырех томах Том 4 Очерки, рассказы, статьи, дневники, письма
Рисунки В. Курдова
Оформление В. Зенькович
Конец Земли Путевые впечатления 1930 года
Борису Степановичу Житкову
В. Бианки, В. КурдовГлава первая
22 июля 1930 года, Ленинград, вокзал. — Лицо времени. — Чаёк. — Соседи. — Поезд тасует часы. — Вологда, Буй, станция Свеча. — Котельнич. — Сутки в Вятке. — Чай, чай, пельмени, цирк. — Надгробные надписи. — Снова в поезде. — Билимбай, Хромпик, Хрустальная и Свердловск.
Люди, люди, люди, люди — идут, бегут, снуют. Тревожно вскидывают глаза вверх: там — над суматошной толпой людей — мёртвое, белое, совершенно круглое лицо. Лицо без глаз — циферблат.
Чёрная стрелка прыгнула — стала: показала 12 часов 14 минут пополудни. Стоит, прямая, точная, готовая к новому — последнему — прыжку.
Толпа задвигалась ещё быстрей, судорожно прильнула к вагонам.
Сквозь окна, сквозь тончайшую нитяную занавесь дождя — лица, лица, лица, испуганные торопливые глаза.
Стрелка прыгнула, на лету сглотнула минуту, ткнула вагон.
Лица поплыли, замелькали белые платочки. Ветер колыхнул нитяную занавесь дождя, полыхнул серебром. Открылись пути, пути, пути. Назад поползли железные, обмызганные пространствами вагоны. Плоские крыши блестят.
Водокачка.
— Мамаша, утритесь! — говорит у меня за спиной Валентин. — Теперь можно и за чаёк.
Чаёк! Едем на край света, на океан, к дикарям, — мало ли что может с нами случиться, может, Ленинград в последний раз видим, а он — чаёк!
Влезаю наверх. Постели стелим на средних полках. На верхних — для багажа — располагаемся пить чай.
Публика в вагоне всё простая, непритязательная. Только под нами на нижней полке всё вертится, устраивается лысенький гражданин с саквояжиком, с портпледом, с письменным прибором.
— Чистоплюйчик, — определяет Валентин.
Всё ему, чистенькому, нехорошо, всё шипит, всем замечания делает: и почему мусор в окно выбросили, а за дверями ящик имеется специальный, и зачем детей столько в вагоне, и двери закройте, за вами швейцары не приставлены!
И всё к нам за сочувствием тянется, голову просовывает.
Пришлось случайно уронить ему на лысину небольшую буханку хлеба. Больше не лез.
* * *
Званка.
Проводник прошёл:
— Закройте окна.
Нашего Ленинграда электромамка — Волховстрой.
В первый раз его увидел. Хорош. И величав, и лёгок, и строг. Река, запруженная плотиной, широка и гладка, — так и тянет бежать на коньках по льду.
Теперь — спать. Ночью ведь не до того было: укладывались.
Самое ценное — ружья — под себя. Остальные вещи — авось ничего: не так важно.
* * *
Просыпаюсь.
На часах — два.
Солнца нет, темноты нет, — ночи нет. Поезд летит, тасует вёрсты, тасует часы. Едем ведь прямо навстречу времени: прямо на восток.
Впрочем, у нас своё, условное, железнодорожное время.
Поезд — минутная стрелка. Станции — цифры на циферблате.
Из Вологды посылаем телеграммы в Вятку, в Свердловск: едем, ждите.
И опять засыпаем.
* * *
Город Буй.
Неподвижно стоят длинные товарные составы. На крышах красных теплушек хозяйственно расселись чёрные галки. Чумазые, с белыми глазами, они смахивают на кочегаров.
Валентин — неумытый, заспанный — хватает карандаши — и к окну.
Поезд трогается.
Валентин на ходу делает быстрые наброски карандашом. Это у нас называется: фотомомент.
Я заношу в дневник разные несущественные мелочи.
Вагон — коммунальная квартира на колёсах. Пассажиры ругаются в очередях к уборным, перезнакомились все, чаи гоняют.
Только мы с Валентином не слезаем со своих полок. Нам ничего не надо. Мы мечтаем.
Шутка ли: решили забраться за Полярный круг, туда, где Земля кончается, начинается её омывающий океан, начинается холод межпланетных пространств.
И этот Конец Земли представляется нам как в детстве: мы свесили головы с края земного шара, всматриваемся вниз, а там ничего.
Страшно. И манит.
За окнами мелькают знакомые места: не раз ездили по Северной дороге. Свой, ближний, домашний Север: не грозный, давно освоенный человеком, совсем ручной.
За крутоярым Галичем дождичек начинается — сенокосный, ласковый. Всё краше кругом места. Мелькнул в лесу дикий голубь — вяхирь. Над полями рыженькие соколики-пустельги висят, трепещут, нисколько не боятся дождя. С луга брызнул выводок серых куропаток, пронёсся шагов с сотню и упал в траву, — как горсть горошин рассыпали. И опять солнце — солнышко-колоколнышко. Места дичные начались. Не то, что у нас под Ленинградом: вороны да грачи, и даже носа не повернут к поезду — привыкли.
— Я бы тут пострелял, — говорю Валентину и выдумываю блестящие выстрелы по воображаемой дичи.
Вот поди ж ты: врёт как настоящий охотник, а сам ещё и десятка выстрелов из дробовика не сделал.
* * *
Ночь. Небо в тучах. Дождь.
Станция Свеча, а темно.
Неясные люди с узелками поднимаются на подножки вагонов, нерешительно спрашивают:
— Яиц нада? Табаку нит? Папирос нит?
За осминку махорки — десяток яиц.
Табаком пассажиры не богаты.
* * *
Поезд — минутная стрелка. Станции — цифры на циферблате.
* * *
Котельнич.
В вагон вваливается бородатый дядя в лаптях, за плечами — целый дом в мешке. Лезет на верхнюю полку.
Через минуту сверху начинают сыпаться разные вещи: деревянная ложка, кусок ржаного хлеба, лукошко.
Внизу поднимается всклоченная голова, шипит грозно:
— Деревеншшина. Тебе дома на печке сидеть, не на машине ездить. Стащу вот за ноги и выкину в окошко.
Дядя наверху кротко сопит — и роняет на всклоченную голову лапоть.
— Ат, чертова борода! Враз видать, что с Котельнича. «В Котельниче три мельничи: ветрянича, водянича, паровича».
— Ан и врёшь! — неожиданно загудело сверху. — В Котельниче четыре мельничи: ветрянича, водянича, паровича и электрича — и все вертятча!
— Ишь ты? — удивилась всклоченная голова. — Электрича, говоришь?..
И перестала ругаться.
* * *
В три часа — ночи, утра ли? — Вятка.
Врывается в вагон наш друг — художник. Штаны — воздушный шар, глаза как у сыча.
Бурные объятья.
Хватает наши вещи, выкидывает из вагона. Попробуй с ним поспорь!
Через весь город на сонном извозчике — трюх-трюх-трюх-трюх. Смешно после поезда.
В Вятке спешить некуда.
Светло, но спит город. Деревянные домишки прикрылись тополями. Собаки дремлют. Покой.
В одном только доме — большое кирпичное здание с широкими окнами — огни, стук, работа.
— Фабрика?
— Не. Мастерская учебных пособий.
А дальше — дряхлая деревянная старушка стоит в тенистом саду — театр.
Возница жалуется:
— Сколько раз принимался — никак сгореть не может. Обещают каменный.
Наконец и обиталище друга: на окраине покойный низенький домик, весь жёлтый. Собственной искусной рукой художника наведён простенький русский орнамент.
Рассказывает друг: красил ночами, чтоб не глазели соседи. Одолеют советами, делать-то ведь нечего им.
Чистый дворик с курами и кошкой, крошечный садик, густой, как дедова борода.
Флигелёк, на нём палка, на палке — бодрый петушок из жести вертится туда и сюда.
— «Сама садик я садила, сама буду поливать!» — подмигивает Валентин.
Потом становится серьёзным:
— Подзакусить бы? Целую ведь ночь не ели.
Вот желудок! Не желудок — трест точной механики.
Пьём чай со всякими домашними благами: тут и коржики, и пирожки, и грибки в сметане, и румяная клубничка.
Отправляемся к другому приятелю, тоже художнику.
Дом с белыми колоннами, дремучий сад. В деревянном флигельке за крепкими ставнями спит наш приятель. На двери — здоровенный замок.
Долго стучим в ставни. Наконец вылезает в окно.
Лобзания. И снова — никак не откажешься — пьём чай с многочисленными благами.
Назад возвращаемся, — на столе уже дымятся тяжёлые пельмени.
— Извините уж: из баранины. Говядины не выдавали.
А к пельменям уксус чёрный и уксус белый — на вкус.
Мы едим весь день. Валентин — в прекрасном настроении. Я всё высчитываю про себя, на сколько лет теперь мы от Ленинграда? Но расчёт так и остаётся неоконченным: чудовищная лень охватывает мозг, и голову клонит сон.
Как очутились мы вечером в цирке? Пахнет мокрыми опилками, лошадьми, брезентом. Женщина-вентролог — чревовещательница — в гусарском костюме разговаривает с куклой-беспризорником.
Испытываю мучительное чувство: всё хочется подтýжить свой ремень, обдёрнуть курточку, а их нет, и за два дня в поезде отросла густая колкая борода.
Ночью опять трюх-трюх, трюх-трюх на вокзал. Не спеша благоухают цветы в садах. И сквозь дрёму вспоминается — рассказывали за чаем в доме с белыми колоннами — вспоминается строчка за строчкой надгробная надпись на одном из вятских кладбищ:
Здесь Яков Банников лежит, Не вздумал дольше он пожить, До тридцати шести лет дожил И умер, здесь себя положил. Прохожий, сделай праху честь. В тебе коль здравый разум есть, Ты будешь тем же награждён, Коль смертью будешь побеждён.И уже утром, на рассвете, когда сели наконец в поезд, я ещё раз взглянул на мирно дремлющую Вятку и простился с ней.
Проснулись, — а поезд отходит уж от станции Пермь. Опять поля, деревни.
На следующее утро — третьи сутки от Ленинграда, если не считать потраченного в Вятке дня, — Урал.
Пошли холмы, холмы, холмы. Частый чёткий ельник. Сухопарые сосны. Станции со странными названьями: Билимбай, Хромпик, Хрустальная. Запахло заводами.
Свердловск.
Центр и мозг всей огромной — по эту и по ту сторону Каменного Пояса — Уральской области.
Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Б. ПастернакГлава вторая
Екатеринбург. — Свердловск. — Город темпов. — Комитет Севера. — Луна в Свердловске вятская. — Валентин грозится взорвать Ленинград. — Фотографы. — Сухой закон. — Разговор в почтамте. — Опять в вагоне. — Тюмень.
В городе — жилкризис. Все гостиницы до отказа набиты, а народ всё прибывает и прибывает. Спешно строится новая гостиница в восемь этажей, уступами. Но уже известно: и её не хватит.
Хорошо — Валентин тут свой. Приткнулись.
Побежали по делам.
Я был когда-то в Екатеринбурге. Свердловск — это не только другое название: другой город.
Екатеринбург был чистенький, с самодовольным брюшком. Чистенькие, самодовольные были особнячки: дескать, всяк за себя, всяк для себя. Магнаты жили — тузы уральской горной промышленности.
Я глядел на знакомые улицы — и не узнавал их. Было: камень и дерево. Стало: сталь и стекло.
Целые кварталы снесены. На их месте встали громады — коммунальные дома.
Новые здания растут на глазах, этаж наслаивается на этаж.
Стенки непривычно тонки.
— Прочны ли они?
— Достаточно прочны. Через две-три пятилетки эти дома устареют. Мы снесём их и построим новые.
Город темпов. Он перестраивается на ходу. Кажется, все камни его в движении.
Вагончики новорождённого трамвая едва появились на свет, а бегают резвей ленинградских. И останавливаются реже.
Тут не зевай: разрежет.
В день нашего отъезда из Ленинграда издательство обещало телеграфом перевести сюда деньги Валентину. Мы справились в почтамте. Перевода не оказалось.
Мы направились в Комитет Севера при облисполкоме.
Здание облисполкома всё в лесах: перестраивается. Широкие деревянные лестницы в этажи по лесам, до крыши. Извёстка, кирпич, пыль. Вверх, вниз непрерывно движутся люди с носилками.
Сверху летит извёстка. Мы выждали момент — и нырнули в подъезд.
Вошли. Чисто, бело, стол справок, во всю стену указатель номеров комнат. Внутри без перебоя идёт работа. Из всех комнат — быстрый, сухой стукоток пишущих машинок, как треск бесчисленных пропеллеров. Бухают двери, как бомбы. Носятся по лестницам люди.
Мы отыскали Комитет Севера. Обширная комната. Мебели — стол и три стула. Стол закрыла широченная карта, конец свесился на пол. По однообразно синей пустыне — белые, мёртвые прожилки рек.
Худощавый человек склонился над картой. Прядь русых волос упала на лоб, прикрыла острые глаза. Карандаш прыгает по синему полю, наносит быстрые чёрные кружочки.
— Василий Николаевич?..
— Я. Из Ленинграда? Получил ваше письмо. Побывайте, побывайте на наших северах, масса интересного. Маршрут какой наметили?
— Об этом хотим с вами посоветоваться.
Через минуту мы ползали локтями по обширной синеве, сели на большой пароход, очутились у самоедов[1], поохотились в тундре, забрались в урман к остякам[2], к вогулам[3]. Так пленительно звучали незнакомые названья: Ванзеват, Полноват, Сарынь-пауль, Мýжи, Пуйко.
— Что же я! — вдруг спохватился Василий Николаевич. — Надо же вам бумажки.
Он ринулся в соседнюю комнату, и мы остались одни над картой, теперь живой для нас. По синему полю ее проносились на оленях самоеды, крались песцы, на всех парусах шли рыбницы, мелькали пристальные лица туземцев.
Комната быстро наполнялась людьми. Они не тратили времени на взаимные приветствия, прямо приступали к деловым спорам, спорили стремительно, горячо.
— Новый Великий Северный путь пересечёт Малую Сосьву, и тогда… — тыкал пальцем в карту старик в измятой фуражке, когда-то, наверно, форменной.
— К постройке этого пути приступят только ещё во второй пятилетке, — перебивал его безусый парень с кимовским значком на обтрёпанном пиджачишке.
— Прошлогодний колоссальный выход песца…
— А неуспех путины на салмах Обской губы?.. — одовременно говорили два кооператора в одинаковых картузах.
Невозможно было постороннему человеку разобраться во всех перекрёстных спорах сразу. Я стал прислушиваться к полному человеку в куртке из нерпы. Он что-то обстоятельно объяснял спецу иностранного вида, солидному и недоверчивому.
— Я же вам говорю, — продолжал человек в нерпичьей куртке, — что ближайшая задача Советской власти — это именно охват тундры медицинскими и культурно-просветительными учреждениями. Для этого должны быть использованы все пункты торговой работы, туземные советы и передвижные отряды.
— Самоеды имеют уже свой абеце? — осведомился немец.
— Азбука составляется. Просветительное и хозяйственное воздействие Советской власти приведёт к освобождению бедноты от кулацкой зависимости, к пробуждению классового сознания бедноты и сплочению её вокруг туземных советов. Объединение распылённых бедняцких и середняцких хозяйств в крупные коллективы лучше защитит их от невзгод природы, вооружит в борьбе со стихиями.
— Зо, — подтвердил немец. — Конешна.
— Вторая задача — создание крупного государственного хозяйства на базе туземных богатств, и в первую очередь — на оленеводстве. Во втором пятилетнем плане предусмотрено три совхоза с общим стадом в двести тысяч голов. Один уже создаётся в тундре на реке Надыме.
— Колоссаль! — удивился немец.
— Одновременно с этим в Обдорске открывается крупный замшевый завод с производительностью в шестьдесят тысяч штук хорошей, дорогостоящей замши. Это даст возможность оленеводам получать более высокую цену за своё сырьё, больше покупать продовольствия и меньше убивать оленей себе в пищу.
Третья задача — разработка нетронутых ещё богатств Севера. Здесь в первую голову мы обратили внимание на зверобойные промыслы в Карском море. Дело приходится ставить сразу на должную высоту. Сейчас пошла уже зверобойная экспедиция к самому выходу Обской губы в Карское море. На основании разнообразных исследований здесь можно ожидать больших запасов морского зверя. Они могут дать значительные доходы местному бедняцко-середняцкому населению, а через него — и государству.
Ряд других мероприятий будет способствовать хозяйственному развитию тундры, развитию классового сознания бедноты и социалистической перестройки её хозяйства. Сюда относится развитие пушного звероводства, изучение борьбы с болезнями оленей, изменение неправильного ведения оленеводства туземцами и многое другое.
— Я ошень, ошень интересант, — оживился вдруг немец. — Я что-нибудь читаль о ваш Север в газете, но не всегда понималь.
— Всё это изложено в моей книжке — недавно вышла — «В тундрах Ямала». Вы можете…
В эту минуту подошёл Василий Николаевич с листками в руках.
— Вот, — сказал он, — на всякий случай в двух экземплярах. Задержал немножко. Машинистки нет, самому пришлось… Вечером председатель подпишет, я вам закину. Вы где остановились?
Василий Николаевич продолжал:
— Так. Смотрите не опоздайте! Из Тюмени пароход выходит послезавтра. А теперь я вас познакомлю с представителями интегральной кооперации, Госторга, Рыбтреста. Они вам тоже выдадут бумажки. Могут вам на местах пригодиться. Как раз у нас сегодня совместное заседание.
Представители дали записочки, направили нас в свои учреждения.
Весь день мы бегали по учреждениям, из учреждений — на склады. Нам без задержки выдали сухие овощи, папиросы, сахар, даже банку моссельпромовского какао.
Свердловск не задерживал ни на минуту.
— Поезжайте. Смотрите. Расскажите всем, что увидите. Обо всех недостатках нам сообщите.
К концу служебного дня мы кончили все наши дела и вернулись домой.
Василий Николаевич был уже и занёс бумажки.
Теперь задерживал только Ленинград: перевода ещё не было.
Валентин ругался.
* * *
Вечером бродил по городу.
Необычайно быстро для гуляющей публики движутся по тротуарам густые толпы рабочих, работниц, служащих, шумной смехотливой молодежи. Трещат клубы, кино, театр, сады. Горят высокие электрические фонари. Голосом простуженного бронтозавра ревёт радио.
Столица. Столица громадной, богатой, живой страны.
Чёткими силуэтами, математически точные, неизбежные стоят дома. Между ними белые стволы берёз кажутся привидениями из детской сказки, кажутся выбеленными извёсткой. Вдали над прудом — реки в городе нет — на холмах тёмный зубчатый лес. Я видел, как медленно поднялась из него наивная вятская луна. Она казалась ненужным забытым привеском.
Если случится: однажды вечером луна не решится вылезти на небо, — свердловчане не вспомнят о ней.
* * *
Ночью в комнате было открыто окно. Сон прерывали настойчивые гудки.
На железной дороге, на заводах работа не стоит никогда.
* * *
Второй день сидим в Свердловске.
Если до вечера деньги из Ленинграда не придут, на пароход из Тюмени мы опоздали.
С утра отправили в издательство телеграмму, чтобы выслали телеграммой-молнией.
* * *
Не могу понять, чего не хватает на свердловских улицах? А чего-то очень привычного для глаз…
* * *
Вчера деньги так и не пришли. Валентин грозится взорвать Ленинград.
Сегодня раздобыл где-то половик и шьёт себе из него штаны. Для тайги, говорит, лучше нет.
Следующий пароход из Тюмени — только через четыре — пять дней.
* * *
Четвёртый день в Свердловске. Послали яростную телеграмму в Ленинград.
Вечером Валентин примерял новые штаны. Они серо-чёрно-красного цвета и с бахромой. Каждая штанина — что чурбан. Валентин похож в них на помесь пугала с ковбоем.
Если послезавтра не выедем, наверняка пропустим ещё пароход. Тогда придётся отказаться от мысли попасть на Конец Земли.
* * *
Попалось в руки «Полное географическое описание нашего отечества» — «настольная и дорожная книга для русских людей». Выписывали из неё сведения о тех местах, что придётся нам проезжать, к себе в записную книжку.
* * *
Пятый день. Семь раз бегали в почтамт.
Я наконец понял, чего привычного для глаз недостает свердловским улицам: на них нет пьяных.
Тут сухой закон: все пивнушки закрыты.
Решили завтра выезжать без денег. Потом напишем книжку: «На конец света с гривенником в кармане».
В справочном на почте новая служащая.
— Из Ленинграда? Есть.
Валентин вздрогнул и переменился в лице.
Вдруг новая служащая тоже переменилась в лице.
— Ах, что я наделала! Я не должна была говорить вам. Ленинград перепутал шифр. Деньги не могут быть выданы, пока не придёт справка. Это тайна.
Тайна не остановила нас. Мы разыскали самого главного заведующего и пробились к нему в кабинет. Мы предъявили наши документы, объяснили положение и просили немедленно выдать деньги.
Самый главный заведующий отказал нам: ответственность, тайна.
Валентин предложил:
— Посмотрите нам внимательно в глаза.
Самый главный заведующий посмотрел, улыбнулся — и выдал деньги под расписку.
* * *
Вечером мы уселись в вагон на Тюмень.
Только перевалили Урал, в вагоне повисло сочное сибирское «язви».
Утром степь началась и болотца в ней, и рощицы — колки. Увалень-парень, сибиряк — сосед наш — на каждой станции выскакивает и что-нибудь покупает.
На одной купил круглый, здоровенный огурец.
— Яблок нашенский!
На другой — длинную бутылку фруктовой воды.
Высосал всю, рот ладошкой утёр.
— Ну, как?
Сплюнул только.
— Дрянь! совсем слабая.
На третьей подошел к газетчику.
— Журналы есть?
— Есть: «Борьба миров», «Вокруг света»…
— Ерунда! Фантастика!
Взял «Безбожник» и больше уже не выскакивал на остановках: читал взасос, вслух, по складам.
* * *
Ночью — Тюмень.
Получили багаж — и на ломовике на пристань.
На пристани узнали, что пароход пойдёт только завтра в ночь. Ещё сутки пропадают зря!
Устроились в гостинице.
По Туре и по Тоболу живут Татара,
ездят в лодках и на конях
ЛетописьГлава третья
Тюмень. — Кулички, вокзал и пристань. — Река Тура. — Долгая остановка. — Бойся! — Музыкальное состязание. — Тобол. — Тобольск. — Управление переехало в горы. — Счастливый музей. — Беседа с Госпаром. — Плахи. — Парикмахеры и охотники-любители. — На борту парохода «Москва».
«Тюмень — первый сибирский город… Основан в 1586 году… расположен на правом берегу реки Туры… разбросан на неровной местности.
В центре есть две-три прямые улицы».
Я поднял глаза от записной книжки.
Да, улицы здешние нельзя назвать прямыми…
Окно нашего номера выходит на перекрёсток.
Одна улица скачком бежит вниз, в овраг. Другая, как пьяная, выписывает какие-то дикие вавилоны и скатывается в большую лужу. По берегу лужи бегают-посвистывают кулички. Напротив — деревянный дом с мезонином. Ничем не возмущённая пыль на немощёной дороге. Парочка на лавочке у ворот. Сибирский разговор — кедровые орешки.
Тихонько тренькает балалайка.
День, а тянет подремать. Вдруг громкая с присвистом песня:
Эй, комвзвод, Даёшь пулемёт, Даёшь батарею, Чтоб было веселее!Стучат окна, высовываются встревоженные лица. Испуганно кидается пыль из-под ног крепко шагающих призывников в штатском. Сзади — шумная ватага ребятишек, бузливой молодёжи.
И кажется: в город вошли красные…
Громкая песня стряхнула дрёму. Опять хватаю записную книжку.
«…Тюмень… самый оживлённый торговый и промышленный пункт во всём Тобольском округе. …Пункт железного пути и начало великого водного пути, прорезывающего всю Западную Сибирь».
Разом вспомнились свистки паровозов, грохот пролёток, какие-то бородачи с мешками, какие-то экспедиции с рюкзаками за спиной. Что твой Свердловск! Это — вокзал Тюмени.
И пристань: весь в электричестве, белый, как салфетка, пароход. На том берегу Туры — огни, гремит железо, мелькают тени — даром что ночь. Там — судостроительные верфи, механические, машиностроительные заводы, железная жизнь. Свердловск!
А посерёдке, в центре города — тихий дом с мезонином, болотные кулички.
На пароход забрались с вечера.
Машина-то, она прытко идёт, а сидеть неудобно.
— Обожди, ветер будет, как начнёт пароход швыркать, как начнёт! Будет тебе удобство.
Сквозь сон слышу разговор за окном. Мерно хлопают колёса.
Поднимаю жалюзи, — солнце бьёт в глаза, блеск воды.
Весь день торчим на палубе. Валентин забросил карандаши, пишет акварель за акварелью. Часы текут плавно, неспешно: речное, пароходное время.
Отрадна, тиха гладь неширокой Туры. Отлогие берега — песок да глина, тальник, частый осинник, толстоголовые вётлы.
Долго идёт — и ни одной деревни, ни одного человека. Стайки уток взлетают с заводинок, кулички семенят по грязи. Белые крачки — маленькие, востренькие чайки — трепыхаются в воздухе и вдруг стремглав вонзаются в воду.
Их не пугает неповоротливый наш пароход.
Вот наконец первые лодки. Необычайной формы лодки: с очень высоким носом, с высокой кормой, узкие. Напоминают пироги индейцев.
В них люди с раскосыми глазами, без усов и бороды.
Лодки легко скользят по глади и скоро исчезают в зелени берегов.
Видны только головы да плечи людей. Они медленно летят, летят над травой, скрываются за кустами: лодки ушли протоками.
Берег поднимается и опускается, и вдали на нём видны крыши, над ними минарет, лёгкий полумесяц блестит на солнце.
И кажется: мы — в древнем Сибирском царстве.
«Жорес» — пароход наш — даёт гудок. Колёса хлопают реже. Мы медленно подходим к берегу.
Никакого признака пристани: на сибирских реках пароход обходится и так. Мы даже не заворачиваем, как полагается, носом к течению: «Жорес» останавливается, как шёл, и отдаёт якорь с кормы.
Над невысоким обрывом возникают лошадиные морды. Над ними — головы в бараньих шапках, лица с азиатскими глазами.
С парохода в синих, красных, коричневых, дикого цвета рубахах неторопливо сходят на берег широкоплечие парни. У каждого на плече — ходуля.
Скрываются за обрывом.
Через десять минут они показываются снова. Идут гуськом, попарно. Из двух ходуль у каждой пары носилки. На них — дрова.
Грузчики сбрасывают дрова в машинное и лениво шагают опять на обрыв.
Здесь пароходы не перешли ещё на уголь.
В сутки «Жорес» пожирает девяносто кубометров дров. А сколько за лето?
Широкую просеку в тайге прокладывает за лето каждый сибирский пароход.
Проходит час. Всадники легли грудью на шею лошадям, калякают с пароходскими. На обрыве пестрой гирляндой висят ребятишки.
Татарки устроили на берегу настоящий базар. Продают петухов, масло, яйца, ягоды. Берут нарасхват: на пароходе нет буфета.
«Жорес» даёт долгий гудок и один короткий.
Никто не торопится.
Молодёжь в трусиках лихо скачет с обрыва в воду, ныряет, плавает.
Пароход стоит ещё час. Второй гудок.
Пассажиры с берега подтягиваются на борт. Веселей пошли грузчики:
— Бойся!
Шарахает от них народ, даёт дорогу.
Молодайке в овчинном тулупе понадобилось вот: проскочила вперёд по сходням.
Высокий грузчик в рубахе дикого цвета двинул, будто невзначай, плечом.
— Бойся!
Куда там — бойся! Молодайка давно уж брык с мостков и плавает по грудь в воде. Тулуп раздулся пузырём, не дает потонуть. Хохот.
Достали баграми.
Третий гудок. Пошли.
* * *
Через полчаса молодайка — во всём сухом на баке у развешанного полушубка.
Высокий в дикой рубахе тут же вьётся.
— Гражданочка, смени гнев на милость, выстирай рубашечку. Самим недосуг.
— В воду пхать досуг был?
— По случайности…
Не отстаёт парень. Молодайка ему:
— Да поди привяжи к колесу, к плице-то. До другой остановки так выполощет — и стирать не надо.
— Вот спасибочко, надоумила! На первой же привяжу к плице.
Скоро «Жорес» опять подходит к берегу. Стоит недолго.
Вечереет. Речная мягкая тишина, простор, праздность располагают к мечтам.
— Уток тут, видать, будет здорово, — говорит Валентин. — Высадимся — пощёлкаем. Нашим ленинградским за всю жизнь столько не набить.
— Ещё бы, — соглашаюсь я. — И потом что-нибудь мне непременно попадётся очень интересное. Может быть, какой-нибудь совсем новый вид птиц.
— Для пользы науки, — бормочет Валентин.
* * *
Речная мягкая тишина, простор располагают к музыке.
На юте бренчат гусли. Седые бородачи уставились тяжёлыми глазами в воду, глядят, как убегает из-под кормы пена — назад, в прошлое. Тянут вполголоса:
Горносталь к сосне подбегает, Под корень сосну подъедает…Запевают в салоне первого класса.
Запевают на баке.
— «О баядера, я пленен красотой!» — поют в салоне. На юте тянет бородатый хор:
Ты-ы скажи-ка мне, това-арищ, Бе-ссшабашна голо-голова…— «Эх, эх, да герой!» — кроют с бака молодые голоса. На юте дотягивают:
И-и пошёл, пошёл бродя-а-га, Бе-еспашпортный чело-человек…А уж на баке новую грянули под гармошку:
Уральская стрелковая Дивизия, вперёд!И только в салоне под аккомпанемент вконец раздрызганного пианино все тот же сладенький стон о красоте танцовщицы-баядерки.
Громкий рёв «Жореса» прерывает музыкальные упражнения пассажиров.
* * *
После остановки у высокого грузчика с молодайкой происходит короткий разговор:
— Ладно выстирало?
— Тьфу! На вот, получай в подарок.
И он швыряет на палубу два жалких лоскутка дикого цвета.
— Говорила тебе: стирать не придётся…
* * *
Проснулись на следующее утро, — «Жорес» топает по Тоболу. Те же берега, но река пошире. На остановках пароход заворачивает уже носом к течению.
Луга по берегам. На высоких куполах стогов сидят орлы. Надменно поглядывают по сторонам.
У нашего окна — кучка оживлённых парней в пиджаках. Быстрый, непонятный мне татарский разговор. Но выхлёстывают из него знакомые слова:
— … развитие политическое йок…
— … заём индустриализации бар…
— … партейная ячейка бар…
В половине второго вдали показался высокий берег, белый кремль на нём, белая высокая колокольня.
В два подошли к Тобольску.
* * *
В «Настольной и дорожной книге» сказано:
«Тобольск расположен на двух террасах правого, нагорного берега р. Иртыша, близ впадения в него р. Тобола.
…Вблизи город не представляет ничего привлекательного, особенно в своей подгорной части: здесь сосредоточивается беднейшая часть населения… Все губернские учреждения находятся на горе, куда ведут два подъёма: один — для экипажей, другой — для пешеходов, с лестницей до 906 ступеней.
…В 1708 году Тобольск назначен был губернским городом Сибирской губернии, в которую входила вся Сибирь… С перенесением управления Западной Сибири в Омск было изменено направление главного почтового Сибирского тракта, от которого Тобольск остался в стороне. Это весьма чувствительно отразилось на экономическом состоянии города».
Но давно заглохший было захолустный город встретил нас необычайным оживлением.
Толпа на пристани — ошеломляющая смесь всех времён, племён и профессий. В костюме с иголочки джентльменистые моряки Карской экспедиции и рядом — в долгополом кафтане — татарский мулла. Густобородый казак, потомок Ермака, и москвич в черепаховых очках. Самоед в малице и кооператор-еврей в пиджаке. Горячеглазый монгол и чудь белоглазая.
Тобольск — центр округа Уральской области. Центр округа, богатого лесом, пушниной, дичью, рыбой. Центр края, в глухих углах которого туземцы ещё только начинают просыпаться от тысячелетнего сна, ещё приносят жертвы деревянным идолам, мажут им губы кровью растерзанных в их честь животных. Центр заново после революции открытой страны.
И летом по рекам, снизу и сверху, на великолепных американских пароходах, зимой на санях по терпкому снегу, из глубины дикой земли Югорской и из Свердловска, из Москвы и с полуночного Конца Земли съезжаются сюда люди всевозможных племён, обычаев и специальностей — исследовать, докладывать, налаживать, просить помощи.
Движение, шум, разговор на всех языках.
По вечерам в городском саду верещит кинематограф, и шумно радуются жизни бритые парни в кепках. А под горой сидят на лавочках у ворот седенькие потомки Ермака и потомки Кучума. И тихо тут, как в музее.
Впрочем, в музее здешнем бывает тихо только по ночам. Богатейший краевой музей без отдыха принимает посетителей.
Я увлёкся разглядыванием интереснейших коллекций птичьих шкурок, доступных обозрению и понятных только специалистам.
От выставочной части, которую осмотрел я наспех, у меня осталось странное впечатление, наверно, перевитое прежними впечатлениями от ленинградских и свердловского музеев.
За стёклами витрин в шалаше, вокруг красной грудки из материи сделанных углей, сидят неподвижные, неживые люди в шкурах.
Они точно выхвачены из тьмы времён, из времён человеческой предыстории, и застыли, как мумии. Нелепая мысль приходит в голову: если убрать, потушить эти матерчатые уголья, невсамделишный этот огонь, — исчезнут и люди, вызванные из небытия. И конечно, сейчас же спохватываешься: группа-то ведь эта не археологическая, а краеведческая, здесь куклами представлены одновременно с нами живущие люди. Надпись на витрине подтверждает: «Самоедский чум».
Групп в Тобольском музее немного, но всюду развешаны прекрасные фотографии из быта остяков, вогулов, самоедов, стоят плоские витрины-столы, висят картонные щиты с луками, стрелами, ножами и всевозможными предметами обихода туземцев.
Музей помещается на горе. Из его окон как на ладони Иртыш и мыс Подчувашный, где бился когда-то Ермак с Кучумом.
— А там вон, где деревня, — объясняет музейный работник школьникам, — прежде впадал в Иртыш Тобол. В тысяча семьсот шестнадцатом году русло Тобола было искусственно отведено на три версты выше города, чтобы река не подмывала городской берег. Работали пленные шведы.
В счастливом этом музее есть что показать не только за стеклом шкафов, но и за стёклами окон.
* * *
Первые два дня мы с Валентином чувствовали себя в Тобольске прекрасно. В городе говорили, что вот-вот снизу должны прийти два больших парохода — «Москва» и «Гусихин». Здесь они разгрузятся и сейчас же опять пойдут на низ.
На третий день дорожный зуд охватил нас, мы побежали на пристань за справками.
На пристани было безлюдно. На дверях с надписью «Справочное» висел замок.
После долгих поисков мы нашли дяденьку типа «человек произошел от обезьяны», как мы потом узнали — сторож. Он сидел на борту пристани и торжественно плевал в воду.
— Скажите, — обратились мы к нему, — не знаете, есть тут кто-нибудь из служащих госпароходства?
Он медленно поднял на нас свои пещерные глаза и заявил хладнокровно:
— Я и есть Госпар.
Потом вытащил из кармана большие, прежде называвшиеся «кондукторскими» часы и приложил их к уху. Часы не тикали. «Госпар» равнодушно отправил их обратно в карман.
Дальше между нами произошёл такой разговор:
— Скоро придёт «Москва» снизу?
— А кто её знат.
— А «Гусихин»?
— А кто его знат.
— Нет ещё сведений с ближайшей пристани о их прибытии?
— Не знам.
— Скажите, а пока не пришёл пароход, нельзя на него билеты забронировать?
— Бронь? Не знам.
— Чёрт побери! Правила-то у вас есть или нет?
— Правила? Не знам.
— Гм… Ну, так скажите хоть, сколько суток отсюда идёт пароход до Обдорска?
— А кто его знат? Какой пароход.
— «Москва», скажем?
— Не знам.
— А «Гусихин»?
— А кто его знат? Какой груз.
— С полным грузом?
— А кто его знат? Кака погода.
— Тысяча чертей и одна гидра! К кому же нам обратиться?
— Кто его знат?
— Дяденька, миленький, и кто тебя выдумал?
— А не знам.
— Ух, да!.. Это самое… Ну, спасибо за разъяснение. Пойдём. Не зимовать же тут с вами.
— А кто его знат? Очень просто, и зазимуете. Случатся.
После этого разговора город показался нам совсем не таким привлекательным, как раньше.
Удивительное дело: теперь только мы обнаружили, что улицы его с совершенно непонятной целью сплошь вымощены плахами. В этом может убедиться всякий, кому не лень выкопать в уличной грязи яму около метра глубины. Там, где случайно грязи нет, в этом ещё проще убедиться: споткнёшься и тут же сложишь свою голову на плаху.
* * *
Ещё два дня мы ходили за справками на пристань. И каждый раз повторялся, с небольшими разве изменениями, наш разговор с пещерным Госпаром.
Наконец мы догадались обратиться прямо в окрисполком. Там не только дали нам все необходимые справки, но и заранее выдали «бронь» на каюту до самого Обдорска.
В ту же ночь пришли долгожданные пароходы.
Первой тронулась вниз «Москва».
На её борту мы покинули город Тобольск.
И бурная Обь, где бога секут
И ставят в угол глазами.
Велемир ХлебниковГлава четвертая
Иртыш. — Грандманжа. — Астраханские ловцы. — Самарово. — Волнующая встреча. — Буря. — Малый Атлым и Большой Атлым. — Ружья начинают стрелять сами. — Джигетай и кулан.
Иртыш суров, угрюм. За Тобольском быстро снижается берег, густые таловые джунгли подходят к самой воде. Цвета ржавого железа, вода холодная и неживая, как желатин.
Никто уже не шутит на пароходе. И не поют.
Куличье царство.
С берега на берег перелетают маленькие перевозчики, черныши, фифишки. Кричат травники, мелькают пёстрые кулики-сороки. То тут, то там поднимаются с воды утки.
Валентин хватает меня за рукав.
— Гляди, гляди: сейчас разрежет!
Перед самым носом парохода бежит по воде чёрная с белым на крыльях утка. Она машет крыльями, как руками, улепётывает изо всех сил.
— Раскрошит! — волнуется Валентин. — Будь я гад, раскрошит колесом!
— Уйдёт как хочет.
— Не видишь: она же летать ещё не умеет!
— Давай на спор? На две грандманжи?
— Смешно прямо!.. Ну, давай. Ставь четыре чая.
— Пошла!
Как раз в эту минуту утка исчезла в воде — и сейчас же широкий нос парохода скрывает от нас то место на воде, где только что была птица.
— Готово! — говорит Валентин. — Тащи чай.
— Идём-ка на левый борт.
Только мы подошли к перилам, чёрная головка выскочила из воды недалеко от борта.
— Видал?
Но уж головка опять исчезла.
— Обождать! — говорит Валентин. — Ещё ничего не доказано.
Проходит минута. Чёрная утка внезапно появляется на гребне поднятой пароходом волны, поворачивает к нам голову и спокойно плывёт к берегу.
— Чёрт!.. Твои две грандманжи!
Я предпочёл не объяснять ему, что играл наверняка. Хохлатая чернеть — великолепный пловец и ныряльщик. Она могла взлететь, но предпочла уйти под водой.
Я просто сказал:
— Тащи-ка обед!
На «Москве» есть буфет. Мы распределили между собой обязанности: Валентин должен заботиться о чае, таскать кипяток, а я — обед и ужин.
В средней части парохода, против машинного отделения, каютки с надписями: «Кухня», «Посудная», «Буфет», «Грандманжа».
У грандманжи надо стать в хвост — тут всегда очередь — и получить обед, а вечером ужин.
Сегодня этим делом вместо меня придётся заняться Валентину.
* * *
Через сутки останавливаемся в Демьянском.
Глинистый берег, берёзовые рощицы.
Где-то дальше по реке Демьянке год назад выпустили американских крыс — ондатр. Они уже расплодились, разбрелись по всей округе. Скоро будет новый промысел у демьянских охотников.
* * *
Валентин пишет этюд в каюте. В открытое окно просовывается голова, другая, третья, четвёртая…
— Отходи, ребята, — сердится Валентин. — Свет закрыли.
Отстраняются, но скоро опять заглядывают.
Молодые всё парни, обветренные лица, рубахи на груди открыты. Их встречаешь на всём пароходе — внизу, наверху, во всех классах. Так табунком и ходят.
Разглядывают этюд.
— Наверху — это форма облаков, — говорит один.
— Правильно нарисовал: облака сейчас перистые и кучевые, — замечает другой.
Мы разговорились. Парни оказались из Астрахани.
— Как вас сюда закинуло?
— Артель мы, ловцы. В Москве контракт подписали: три месяца рыбу ловить за Обдорском. Рыбы, вишь, у них тут полно, а взяться настояще не умеют. Ловят, как при царе Горохе ловили. А мы, вишь, сызмальства по красной рыбе, у нас культура по этой части, лучшие ловцы в СССР считаемся. В артели семеро нас из одной деревни. Старшой — татарин. Хороший мужик, мы его — в случае чего — не выдадим, не бросим. Нас ведь как: где — пожалуйте! пожалуйте! — а где и на кулачки встречают, пострели их зараза. Наших тут много работает, на Обе. Уж не первый год. Рыбницы завели моторные, плавучие садки живорыбные, сбрую всю рыболовную — всё по-нашему.
Татарских селений больше нет: мы уже в Земле Югорской — в стране вогулов и остяков. Но не видно и юрт туземцев. Ни одного человека на берегу, ни лодочки на реке.
Принялся ветер, вода почернела. Берег пошёл скалами, на скалах — тайга. Мощные кедры над ней покачивают большими головами.
Под скалами на узкой полосе берега — посёлок. Уходит вглубь, в падь Самарово[4].
Где я? Что напомнил этот дикий пейзаж?
Ах, да: картина из рассказов Джека Лондона — Клондайк.
Те же безжалостные скалы, чёрный лес, свирепая река. Край, где нет места нежному выкормышу городов. И люди тут простые, крепкие, как сутунки. Их инструменты — топор да ружьё.
Пристань.
Битва у сходней. Волосатые, с громадными узлами, с коваными сундуками за спиной. Прут как на приступ: посадка. В толпе нет ни одного туземца.
Русские — переселенцы.
За пристанью — мокрый луг, огромные круглые стога на низких срубах. Формой напоминают жилища африканских негров. Какие-то люди подходят, сгибаются, лезут под стог, в низенькие двери срубов. Неужели живут там?
Посадка окончена, движение прекратилось. Я схожу по пустым сходням, опускаю письма в ящик на пристани.
На ящике бумажка:
«Следующая выемка — в четверг».
Узнаю, какой сегодня день. Воскресенье.
«Москва» даёт свисток.
Пристань, стога, дома плывут назад.
Никто не машет платком.
«Москва» потянула за собой громадную баржу.
* * *
Ветер ревёт. Идём вдоль скалистого чёрного берега. Сумерки.
Через час из всех кают выползают пассажиры, зябко кутаются кто во что. Все возбуждены. Все скучиваются на спардеке. Чувствуется близость какого-то события.
Ветер ревёт. Чернеет вода. Сумерки сгущаются.
Сейчас, вот сейчас… То, что должно совершиться, кажется необычайным, почти страшным. Будет встреча. И она неизбежна.
Сейчас Иртыш сольётся с одной из величайших рек мира — с Обью.
Могучая, тёмная, широкая вода. Прямо из воды поднимаются кучи деревьев. Голые островки. Протоки.
Пролетает стадо диких гусей, потом ещё, потом один гусь медленно перерезает путь корабля и тяжело, задом оседает на воду.
Идём прямо в берег. В тёмной тайге светлеют обнажённые скалы. За Северной горой — так называется берег впереди — разрывает облака холодная заря луны.
Под Северной горой — Обь. Рукава рек спутались среди островов. Железная грудь парохода врезается в великую реку. В чёрной воде крутятся пенные змеи.
Справа впереди чуть мелькает на воде огонёк: мигалка, фонарь на буйке.
Оставляем его справа. Мы — под чёрным высоким берегом. Мы — в бурной Оби.
Тут всё — одна неразделённая стихия, хаос: вода, камень, небо, тайга. Всё одинаково ощутимо — твёрдо, жёстко, грубо. Всё перемешано, нагромождено, как на складе железного лома.
Искры летят из трубы парохода, обгоняют его, красно-золотыми тонкими стрелками вонзаются в воду — и пропадают. Таким крошечным, игрушечным кажется пароход.
Ловец молодой из Астрахани, тоскуя, говорит:
— Нам, вишь, ни к чему это. Нам море здешнее поглядеть. Море и у нас опасное, каждый год в нём ловцы устраиваются. А тут, говорят, ещё, вишь, круче, пострели его в единый час.
Зевает.
— Спать пойду.
Темно: уж не различишь на берегу деревьев.
Идём и мы с Валентином в каюту.
В каюте светло, тепло. Сажусь за дневник.
Валентин спит.
Тушу свет.
Качает.
* * *
Качает, как в гамаке. Только отчего же от головы к ногам, от ног к голове? За дверьми в коридоре — дробный топот шагов. Топот по крыше. Гулкие удары в борт. Хриплые крики.
Тревога.
Быстро нащупываю выключатель. Свет.
Каюту валяет с боку на бок. Бортовая качка.
Ветер ревёт.
Бужу Валентина. Выходим в коридор. Мимо шмыгнула официантка Маруся. Руками на ходу зажала рот, качнулась вперёд всем телом, вся зелёная — и юркнула в свою каюту.
Из всех дверей высовываются белые, испуганные лица. Какая-то женщина дрожащими руками завязывает на животе пробковый пояс.
— Да помогите же!
Придерживаемся за качающиеся стены, проходим на палубу.
Темь. Буря. В чёрном небе — неожиданные звёзды.
Обдаёт пáром с борта.
Перед носом парохода вода бурлит, кипит, плюётся.
Мы — на якоре. Но якорь тащится по дну. Ветер напирает. Нас тащит вбок — прямо на высокий чёрный берег — на Северную гору. С другого бока к носу парохода наползает огромная баржа.
Белое лезвие прожектора беспокойно, бестолково рассекает тьму по всем направлениям. Гибель кажется неотвратимой: ещё немного — баржа тысячепудовым тараном двинет в пароход, и волны выкинут на берег только щепки.
Молодые ловцы всей артелью у перил.
Разглядывают ползущее на нас тёмное чудовище — баржу. Обмениваются спокойными словами.
— Гожохонько! Двинет — расшибёт ведь.
— А то нет? Погода, вишь, разом сбоку зашла. Очень просто, что и на берег посадит.
Надсадно кричит что-то в рупор командир.
Кажется — с неба: он на мостике.
Громыхает, скрипит, гремит железо.
— Вишь, якорь выхаживают.
— Не поспеть.
— Поспеют.
Ржавый, острый железный коготь показался из воды: вылезает стопудовый якорь.
Лезвие прожектора упирается в баржу — и ломается.
Баржа уже впереди, перед самым носом парохода.
Корма совсем близко.
Чей-то истошный, сумасшедший крик вырывается из общего шума:
— Ка-на-а-ат!
Якорь, уже поднятый над водой, задел протянутый от баржи канат, закачался в воздухе. Чёрные люди бросились к борту баржи.
Ржавый коготь поддел за одно из брёвен громадного руля баржи.
Лопнуло бревно, как спичка. Взлетело…
— Полундра!
На барже метнулись чёрные люди от борта, закричали.
Командир сверху:
— Трави якорь, трави!
— Стой! Вира якорь, вира!
И снизу — сквозь лязг и хрип:
— Сила не берёт!
Астраханцы:
— Мочи их мокрым дождём! Айда, братцыньки, на подмогу!
И в мгновенье один за другим через перила, на руках повисли, перехватились — соскочили вниз, где ворот якорный.
Чёрной тучей в полнеба налезает высокий берег.
Успеем ли? Нет, не успеть!
Пышет пáром с борта. Обдало белым облаком — и нет ничего, только скрип да лязг, да крики. Всё кончено…
Слетело облако: канат уже натянулся, якоря не видно. Якорь уже у борта.
Удалось! Расцепились!
— До полного! — кричит командир в машинное.
Забухали колёса.
На барже поспешно выхаживают якорь.
Идём грудью в ветер. Сзади чёрный берег сползает ниже и ниже.
— Отдать якоря!
Обошлось…
Мерно качает.
Пассажиры вешают спасательные пояса по местам, расходятся, запираются в каютах.
Всю ночь пережидали бурю. Машина всё время работала.
Стояли под деревней Белогорье.
* * *
А наутро Обь не узнать. Она совсем другая: спокойная, равнодушная. Стена весёлой зелени на берегу — берёза, осина, ель. Вода отливает малиновым. Река не кажется даже такой уж широкой: ну, две Невы, не шире. Но это — обман. С левого борта тянется низкий берег — луга, тальник — и вдруг кончается. То был остров. За ним открывается широкое водяное пространство. Вдали длинная полоса тумана. Белая полоса разрывается, и чуть виден лес на том берегу Оби.
За весь день «Москва» делает три остановки: утром — против деревни Сушкиной берёт дрова, днём — в Малом Атлыме.
Необычайно живописно это селение. Раскинулось в горах. На склонах — разностенные избы, амбарчики.
Вдруг домик городского вида с белыми кокетливыми окнами, с железной крышей.
Почти нет встречающих пароход — только здешние служащие Госторга. Потом несколько крестьянок выходят с ведрами и плетёными большими корзинами: продать пассажирам черницы. Черника тут два рубля ведро.
— А куры на продажу есть?
— Нету-ка, нету-ка, каки у нас куры. Одна есть — и та с цыплятами ходит.
* * *
Большой Атлым. На берегу склады, пара домишек.
Деревня за горой.
Долго стоим: матросы выгружают муку, крупу. Удивительно, сколько в брюхе парохода может поместиться больших, тяжёлых мешков.
Пассажиры полезли на кедры, сбивают шишки.
Всходит луна. Ночная птица-сирин кричит в лесу. Отваливаем. Идём под берегом. Рядом, по гребню горы, идёт, идёт несметное чёрное войско тайги.
Блещет призрачная лунная дорога. На ней, как сон, как воспоминание, появляется узкая лодчонка, человек в ней поблёскивает украшениями в чёрных волосах. Поднимает из воды остроконечное весло — и всё исчезает.
С удивлением вспоминаю: мы же в Земле Югорской! Этот туземец, что сейчас промелькнул в полосе лунного света и так показался похож на индейца, — остяк или вогул. А днём их совсем не видно. Наверно, все в лесах, в глубине страны…
* * *
Большие сёла Кондинское и Шеркалы проходим ночью.
* * *
— Это невозможно стерпеть, — наутро говорит Валентин, — сколько здесь уток. Матросы говорят, через час остановка: дрова будем брать. Махнём на охоту?
Мы натягиваем болотные сапоги, набиваем карманы патронами.
За долгую дорогу сколько у нас было разговоров о предстоящей охоте. Уток набили — без счёту. Промахов у нас, конечно, не было.
«Москва» даёт гудок.
Охота начнётся сейчас.
И обоих нас охватывает тайное смущение. По правде сказать, ни один из нас не уверен в своём выстреле. Я — потому, что ружьё у меня новое, я не привык к нему, не ходил ещё с ним на охоту. Валентин — потому, что он вообще ещё не охотился с дробовиком.
«Москва» остановилась, сходни поперёк пути. Мы спускаемся. Стараемся спрятать свои ружья: ещё увяжутся любопытные.
Залитый водой луг. На пригорке — землянка. Мальчик вылезает из неё и прямо направляется к нам.
— Айдате-ка сюда: тут кроншпилей черно садится.
Что ж, кроншнеп — крупнейший из куликов — прекрасная дичь. Мы идём за мальчиком.
Я незаметно оглядываюсь. Палуба полна народа. Показывают на нас пальцами. Кричат:
— Влево идите, влево: сейчас там утки сели!
Я делаю вид, что не слышу. Валентин — тоже.
Из травы шагов за полсотни взлетают два долгоносых кулика.
Ружьё само вскидывается к плечу.
«Не буду стрелять, ни за что не буду! — твержу про себя. — Куда, к чёрту, на такое расстояние!»
Птицы удаляются. Неожиданно вслед им гремят четыре выстрела.
Кроншнепы спокойно продолжают лететь.
— Умирать полетели! — весело кричат с палубы.
— Зачем стрелял? — шиплю я на Валентина.
— Ты первый начал!
Чёрт его знает, кто первый. Ружья начали. А уж если они начали, разве заткнёшь им глотку?
* * *
Трава растёт прямо из воды. Добро, что сапоги у меня выше колен.
Валентин бахает где-то далеко: он пошёл берегом. Наверно, напал на дичь. Обстреляет — засмеёт!
Мне стрелять не по чему: стайки уток проносятся вне выстрела, над головой только чайки. Целый час уже прошёл.
И тут замечаю одинокую утку: несётся прямо на меня.
— Спокойствие! — говорю сам себе, отодвигаю предохранитель.
Утка резко изменяет направление. Бью навскидку… и гром выстрела сливается с басистым гудком парохода.
Мертвая утка с разлёту падает в воду шагов за сотню.
Сунулся — зачерпнул воды в сапог.
Оглянулся — до берега целый километр.
Пропала добыча: надо бежать скорей! «Москва» не станет дожидаться.
Пытаюсь бежать — вода хлещет в оба сапога, ноги становятся как чурбаны. А кругом мокрая, вязкая пустыня, я в ней как муха в киселе.
Пароход выплёвывает облачко пара, даёт второй гудок.
Дальше всё происходит как в дурном сне.
Бегу. Но страшно медленно подвигаюсь. Вижу Валентина. Он стоит у сходен, машет мне: скорей, скорей!
Сейчас третий гудок — и я останусь один, а двухэтажный белый дом — кусочек города — равнодушно уйдёт вдаль. Останется великая, залитая водой пустыня и я в ней, затерянный, забытый.
Третий гудок — последний!
Нажимаю изо всех сил. Сердце бешено дубасит в виски, в грудь и в ноги.
— Подождите!
Вот он наконец, твёрдый берег. Но уж еле передвигаю ноги. А ещё верных четверть километра.
Матросы спускаются — убирать сходни. Валентин что-то говорит им. Все смотрят на меня…
Ждут!
Матросы сели на сходни и ждут. Командир в рубке ждёт. Пассажиры ждут. Весь громадный, двухэтажный кусок города ждёт.
Меня ждёт — одного.
Доплёлся. Чуть влез на палубу: ноги подгибаются, я весь в поту.
Какой-то толстый папаша рассудительно замечает мне в спину:
— Сухой рыбак и мокрый охотник являют зрелище печальное.
Кругом улыбочки.
Выливаю за борт по ведру воды из каждого сапога.
Наконец-то можно улизнуть в каюту!
— Чтобы я ещё когда-нибудь!..
— Безусловно, — соглашается Валентин. — Если не умеешь стрелять…
Вот ехидный ёж! Прошёлся по сухому бережку, хлопал, хлопал — и позволяет себе…
И это мне — старому охотнику! О, где моя срезанная на лету утка.
— Я-то всё-таки убил одну.
— Покажи.
— Достать не мог: глубоко, и первый гудок как раз.
— Ну безусловно: как раз!
Беда каждого охотника в том, что все другие охотники уже тысячу раз до него рассказывали о своих необычайных неудачах — и, конечно, врали. Ну как докажешь, что ты-то не врёшь?
Лучше я сам на него.
— Ты свою добычу предъяви, старый джигетай.
— Обождать! Это что такое — джигетай?
— Запомни: джигетай значит дикий осёл. Старый джигетай значит — старый дикий осёл.
— Ещё бранится, зоология! На, гляди, как настоящие-то стрелки бьют.
И он с торжествующим видом запускает руку под подушку.
Неужели уток набил?
Вытаскивает из-под подушки руку, разжимает кулак, — на широкой ладони покоится крошечная пёстрая птичка.
— Куличок-воробей! — ласково говорю я. — Прелестная пташка, достойный трофей. Поздравляю.
— Обождать!
Валентин кладёт птичку на стол и лезет опять под подушку. Вытягивает за ноги серого куличка ростом со скворца. Длинный тоненький носик довольно нахально загнут кверху.
— Мородунка, интересно…
— Обождать!
Валентин тащит следующего кулика. Этот побольше, с дрозда величиной, с предлинными ногами.
— Улит большой. Знаешь, когда мне было восемь лет, я бил их пулькой из монтекристо.
— Обождать!
Рука Валентина опять уже тянется к подушке.
«Сколько же он набил? — со страхом думаю я. — Вытащит кроншнепа или утку — скандал, скандал! — совсем пристыдит меня».
Подушка неожиданно летит мне в голову.
Больше под ней ничего нет.
— Не понимаешь, — кричит Валентин. — Чем мельче дичь, тем трудней в неё попасть, старый ты кулан!
Вот чёрт, откуда он знает это слово?
Кулан — это ведь тоже — дикий осёл.
* * *
Город Берёзов мы проспали.
В какую сторону мы ни посмотрим, мы заметим на границе между небом и землею линию, которая со всех сторон окружает видимое нами пространство земли; эта линия называется горизонтом.
Начальный курс географииГЛАВА ПЯТАЯ
Земля начинает сдавать. — Мýжи. — Плач на горизонте. — Тень великого учёного. — Обдорск по книжке. — Горизонт удаляется. — Зверобой. — Кок и Пузатых. — Команда отказывается отдать концы. — Пропеллер.
Ещё сутки ходу до Обдорска.
Всё шире разливается Обь. Большую силу берёт вода, земля начинает сдавать. Она разорвана в клочья островов, острова намокли, грузнут беспомощно в топь. Волны победно перекатываются через них.
Всё чаще по низким берегам остроконечные берестяные шалаши, люди в малицах около них.
Люди в малицах издали похожи на тюленей.
Часто пролетают гуси, ещё чаще — большие стаи уток.
Остановка: зырянский посёлок Мýжи.
Серебрятся ивы, дорожка в гору. Там густо стоят строения — избы, сараи. Час очень ранний, но зырянки вышли с расшитыми оленьей шерстью туфлями, с длинноухими шапками из пыжиков. Пассажиры, команда в несколько минут расхватали эти красивые вещи. Дешёвка: туфли по пяти — шести рублей, шапки-ушанки — семь — восемь. И только за одну спросили семнадцать, но эта — как пушинка, не носить — любоваться.
Мýжи шьют шапки, кисы, туфли, малицы чуть не на все русское население Тобольского Севера.
* * *
Весь день дождь. Мутно небо, Обь мутна.
Земля мелеет, тончает, земля ускользает из глаз.
Невыносимо скучно целый день взаперти.
Валентин уже с час не отрываясь смотрит в окно. Ни улыбки на губах, ни задумчивых складок на лбу — на лице никакого выражения. Затих, точно его и нет. И только глаза: распахнутые, оцепенелые, как глаза филина на свету. Впрочем, нет — не филина. От ресниц, что ли, сетчатая тень на них и дробит зрачок и белок на тысячу мельчайших глазков. Скорей как у мухи под микроскопом глаз Валентина: тысяча глаз в глазу.
— Ну, воззрился! — бормочу я сердито.
Я уже знаю, что теперь с ним не поговоришь: хоть ори ему в самые уши — он будет мычать в ответ. Хоть сапогом бей — не достучишься.
И так он может — с одними глазами — просидеть ещё хоть пять часов. Потом схватится за краски. Знаю уж…
…И всё-таки вздрагиваю, когда вдруг он срывается с места и ныряет под диван за кистями, красками, бумагой. Теперь его бьёт лихорадка, он нагибает чайник над кружкой — и плещет воду на стол. Он судорожно макает кисточку в кружку, сам пристально щурит глаза в окно. Затем разом перекидывает глаза на белый лист бумаги и решительно проводит по ней кистью: отделяет небо от земли.
В каюту вползают какие-то тени, блики, блески.
— Валентин! что там такое за окном?
— М-м-м!
Я нехотя поднимаюсь с дивана и взглядываю поверх головы Валентина.
Зрелище необычайной силы оглушает меня, как гром.
Небо взорвано. Ещё высокое солнце льёт истекающий кровью свет сквозь голубую брешь. Чёрный, тяжёлый пласт громадной тучи обвалился в воду. Окровавленная вода из бурой на глазах превращается в ясно-голубую, сверкает, искрится: дугой из воды прянула в небо широкая радуга.
Дымятся пожарища пустынных приплюснутых островов. И только погибшие в далёком урмане лиственницы-корабли вздымают кресты обугленных мачт. Там будто гудят краски: и синь, и прозелень, и ржа.
В волнении я кидаюсь за тетрадью: записываю с натуры этот редкостный под Полярным кругом, яростный праздник света.
Анилиновый карандаш твёрд и выцарапывает на плохой бумаге бледные подобия слов. Я вдруг решаю, что описать такое зрелище можно только чернилами. В походной аптечке есть пробирка с какими-то таблетками. Вытряхивая таблетки на стол, крошу в пробирку анилин карандаша и кипятком из чайника развожу чернила.
Перо помогает находить точные слова, но — всё уже кончилось, пока я возился с чернилами… Тучи сдвинулись, солнца нет, потухла радуга — всё умерло. Серый дождь. Ещё несколько времени пишу по воспоминаниям.
А Валентин всё работает.
— Чего ты всё в окно-то пялишься! Ведь всё равно там теперь совсем не то, что ты мажешь на бумаге!
— М-м-м!
Поговоришь с ним!
Морда как у телёнка, жуёт всё время что-то, жвачное!
А то вдруг начнет щуриться, жмуриться, башку набок и глядит по-птичьи одним глазом на перепачканную красками бумагу.
Живописец, подумаешь, аква-ре-лист!
А сам про кружку с водой совершенно забыл: суёт кисть в рот, обсосёт и правит ею то в одном месте этюда, то в другом.
— Свинтус ты, вот что! Стыдно на тебя глядеть.
— М-м! Да, да…
С досады, что не удалось полностью записать редкую картину, бросаю перо.
Хочу убрать таблетки в аптечку, — их нет на столе. Нет их и на полу.
— Куда, к чёрту, могло лекарство деться? Валентин? Ты не видал?
Он уже кончает этюд и, кажется, приходит в себя.
— Таблетки?
— Да, да, таблетки!
— Таблетки, кажется, я съел.
— С ума сошёл! Ведь их же там штук шесть было. Может быть, яд в них. Лошадиная порция.
— Неважно! Меня не проймёт.
А сам побледнел.
Я схватил пробирку с чернилами. На этикетке значилось:
Bismuth, subnitr. 0,5. Salol 0,3. Extr. Opii 0,01.— Чего там? — не вытерпел Валентин.
Он латыни не знает.
«Пусть-ка помучится», — подумал я, тревожно нахмурился и покачал головой.
— Плохо, брат, очень плохо.
— Что ты говоришь?.. Яд? Да говори же ты!
— Обождать! Подействует, тогда узнаешь.
Так я ему и не сказал, что лекарство было самое невинное: крепительное.
Впрочем, оно никак и не подействовало на здоровяка.
Под вечер пароход незаметно вошёл в реку Полуй. Непривычному глазу не отличить реки от проток.
Серый туман.
В восемь часов гудки: остановка. Ничего не видно из окон. Говорят, прибыли в Обдорск.
Дальше «Москва» не пойдёт.
Вместе с астраханцами сходим на берег. По скользким ступеням круто лезем в небо.
С горы открылся нам невозможный вид.
Неба не было, земля исчезла. Вернее — земля и небо слились, линия их соединения проходила как раз через нас: мы стояли на горизонте.
— В самый, вишь, закрой упёрлись, — определил один из ловцов. — По самое некуда.
Что-то страшное творилось вокруг нас.
Тучи клубились, их пучило. Тучи налегали брюхом на что-то мутное, жидкое, волочились по какой-то тёмной слизи, что, может быть, когда-то было землей. Небозём этот растворился в воде, превратился в живое месиво.
Ловцы отошли от нас, их обволокло, вобрало в себя мутное месиво, — и больше мы их не видали.
Я поглядел на Валентина. Он меланхолически что-то жевал. Лицо его было мокро.
— Плачь, плачь, бедный друг мой! — обратился я к нему голосом прочувствованным, насколько только позволяла сырость. — Плачь, ибо суждено тебе здесь горькое одиночество. Сердце моё уже пухнет от слёз, и вот потечёт, и тебе не удастся даже развести огня, чтобы сжечь мокрые мои останки.
Валентин утёр рукавом лицо и сунул мне в руку кусок ржаного хлеба.
— Накося, заткнись, рыдалец. Довольно любоваться красотами: не ночевать же в этой плевальнице, под открытым, как говорится, небом.
Мы двинулись по скользкой грязи в невидимый город.
* * *
Удивительное дело: даже этот городишко, городишко на самом горизонте, оказался набит до отказа.
У каждых ворот нас встречали лайки. Все улицы кишели собаками.
В домах толпились люди.
Перед нами открылись гостеприимные двери: нам позволили переночевать в пустой школе.
Школа оказалась имени великого французского ученого Пастера, который дал людям средство от бешенства. Так, в список спасённых от этой ужасной болезни должны быть занесены и наши скромные имена.
Нам рассказали, что в Обдорске есть и станция пастеровская.
Бешенство — бич здешних мест. По тундре бродят огромные полярные волки. Они заболевают первыми. Взбесившийся волк бежит и бежит — всё по прямому направлению, как не бегает ни одно здоровое животное, — и кусает всех, кого встретит. Впадают в бешенство укушенные им олени и лайки. Взбесившиеся лайки набрасываются на людей.
Спасти укушенных, предупредить ужасный конец болезни не было никаких средств: царское правительство не заботилось об окраинах. Ближайшая пастеровская станция была от Обдорска за 1541 километр — в Тобольске.
В Обдорске пастеровскую станцию открыла Советская власть.
* * *
Перед сном я прочёл в своей записной книжке:
«…Обдорск находится под самым Северным Полярным кругом.
…Это — последний русский населённый пункт на севере в Приобском крае, последний здесь шаг русской колонизации.
…С половины XVIII века сюда стали приезжать купцы на ярмарку. Только с 1820-х годов стали селиться русские на постоянное жительство, а с 1850-х годов сюда стали проникать и зыряне, составляющие в настоящее время половину населения Обдорска».
Про то, что Обдорск стоит на горизонте, в книжке ничего не было сказано.
«Во всяком случае, — подумал я, — мы достигли горизонта колонизации».
* * *
Утром мы встали рано, очень рано. В восемь вышли из дому: на фуражировку и осмотреть город.
Туман окутал всю вселенную. Ни земли, ни солнца, ни города. Тепло и сыро, как в выеденном огурце. Простуженными голосами поют петухи.
Через полчаса туман отрывается от земли, начинает подниматься, открывает деревянные домишки до окон. Но раздумывает, останавливается, сонно повисает в воздухе.
Никого на улицах. Всё закрыто. Все спят.
Прошли по улице сапоги, за ними — низкая волосатенькая лайка.
Туман нехотя приподнялся ещё, скрипнула калитка. Выглянуло заспанное лицо зырянки.
— Молока не продадите?
— Молоко? Наши коровы ещё спят.
Город нехотя вылезает из-под тёплого, сырого своего одеяла.
На каланче бьёт восемь. По солнечному времени. А во всём Союзе часы переставлены на час вперёд. Обдорск живёт позади.
Повсюду бродят волосатые лайки.
Появляются медлительные прохожие. Выходят из ворот коровы. Останавливаются. Протяжно мычат в туман.
В тумане проявляется срезанный конус вышки метеорологической станции, ведро дождемера, будочки самописцев. В другой стороне — радиомачты. В противоположном от реки конце города — деревянные корпуса больницы. За ними короткие улички выходят прямо в тундру.
Мы направляемся к реке: надо устраиваться на какое-нибудь судно до Пуйко. Там, говорили в Свердловске, увидим самоедов.
Под обрывом — целая флотилия рыбацких судов. Между парусных рыбниц одна побольше, моторная, нос обит цинком.
— Ого! — говорит Валентин. — Подходяще. Гляди-ка, какое название.
На носу под фальшбортом чёрными буквами: «Зверобой».
Проходят рыбаки с вёслами на плечах.
— Не знаете, куда идёт эта рыбница моторная — «Зверобой»?
— В океан курс держит за зверем. За дельфином, за моржом, чё ли.
— В Пуйко остановится?
— А как же.
— Летим! — говорит Валентин.
Внизу, под обрывом, на узкой полоске песка пристанские склады на высоких бревенчатых лапах. Узкий деревянный помост, на нём сторожа в вывороченных мехом наружу шубах, с громоздкими ружьями. К стене прибита доска с надписью от руки:
«БОЙСЯ! ЛЕДОРЕЗА! БОЙСЯ!»
По дощечке взбираемся на борт ближайшей рыбницы и с борта на борт, с борта на борт перебираемся на «Зверобой».
Молодые ребята — матросы — глядят вопросительно.
— Хотим с вами до Пуйко. Капитана можно видеть?
— Командира? На правом борту первая каюта.
Их всего-то — кают — две на правом борту судёнышка.
Пожилой командир поднимает голову от морской карты.
У командира глаза под крышей крылечка: до половины закрыты складкой свисающей кожи, а внизу морщинки. Но оттуда, из глубины, — как острые два клюва.
Мы показываем свои документы, просим взять на борт.
— Ну, что же, приходите, — просто говорит командир. — Часов в двенадцать отправимся. Только отдельных кают у нас нет, не взыщите!
Мы готовы ночевать и на палубе.
* * *
Слетать за вещами в пастеровскую школу долго ли нам? Но когда пришли, узнали, что отъезд отложен: командир пошёл в город добывать новые котлы для варки пищи. Сообщил нам об этом молодой радист. Он не смотрел в глаза, когда рассказывал: сразу почувствовалось, что неладное что-то произошло на судне, пока мы ходили.
Моряки рады новым людям на борту.
Мы быстро перезнакомились с командой. Судно оказалось экспедиции Рыбтреста. Отстало от двух других судов экспедиции: мотор испортился. Те ждут в Пуйко.
Экспедиция направляется в обход Ямала с зимовкой на берегу Карского моря. Это та самая экспедиция, о которой мы слышали в Свердловске. Цель — обследование рыбных и зверовых богатств Обской губы и Карского побережья Ямала. Научные работники сейчас уже работают в Пуйко. С особенной гордостью сообщили нам, что на борту есть женщина, учёный-зверовед.
— Землячка ваша — из Ленинграда. Боевая. Триста пятьдесят получает.
Спешить было некуда. Мы с Валентином пошли в город просить Интегралсоюз отпустить нам продуктов на дорогу. Охотно и быстро снадбило нас всем необходимым «Потребительское общество приполярного круга».
На обратном пути мы встретили кока со «Зверобоя» и с ним матроса по фамилии Пузатых. Друзья остановили нас и слёзно принялись жаловаться.
Кок — разваренный дядя с унылым и красным носом — горько плакался, что нет у него научности и он вынужден был наняться на такое паршивое судно, как «Зверобой», где даже готовить приходится под открытым небом. Он уже простыл, у товарища Пузатых тоже голова болит и кружение. Оба идут в больницу получить порошки — как его, пирамидон, что ли? — и попросить бумажку, чтобы отпустили их отсюда назад в Тобольск. А на таком судне да с зимовкой ехать — это же верная смерть. Да вот товарищ Пузатых сам скажет.
И начал товарищ Пузатых — мужчина в годах и гладкий, как облупленное яичко. Начал и остановиться не мог, пока не выболтал всю свою жизнь и все свои обиды.
Отец-то у него был сам с образованием второго разряда, а его учить не захотел. И как был он, Пузатых, на Алдане, муку покупал по двадцать два лотика чистого золота. И возил он, Пузатых, то золото в Монголию. И падали дорогой все верблюды. И много у него, у Пузатых, в те времена водилось этого золота. И как он, Пузатых, четырёх жён переменил и опять думает жениться. И попал на проклятый тот «Зверобой» спьяну, всё по той же причине отсутствия научности. Выгоды с ней, со службы этой, никакой. Да как бы ещё в беду не влететь: моторишко-то на «Зверобое» — никуда. И вся надежда у него, у Пузатых, теперь только на больницу. А уж если и тут не пройдет, так дальше и вовсе крышка, потому что дальше на берегу и начальства никакого не будет, тюлени одни да моржи в море.
— Истинная правда, — подтвердил кок и закивал унылым носом. — Истинная правда, золотые ваши речи, товарищ Пузатых.
Они попросили ничего не говорить капитану и побрели в больницу. Мы вернулись на судно.
Часа через полтора пришёл командир. Котлов ещё достать не удалось, он приказал готовиться к отходу.
Матросы нехотя повиновались.
Тут подошли Пузатых с коком. Мы ещё издали поняли, что их постигла неудача. Красный нос кока побагровел и свесился до самого подбородка. Мелкие глазки Пузатых растерянно бегали по полу.
Приятели, как крысы, проскользнули мимо каюты командира на ют. Пузатых поманил за собой пальцем матросов.
Я прошёл на ют послушать, о чём у них будет разговор.
— Не достал — шипящим голосом говорил Пузатых. — Что он — отравить нас хочет? В таких котлах обед варить! Яд это.
— Он говорит, — сказал радист, — в Аксакове котлы возьмём.
— Нарошно, нарошно говорит, — шипел Пузатых, — заманить! Откуда там котлы? Нет там никаких котлов. Это чтобы только отсюда убраться скорей, чтобы возврату нам не было. На верную смерть ведёт.
— Он говорит, — сказал молодой матрос, — если что не в исправности будет, мы зимовать не остаёмся. Назад вернёмся.
— А вы верьте, верьте, бараны! Заведут во льды, тогда возвращайся как хошь.
Матросы молчали, понурившись.
— А кок больной! Помрёт, ей-богу, помрёт, — кто нам тогда готовить будет? Да в таких котлах!
— Нет, ребятушки, нельзя дальше, нужно всем сразу — и чтобы назад в Тобольск.
— Пошли к командиру! — встряхнулся вдруг юный радист. — Что на самом деле!..
Все гурьбой повалили на бак. Позвали командира.
— Все собрались? — безмятежно спросил командир. — Ну, заводи мотор.
— Иван Иваныч, — поднялся радист, — команда не хочет концы отдавать. С такими котлами на смерть идти не согласны.
Командир медленно из-под крылечка оглядел всю команду. И спокойно уселся на якорь.
— Так. Ну, я же уж говорил вам, что тут котлов нету, получим в Аксакове.
— Это вы говорите, чтоб только отсюда нас увезти, чтобы возврата нам не было, — зашумели матросы.
Крылечко приподнялось — выглянули удивлённые глаза.
— Почему же из Обдорска возврат есть, а из Аксакова или Пуйко нет возврата?
— И кок болен! — крикнул радист. — Помрёт, куда денемся?
Командир отыскал глазами кока.
— Ну как, Степа, что в больнице-то сказали?
Кок зашмыгал багровым носом.
— Оно… вообще… говорят, насморк, говорят, если что, говорят, так вообще, говорят, ничего пока…
— А товарищ Пузатых где же? Тоже, поди, здоров?
Пузатых исчез. Вся команда обернулась. Радист вскочил, побежал на ют. Оттуда раздался его звонкий голос:
— Пузатых картошку чистит.
— Отдать концы! — приказал командир.
Матросы кинулись к канатам.
«Зверобой» медленно отделился от соседнего судна, повернулся, пополз вперёд. Канат, прикреплённый на юте, вздрогнул, плеснул по воде, натянулся. Две парусные рыбницы и белый ботик послушно выстроились и потянулись за ним.
Мотор ровно отстукивал, выбрасывал клубочки дыма.
— Запыхтел Максимка!
Матросы улыбались.
— А тебе, Пузатых, набьём мы пару обручей с большой бочки, чтоб не лопнул до возвращения!
— Ему по Тихому океану плавать!
— Проперлер тебе, Пузатых, и лети ты, дружок…
…А Обь-река пала в море двема устьи.
ЛетописьГлава шестая
Призрак гор. — За шахматами с командиром. — В мире светло. — Аксаково. — Последний отряд тайги. — Максимкины фокусы. — Авария.
Спокойной гладью Полуя вошла в широкую Обь. Туман совсем рассеялся. Необозримая, лежала перед глазами тундра.
— Смотрите, — сказал Иван Иваныч, командир, — Урал.
С запада на горизонте громоздились облака. Я взял бинокль. Белые, почти неотличимые от гряды облаков, поднимались высокие призраки гор.
«Зверобой» шёл медленно. Впереди проплывали утки. Носились чайки. С берега поднялась крошечная трясогузка, волнистым полётом пронеслась над водой, села на борт. Попрыгала, попиликала — и улетела назад на берег. В командирской каюте, на койке (койка да столик, вот и вся каюта) я играл с Иван Иванычем в шахматы.
— Скажите, — спросил я, — дисциплинка-то у вас не слишком того? Шах! Как вы решаетесь на серьёзное дело с такой командой: с этим коком и Пузатых? Карское море — не шутка.
— Команда? — переспросил Иван Иваныч. Он обдумывал свой ход. — Команда у меня — отличные ребята. Беру вашего слона.
— Концы-то отказывались отдать. Ладью за слона? Что ж, у меня качество. Что вы будете делать, если в море такая шутка?
— В море? Никогда! Пузатых — отчаянный трус, вредитель и классовый враг. Ребята отлично это понимают. В море дело серьёзное, и он сам знает, что там его в два счета выкинут за борт эти же самые ребята, ежели что. На суше он куда вреднее. Держу: дело знает — использую как спеца. Здесь он весь наяву. Ферзю вашему шах.
Ровно тукает мотор.
— Аах-ха-хаа! Аах-ха-ха! — смеются большие белые чайки, сибирские хохотуньи.
Мы кончаем партию, садимся на полубаке.
Плоские берега: земля кончается. Вода огромна. В мире просторно и светло.
Иван Иваныч рассказывает:
— В девятьсот девятом получил шкипера дальнего плаванья, в южных морях плавал. Там всё до точки известно. Тут — ни черта. Двенадцать лет плаваем, а ничего ещё не знаем. Трудное море.
Мне понравилось, что старик ведёт летоисчисление от революции.
— Но обождите — найдём путь. Нашли же девять веков назад новгородцы. В этом году пошла экспедиция на лодках по их пути: через весь Ямал из Байдарацкой в Обскую губу. Почему, думаете, самоеды волосы стригут «под горшок»? От новгородцев это у них осталось. Дети. И хорошие, честные дети. Пришлось мне раз оставить муку на Ямале. У самоедских чумов оставил. Сотни мешков муки. И только брезентом прикрыты. На другой год вернулся — и хоть бы один мешок тронули. А жили — известно, как живут: впроголодь.
* * *
Светло в мире.
Мы уже перевалили Полярный круг: он проходит чуть северней Обдорска. Здесь один раз в году солнце круглые сутки остаётся на небе. Здесь один раз в году круглые сутки ночь.
Идём под правым берегом. Берег буграми, на нём густая, но низкая тундряная растительность: лазуны. Местами ещё деревья стоят в рост: ели, лиственницы. Не хочет сдаваться тайга: где можно — за горкой, за ветром — вскакивает, делает перебежки.
А уж где никак нельзя, где выпрямишься — иссечёт Север, северный смертельный ветер, — там уж хоть как-нибудь, хоть ползком.
* * *
Валентин, как выехали, схватил кисти, бешено мажет этюд за этюдом.
Бросил кисти. Сидит на сложенном бочкой канате. Подобрал руки под коленки, глядит и глядит.
Потом опять схватит кисти, бросит на бумагу всё, что вобрал в глаза.
Летят гуси. То длинной, волнистой цепочкой, то кучкой тянут и тянут к югу.
* * *
Солнце зашло. Светло в мире. Простор.
И от этой ли просветлённой дали, оттого ли, что привычно делятся сутки на день и ночь, кажется: просторно и время, медлит оно, течёт без сроков, как сон, без берегов, как вода кругом.
Качаются чайки вдали. Поскрипывает такелаж. Палуба пахнет смолой и мокрой верёвкой.
На полубаке дуется Иван Иваныч в домино с матросами. Валентин недвижим и безмолвен.
Все это скорей похоже на воспоминание, чем на жизнь. И только Максимка-мотор отстукивает секунды ровно, чётко, как часы. С каждым ударом вылетает из борта колечко дыма. Колечки одно за другим быстро-быстро вылетают из борта, несутся по воздуху — и плашмя ложатся на воду. И мгновенно тают.
Это похоже на игру в серсо.
Настает тишина. Ветер стих. И не летят гуси.
Впереди громадная, золотисто-жемчужная поднимается луна.
Снова начинается ветер — теперь с другого борта. Он подхватывает дымные кольца мотора, кидает их вверх. Они взлетают и тают в воздухе.
Снова летят гуси. Лёгкие сумерки.
— Дать электросвет! — командует Иван Иваныч.
Высоко на мачте зажигается маленькая электрическая лампочка.
Надобности в огне никакой. Мы понимаем: это — для шику.
Подходим к Аксакову. Отошли уже семьдесят километров от Обдорска.
Тут пристань. Вот тебе и «последний на севере пункт колонизации — Обдорск!»
Устарела, совсем устарела «дорожная и настольная книга для русских людей».
Меж горок несколько строений: дома, бараки, склады, консервный завод. Он выстроен совсем недавно, но работает уже полным ходом. Отсюда отправляют рыбные консервы на север — в Новый порт на Ямале, на юг — по Оби до Тюмени; здесь снабжают консервами проходящие экспедиции.
Иван Иваныч посылает двух матросов на берег: за котлами, за консервами. Максимка, наш мотор, недоволен остановкой. Он пыхтит и плюётся дымом — на холостом ходу.
Удивительно видеть завод в этих диких, безлюдных местах. Черная труба дымит, мелькают фигуры рабочих, тарахтят бочки. Два парохода у пристани — «Инденбаум» и «Уралобком». С одного сгружают, другой грузят, кипит работа. А рядом на горках — последний кусочек леса вступил в неравную борьбу с севером: страшный и жалкий вид!
Несметная сила тайги послала батальон смельчаков воевать холодные земли. Здесь на холмах был бой — долгий, упорный, жестокий бой. Бойцы состарились в беспрерывных битвах.
Они удержали холмы за собой.
Сколько их пало! Строгий строй разбит. Ряды разрежены. Сражённые падают на руки рядом стоящим, те их поддерживают — мёртвых — сами полуживые, искалеченные — и гнутся под тяжестью трупов.
Деревья — призраки. Ели с отрубленными лапами, исковерканными стволами, напрочь снесёнными головами. Корявые лиственницы с судорожно скрюченными руками. Растрёпанные берёзы со свёрнутыми на сторону головами. Вечный предел положен тут тайге. Дальше продвигаться деревья могут только на коленях, ползком, прижавшись к земле.
А человек?
А рабочий человек спокойно и деловито строит тут свой завод. Поставил ногу — и шагает дальше.
— Вира якорь! — приказывает Иван Иваныч.
Матросы уже вернулись с берега. Они привезли котлы и бочки консервов.
Максимка-мотор от скуки устроил настоящую дымовую завесу. В дыму исчезают «Инденбаум», «Уралобком», пристань, завод.
Но вот пошли. Максимка сразу успокоился, пускает свои воздушные колечки. Уходит берег.
Кругом опять вода, вода и прозрачная кристальная ночь. Ветер.
— Поднять паруса! — командует Иван Иваныч.
Бьют склянки. Вахта сменяется. Командир не уходит в каюту.
«Зверобой» вошел в Обскую губу.
Опасное место: могучая река выносит сюда ил и песок, громоздит под водой горы. Сносит подводные горы и воздвигает их в других местах, перекатывает с места на место.
Нет постоянного фарватера. Не угадаешь пути — посадишь судно.
Мы с Валентином спускаемся в кубрик: три часа можно поспать на свободных койках вахты.
Койки по стенам в два ряда — под самый потолок. Посредине стол. На нём матросы с азартом дуются в домино.
— Один очёк — азы!
— Дупель!
— Врёшь, Пузатых, плешь у тебя! Поплыл, товарищ Пузатых!
Сквозь сон — что-то неладно, неясное какое-то беспокойство. Прислушиваюсь: сердце, что ли, шалит, не так стукает, даёт перебои?
Нет, сердце в порядке — как часы. Так что же?
Ах, да: Максимка! Опять, верно, дурит, дым пускает, точно маленький с папиросой.
Не мешай спать, Максимка, не дури! Так мало ведь осталось спать.
* * *
Просыпаюсь — уже утро! Никого в кубрике.
Максимка молчит: мы стоим.
Выхожу. Тёплое солнце уже вылупилось из блестящей, холодной, как скорлупа, воды. Вода, кругом вода, нигде не видно берега. Матросы маются на баке без дела. Иван Иваныч среди них — глаза совсем ушли под крыльцо.
Поломался мотор. И нас нанесло, посадило на мель.
— Аах-ха! Аах-хаа! — смеются чайки, кружат над нами.
Говорят, флагманское судно экспедиции замечено в бинокль.
Послана лодка.
Проходит час, проходит другой. Летят гуси, проносятся стайки куликов. Утки ныряют со всех сторон.
Чайки хохочут.
Наконец показывается судно: такая же моторная рыбница, как и наша. Она останавливается в пятидесяти метрах от нас — ближе рискованно. Командиры переговариваются в рупоры. Кругом мели — можно так посадить судно, что и не сдерёшь.
Подходит шлюпка. Матросы забирают и везут лёгость — тонкую верёвку, — к ней привязан канат.
Мы — на буксире. Пошло флагманское. Тихонько качнулся, дрогнул — и сдвинулся «Зверобой».
Слезли! Теперь только бы не налететь на другую салму.
Матрос на борту с длинным, в разноцветных кольцах шестом. Он мерно опускает шест в воду и вытягивает его, опускает и вытягивает, и каждый раз, как опустит, выкликает глубину.
— Три!
— Сейчас сядем, сядем! — шипит Пузатых.
— Три! Четыре!
Все молча слушают выкрики: удастся попасть в зерлó, или опять ткнёмся в мель?
— Четыре с половиной! Три! Два с половиной!
У всех вытягиваются лица.
— Я говорил, говорил! — шепчет Пузатых.
— Три! Два с половиной! Четыре! Семь! Семь с половиной!
Все улыбаются.
— Восемь! Еще такую надо! — кричит матрос и с грохотом кидает разноцветную палку на палубу.
Вдали показалась узкая полоска земли. Вот она — последняя земля, долгожданный Ямал — Конец Земли!
Жалкое зрелище! Где осталась бескрайная мощь земли, её гордые горы, высокие густые леса?
Океаном сомкнула землю вода, утопила в себе, иссякла земля, истончилась — и концы в воду.
Чуть хватает еще сил выставить из волн свою плоскую спину. Ни бугорка, ни деревца, — кочки да травка, да мох.
Гуляют волны на просторе.
То тут, то там поднимается из воды острая головка на тонкой шее, точно нас окружают десятки невидимых подводных лодок.
Мелькает серо-стальная спинка.
Тонкая шея сгибается, змей уходит в воду. Незаметно уходит в воду серая спинка — и нет ничего над волнами.
Гагары.
Некоторые так близко выныривают от борта, что на белом их горле ясно виден резкий чёрный четырёхугольник.
Привольно тут этим древним морским птицам.
Но как же, как же тут жить человеку?
И вот мы подходим к Пуйко.
Нам рассказывали в Свердловске: Пуйко — это название дано месту по имени одного из ямальских самоедских родов. Здесь — летняя стоянка самоедов-рыбаков. Оленей мы и тут не увидим: олени сейчас далеко в тундре, на ягельниках.
Но не олень нас интересует. Волнует встреча с настоящими полярными людьми.
Еще раз — как в детстве — удивлённо и остро переживаю непонятное имя:
Самоеды, самоедь, самоядь.
«Зверобой» идёт протокой меж низких зелёных берегов.
Ещё поворот — и мы у самоедов.
Поворот — и Иван Иваныч, командир, говорит:
— Ну, вот и добрались.
— Позвольте, что же это? — изумляюсь я.
Так было раз со мной в Ленинграде.
Я долго собирался на фильм из быта русской деревни — «Бабы рязанские». И все как-то не удавалось попасть.
Раз иду по улице, большая афиша на стене у входа в кино:
БАБЫ РЯЗАНСКИЕ
Я и зашел: как раз было свободное время.
Сеанс уже начался. В кассе быстро выдали билет, и гражданка с карманным электрическим фонариком указала мне моё место в тёмном, набитом невидимыми людьми зале.
Я сел.
«Часть вторая», — подрожали на белом полотне буквы и исчезли.
Появилась картина.
Короткая улочка, дощатые дома по краям, бараки.
Вдруг замелькали ружья, револьверы. Какие-то люди в лохматых штанах, в широкополых шляпах-сомбреро выскочили из-за угла, кинулись к привязанным у крыльца лошадям, вскочили в сёдла.
Совсем это не было похоже на то, что я ожидал увидеть.
Совсем не было похоже Пуйко на то, что я ждал увидеть.
Короткая улочка, десятка два деревянных домишек, бараки. Какие-то люди в сапогах, в штанах, завязанных под мышками, выскочили из-за угла, кинулись к привязанным у берега лодкам, вскочили в них.
— Позвольте, что же идёт? — недоуменно спросил я соседа в кино.
— Американский фильм. — И он сказал название.
— Позвольте, что же это? — спросил я Иван Иваныча, командира, и был почти уверен, что он сейчас тоже ответит мне: «американский фильм».
Но он удивлённо взглянул на меня из-под своего крылечка и сказал:
— Пуйко.
Там, в Ленинграде, я поверил старой афише и попал впросак. Видно, и тут тоже.
— И это — самоеды?
— Зачем? Русские. Рыбачий посёлок тут. Пески кругом замечательные — тысячи пудов красной рыбы дают на консерный завод в Аксаково.
— Вот тебе так! А где же самоеды?
— Откочевали. Хотите самоедов поглядеть, поезжайте в Хэ.
— «Зверобой» пойдёт в Хэ?
— Загляните завтра, сейчас чиниться будем. Там посмотрим.
«Зверобой» подошёл к пристани.
Мы собрали несложный свой багаж и сошли на берег.
Там они нашли много такого, что могло привести их в восторг, но ничего достойного удивления.
Марк Твен, «Том Сойер»Глава седьмая
Пуйко. — Вывески. —Маленький осетр. — Душегубка. —Неведомая золотая птица. — Что такое тундра. — Кулики. — Железный глаз. — Песок-Страданье. — «Зверобой» ушел. — Лярус ауреус.
Удивительно на краю света, среди воды и хлипкой тундры, в безлюдной пустыне наткнуться вдруг на вывески: «Фельдшер». «Приём телеграмм производится…» «Общественная столовая». «Штаб».
Здесь утвердился боевой ловецкий отряд.
С десяток изб, склады. И всё это — на небольшой площадке, отвоёванной у низкого, но упрямого кустарника.
От каждой избушки в болото, в тундру — долгие мосточки, и в конце их — две-три кабинки: уборные. В крошечном ловецком посёлке на Конце Земли общественных уборных больше, чем было их до революции во всех городах России.
В штабе нас приняли радушно. Но в ловецкой столовой не оказалось лишних порций для всех приезжих.
Высокий остроплечий астраханец, начальник промысла, подозвал мальчика лет восьми.
— Сведи-ка товарищей на склад, отбери им маленького осетра.
Я пошел за мальчонком в обширный сарай. Там на нарах грудами лежали саженные, распластанные, золотые от жира осетры. И к потолку рядами были привешены такие же солёные рыбы. Мальчонок выбрал из самых мелких осетров одного пожирней.
— Бери, дяденька. Этот хорош будет.
Острая морда рыбины была взнуздана верёвкой. Я потащил подарок за эту верёвку, держа на отлёте — чтобы не запачкать жиром одежды. Я держал руку с верёвкой на высоте своего подбородка, а хвост маленького осетра волочился по земле. Полтораста шагов до штаба достались мне трудно: рука затекла.
Мы недолго оставались в штабе: тут люди стремительно проворачивали свои ловецкие дела, и нам не хотелось путаться у них под ногами. Мы собрались в тундру на охоту.
— Хотите, проедем на остров, — предложил молодой ловец Гриша. — Я нынче выходной, могу показать места. Может, и гусей найдем.
— Замечательно! Едем, мы готовы.
— А где же ваши сетки? Накомарники?
Сеток у нас не оказалось с собой.
— Наплевать. Не загрызут же комары.
— Как сказать? Я-то привычный, а вам советую.
Гриша достал у товарищей накомарник — один на двоих. Другие все были заняты.
Мы отправились.
Комары взяли нас в работу сразу же.
Валентин великодушно предоставил накомарник мне первому. Я натянул марлю на голову, насадил сверху кепку и почувствовал себя как лошадь, которой надели на морду мешок.
Дошли до протоки. Здесь на берегу лежали три узкие лодочки-долблёнки. Валентин легко столкнул одну, смело вскочил в неё — и вдруг, как стоял с ружьём через плечо, так и лёг в воду — исчез из глаз.
Это произошло так быстро и неожиданно, что на миг я опешил. В следующий миг Валентин уже выскочил из воды и шагнул на берег. Весь в тине и траве, он был похож на водяного. Меня душил хохот.
Валентин ругался, пока не обсох.
Вычистили и вытерли его ружьё, спустили на воду другую лодчонку — чуть побольше — и осторожно уселись: Валентин с Гришей — в греби, я — на рулевое.
Узкая душегубка шатка и валка, — сиди, не ёрзни, — и летит по воде как по воздуху.
Протокой быстро выскочили в широкий, сильный рукав Оби — на самое быстрó.
Как ни нагребаюсь остроконечным веслом, стремительно сносит течением, большие волны мягко, но мощно ударяют в борт, грозят перевернуть проклятую посудинку.
«Выкупаться-то не беда, — думаю про себя. — А вот как за ружьём потом нырять на такой стремнине?»
— Кстати, Гриша, не знаете, какая тут глубина?
— Как раз тут недавно мерили: сорок четыре метра.
— Ух ты!..
Нырнёшь, пожалуй.
Быстро несёт на нас плоский зелёный остров. На кромке песчаного берега сидит большая птица. При первом же взгляде на неё забываю глубину и ненадёжную лодчонку. Резким движением схватываю ружьё, срываю накомарник.
Лодчонка качнулась, но выпрямилась.
Совершенно непонятная птица!
— Гриша, не знаете, что это?
Ловец продолжает грести, но оборачивается.
— Филин вроде.
Филин! Филина я бы за версту узнал: сидит столбиком и уши. Тело-то держит, как чайка!
— Халей, может? — недоумевает ловец. — Цвет только…
— В том-то и дело — цвет!
Халеем зовут здесь сибирскую хохотунью — большую чайку. Молодой халей белый с серым, старый — весь белый. А эта удивительная птица вся желто-бурая, спина совсем тёмная, и какое-то удивительное золотистое сияние над ней.
Повернулась грудью — грудь такого же цвета, и золотистое сияние ещё сильней.
Быстро перебираю в уме другие породы крупных чаек. Клуша? Бургомистр? Громадная морская чайка? Нет, ни к одной не подходит цветом.
Значит, это что-то необычайное, может быть, ещё неизвестное даже науке.
Теперь только бы подпустила на выстрел!
Вдруг резкий толчок, лодка накренилась на борт — и стала. Мы все трое чуть не вылетели в воду.
— Сели!
Я вскочил на ноги.
Птица сейчас же разняла длинные крылья и поднялась на воздух.
— Уйдёт!
Стрелять было далековато, а бить приходилось наверняка. Ну, «Шольберг», друг, не выдай!
Я вскинул ружьё и выстрелил.
Птица качнулась, вздрогнула крыльями, но сейчас же выпрямилась.
Я выстрелил из другого ствола.
Птица перевернулась и упала на воду с распластанными крыльями.
В порыве благодарности я прижал к груди ружьё, верного своего «Шольберга».
— Гляди, гляди! — крикнул Валентин и выскочил из лодки вслед за ловцом.
Было на что поглядеть: точно взорванный выстрелами, плоский берег весь поднялся на воздух. Сразу даже не сообразить было, что это вылетели из травы и носились над островом бесчисленные стаи куликов и уток.
Но мне было не до них.
Я кинулся к своей необычайной добыче.
Гриша с Валентином поспешно поволокли лодку по песчаной мели к берегу.
Передо мной качалась на мели невиданная птица. Это была чайка, но чайка невероятного цвета. Вблизи она вся отливала золотом, нигде не было ни пёрышка белого. Только красное кольцо вокруг глаз да красное пятно на нижней половине клюва. Я сразу решил:
— Конечно, новый вид! Назову её лярус ауреус — золотая чайка.
— Гуси, гуси! — раздался сзади крик.
Я схватил драгоценную добычу и побежал к лодке. Там положил убитую птицу на сухую дощечку и тщательно прикрыл сверху веслом: чтобы не утащил ненароком пролетающий хищник.
Уже вдали где-то звучал звонкий гусиный гогот. Я узнал по голосу большую белолобую казарку, и сразу вспомнилось самоедское меткое её названье: сенгрыянту — колокольчик-гусь.
Я кинулся догонять товарищей.
Тундра, низкая тундра.
Тундра — это комары и мошки, очень низкая растительность и комары, комары и очень много сырости, тучи куликов, уток и тучи комаров.
Тучи уток быстро унеслись за реку, строгие гуси удалились при первом нашем появлении. Тучи куликов рассеялись и быстрыми хлопьями носились над травой. Но тучи комаров с каждой минутой росли и сгущались.
Каждого из нас окружило жадное поющее облако и двигалось вместе с нами. Комары и мошки танцевали перед глазами, лезли в глаза, набивались в рот, в нос, в уши, в рукава, и жгли, жгли, жгли, — тысяча уколов в минуту!
На мне не было накомарника: его надел Валентин. Но разве может спасти тонкая, прилипающая к лицу, к шее сеточка от бесчисленных, мельчайших этих убийц? Против них бессильны даже сплошные стальные латы.
Валентин сорвал с себя накомарник и сунул за пазуху.
Ненасытное охотничье любопытство гнало нас вперёд и вперёд, сквозь тучи комарья. Мы разбрелись в разные стороны. Валентин сейчас же открыл бешеную канонаду.
Я шёл по залитой водой траве, в одной руке держал ружьё, другой то и дело стирал с лица пот вместе с сотнями комариных трупов.
Стаи куликов поминутно проносились перед самым ружьём. Я не стрелял их: всё это были простые турухтаны; петушки — зовут их ловцы, нгай-вояр — «голова в коросте» — зовут ямальские самоеды.
В небольших грязных лужицах, по пояс в воде, бродили нежные, доверчивые кулички-плавунчики и тéдасáрмик.
Вдруг что-то с шумом разрезало воздух у меня за спиной.
Как ни быстро я обернулся, я не мог разглядеть уже далеко умчавшуюся птицу.
Через несколько шагов такой же шум послышался сбоку.
В этот раз я вовремя повернул голову — и узнал пронесшуюся мимо меня птицу.
Это был мертемпа-и-ерти — «делающий ветер», сукалень-кулик.
Так без выстрела я добрался до тихого сора — залива.
Здесь вода вся в волдырях, хоть и прозрачна, под ней золотится песчаное дно. Повсюду из дна бьют крошечные гейзеры, серебряными фонтанчиками выскакивают, взлетают над ровной поверхностью воды. Беспрерывно бурлят, все куда-то торопятся.
Я думал сначала — газ. Оказалось — роднички чистейшей холодной воды.
Легкими зонтичками поднимаются из воды хвощи, трава — густыми шапками.
Мне показалось: в одной из таких шапок-островков что-то возится.
Я тихонько подошёл и уже поднял ружьё, когда неожиданно заметил в траве маленький жёлтый, совершенно круглый глаз.
Глаз неподвижно смотрел на меня, холодный и плоский, как из жести.
Я не знал, кто это — зверь, птица, змея?
В траве ничего не шевелилось. Не шевелился и я. Так прошло с минуту. Глаз не сморгнул. Я тихонько шагнул вперёд. Глаз исчез.
Я остановился: если это птица, она сейчас вырвется из травы. Ничего не вырвалось. Я сделал ещё шаг — опять ничего.
Тут я заметил лёгкую бороздку волны по ту сторону островка: что-то плыло там за травой.
Я приложился — и в это самое мгновение из-за травы выплыл тёмный пароходик, побежали за ним лодочки, лодочки, лодочки.
Я поскорей опустил ружьё: ведь это был «железный глаз» — éзе-сéу, это была утка, крупный нырок — морская чернеть — со своими утятами.
Теперь, когда трава не скрывала их больше от меня, они помчались по воде со всей быстротой, на какую были способны. Мать держала голову прямо — труба у пароходика. Птенцы — ещё не оперённые, в пуху — вытянули шеи вперёд и как вёслами гребли коротенькими культяпочками-крыльями, удирали изо всех своих маленьких сил. Невозможно было стрелять в них.
Я подивился, как поздно тут выводятся утки: ведь было уже пятнадцатое августа.
Краем сора я поспешил к берегу Оби. Там уже сошлись мои товарищи. Они стояли по колена в воде и дышали, как загнанные лошади. Я присоединился к ним.
На Оби был ветерок. Он сдувал комаров.
Тут можно было отдохнуть.
Валентин потрясал в воздухе целой вязанкой турухтанов.
Мы закурили.
— Глядите, — сказал ловец и показал рукой туда, где за островком плясали мелкие волны. — Там салма, мель. Мы зовём эту салму Песок-Страданье. Там рыбу тянем — сотни пудов. Зато и мучимся, пострели тя в самую душу! Руки заняты, дыхнуть некогда, а гнуса, комарья этого, мошки — живьём грызут. Чистая смерть. Утро поработал — два дня потом больной лежишь.
Я посмотрел на свои вздувшиеся от укусов руки и подумал, что название салме дано самое подходящее.
Не лёгкий труд рыбарей на Оби.
Когда начало смеркаться, мы опять разбрелись по острову.
Теперь кулики куда-то исчезли, попрятались, стало очень тихо, только звенел, пел, жужжал воздух от комариных полчищ.
Начали появляться утки. Стремительными тенями, странно беззвучно они проносились в сумерках и с шумом валились в траву.
Подойдёшь — всплеск, и вырвалась с кряканьем где-нибудь сбоку, даже сзади, — где меньше всего ожидал. На ночь на жировку сюда прилетали только настоящие утки, не нырки, — только шилохвосты да чирки. Больше тут на Ямале и нет никаких пород настоящих уток. Даже кряковая утка сюда не доходит.
Охота была удачна: все вернулись к лодке с утками-острохвостами.
Валентин свалил одну с большой высоты, прямо с неба, уверял он. Первая его утка.
В темноте, вконец измученные, вернулись в штаб.
— Батеньки, да на вас лица нет! — закричали ловцы, когда мы приблизились к стоявшей на столе большой керосиновой лампе.
Нельзя было выбрать более неудачное выражение: лица на нас было даже слишком много. Щёки и подбородок стали вдвое против своей обычной величины, лоб покрылся бесчисленными буграми и рогами, веки распухли с кулак каждое.
Я всем показал удивительную мою чайку.
— Халей, — говорили ловцы.
— А цвет, цвет! Видали вы когда-нибудь чайку такого цвета?
— Цвет действительно непонятный. Не видали таких.
Я торжествовал.
* * *
Утром поздно проснулись — и узнали, что «Зверобой» с другими судами экспедиции Рыбтреста ушёл на север.
Для нас это был большой удар. Времени у нас оставалось меньше недели, а мы ещё не добрались до самоедов.
И тоскливое чувство сиротливости закралось в душу. А вдруг не выберемся отсюда никогда?
— Поживёте у нас, — утешали ловцы. — Со дня на день должен прийти снизу, из Тобольска, большой пароход. Он пойдет до Хэ.
Выбора у нас не было.
Послали телеграммы друзьям в Ленинград:
«Привет с Конца Земли».
— Сколько же отсюда пройдёт телеграмма до Ленинграда? — спросил я у телеграфистки.
— А уж как повезёт вам. Вот придёт пароход, заберёт почту и телеграммы, пойдёт в Хэ. Вернётся в Обдорск, там и сдаст на телеграф.
* * *
Я вытащил определитель птиц и все приспособления для снимания шкурок.
Но сколько ни бился с определением, выходило — халей.
Об этом говорили размеры птицы, её крыльев и хвоста, красное кольцо вокруг глаз.
Против говорил цвет.
Вывод мог быть один: порода чайки, очень близкая к сибирской хохотунье, халею, но резко отличающаяся от неё цветом. Мною открыт новый вид — лярус áуреус.
Очень довольный, я закрыл определитель.
При этом я заметил, что от моих пальцев на белых листах книги остались золотистые масляные пятна.
«Кой чёрт! — выругался я про себя. — Где я вымазал их маслом?»
Я понюхал свои руки.
Они пахли дёгтем.
Я посмотрел на чайку — и мне всё стало ясно.
Тихонько, чтобы никто не заметил, я завернул золотую птицу в бумажку, вышел из барака и швырнул её в помойку.
Никогда в науке не будет описана новая порода чаек необычайной красоты — золотая чайка, лярус áуреус!
Но где, язви её хвост, могла она угодить в бочку с дёгтем?
Об этом я не решился спросить у ловцов, чтобы не напомнить им о халее несказанного цвета.
На восточной стороне, за Югорскою Землею, над морем, живут люди Самоедь.
«О человецах незнаемых на восточной стране и о языцах розных»Глава восьмая
«Гусихин». — Вести с ловецкой родины. — Моряк из Нового порта. — Оказия. — Радисты, самоеды, цинга. — На мели. — Два неба. — Хэ. — Человек-пингвин. — Терпит — не терпит.
Отправились с Валентином шататься по тундре. Но сколько ни шли, — все та же картина: кустики да трава, да прозрачные тучи комаров. И нигде ни намёка на человека.
Неожиданно со стороны Оби раздался низкий, сильный гудок. Мы поспешили к берегу.
По реке мимо нас величественно прошёл большой белый пароход.
«Гусихин», — прочли мы на борту.
У ловцов был выходной день. В одном из бараков налаживали кино к вечернему сеансу.
Но все бросили свои занятия и побежали на пристань.
«Гусихин» привёз новости.
«Гусихин» привёз почту. Ловцы густо набились в штаб. У всех в руках были газеты, у многих письма.
С волнением рассказывали друг другу ловцы свежевычитанные вести с родины. С жаром обсуждали газетные новости.
Газетные новости были трехнедельной давности.
Вести с родины были трехмесячной давности.
«Гусихин» дал первый гудок.
Мы перебрались на борт.
* * *
Пуйко скрылось за поворотом. Пароход быстро удалялся от берега.
В мелких волнах у берега солнце заиграло радужными красками, вода в той стороне сияла и переливалась, как перламутр.
Большой, рыхлый человек оторвался от перил, повернулся ко мне. Разговорились. Оказалось — моряк. Четыре года безвыездно жил на Ямале, в Новом порту, уехал подыскать себе другое место. Поездил, поглядел — и вот возвращается.
— Неужели лучше не нашли?
— Привычка, знаете… Потянуло назад.
Украдкой, с удивлением оглядываю его большое распаренное тело, благодушное сырое лицо с тюленьими усами. Тюленьи усы. А я-то думал: ледяные живут люди на севере, без чувств, без нервов.
Правда, подбородок у него тяжёлый, таким можно дробить серьёзные препятствия. Но эти мягкие глаза?
— Летом даже очень интересно, — охотно рассказывает моряк. — Карской экспедиции приходят суда в порт, иностранные суда подходят. Работы — только поворачивайся.
— Но ведь это каких-нибудь три месяца. А остальные девять?
— Ну что же? Вот считайте сами: октябрь — охотничий месяц. Это по-самоедски. Они ещё здесь, наведываются частенько: то помочь надо, то так просто — гостят. Ноябрь — первый тёмный называется. Самоеды все ещё здесь, чум за чумом проходят с севера. Большой тёмный — декабрь, — тут уж все пройдут, и мы действительно оторваны месяца на три с половиной. Темно. Радио только да письма — за всю зиму одна-две оказии случится. Да и то нельзя рассчитывать, что дойдут.
Раз я отправил зимой служебный пакет с самоедином. Ответ надо было получить к весне, не позже как через полтора месяца. Взял у самоедина бирку — палочку такую, сорок пять зарубок на ней сделал. Календарь здешний: каждые сутки самоедин ножом одну зарубку заравнивает. Только так и могут сосчитать время.
— Отвезёшь? — говорю. — Терпит?
— Терпит, — говорит.
Знаю: положиться можно, честный народ. А что в пути не пропадёт, это уж верное дело. Они ведь как: прямиком напроход дуют по снегу; чёрт его знает, как только путь узнают: кругом бело да ровно. Приметы какие-то свои, на удивленье они приметливы, нам даже непонятно. А если в дороге метель, пурга — это им тоже нипочём — сковырнулся с нарты в снег и лежит, как песец, зарывшись, два, три, четыре дня, пока пурга не пройдёт.
— А что за услугу возьмёшь? — спрашиваю.
Пустяк, бисерную безделушку какую-то спросил, я даже удивился. Ну, думаю, раз больно хочется, пусть за это едет, а там что-нибудь дельное дам в придачу. Поехал он. К сроку возвращается — день в день. И мой пакет назад отдаёт.
— Ты что ж, не попал в Обдорск?
— Как не попал? Попал.
— Что ж ты пакет-то не отдал?
— Не терпит: мало спросил с тебя, давай ещё чаю кирпич в придачу, — ответ привезу.
Зимой действительно туговато бывает. Летом птиц всяких полно, дельфины играют, морские зайцы — тюлени такие. Прямо с крыльца бьём. А зимой только сова белая да заяц, да ещё вот часто подъезжаешь к кусту, глядишь — куфья на нём, шапки снежные. Ближе подъедешь — фррр! — рассыпался куст, полетело белое во все стороны. Куропатки полярные, их у нас дивно много. А хуже нет — волк. К самым зданиям зимой подходит. Олени у нас…
— Дикие?
— Нет, ездовые. Дикие на самом севере Ямала да на Белом острове. Самоеды волка никогда не трогают. Боятся: он, говорят, все мысли человека знает, — отомстит. Полярный волк хитрый — действительно как чёрт. Мерзавец, с закрытыми глазами к стаду подходит. Против ветра всегда. Он и видом другой: вытянутый, низкий на ногах — ползать приходится много — и белый весь. В капкан и думать брось — ни за что не полезет. Один у нас двадцать оленей в одну ночь прирезал. Самоеды говорят, до пятидесяти голов, бывает, режет волк.
— А как с самоедами живёте?
— Дети. Жить можно, по-хорошему живём. Трудно только, когда работы много или спешка: канитель с ними. Придёт, каждую вещь осмотрит, перевернёт, пощупает. Потом чаем его пои. Чай страсть любят. Сколько в себя вливают — так прямо на удивленье. Подарить ещё что-нибудь надо, а то обижаются.
Было у меня с ними серьёзное дело. На западном берегу Ямала поставили радиостанцию. Штат в пять человек. Зимовать. И вот, передают, цинга.
— Плохо снабжены были?
— Какой там, — отлично! Проще дело: спаечки товарищеской не было, у нас без этого нельзя: верная гибель… Расстроились. Потом аппетит потеряли. Ну и зацинжали.
Мне от начальства приказ: соорудить экспедицию, снять их оттуда. А станция та от нас через весь Ямал, километров за шестьсот.
Вызвал я самоединов. Через старших их, через родоначальников. Шестьдесят нарт съехались к нам в Новый порт. Два дня чай пили, разговаривать о деле нельзя было: не полагается.
На третий рядиться принялись. Сорок нарт надо было, чтобы станцию поднять. За сорок нарт столько-то муки, столько-то соли, масла, табаку. Я через толмача так только, для формы, торговался. Уступал сразу. Они не запрашивают, а у меня инструкция — во что бы то ни стало сорганизовать помощь. Мне каждый час дорог. Шесть часов разговаривали. Уговорились.
— Собирайтесь, — говорю. — Поезжайте.
— Как, — говорят, — мы поедем? К сорока нартам оленей надо.
Опять торг — за оленей плати.
Торговались, торговались, — кончили.
— Теперь, — говорят, — к оленям людей надо, ямщиков.
Опять сначала торг.
Ямщикам чум нужен. Сговорились, сколько за чум. К чуму прислуга нужна. Опять сначала.
Два дня разговаривали. Совсем мы с толмачом замаялись.
Наконец — всё. Вышли самоедины, стали у нарт. Ещё с полчаса о чём-то между собой толковали. Приходят:
— Не едем.
Что ты с ними будешь делать! Пришлось к крайнему средству прибегнуть. Вызвал я двух мотористов: «Заводи моторы». Сам с толмачом к самоедам.
— Вот что, — говорю, — граждане. Мы вам помогаем в беде? Когда голод у вас или на оленей мор?
— Помогаете, — говорят.
— А вы нам в беде помочь не хотите. Так и буду говорить большевикам в Москву.
Тут как раз и моторы затрещали.
— Едем, — говорят.
Поехали. Через несколько дней привозят. Из пятерых один на месте помер, один — в пути. В пути помер, на глазах — самоедины и поняли: цинга. Довезти довезли, не бросили, а выгружать отказываются. Отошли метров на двадцать, лица руками закрыли, молчат. Цинги они страшно боятся, бросают всё, уходят. Издали увидят больных — сейчас себя и оленей дымом обкуривают.
Упакованы люди на нартах — хоть машиной снимай! Чуть живы лежат. Каждая минута дорога. «Ну, — думаю, — не для таких случаев законы писаны. Была не была…» И пошёл за спиртом. Поднёс чарку больному. Он выпил, глаза заблестели. Я опять чарку наполнил. Предлагаю самоедину. Отказывается. Тогда я сам выпиваю.
Они видят: здоровый человек после больного пьёт — и ничего. Стали подходить один за другим.
Перенесли все-таки больных.
* * *
Опять в каюте…
«Гусихин» велик и надёжен — ещё больше и надёжней «Москвы». Но сон у нас беспокойный: говорят, салмы тут кругом и, бывает, сядет пароход — и не слезть, пока другой не выручит.
Матросы беспрерывно меряют глубину наметками с бортов. Так я и заснул под крики:
— Шесть! Шесть с половиной! Восемь!
Восемь, шесть аршин или даже метров — разве это много для такой громадины, как «Гусихин»?
«Зверобой» — тот мелко сидел…
* * *
…Тряхнуло так, что я чуть не слетел с дивана. Казалось, корпус парохода разом стал, и вся палуба с каютами сорвалась и пошла вперёд.
Конечно, сели на мель.
Колёса перестали работать. Гремели команды. Опять заработала машина: задний ход.
Долго стояли. Слегка покачивало.
Потом с обоих бортов сразу раздались крики:
— Три с половиной! Четыре!
— Четыре. Четыре!
Слезли, нащупываем зерлó.
— Шесть с половиной! Семь.
— Восемь! По-од табак!
— Под табак!
— До полного! — командует командир.
Разом уверенно затопали колёса.
Опять погружаюсь в сон.
* * *
Я проснулся под те же крики с обоих бортов:
— Семь! Восемь! Под табак!
Вышел на палубу — вот чудеса! Вверху и внизу — небо. Только чуть голубее вверху, чуть зеленее внизу. И нигде ни следа земли, нет горизонта.
Внизу впереди на нижнем небе — облако.
Оно растёт, медленно приближается. И вдруг поднимается, вплывает в пустоту между нижним и верхним небом — распадается на куски.
Теперь понятно: это — халеи.
Вспомнил: Обь, так сказать, уже превратилась в море, Обская губа тут километров шестьдесят шириной. Ямал давно исчез из глаз. Мы шли теперь к восточному берегу губы.
Наконец вдали показалась тонкая, твёрдая линия: горизонт. Тогда всё сразу стало на место: вода, земля, небо.
Некоторое время мы шли прямо на тёмную полосу. Потом повернули, пошли вдоль.
Ещё раз повернули, в другую сторону, пошли наискосок к земле.
Стал виден плоский высокий берег. Под ним выросла точка. Она разрослась, превратилась в кучку маленьких домиков — посёлок.
Мы то приближаемся к нему, то направляемся мимо, то начинаем удаляться, — и опять поворачиваем. Штопором подходим к берегу.
С бортов беспрерывно выкрикивают глубину.
Уже видны рыбницы у берега, с десяток чёрных лодок кругом них. Видны отдельные домишки.
Но вот что это справа от них — пёстрые треугольники?
Чумы! Это же самоедские чумы!
Для меня неожиданно, что они — пёстрые: чёрными, жёлтыми, серыми, коричневыми шашечками.
Тоненько лают собаки. Чёрные фигурки людей суетятся у берега, входят в воду. Идут по воде, приближаются к нам по воде.
— Хэ-хэ! — бормочет кто-то у меня за спиной.
Оборачиваюсь — Валентин.
— Ты чего?
— Хэ, говорю, добрались-таки до Хэ, увидали самоедов.
«Гусихин» остановился метров за триста от берега. К нему сейчас же прилипли лодки. И через минуту на палубе появились люди без шеи, с тюленьими маленькими гладкими головами и бескрылые, как пингвины.
Раз! — человек-пингвин откидывает оболочку головы на спину — и настоящая человеческая голова поворачивает ко мне своё настоящее человеческое лицо.
Что за любопытные глаза! Они прошивают насквозь, быстро и многократно, как игла швейной машины.
Пингвинье крылышко поднимается, и человеческая рука доверчиво тянется к моей.
— Здрастуй?
— Здравствуй.
Крепкое рукопожатие.
Он щупает материю моей охотничьей куртки.
— Терпит?
Я не совсем понял, но улыбаюсь, отвечаю:
— Терпит!
Мы стоим друг против друга — совсем разные люди, — с любопытством и удивлением глядим друг на друга, и вдруг оба смущаемся.
Он что-то быстро заговорил на своём языке.
Я не понял.
Я сказал ему несколько фраз по-русски.
Он не понял.
Засмеялся — как дверь распахнул на солнце, потоптался на месте, чисто сказал:
— Понимать не терпит!
И отошёл.
— Торопись! — крикнул мне Валентин из каюты. — Лодка сейчас отваливает.
Мы запаслись патронами, взяли ружья и сели в большую лодку.
Лодка не дошла до берега метров сто — и стала.
Вместе с другими мы побрели по воде до сухого песка. Женщины и те из пассажиров, на ком не было высоких сапог, ехали на берег на наших спинах.
Люди Самоедь ездят на оленях и питаются рыбами.
ЛетописьГлава девятая
Брунгильда и Зигфрид. — Швейные машинки Зингера. — За невидимой стеной. — Кормлёнки. — В чуме. — Олени и жизнь Юро. — Стовосьмидесятилетний человек. — Чернолапенький. — Пятилетний охотник. — Гости из тундры. — Собачий вопрос. — Салмы и стукалки. — Кочетов философствует.
Неприступный замок стеной огня отделён от мира.
В замке — Брунгильда, валькирия[5]. Она ни жива ни мертва: закованная в холодные латы, она спит долгим сном Спящей красавицы, сном тысячелетий.
Кто — смелый — пройдёт сквозь огненную стену? Кто вернёт миру оцепенелую жизнь?
Зигфрид, жизнерадостный золотоволосый герой Нибелунгов, отважно ринулся в огонь.
* * *
В чистой и тёплой избе при неверном свете ночника неожиданно встали передо мной эти два образа народной фантазии далёкого народа: Брунгильда, Зигфрид.
Я удивился: откуда они здесь, на Конце Земли? Чем напомнило прекрасную и пламенную сказку всё то, на что я здесь нагляделся за день? Здесь, за Полярным кругом?
Я не понял тогда.
Принялся за дневник.
* * *
Утром мы вышли из воды на плоский песчаный берег и сразу почувствовали необычайное. Огромная пустота вокруг казалась значительнее всего, на чём останавливался глаз. Нас обдавал холодный ветер, невидимо мчался куда-то, а небо было совершенно неподвижно, ни одно облако не проходило по нему.
— Идёмте, — приветливо говорит лёгкий сухолицый человек. Он приехал с нами в лодке. — У меня тут родственник. Оставим вещички и пройдём в чумы.
— Знакомься, — говорит Валентин, — Якимыч, заведующий факторией Госторга, охотник.
Перед нами под увалом раскинулся не маленький посёлок. Вместительные, крепкие сибирские избы.
Два-три строения, крытые красным железом, напоминают о городе.
С десяток мужчин в суконных гусях[6] на берегу. Ни одной женщины.
Редкие нелюбопытные прохожие на коротеньких улицах едва взглядывают на нас.
— Зырянский поселок, — говорит Якимыч. — Русские тут только летом, к зиме почти все съезжают.
Он ведёт нас в чистую просторную избу. Приветливая пожилая хозяйка, суетливый, с володимирским говорком хозяин, две швейных машинки Зингера в горнице: Кочетов — хозяин — портной.
Сразу позабылся Конец Земли, пропала простота.
— Беседуйте, — приглашает хозяйка так просто, точно мы вчера только здесь были. — Я сейчас самоварчик…
* * *
А в нескольких шагах — самоедское становище.
Чумы возвышаются пёстрыми конусами. Они по-летнему крыты нюгами — большими кусками берёсты, где почти белой, где жёлтой, коричневой или совсем чёрной от копоти. Над срезанной верхушкой — колючий венчик из тонких кончиков шестов.
Позади каждого чума, как клеть при избе, — нагруженная нарта, крытая шкурами, увязанная ремнями.
Там — кладовая кочевников: оленьи шкуры — крыть чумы зимой, меховая зимняя одежда.
Мы вошли в становище, как в заколдованное царство: нигде ни человека, всё неподвижно, собаки свернулись, спят в заветёрках. Рядом ступаешь, а они даже головы не поднимут.
— Осторожней!.. — говорит Якимыч. — Человека раздавите.
Он показывает на пушистый клубок у меня под ногами, смеётся.
Смотрю: собаки. Одна — поменьше — притулилась к другой — большой, очень лохматой. Спят.
Вдруг дунул ветер — резкий, порывистый. На маленькой собачке приподнялась шерсть вместе со шкурой, выглянул розовый голый животик: спящий ребёнок?
Только у третьего и у четвёртого чума увидели наконец живое и подвижное: под пустой деревянный ящик стрельнули от нас два серых зверька. Посредине песчаной ямы, где ящик, вбит кол, на колу — две цепочки.
Зверьки недолго прятались: из-под ящика выглянула одна острая мордочка, за ней другая. Быстрые глазки забегали, с любопытством разглядывали нас. Наконец два пушистых комочка выкатились в яму, засеменили вокруг кола на цепочках: норники, песцы-щенята.
Около других чумов — такие же колы, только привязаны к ним не песцы, а чёрнолапенькие лисята.
Якимыч рассказывал:
— Кормлёнков разрешают иметь не больше трех-четырех на чум, и то только беднякам. Это дело теперь думают коллективным сделать, артельные питомники создать и так положить начало пушному звероводству самоедов.
— Самоедов нам подай, самоедов!
— Сейчас мужчины все на ловле да на пароходе, а женщины — по чумам. Впрочем, вон в тот пройдём, там, кажется, вся семья.
Вслед за Якимычем мы нырнули в открытое входное отверстие чума.
В первое мгновение мне показалось, что я — в музее забрался внутрь витрины с надписью:
САМОЕДСКИЙ ЧУМ
Груда красных углей посредине, котёл над ними и вокруг — совершенно неподвижные фигуры сидящих людей с тёмными, как горшки, обожжённые в печи, лицами. Пристально смотрят на нас немые, остановившиеся глаза…
Молчание, оцепенелая неподвижность.
Мы постояли так, и вдруг Якимыч говорит:
— Юрó! Здравствуй, юро! Узнаешь?
И все задвигались.
Голый по пояс низкоплечий мужчина; весело засмеялся, протянул Якимычу руку. Одна из женщин налила из котла чаю в круглую чашу, поставила перед Якимычем. Девочка лет четырёх подняла в руке нож и быстрым, точным движением у самых губ резнула по сырой рыбине, зажатой в зубах. Казалось случайностью, что при этом она не отхватила себе кончик носа или кусок чёрной лоснящейся от рыбьей крови щеки.
Остались неподвижными только два древних старика. Они сидели в самой глубине чума, один — по одну, другой — по другую сторону очага.
У Якимыча с низкоплечим пожилым самоедом начался длинный разговор про всех знакомых — кто жив, кто помер. Якимыч не был в этих краях три года, и самоеду нашлось о чём рассказать ему за чашкой чая отрывистыми, с трудом сплетёнными словами.
Мы слушали.
Простая, как палка, в коротком его рассказе нам предстала судьба полярного бедняка.
Я не запомнил его имени, да и не нужно его имя, пусть будет просто Юро, что по-самоедски значит: друг.
Юро, когда знал его Якимыч, был небогатый, но справный хозяин: оленей до двухсот было у него. Чум его был полная чаша: жена, ребятишки, старый отец — все одеты и не голодны. Весной на пятнадцати нартах семья начинала кочёвку, подвигалась к северу Ямала.
Во время кочёвки телились важенки[7].
Длинноногие пешки[8], неплюи[9] давали свои мягкие, теплые шкурки на пошивку новой одежды. С десяток взрослых оленей шло на мясо. Остальное стадо спокойно паслось всё лето.
Летом Юро ловил рыбу, промышлял ленную птицу — гусей, уток — и тюленей. Тюлени давали жир и на редкость прочную кожу.
В начале зимы доходил песец: из крестоватика и синяка становился весь белый. Юро расставлял ловушки, обирал пушистый урожай — и откочёвывал к югу, где лес и не так страшна зима.
Жить было сносно.
Но три года назад напала на его оленей ужасная болезнь — сибирка. Олени один за другим кидались из стада, хрипели и грохались оземь. В один день пала половина стада.
Юро без оглядки бежал от того места. Но беды догоняли его.
Раз ночью подошёл к стаду сармик — волк, десять оленей зарезал, разогнал остальных. Еле собрал их в тундре Юро.
Весной, как важенки отелились, задул север, сумасшедшие начались бураны. И заметались важенки: замерзли их нежные пешки.
Кочевал Юро в этот год на восьми только нартах. Сам уж не ехал; шёл с женой пешком рядом с оленями.
Была у Юро своя вотчина: земля, где пас оленей и промышлял его род из поколения в поколение. Но в тот год сосед-окатэтта[10] — многооленный богач — пригнал своё двухтысячное стадо к самой границе его вотчины.
Юро отодвинулся: маленькое стадо оленей бежит к большому, теряется в нём, как ручей в море.
Окатэтта пошёл за ним.
Юро ещё отодвинулся.
Окатэтта — за ним.
Юро бежал из дедовской вотчины: спасал последних своих оленей.
Без оленей в тундре — смерть.
Окатэтта звал Юро:
— Будешь мне помогать — через год оленей дам.
Юро сказал:
— Нет. Большевики собирают чумы. Поеду на собрание.
Окатэтта сказал:
— Поедешь на собрание — ко мне не приходи. Будешь помощи просить — не дам.
Испугался Юро: откажется помочь окатэтта — куда денешься? Не поехал на собрание.
Стал просить окатэтту:
— Дай на выпас тридцать оленей. Год пройдет — пригоню тридцать же оленей да песцов дам пятнадцать.
— Тридцать, — сказал окатэтта.
Совсем отощали, замучились у Юро олени. Не поможет богач — и на зимовку не откочевать. Тут зимовать — не терпит.
Обещал Юро окатэтте тридцать песцов.
Дал окатэтта тридцать сытых оленей.
А летом копытка объявилась — оленья болезнь. Поредело стадо вконец.
Совсем бы пропал Юро, да год выдался песцовый.
Пошёл и пошёл песец, как заяц. Было бы у Юро оленей побольше — деревянные пасти ставить пошире, — сколько бы Юро собрал белых шкурок! Каждая шкурка — олень.
Через год отдал Юро тридцать песцов окатэтте. А оленей — только десять. В долгу теперь.
Четырнадцать себе оставил. На четырнадцати куда откочуешь? Как оденешься, обуешься?
Уж не один с семьёй живёт Юро в чуме — с братом. У брата — своя семья, отец-старик.
Был Юро и у большевиков на собрании. Учили бедняков на собрании не слушать богатых, в артель сбиваться.
Юро в артель пошёл — рыболовную.
— Гáну-грютти, — смеётся Якимыч, — лодочный житель?
— Гану-грютти, — соглашается весело Юро.
— Как теперь живёшь? — спрашивает Якимыч.
— Терпит, — говорит Юро. — Моя туземный совет выбирал, сын Берёзов ехать — грамота учиться.
Тут все в чуме оживились. Залопотали ребята, даже бессловесная пожилая женщина с красной лентой в связанных концами косах.
Она потихоньку, но быстро что-то заговорила по-самоедски.
Юро строго на неё глянул: женщина должна молчать, когда мужчины разговаривают.
Но ничего не сказал Юро, и жена его продолжала говорить про своё.
Одни только древние старики в глубине сидели молчаливые и неподвижные, как деревянные идолы. Их коричневая кожа скорёженным лубом висела на черепах.
— Сколько им лет? — спросил я.
Якимыч спросил Юро по-самоедски, ткнул пальцем в одну и в другую сторону, сказал:
— Этому — сто шестьдесят. Этому — сто восемьдесят.
— Что?
— Сто восемьдесят, — повторил Якимыч задумчиво, посмотрел на меня — и вдруг расхохотался.
— Ну да же: сто восемьдесят самоедских — наших, значит, девяносто. Они же один год за два считают.
Мы вышли.
Чернолапенький лисёнок безостановочно кружил, и кружил, и кружил вокруг прикола. Мне подумалось: совсем как рассказ Юро вокруг оленей.
— Чего он так? — спросил Валентин.
Якимыч скучно ответил:
— Есть хочет, замёрзнуть не хочет — вот и кружит.
Я остался поговорить с лисёнком, отстал от своих.
— Бегаешь? — спросил я чернолапенького зверька. — И как тебе только не надоест всё кругом да кругом?
Лисёнок ничего не ответил, даже не повернул ко мне головы.
Тут моё внимание привлекла ватага мохнатеньких самоедских ребятишек.
Они выскочили откуда-то из-за чумов. Они увидели меня и остановились было. Но сейчас же один из них что-то строго крикнул, и все скрылись в кустах. Через минуту они появились далеко на берегу. Я успел только разглядеть лук в руках у одного — парнишки лет так пяти — шести. Лук был выше охотника в два раза.
Над берегом летали халеи, порывистыми взмахами носились крачки.
Я видел, как маленький охотник натянул свой лук, прицелился, пустил стрелу — и лёгкая белая крачка, кувыркаясь, упала на землю.
Через несколько минут ватага окружила меня и лисёнка. Меткий стрелок бросил лисёнку мёртвую крачку.
Зверёк лапками на лету подхватил птицу, в один миг отгрыз ей голову, хрустнул и проглотил.
Ребятишки деловито побежали за новой добычей.
К берегу приближались лодки, из них выходили люди-пингвины, шли по воде, выходили на песок.
Я пошёл бродить.
За чумами начинался подъём «в гору» — на увал.
Я взобрался наверх — и бесконечная серая тундра развернулась перед моими глазами: равнина, мох, трава, кой-где озерки.
Вдали показалось быстро движущееся тёмное пятно. Не сразу я понял, что это — олени.
С поразительной быстротой они мчались гуськом — штук семь друг за другом, сзади ещё пять, — мчались прямо, как по рельсам. И когда им на пути встретился широкий куст, животные только рога откинули назад и — пролетели над кустом, как птицы. Я только тут заметил, что сзади них были нарты и на нартах сидели люди. Люди на нартах тоже перелетели через куст, и стремительный бег оленей не задержался ни на мгновенье. Их бег не задержался, даже когда они промчались мимо меня и с маху кинулись вниз по отлогому спуску.
Только внизу, перед самыми чумами самоед на передней нарте что-то дико закричал, взмахнул длинной палкой-правилом, передовой олень кинулся в сторону, дал круг, задние налетели на него, сшиблись — нарта разом остановилась.
Самоед соскочил, схватил переднего оленя за рога. Остановилась и другая нарта.
Уже из всех чумов бежали к ним мужчины, женщины, дети. Кто кинулся к оленям, кто к людям, все были очень возбуждены, кричали, и мужчины все по очереди долго, сильно, высоко трясли руки приехавшим.
Когда я спустился вниз, обоих гостей увели уже в чумы. Женщины разбирали привязанную к нартам кладь, дети и подростки держали оленей, любовно оглаживали их спины, рога.
Олени, как собаки, вывалили языки, дышали крупно-порывисто, бурно. Их великолепные рога в мягких пушистых чехликах напоминали прихотливо разросшиеся ветви лиственниц, ветви, покрытые пушистым серым инеем. Старые животные спокойно позволяли себя гладить, молодые дичились, опрокидывали головы: глаза их выкатывались, наливались кровью. Привязанный за рога к нарте теленок-неплюй в испуге рвался всем телом, дрожал на тоненьких ногах. И у него, как у больших, рожки были в тёплом сером инее — куржаке. Невозможно было удержаться — не погладить его тёплую спинку. Я погладил.
Оленёнок подскочил на всех четырёх ножках, забился на привязи.
Я поскорей отошёл от него.
«Август, — вспомнил я с грустью, — месяц малиц. Шкура оленей августовского убоя идёт на выделку одежды».
Два крупных крутобоких быка были привязаны позади одной из нарт. Они точно знали, что их ожидает: покорно опустили головы, стояли смирно. И только глаза их ворочались, беспокойно следили за людьми.
В конце месяца малиц сойдёт с рогов пушистая кожица — живое оружие освободится от мягких ножен. Следующий месяц — месяц любви оленей — месяц жарких поединков между самцами.
Эти быки больше уже не будут участвовать в битвах, не услышат яростного стука окрепших рогов.
Неожиданное событие — прибытие оленей — взбудоражило всех самоедских собак. Ни одна уже больше не спала. Сгоряча сбежались, полаяли, но, узнав своих, замолчали, радостно замахали хвостами. Опять занялись своими делами: одни завалились спать, другие бродили, разыскивали, чем заморить червячка. Прибежавших из посёлка прогнали назад.
Я думал, встречу здесь крепкую, «классную» породу красивых самоедских лаек. Какой там! Собаки тут каких угодно статей и мастей. Есть крупные, широкогрудые зверовые собаки — на лося, на медведя; есть остроухие, всех цветов и хвост крючком — соболиные, беличьи лайки. Есть просто уроды-ублюдки.
Одна только порода резко отличалась от пёстрой стаи: маленькие, очень вытянутые, очень низкие на ногах и необыкновенно пушистые собачки. Издали такую легко, наверно, принять за песца: она и ростом, и статью, и цветом походит на этого зверька.
Маленькие эти собаки — знаменитые оленьи лайки, можно сказать — управляющие самоедским скотом. В кочёвке у такой собаки почётное место: на нарте хозяина. По указке хозяина она любого быка, любую важенку выбьет из стада, доставит куда надо. Её — маленькую — безропотно слушает целое стадо здоровых рогачей, боится её.
С нескрываемым уважением я разглядывал одного из этих пушистых управляющих, когда снова разразился неистовый собачий лай — теперь в посёлке. Управляющий только ушки поднял и остался на месте, а мимо нас торопливо, деловито, как на пожар, бежали большие собаки в посёлок.
Пошёл и я за ними.
Все собаки собрались у лавки Госторга. Там у крыльца стоял плотный кружок самоедов и зырян. Все с удивлением разглядывали невиданного зверя, только что доставленного с «Гусихина».
Удивился и я: зачем привезли сюда этого породистого густопсового русского борзого кобеля? Мне сказали: на племя.
Борзая собака в тундре! Это примерно то же, что земляника на северном полюсе.
В прежнее время любимая была потеха у богатых помещиков: травить зайцев, лисиц и волков борзыми. Охотник верхом на лошади, без ружья, с одним кинжалом сломя голову мчит по ровному полю за борзыми. Борзые добирают зверя — бывали и такие, что один на один брали матёрого волка. Охотник долой с седла — и сострунивает загнанного зверя, кончает его кинжалом.
Борзые и сейчас в цене у охотников-киргизов — в сухих и твёрдых степях. Но борзая в бесконечном болоте тундры — какая нелепость!
Местный служащий Госторга — зырянин с волосами цвета рязанской ржи — терпеливо вводит меня в историю местного собачьего вопроса.
Он говорит:
— Конечно, этой борзой тут не справиться. Однако промышленная собака тундре необходима: на песца. Ловушки — пасти, капканы — тем плохи, что много добычи тратится. Придавит песца, он и лежит неделю, две и больше, пока самоед не объедет весь свой район. А пока объезжает, звери и потравят добычу. Росомаха вон как далеко в тундру заходит. В капкане она песца не тронет: боится железа. А в деревянной пасти ни одного не оставит. Ошкуй — тому всё равно. Сойдёт со льдины на берег, пойдет шататься по тундре, — все капканы разворотит, все пасти. А тут ещё и волк, и сами песцы дохлым братом не брезгают. А собак таких, чтоб сама песца скрадывала и давила, — таких собак на всём Ямале четыре — пять наперечёт имеется. Вот и придумали мы новую породу вывести: песцовую ямальскую лайку с борзой помешать. Чтоб и чутьистая, и быстрая, и болот наших не боялась. Травит же борзая красную лисицу, почему ей белую лисицу не научиться травить? В конце концов добьёмся.
И он так дерзко тряхнул ржаными своими кудрями, что я подумал:
«Такие… пожалуй, и вправду добьются».
Он повёл меня в лавку, усадил на пустой ящик из-под консервов, запер двери и стал рассказывать. Прежде — при царе — ссыльный «за красный бантик», потом рабочий в тюменских верфях, теперь — простой работник прилавка, он говорил простыми словами, но рассказ его ложился, как мостки через зыбкую тундру.
— Олень — раз, рыба — два, песец — три. На этих трёх китах здесь вся жизнь держится. Вот взялись мы за китов в первую голову. Оленеводческий совхоз устраиваем, бедняков в колхозы сбиваем, борьбу с копыткой да с сибиркой ведём: пропаганда идей и помощь ветеринаров. В пятилетку положено до двухсот тысяч оленей довести в совхозах, и всю бедноту в оленеводческие колхозы объединить. В Обдорске назначено завод строить: замшу будет вырабатывать из оленьих шкур.
Песец — тоже дело надо поставить. Сила ведь — заграница с руками рвёт. Прошлый год песцовый был, как заяц песец шёл. Шестнадцать тысяч песца собрали с одного нашего тобольского севера, — шутка ли? Товар нехитрый, а тоже — поди его возьми! Богачи препятствие делают. Прежде, бывало, богатая самоедка идёт — вся в пуху и колокольчики на руках: дескать, вот она — я, подходи поближе да кланяйся пониже. Теперь — наоборот: прячут всё, самыми бедняками прикидываются. Приедет такой — у него два-три песца. А может это быть? Не может, потому у него оленей тыщи, пастей у него, капканов по всей тундре раскинуто, все орудия производства в его руках. Так он чего делает: он в этой фактории три песца продаст, в другой — три: это чтоб не знали, какой он богатый есть. А десятка два шкур с подручными бедняками в Уральские горы пошлёт. Там у них тайные скупщики, частники берут, — шут их знает, как ещё уцелели! А государству, социалистическому хозяйству — убыток.
Песцовый промысел тоже на рельсы ставим. Собачку вот придумали новую — не знаю, что выйдет, а так думаю: добьёмся же своего. Песцовому звероводству фундамент закладаем: видали кормлёнков? Тоже образцовую государственную песцовую ферму устроить проектец есть: для примеру. Ловушки надо придумать такие, чтобы никакой зверь добычи травить не мог. Капканы свои теперь, не заграничные, — должно на всех хватить. Вот только не наладились ещё настоящие делать: не держит ничего пружина. Вы там об этом доложите, в центрах-то. Пускай проверят да покрепше сталь дают.
Ещё скажу: рыбная ловля. Спору нет: по этой части последние годы толково взялись. Такую культуру астраханцы показали — тут и не снилось никому. Однако есть возражение. Тоже вы в центре, в Свердловском, к примеру, Комитете Севера поговорите насчёт этого. Дело такое: мéли тут кругом. Есть, конечно, зерлá, да их не больше десяти процентов, а то всё салмы. Юг как начнёт дуть — вся вода уйдёт, на семь вёрст ходит народ от берега.
А рыбницы у нас теперь моторные. Стук от них по воде идёт далеко, рыбу распугивает. И ещё — нефть пускают. Была бы глубь — ничего, а с мелкого места вся рыба уходит. Раньше я так полагал: оппортунизм это, оппортунисты про вред моторок выдумали, чтоб, значит, по старому способу рыбу ловить. Однако сам теперь задумываюсь: может, и так.
Самоеды — у них свои приметы. Они знают, в каком году здесь рыбе не быть, в каком — быть. Рыба, говорят, бывает здесь три года подряд. Потом два года отдыхает. В прошлом годе, как сюда приехал, я и подумал: оттого и нет второе лето рыбы, что время ей отдыхать. А самоеды мне говорят: гляди, будущий год придёт, рыба опять уйдёт. Она, говорят, стукалок этих никак не терпит. По-ихнему и вышло: весной пришла рыба, и вот как вымело. Тут меня сомненье и взяло: а может, в самом деле местные такие условия. Надо бы поверку сделать, опыты, как говорится, поставить. Ясно, сразу нельзя, чтоб всё хорошо. Но добьёмся, не может быть, чтоб не добились.
* * *
Когда выходил я из лавки, был уже вечер. Собеседник мой выскочил на крыльцо и ещё крикнул мне вдогонку:
— А оснастка рыбницам нужна не астраханская, непременно норвежская. Потому ветров постоянных здесь нет, переменные здесь ветра. Вы в Комитете Севера об этом тоже поговорите.
И я опять подумал:
«Таких побольше — добьются».
* * *
Я застал Валентина за чаем с хозяином.
Кочетов, как все портные, склонен к философии и цветистым выражениям. Безостановочную речь свою он то и дело перемежал двумя никчемными и каждый раз неожиданными словечками: «вообще напежить».
— Я двадцать три года, — говорил Кочетов, — двадцать три года, вообще напежить, служил у крупного эксплуататора, у американского капиталиста Зингера. Делец был — куда там нашим купцам: размах. Ну, однако, таких делов, вообще напежить, как нынешние, не мог. Подумать надо: ведь целину подымать. А какую, позвольте вас спросить, целину? Целину жизни, больших, вообще напежить, тысячелетий пласты. А целина та вечной мерзлотой скована, и в той вечной, вообще напежить, мерзлоте люди со всей своей жизнью вмёрзли, подобно как ископаемый допотопный зверь мамонт.
В старинных книгах чего только не брехали на самоедцев. Не интересовались? Прежде ндравилось мне, я и на память затвердил. Писалось: «летние месяцы живут в море, а на сухо не живут того для: того же месяца понеже тело от них, вообще напежить, трескается и они тот месяц в воде лежат, а на берег не могут вылезти». Слыхали такое, а? Да ни один самоедец и плавать-то не умеет, купаться их палками не загонишь. Моется самоедец один-единственный раз в жизни: когда на свет родится, мать его водицей али снегом ополоснёт — вот тебе и всё, вообще напежить, купанье. Мыло в интегральной лавочке берут, покупают мыло, и очень даже любят. А зачем, думаете? Глаза лечить! Глаза у них у всех больные: дым в чумах и грязища. Так они глаза мылом трут: щиплет, вообще напежить, он и доволен, самоедец-то. Малые дети, а чтоб сказать — несознательные, этого нет. Вполне к развитию способный народ, все работники про это вам подтвердят.
Я спросил у Кочетова о госторговском работнике с ржаными волосами.
— Дельный человек, ничего не скажешь, и честный, о копеечку не споткнётся. Обдумчивый, вообще напежить, человек: всё про жизнь думает, как здесь её лучше устроить. Партейный.
— Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки.
Шекспир, «Король Лир»И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Б. ПастернакГлава десятая
Простая серая ворона. — Тропочкой подле гóру. — Тальниковые куры. — Ягоды. — Водяной сармин. — Жалкая старушка цепляется за ноги. — Священный ханновей. — Индусская сказка про жабу и тысяченожку. — Гроб с колокольчиком. — Тревога. — Север. — Сила не берёт. — Священная лиственница.
Первый раз в жизни очутился я в таком месте, где нет ни воробья ни галки. О кукушке здесь и слыхом не слыхивали.
«Одна ласточка не делает весны», — говорит старинная поговорка.
Тут ласточек совсем нет. Нет даже грача. Того самого грача, что у нас в Ленинграде прилетает первый и делает весну. Тут первая из перелётных прилетает ворона, обыкновенная серая ворона.
Зимой самоеды живут на месте. Зима — тяжёлое время. Им только бы дотянуть до весны.
И вот прилетает ворона. Этот день — большой день, единственный в году праздник.
Уóрнга-яле, ворона-яле — вороний день.
День самоедского Нового года.
С этого дня самоеды начинают кочёвку, чум за чумом уходит на север.
Следующий Новый год — Покрóуя-яле — 14 октября. С этого дня последние чумы снимаются с севера Ямала и уходят к югу на зимовку.
— А что у вас тут петухи не поют? — спросил я хозяйку за утренним чаем.
— А нет их. Пытали курочек держать, да всех собаки порвали.
— И голубей нет?
— Летось прилетели, жили, да зимой всех холодом побило.
— А где у вас тут поблизости птицы побольше, мелкой и всякой?
Хозяйка кинула рукой вдоль берега.
— Тропочкой, всё тропкой подле гору пойдёте, пока не ляжет вам поперёк Хэнская речка. Как будет вам Хэнская речка, тут сор большой начнётся. На том сору всегда утка, а в гору пойдёте — по левую руку всё гора будет, — там озёра и на озёрах разная птица.
* * *
Разная птица началась куда раньше Хэнской речки — сразу за чумами. В кустах то и дело перепархивали, мелькали красными головками чечётки, потрескивали дрозды. На открытых дюнах перебегал рюм — рогатый полярный жаворонок. Сиде-нице — «дважды кладущий яйца» — называют его самоеды; в короткое полярное лето эта расторопная птичка два раза успевает вывести птенцов. И по всему берегу провожала нас сáдобе-пыесаркаптáм — «чёрту нос затыкающая» — белая трясогузка, а впереди бежал и кланялся, кланялся хóэд-сармик — «святой зверь» — зуёк. Зверь ли, птица ли — у самоедов всё одно слово — сармик. Просто сармик значит зверь. Просто зверем, как и у нас во многих местах в народе, у них зовётся волк.
Чуть заметная в песке тропка отошла от воды, зарылась в кустарник, и тут вдруг у самых наших ног — ко-ко-ко! ко-ко-ко! — и как ветром взметнуло бумажки — взлетели крупные белые птицы.
С детства привычным движением, движением бессознательным и более быстрым, чем мысль, я сорвал с плеча ружьё и раз за разом выстрелил в улетающую стаю.
— Оглаушил, чёрт, на оба уха! — выругался Валентин. — Стебает, сам не знает куда…
Но такая быстрая стрельба, без прицела, как камнем швыряешь, редко бывает неудачной у привычного к дробовику человека. За кустами мы нашли одну убитую птицу, немножко подальше — другую.
Это были тальниковые куры — нéро-хóнде — тундряные белые куропатки.
Скоро мы дошли до маленькой Хэнской речки.
Я вышел по речке к обширному сору. Здесь на песок медленно и полого выкатывались длинные волны. Птиц нигде не было видно.
Неподалёку на берегу лицом к воде стоял самоедин и от времени до времени принимался кричать дико и пронзительно. Наверно, он и распугал всю утку. Слов я не понимал, но явно было, что он кого-то звал.
А в руках он держал длинное ружьё.
Напрасно я всматривался в широкий водяной простор: он был пуст. Нигде ни лодочки, ни даже утки или халея.
Самоедин опять закричал. Теперь похоже было, что он обкладывает кого-то нехорошими словами, русскими словами.
«Кого это он? — недоумевал я. — Воду, что ли? Или ветер?»
Я тихонько приблизился к нему.
Вдруг далеко на воде мелькнуло что-то тёмное, круглое: мне показалось — мокрая человеческая голова. Но она скрылась так быстро, что я не поручился бы за свои глаза: может, и привиделось.
Самоедин опять закричал, ещё громче прежнего, и поднял ружье.
Я подошёл к нему вплотную.
Он обернулся, и приветливая улыбка замаслилась на его тёмном лице.
— Кого это ты?
— Сало нада, ремень нада.
Я ничего не понимал: из утопленника, что ли, решил он добыть себе сало и ремень?
Тут опять мокрая чёрная голова высунулась из воды, ещё дальше от берега, и самоедин закричал.
На этот раз я успел разглядеть, чтó это была за голова, и расхохотался.
— Такой охота, — весело объяснил самоедин. — Человек на берегу кричать, — водяной сармик не терпит. Приходит близко глядеть. Тогда стрелять.
— Морской заяц?
— Морской заяц большой. Этот маленький. Нерпа, нерпа.
Он ещё покричал несколько раз. Но зверь не показывался больше.
Потом я узнал, что это здесь обычный способ охоты на тюленей.
Нерпа до смешного любопытна. Она не может удержаться, чтобы не подплыть, не посмотреть, кто это стоит на берегу и кричит. Тут её и бьют.
В Обской губе два тюленя — нерпа и крупный морской заяц.
Шкура их идёт на ремни для постромок и на пошивку непромокаемых сапог. Жир самоеды едят сами и кладут в песцовые ловушки для привады.
Зимой промышляют тюленей на припае[11] у продухов. Это очень опасная охота: большие куски льда часто отрывает от припая и вместе с охотниками уносит в океан.
* * *
На горе открылась нам безотрадная мокрая степь — тундра. Она холмилась, кой-где на склонах стояли невысокие корявые деревья, распластались кустарники — лазуны. В низинах и падях поблёскивали озерки.
— Смотри: княженика, сморода! — крикнул из кустов Валентин.
Удивительным кажется, что эта вымокшая насквозь земля, такая хлипкая и беспомощная, может еще родить плоды.
Но ягод мы тут нашли много. Кроме княженики и очень кислой и мелкой красной смородины нашли множество рясной морошки — золотистой, распаренной, сладкой, — нашли много брусники.
Ещё удивительней было найти на корявой низкой сосенке большое беличье гайно из сучьев, с сухим мохом внутри. Оно было заметно издалека, и его можно было достать рукой.
Я прямо глазам своим не верил: что делать здесь, в тундре, лесному зверьку? Как белка живёт здесь, на низеньких, редких деревьях, среди этих мокрых пространств?
Хозяйки дома не оказалось. Мы пошли дальше.
Начался мох, олений мох — ягель. Сухой — он ломкий и хрустит под ногами, как жухлый осенний лист. Но тут в нём столько влаги, что идти по нему — наказанье.
Сапоги невыносимо увязали в мох, почва под ногами качалась.
Тело исходило потом, к нему липла одежда, а лицо и руки полосовал, жёг холодный ветер.
Мы спустились в низинку. Ветер перестал мучить, но облепили, беспрерывно кололи мошки.
Перед нами лежало небольшое озерко, всё затянутое травой. Его окружал низкий кустарничек.
Мне некогда было разглядывать, что это за растения. Валентин уже грохал в озерко.
Я торопливо пробирался через кустарник. Цепкие ветки охлёстывали сапоги, хватали за ноги, не давали идти, не пускали к озеру.
Это сопротивление раздражало, выводило из себя. Казалось, густая, жадная растительность нарочно цепляется, нарочно держит.
Наконец ноги совсем увязли в каких-то не то корнях, не то ветвях, ползущих по земле.
Я должен был остановиться, помочь ногам руками, — и тут внимательней взглянул на державший меня кустик.
Что за дикая нелепость? — Берёза!
Коричневатой кожицей покрытый ствол, крошечные с зубчиками листья — ошибиться было невозможно: этот жалкий кустик, это пресмыкающееся растеньице — взрослая, даже престарелая берёза. Я, как великан выше леса стоячего, запутался ногами в берёзовой роще!
Стало смешно и горько: во что превратился тут лес! Север бросил его на колени. Север превратил его в жалкого ползучего гада.
Старушка крепко обняла мои ноги. Я осторожно высвободился и пошёл дальше.
Мы смело вошли в неглубокую воду озерка: ведь, тут не провалишься, не ухнешь в окно: под водой всюду твёрдая почва — вечная мерзлота.
Здесь не нужна охотнику собака: утки снимаются из-под самых ног или спасаются вплавь. Я стрелял взлетающих, Валентин — уплывающих.
Что-то просвистело в воздухе у меня за спиной. Я обернулся.
Священный ханновей!
Мы охотились в его участке. Он не мог потерпеть этого, это было нарушение его прав.
Он тем и славен у самоедов, за то и считается священным, что охраняет живущих вокруг его гнезда птиц; никому не позволяет их трогать.
В тундре постоянно находят гнёзда священного ханновея среди гнёзд гусей и казарок. Сильный и смелый хищник, он не только сам не трогает мирных своих соседей, но и защищает их от других хищников. К его владениям не смеет приблизиться ни коварный песец, ни лютая полярная сова, ни сам могучий орлан-белохвост. Священный ханновей кидается на них с высоты, и с позором от него бежит и песец, и сова, и громадный орлан. В тундре нет птицы отважней и быстрей священного ханновея.
Мы невольно залюбовались его полётом. Косые острые крылья стригли воздух как ножницами. Он легко взносился вверх и кидался оттуда на нас с такой быстротой, что глаз успевал схватить только мгновенно тающую в воздухе серую полоску. Он падал к самым нашим головам и в последний миг с непостижимой ловкостью круто бросался в сторону, делал дугу и взмывал в высоту.
— Теперь понимаю, — сказал Валентин, — почему в песнях поётся о соколиной отваге. Как русское-то его имечко?
— Сапсан, перелётный сокол. Тронутся гуси и утки на юг — и он полетит за ними. Тогда для них пощады не жди от него.
* * *
— Пошли, — говорит Валентин. — Солнце уже низко, а мы не ближе как вёрст за десять от Хэ.
— Куда же ты пошёл?
— Домой.
— Стой! Хэ не в ту сторону от нас. Вот в эту.
— Смеёшься? Мы же отсюда пришли. Ветер всё время был нам в затылок.
— Значит, ветер переменился. Хэ в этой стороне.
Я показывал прямо. Валентин — влево. Никто из нас не был до конца уверен в своём направлении. Кругом простиралась однообразная тундра, она холмилась, и каждый холм был похож на другой, как в море похожа волна на волну.
Мы колесили по тундре с утра, компаса у нас не было с собой, мы полагались только на свой инстинкт охотников и бродяг: идёшь по совершенно незнакомой местности, не думаешь о возвращении, а сам бессознательно примечаешь направление.
Если б не заспорил Валентин, я бы так бессознательно и повёл его в ту сторону, куда, казалось мне, надо было итти.
— А чем ты докажешь, что сюда надо? — спросил Валентин.
Это был жабий вопрос. Такая ехидная жаба была в старой индусской сказке про тысяченожку.
Тысяченожка чудесно танцевала на большом пне, освещённом солнцем. Весь лесной народ собрался смотреть её танцы.
Приплелась и Жаба. Жаба завидовала тысяченожкиной славе.
И вот, когда тысяченожка взошла на пень и хотела уж начать свой дивный танец, жаба выползла вперёд и спросила:
— Скажи, прелестная, когда ты, танцуя, поднимаешь свою пятую ножку, что делает твоя четыреста сорок четвёртая ножка? А когда ты опускаешь на землю семьсот двадцать первую свою ножку, что делаешь ты своей девятьсот третьей ножкой?
Тысяченожка стала думать про свои ножки, — что каждая делает во время танца, — и всё это кончилось ужасно печально: тысяченожка не знала больше, как быть со своими ножками, какую поднять, какую опустить. И чудесный танец не состоялся: она не могла сдвинуться с места.
Мы стали думать, какое направление правильное, и каждый разуверился в своём направлении и не двигался с места.
Конечно, мы заблудились, закружались, как тут говорят. Солнца давно не было: оно скрылось за тучами.
Мы подумали и сделали так: разделили угол между моим и его направлением пополам и пошли по этой средней линии. Надежды, что это и есть правильный путь, ни у кого не было. Зато оба в равной мере отвечали за свою половину ошибки.
Это было неверно, но здорово справедливо.
Мы пошли, и священный ханновей полетел за нами.
Ветер стал ещё холоднее.
Мы то взбирались на холмы, то сбегали в сырые низины. В низинах росла благодатная золотая морошка, на склонах ютились кусты кислейшей красной смородины и редкие невысокие лиственницы. На вершине холмов ничего не росло, кроме травы.
Холодный ветер тут сёк лицо, как саблей.
— Тут ни зверь ни птица не выдержит, — решил я вслух. — Самая пусты…
Перед нами, будто кто перину распорол, пустил пух по ветру: брызнула из-под ног громадная стая белых куропаток.
* * *
Нагруженные дичью, мы шли уже час, шли другой, священный ханновей давным-давно отстал от нас, вернулся в свои владения, — а Хэ всё ещё не было видно.
Кругом ничего не было, кроме всё той же холмистой серой тундры да серого — в тучах — неба.
От времени до времени мы замечали на кустах белые кости, белые голые головы с чёрной дыркой вместо носа: рога и черепа оленей. Местами рога нагромождены были высокой кучей — жертвенные места самоедов. Всё, так сказать, полезнейшее утильсырьё, драгоценная кость.
На одном из холмов мы наткнулись на сколоченный из белых досок гроб. Над ним стояли шесты с перекладиной, как маленькая виселица. Рядом валялась полозьями вверх полуистлевшая нарта.
На перекладине маленькой виселицы висел колокольчик.
Самоеды — родственники похороненного в гробу — приезжают к нему в гости, звонят в колокольчик: «Здравствуй!» Рассказывают ему про свою жизнь.
Ни черепа на кустах, ни гроб с колокольчиком не развеселили нас. Мы молча и мрачно шагали по вязкому мху, шли и шли, и надежда увидеть широкую воду, ночевать в тепле, под крышей, таяла с каждым шагом.
Опять мы опустились в падь, опять полезли на склоны. И то ли склон был круче, то ли холм выше, то ли сами мы начали выбиваться из сил, только этот взъём показался нам куда тяжелей других.
Мы с трудом взобрались на него — и тут неожиданно внизу открылось нам море-Обь.
Страшное оно стало: потемнело, всё в сердитых белых баранах.
Ветер дул с севера.
Мелкие птицы все попрятались. Затаённая какая-то тревога чувствовалась вокруг.
Мы вышли за Хэнской речкой. До дому оставалось два-три километра. Мы отыскали тропку подле гóру, быстро по ней зашагали.
Впереди показалась стая чёрных лодок. Как лебедь среди уток, возвышался среди них белый пароход. Лодки направили носы в одну сторону и молча плясали на месте странный, зловещий танец.
Показались чумы. В сумерках они тоже были чёрными. Уже доносился до нас густой, тяжкий запах. Ни одного человека не было видно. И молчали собаки.
Халеи, качаясь, белыми, бесшумными тенями проносились в воздухе, таяли в сумерках.
Облака быстро, точно в бешеном бегстве, в беспорядке летели низко над головой.
— Стой! Что это?
Мы разом остановились, прислушались.
Странный шум: будто стук костей о кости, будто сотни скелетов собрались там, за кустами, и пляшут, побрякивают костями. Совершенно непонятный звук и потому жуткий.
Чтобы скорей покончить с неизвестностью, мы напрямик двинули через кусты.
Сети! Они висели на жердях. Ветер шевелил их, подымал, швырял. Еловые нáплывы, прикреплённые к верху сетей, стукались о кибасы — кирпичи в берёсте, прикреплённые снизу.
Вода заметно прибыла.
Собак — ни одной.
И на улицах посёлка — никого.
Якимыч встретил нас на крыльце.
— Вы? Ну, слава те тетереву!
— А что?
— Как что? Уж думал, в тундре закружались или на беду в лодке по уткам отправились. Север же!
Слово это — север — он произнёс так выразительно, точно хотел сказать: дьявол.
Только тут мне вспомнилось, что у самоедов север — сердитый бог, что-то вроде дьявола. Живёт где-то во льдах полуночного моря, никто не видел — где. Как дунет оттуда — вся жизнь замирает, время останавливается, всё живое ложится на землю, прижимается к земле: переждать, потерпеть, пережить.
Мы порядком застыли и были голодны: с утра, ведь, кроме ягод, ничего во рту не было. Заботливая хозяйка уже давно ждала нас, подогревала самовар. Из печи появилась уха из моксуна, пирог с осетриной, вкусная жирная варка — местное блюдо: истолчённый в порошок сушеный осётр в масле.
Пир окончился морошкой и чаем. Мы ожили и решили ехать ночевать на пароход.
Хозяин замахал на нас руками.
— Что вы, что вы! С лёгкой силой ли против эдакого ветра? Тут мотор, вообще напежить, и тот не выстоит. Три дня теперь на берегу жить будете, три дня будет север дуть.
— Почему же три? — улыбнулся я.
— Север, он, вообще напежить, как примется, так три дня подряд дует, а то шесть. На шестой день к вечеру если не уляжется — ещё три дня прибавь. А летошний год было — двенадцать суток дул.
— Значит, нам во что бы то ни стало необходимо сейчас на пароход.
— Едешь, Якимыч? — спросил Валентин.
— Попытаем, если хотите.
* * *
Огромная пустота гудела. В полутьме бурлила, грохотала вода, шипели на песке волны. Пароход, казалось, вдвое дальше от берега, чем был.
Но он стоял на старом месте: так прибыла вода.
Мы надели ружья на спину, наметили лодку поближе, пошли к ней по воде.
Пологие волны упруго толкали, сбивали с ног, обдавали брызгами.
Всё-таки нам удалось дойти и вскочить в лодку.
Мы насадили вёсла на тычки. Вёсла тут длинные, скорей морского, чем речного типа, но с нелепой лопатой на конце. Уключина тычком торчит из борта, на весле — железный ободок для неё.
Якимыч сел на рулевое.
Пока Валентин тащил якорь, мы нагребались изо всех сил, но нас легко отшвырнуло к берегу.
Валентин бросился к своему веслу, и лодка — хоть медленно — пошла вперёд.
Главное было: когда подкатывал под нас вал, поднимал, — не дать ему увлечь лодку с собой, вырваться, перекатиться через него.
Мы вырывались и летели вниз. И сейчас же снова нас подхватывал упругий вал, поднимал вверх.
Было такое ощущение, будто передвигаемся по спинам каких-то горбатых чудовищ, стадом бегущих к берегу. Со спины на спину, со спины на спину, — и каждая новая спина всё выше и выше.
Вздынутая на хребет лодка почти вылезала из воды и сильно парусила. Север как руками упирался нам в спины.
Якимыч что-то подбодряющее кричал с кормы.
Так одолели мы половину расстояния до парохода.
Вдруг треск. Валентин с размаху полетел на дно лодки ногами вверх.
Прежде чем мы успели сообразить, что случилось, лодку подхватило, повернуло, нас обдало водой раз и два — и вышвырнуло вместе с лодкой на берег.
Оказалось, Валентин сломал весло и часть борта с ним. К счастью, он не сломал себе шеи при падении.
— Довольно? — спросил Якимыч.
— К чертям лешачим! — злился Валентин. — Мы доехали бы, если б не эта гнилая деревяшка. Лодку надо взять побольше, тяжёлую, чтобы не швыряло, как спичку.
Мы взяли одну из лодок, лежащих на берегу, скатили её в воду. Вода долго не хотела принимать её, как капризный больной лекарство, — выплёвывала назад.
Наконец поехали.
Ветер усиливался с каждой минутой. Он стал твёрдым. Мы точно сквозь тяжёлый резиновый занавес старались пробиться.
Лодка была тяжелей прежней, вёсла рвали руки в кровь.
Якимыч орал что-то с кормы, клочки слов чуть долетали до меня.
— …ще! Нава… лись!.. Ддай!.. Ддай!
Якимыч то взлетал куда-то в высоту, то проваливался ниже моих ног.
Чудовища под нами росли и росли, бежали к берегу.
Я уже почти не мог двигать руками, работал одним телом — легко вперёд и с мукой, со стоном — назад. Кругом ревели чудовища.
— Наддай!.. Ддай! Близко! — орал Якимыч.
Я повернул голову, скосил глаза.
Тёмная железная корма парохода была в каких-нибудь тридцати метрах от нас, встала высоко над головой, ушла куда-то книзу.
В припадке яростной надежды я с новой силой налег на весло.
— …ддай!.. Ддай!
Прошло время — не знаю сколько: мне казалось, очень долго.
Я опять скосил глаза.
Железная корма парохода была на том же месте.
Ещё прошло время. Я уж не грёб, не слышал рук, вёсла в них. Спина страшно ныла, тело не сгибалось.
«Как он может один?» подумал я про Валентина.
Он сидел у меня за спиной, на носу. Видеть его я не мог.
Теперь я слышал только грохот железа, смотрел только на краешек парохода.
Он медленно-медленно отдалялся.
— Сил…… рёт! — донеслось у меня из-за спины.
— А? — выдавил я у себя из горла.
— Сила не…
— …ддай… ддай! — неслось с кормы.
— Идиотство! — прогремел вдруг у меня над самым ухом голос Валентина. — Говорю же: сила не берёт!
И сейчас же меня сшибло с места, кинуло на дно, больно столкнуло с Валентином. В лицо ударило водой.
Я ухватился за ружьё: не потерять, сейчас выбросит из лодки!
Но в воду нас не выбросило.
Лодка вылетела на песок и повалилась на борт. Нас выбросило на песок.
* * *
На следующий день север ещё усилился.
Наверно, чтобы отвлечь нас от мысли опять попытаться попасть на пароход, Якимыч повёл нас показывать священное дерево самоедов.
Он долго крутил нас по оврагам, остановился наконец, сказал:
— Вот это место.
Но посреди кустов мы нашли только толстый пень.
— Наши спилили, — решил Якимыч, и повёл нас дальше. — Подальше тут ещё было. Вот на этой лиственнице было…
Было! Мало ли что было. Теперь ничего нет на этой лиственнице. Напуганные слишком ретивыми антирелигиозными пропагандистами, самоеды только на словах отрекаются от своих древних богов и поклоняются им тайно.
Всё-таки мы его нашли — священное дерево дикарей — в скрытом от глаз месте, на склоне оврага, среди густого кустарника.
Это была красивая сильная лиственница. На её крепких ветвях висели: оленья шкура с черепом и рогами, цветные тряпки, ярко-синяя полоска грубой материи с двойной цепочкой из тонких железных колец. На таких цепочках некоторые из самоедов носят свои ножи.
Шкура и тряпки истлели, заметно было, что жертвы принесены давно.
— Теперь уж редко ходят. А раньше, бывало, соберутся всем скопом, оленя заколют, кровь выпьют, мясо тут же съедят, а шкуру богу повесят.
* * *
На ветру мы здорово помёрзли. Пришлось опять забираться в избу.
Кочетов занимал разговорами.
— Это разве север? Так — летний, вообще напежить, ветерок. Вот осенью попоздней двинет — это север!
Тому назад два года, вообще напежить, случай был: «Инденбаум» — пароход, тогда «Иван Самарцев» назывался — попал в север у берега. Оба якоря бросил, машина, вообще напежить, на полный ход работала. — Так чтó вы скажете: сорвал и с якорей, да как швыркнет — за пятьдесят сажен на песок! Эдакую махину закинул…
А вот как уляжется, вообще напежить, вода сойдет, самоедцы сейчас берегом бегут, подле гóру. Север-то волны кидает в берег, обламывает его водой. Бывает, так пластом и отколется берег. А там тебе чистый лёд сияет — стена. В той ледяной стене самоедцы допотопные кости находят: клыки мамонта-зверя и даже, вообще напежить, целые, бывает, шкелеты. И вот поди ж ты, вообще напежить: кругом лёд, по льду круглый год ходим — а ледников местное население совсем, вообще напежить, не знает. Икра, к примеру сказать: ведь только самую свежую и едим. А долго ли её без ледника свежей продержишь? Почитай девяносто процентов пропадает, вообще напежить, зазря.
* * *
И ещё день прошёл, а север всё дул. Мы вылезали только в тундру — по низинкам — за дичью.
И только к вечеру — как солнцу садиться — ослабел ветер чуть-чуть. Мы воспользовались этими минутами, чтобы проскочить на лодке к «Гусихину».
Однако через полчаса после захода север принялся, казалось, с удвоенной лютостью.
Только к ночи третьего дня он заметно стал терять силу, волны не так уж громыхали в железные бока «Гусихина».
Кочетов предсказал верно: север дул полных трое суток.
А из-за моря, моря да моря синего,
А из того же раздольица великого,
Ай выбегает суденышко малешенько.
О. Э. Озаровская. «Пятиречие»Глава одиннадцатая
Север улёгся. — Кочегар. — Пасть Вселенной. — Прощальная песенка Валентина. — Шаланда уходит на север. — Зигфрид освободит Брунгильду. — Вперёд.
Утром проснулись в каюте — светло, не качает. Покойствует широкая гладина воды: север кончился.
«Гусихин» давал свистки, делал последние приготовления к отходу.
Я пошёл за кипятком, стал в очередь против кочегарки.
В четырёхугольном чёрном провале за загородкой работал молодой кочегар. Размеренным размахом рук он метал в жерло печи тяжёлые длинные поленья, в глубине печи взмётывался огонь — и светлые волосы кочегара вспыхивали неистовым золотом. Кочегар работал весело, в чистой белой рубахе, в золоте волос.
Накидав дров, он поднял длиннейшую кочергу из чистого серебра и спокойно стал шуровать ею в глубине огненной пасти.
* * *
Потом мы с Валентином поднялись на палубу — бросить последний взгляд на Хэ.
Там, на горе около голой рощицы деревянных крестов вились дымки, копошились люди.
Тут начало владений полуночного льдистого океана. Последняя утлая полоска земли, а дальше — только небо да вода. Пустота между ними — разинутая пасть Вселенной. Дунет из неё север — как смертью дыхнёт из межпланетных пространств.
Нелёгкое, ох нелёгкое дело — завоевать Север! Сколько уж смелых человеческих жизней сглотнула эта жадная пасть. И сколько ещё сглотнет.
Валентин оперся о перила, меланхолически напевает себе под нос:
Иногда бывает Так больно и обидно: Плывешь, плывешь — А берега не видно.Одна из моторно-парусных шаланд среди чёрных лодок распустила паруса, затукала и плавно двинулась в море — прямо на север.
Кто-то маленький на ней замахал нам шапкой.
Мы помахали в ответ.
— Якимыч, — сказал Валентин, — в Ныду поехал.
«Ныда, — подумал я. — Ведь это ещё дальше на север. И всё-таки там фактория Госторга. И там опять — „берега не видно“».
Ещё дальше на север, на Ямале, против Тазовской губы — Новый порт. И там люди живут.
Вспомнился моряк, с которым разговорились по дороге сюда. Ведь вот влечёт же его чем-то эта жизнь, вернулся назад.
На самом севере Ямала будет эту зиму экспедиция Рыбтреста зимовать: командир с глазами под крылечком, юный радист, кок, Пузатых.
Дальше — необитаемый остров Белый, ледовитое Карское море — и Новая Земля.
На Новой Земле — опять самоеды, две радиостанции.
За Новой Землей снова океан, льды — и Земля Франца-Иосифа. И там уже высадился, укрепился человек: там новая советская радиостанция, самая северная в мире. Планомерно и неотступно человек все дальше проникает на север.
Мне стало вдруг весело:
— Какой же тут Конец Земли?
И разве есть вообще Конец Земли?
Или конец стремлений человека?
Мелькнули опять перед глазами знакомые лица — моряк из Нового порта, капитан Иван Иванович, работник Госторга с ржаными волосами. Вспомнился Комитет Севера в далёком Свердловске и склонённое над синей картой острое лицо Василия Николаевича, и лица астраханцев-ловцов. Все эти лица слились в одно лицо — лицо молодого кочегара в золоте озарённых пламенем волос. И, как песня, встал жизнерадостный образ Зигфрида — теперь такой понятный и близкий образ.
И так сразу спокойно и ясно стало: нет человеку конца, одолеет новый человек Север, освободит закованную в холодные латы Брунгильду от тысячелетнего сна. Он под самым полюсом пшеницу посеет, пустит там ребят ползать и сладкую выведет для них землянику.
Разинутая пасть Вселенной — только ворота в неизведанное.
Оторвётся новый человек от родной Земли, полетит в ракете Циолковского в эфир, через межпланетную пустыню — открывать новые небесные земли.
Весело проводил я глазами на всех парусах уходящую в открытое море чёрную шаланду.
Она стала величиной с лодочку, потом с орех, потом со шляпку гвоздя — и ушла — как гвоздь вколотили — в прямую тонкую линию, разделившую воду и небо.
В рубку прошёл командир.
Он открыл деревянный ящик и взглянул на хронометр. Я видел, как чёрная тонкая стрелка прыгнула по белому лицу циферблата — точь-в-точь как на больших вокзальных часах в Ленинграде.
Командир быстро занёс что-то в судовой журнал и наклонился к трубке в машинное.
— Вперёд, — сказал командир.
Железный «Гусихин» вздрогнул, послушно повернулся и медленно пошёл от берега.
Страна зверей
Без человека
Поднимается, встаёт волна-небоскрёб и падает, дальше встаёт и дальше падает. Идёт дни, идёт недели, месяцы: от южных полярных вод через горячий пояс тропиков в ледяные широты севера. Тысячи, тысячи километров воды, нигде ни краю, ни конца — Великий океан.
И вдруг впереди торчит из пучины чёрная спина камня. Волна не замедляет и не прибавляет ходу. Тяжкой водяной грудью спокойно нацелилась в чёрную спину: смахнуть и двинуться дальше, дальше, дальше.
Пала, ударила в камень и разбилась. И бегут потоки, бегут струи, огибают неподвижную каменную спину.
Другая, новая волна бьёт в чёрный камень и разбивается.
Волна за волной бьёт в камень. Его без устали грызут бешеные буруны.
Камень стоит.
Проходят лета и зимы. Проходят столетия.
Проходят сотни тысяч лет.
А камень стоит.
Медленно-медленно выпирают его из глубины океана подземные силы. Иногда толчками. Тогда по камню пробегает судорога, он вздрагивает, как живой.
На нём целая страна — горы и долины. Зимой их заваливает снегом. Летом низкая тундра долин обрастает, как шерстью, травой. Трава выше леса: деревья тут чуть поднимаются над землёй.
Летом в речки и озёра из океана идёт рыба. Она так густо набивается в реки, что вода выходит из берегов.
Миллиарды морских птиц покрывают прибрежные скалы.
Но главное в этой стране — звери.
Сухопутный зверек — голубой, остромордый, пушистый. С лису ростом. Он роет норы в сухой тундре, многотысячными стаями шатается по берегам.
Длинный, узкий, как обрывок громадной змеи, ныряет в волнах толстомордый зверёк. Стадами играет в воде. Карабкается на скалы короткими перепончатыми лапками, к груди прижимает детёныша.
Летом выползают из воды бурые звери ростом с человека, с ушами, свёрнутыми трубочкой, с плоскими культяпочками вместо ног. Ковыляют по суше с трудом. Их миллионы. Они необозримыми стадами лежат на прибрежном песке и камнях, выводят гладких чёрных детёнышей. Осенью с ними уходят в воду — исчезают до весны.
Иногда в воде замелькают вдруг косые чёрные плавники, чёрные спины зверей, похожих на громадных акул, и тогда все другие морские звери спешат выбраться на берег.
А в мелкой воде под берегами, в подводных лугах спокойно пасутся стада огромных неповоротливых животных беловатого цвета. Их безногие тучные детёныши лениво сосут под водой молоко матерей.
Днём и ночью, зимой и летом гремит океан. И на радость голубым сухопутным зверькам волны с разбегу вываливают на берег богатую поживу: трупы огромных морских чудовищ, груды рыб, всякую мелкую подводную живность и съедобные водоросли.
Давно уже кипит людская жизнь по берегам океана. Воды его по всем направлениям бороздят лодки и корабли, Мореплаватели составляют карту океана; каждой части его, каждому месту на нём, каждому животному в нём дают свои имена.
Но долго ещё они не подозревают об одиноком зверином камне.
Он скрыт зимой снежными вьюгами, летом — дождями и туманами, Редко-редко выглянет солнце, осветит неподвижную чёрную спину среди сверкающей воды.
У камня нет имени.
Нет имени и у его зверей.
И звери живут хорошо.
Встреча
В 1741 году судно командора Беринга заблудилось в Великом океане, потеряло в тумане другое судно и сослепу наткнулось на неизвестный остров.
Командор Витус Беринг — в России звали его попросту Иван Иваныч — вёл экспедицию, задуманную ещё Петром Первым. Задача была — выяснить, отделена ли проливом на севере Азия от Америки. Выполнить эту задачу командору Берингу не пришлось.
Страшная буря долго валяла корабль по волнам. Больные моряки совсем выбились из сил. Когда увидели чёрный камень впереди, решили, что погибли.
Волна-небоскрёб подняла беспомощный корабль и швырнула его через подводные скалы в спокойную заводь. Люди перебрались на берег. Они были рады даже этой дикой земле.
А звери были удивлены. Они никогда не видали людей и не умели бояться их.
Ленивые беловатые животные, что паслись на подводных лугах, позволяли трогать себя руками.
Толстомордые звери, похожие на обрывки змей, подплывали к самому берегу, короткими перепончатыми лапками поднимали детёнышей.
С командором Берингом был зоолог Стеллер. Он определил всех зверей острова, назвал их всех по имени.
Сухопутные пушистые зверьки, близкие родственники лисицы — голубые песцы. Перепончатолапые толстомордые зверьки, похожие на бобров, — морские выдры. Стадами выходившие на берег бурые звери с ушами трубочкой — родственники морских львов, морские коты. А огромные беловатые подводные животные, ещё никогда не виданные людьми, оказались родственниками слонов. Они получили от Стеллера имя морских коров.
Тяжело пришлось мореплавателям в стране зверей. Корабль их скоро разбило о скалы. Пришлось зимовать на острове.
Убивали зверей. Питались мясом тучных морских коров, огромных китов, выброшенных на берег, морскими ужами, морской капустой — водорослью. Отбивались от голубых песцов; это была серьёзная опасность: песцы нападали тысячами. Их пушистыми шкурками моряки крыли крыши ям, где жили. Болели и мёрзли.
Умер командор Беринг. Умирали матросы.
К весне из семидесяти семи человек команды осталось сорок шесть.
Оставшиеся в живых из обломков корабля сбили небольшое судно и на нём добрались до материка. Попали на Камчатку.
Чёрный камень был нанесён на карту и получил имя несчастного командора Беринга.
Грабители
Слух об открытом острове, о дикой стране, набитой зверями, побежал по берегам океана. Смелые охотники, богатые купцы снаряжают корабли в опасный путь за лёгкой наживой.
Скоро они открывают неподалёку от первого второй остров, поменьше. На нём такие же звери и такое же множество. В скалах выломали несколько кусков меди.
Новый остров назвали Медным, а оба вместе — Командорскими островами.
Человек хозяйничает в стране зверей жестоко, как волк, ворвавшийся в овечью закуту. Безрассудно, без счёту и толку избивает зверей.
До прихода людей в стране зверей не было ни одной мыши. Рыжие куцехвостые мыши прибыли в трюмах кораблей и быстро расплодились на островах.
Ни один хищник не может погубить столько песцов, сколько их губят мыши. Песцы едят мышей, заражаются от них страшной кишечной звериной болезнью и мрут.
Каждый корабль, побывав на островах, увозит с них тысячи шкур морских котиков, бобров и песцов. Бьют без разбору молодых и старых зверей, самцов и самок. Морских коров бьют на мясо и кожу.
Нет, не хозяевами пришли люди, а ворами.
Что же сталось?
Через двадцать лет после появления первых людей зимовавшие на острове Беринга промышленники уже не видели на нём ни одного бобра.
Исчезли и морские котики. Промышленники совсем перестали туда ездить.
Но как только люди прекращают свои набеги, звери опять возвращаются на острова, и с удивительной быстротой разрастается там звериное население.
В 1786 году охотники снова посетили острова и вывезли оттуда восемнадцать тысяч котиковых шкурок.
В этом же году была убита последняя морская корова. С ней навсегда исчезла с лица земли целая порода этих беззащитных подводных животных. Нигде больше на земном шаре они не водились.
В 1799 году русское правительство сдало промысел на островах Российско-американской компании. Уже через четыре года в руках компании скопилось семьсот тысяч котиковых шкур. Компании невыгодно выкинуть на рынок такую массу шкур: это надолго обесценит котика. Компания выбрасывает в море все семьсот тысяч шкур…
В 1826 году американцы с Алеутских островов перевозят на Командорские острова охотников. Алеуты поселяются здесь и становятся замечательными промышленниками. Они знают жизнь зверей, как свою. Теперь уже их руками торговцы продолжают истреблять зверей.
В 1871 году русское правительство сдало промысел на островах американскому торговому дому «Гутчинсон, Кооль и Кº».
Американцы дали зверям свободно размножаться, промышляли с расчётом.
И через двадцать лет стадо котиков на островах выросло до миллиона голов.
Но американские торговцы старались только для себя. Когда срок их хозяйничания на островах окончился и Россия отказалась сдать им промысел на новый срок, они перебили половину всего звериного населения.
С этого времени американские, английские, японские, даже гавайские шхуны делали налёты на острова. Русские сторожевые суда не могли угнаться за лёгкими, крылатыми шхунами хищников.
Больше всего досталось зверям во время японской войны. Японские суда захватили русские сторожевые и отдали острова на разгром хищникам.
Совершенно отрезанное от мира население островов Беринга и Медного вооружилось до последнего человека и защищалось, как могло. Дрались алеуты хорошо и не раз отбивали нападения шхун.
Но хищники, чтобы отвадить котиков от островов, выливали на воду смолу и керосин. Котики не терпят их резкого запаха и уходят.
И война кончилась, а хищничество всё продолжалось.
В эти годы впервые основательно были обследованы русским учёным жизнь зверей и промысел их на Командорах. Учёный — его фамилия Суворов — прожил на островах два года и написал о них большой труд.
В 1911 году в американском городе Вашингтоне Россия, Англия, Америка и Япония согласились на пятнадцать лет прекратить морское хищничество.
Это помогло, и звери снова понемногу начали возвращаться в свою страну.
1917 год. В России начались революция и гражданская война. Четыре года — с 1917 по 1922 — власть на Дальнем Востоке переходила из рук в руки. Хищники не дремали. И когда наконец пришла Советская власть на Командоры, на обоих островах осталось всего пятнадцать тысяч котиков и тысячи две песцов, а бобров было так мало, что за год их добывали не больше двадцати штук.
Новые хозяева
Новые люди по-своему взялись за дело, и новая жизнь началась в стране зверей.
Новые хозяева наладили правильный промысел и приставили к диким зверям пастуха. Пасти диких зверей хитрó, не то что домашнюю скотину. Простой пастух пересчитал, сколько голов у него в стаде, выгнал стадо на травку, смотрит, чтобы вволю ел скот, и его охраняет. То же делает и звериный пастух, только скотина-то у него похитрей.
Учёный пастух у диких зверей — профессор Иогансен. Называется он помощником начальника Командор по промыслу.
1 октября 1931 года профессор Иогансен делал свой отчётный доклад на заседании дирекции АКО, АКО — это Акционерное камчатское общество, руководитель хозяйства Командорских островов.
Профессору Иогансену — звериному пастуху — пришлось отвечать на множество разнообразных вопросов. Некоторые из них совсем не касались зверей.
— Много ли меди на острове Медном? — спрашивали профессора.
— Нет, меди немного. Геологическая разведка показала, что медь залегает там тонкими прожилками в очень твердых горных породах.
И вопрос о меди сразу перестает интересовать собрание: нет расчёта добывать медь там, где её так мало и на разработку её потребуется много сил.
По вот профессор поминает водоросль морскую капусту, и собрание сразу настораживается.
Много ли там морской капусты?
Много. Особенно на восточном берегу острова Беринга. Там, бывает, штормами её выбрасывает на берега бухт целые валы толщиною в метр, даже полтора, длиной в пятьдесят метров и больше.
Такое количество водорослей — это богатство.
Мало того, что от морской капусты отлично жиреют свиньи. Морская капуста ещё содержит в себе йод. Прежде Россия ввозила йод из-за границы. Теперь СССР добывает его у себя из морских водорослей.
Профессор Иогансен предлагает на месте сжигать кучи водорослей: йод добывается из их золы. Лёгкую золу будут увозить с собой пароходы.
Собрание принимает это предложение.
И вот из отбросов моря, из куч водорослей, прежде без всякой пользы сгнивавших на островах, новые хозяева создают новую полезную статью хозяйства.
А как обстоят дела с жильём?
Жилища были плохие на островах. Люди жили в плохоньких «фаршированных» домишках из досок. Юрташки промышленников были маленькие, тёмные, неудобные.
За последние годы отстроены новые юрташки — просторные, светлые, тёплые, крепкие. Совсем иначе чувствуют себя в них промышленники.
Перестраиваются и дома в селениях.
Но вот беда: своего леса на островах нет. Выкидняка мало бывает. Значит, и стройматериал и топливо — всё надо возить на пароходе.
Найти бы на месте такое, из чего можно дома строить…
— Позвольте, профессор. Говоря о геологическом строении островов, вы, кажется, помянули туфы[12].
— Да, туфов много на островах.
— Так вот нам и замена леса.
И следует постановление: использовать местные туфы для стройки.
Теперь вопрос о стройке будет разрешён. Надо разрешить вопрос и о топливе.
— Однако вы сказали, профессор, что на острове Беринга есть торф. Нельзя ли разрабатывать его кустарным способом и обеспечить острова своим топливом?
— Нет, кустарным способом тут ничего не сделаешь. Тундра у нас молодая: сравнительно недавно заросшие травой озёра. Во многих местах торф ещё не успел образоваться. В некоторых местах он лежит незначительным слоем — в тридцать — сорок сантиметров. Надо послать на остров специалиста по торфу. Он произведёт розыски при помощи бурения. Может быть, найдёт толстый слой торфа под песком. И травяные болота придётся осушить, чтобы начать настоящую разработку торфа.
Что ж, возьмёмся и за торф.
Новые хозяева не отступают перед трудностями.
Трудностей много впереди.
Защищённые бухты имеются на западном и на восточном берегах острова.
Надо построить там пристани. Тогда в любой шторм пароходы будут останавливаться в безопасном месте и могут не прерывать погрузки и выгрузки.
Гавани с селением надо соединить дорогами. Дорог нет на острове. Но их можно провести, если доставить на остров тракторы.
Тракторы будут привезены, решает собрание, дороги будут проложены.
Надо лучше обеспечить население молоком, свежим мясом, свежими овощами. На островах родится картофель, репа, редька, редиска, салат. Огурцы, лук, горох не успевают созревать. Значит, надо произвести опыты: ведь за последние годы мы научились подбирать такие семена овощей, что вырастают даже за Полярным кругом.
На Командорах трава в рост человека. А сушить сено трудно: очень сыро. Без запасов корма нельзя увеличивать количество скота.
А если применить силосование?
И на острове Беринга уже вырастают силосные башни, знакомые каждому колхознику в наших краях.
Стадо свиней уже в 1931 году было на Медном в сто голов, на острове Беринга — в полтораста.
Стадо оленей выросло за пять лет в три раза.
Культурное обслуживание населения улучшается с каждым годом.
На каждом острове имеется по школе-трехлетке и параллельные классы для переростков.
На острове Беринга только что отстроена больница. Вся молодежь на этом острове — комсомольцы.
Есть на островах радио. Есть и кинопередвижки. Острова меняются друг с другом картинами, и раз в год пароход привозит им новые фильмы.
Всё лучше становится жить человеку в стране зверей.
А как обстоит дело со зверями?
Из записок профессора видно, как внимательно, расчётливо и дальнозорко поставлено Советской властью дикое звериное хозяйство. И вот результаты.
Морской бобёр, чуть-чуть было совсем не стёртый с лица земли, взят под охрану и спасён. Стадо каланов на острове Медном увеличивается с каждым годом. В 1929 году в один день их насчитывали до ста пятидесяти голов. Через два года — уже до двухсот пятидесяти. Общее количество их в стаде в 1931 году считалось уже восемьсот голов. А ведь в 1922 году было их не больше двухсот!
Командорское стадо голубых песцов к моменту прихода Советской власти насчитывало всего около двух тысяч голов. Промысел песцов все эти годы продолжался. И всё-таки стадо росло и к 1931 году выросло до трёх тысяч двухсот голов.
Стадо котиков выросло с 15 тысяч голов в 1922 году до 24 тысяч голов в 1931 году. Промысел продолжается, но не мешает стаду расти. Ежегодно на каждую тысячу котиков прибывает сто. По приблизительным подсчётам учёных к 1946 году у нас будет около ста тысяч котиков, а ещё через двадцать пять лет стадо достигнет миллиона голов.
К тому времени воздушное сообщение будет так хорошо налажено, что поездка с крайнего запада нашего Союза на крайний восток будет считаться пустяком. И мы тогда — или наши дети — сядем где-нибудь в Ленинграде в аэроплан или дирижабль, пересечём всю страну и опустимся на Командорских островах.
Цветущая это будет страна, и жить в ней будет человеку так же хорошо и удобно, как сейчас в лучших европейских центрах. И всё же она останется страной зверей.
Сотни тысяч морских котиков на лежбище будут спокойно разглядывать приезжих, и ни одна пугливая матка не подумает бежать от них в воду.
Морские бобры будут играть в волнах со своими детёнышами, не обращая на нас никакого внимания.
Любопытные песцы стадами будут бегать за нами и умильно, как собачонки, вилять пышными голубыми хвостами, выпрашивая вкусный кусочек.
Звериные острова превратятся в парк. Звери забудут страх перед человеком, как забывают они его всюду, где человек их не тревожит зря, не пугает выстрелами.
Только косой чёрный плавник косатки, мелькнув далеко в волнах, напомнит нам, что мирное житьё зверей на островах не отгорожено от мира высокой железной решёткой, как в парке.
Мы своими глазами увидим ту картину, какую видели участники экспедиции командора Беринга, выкинутые штормом на неизвестный остров.
Не придётся уж нам только потрогать своими руками стеллерову морскую корову.
Зато, наверно, увидим мы на островах зверей новых, человеком выведенных пород: каких-нибудь необычайных, серебряных или золотистых, песцов, потомков теперешних.
Но много труда надо положить, чтобы из страны зверей, страны прошлого, сделать страну будущего.
Учёный пастух Иогансен в течение круглого года записывал всё, что происходило у зверей и людей на Командорских островах.
Вот его записки.
Записки помначкомпрома
21 марта — 27 апреля
Остров Беринга
Вот когда для нас наступил новый год. Промысел кончился. Усталые охотники один за другим возвращаются из пустынных ухожей (охотничьих участков) в селение. Два дня даётся на полный отдых. Праздник растягивается на неделю. Последними прибывают промышленники с дальних ухожей на южном берегу острова.
Селение у нас одно, и сейчас собрались в нём все 45 алеутов-промышленников и 115 человек — их жён и детей. Если к этому прибавить два десятка нас, русских, то вот и всё население острова. Куда меньше, чем в среднем столичном доме! А остров громадный — километров 90 длиной, площадью в 1665 квадратных километров — целая маленькая страна. Всю зиму мы были отрезаны от мира. Зимой были такие штормы, что ни один пароход не решился зайти в наши воды. Всю зиму мы не видались даже с нашими соседями — медновцами. Океан ревел страшно.
Ревёт и сейчас. Только что прибежал к нам в селение первый гость с Медного. Говорят, шлюпка высадила его в бухте Перегребной и пошла в обход, а он побежал через горы и тундру сообщить: едут, везут. Везут они драгоценный груз: за целый год наблюдения над жизнью медновских зверей.
Смелые люди! В лёгкой парусной шлюпчонке пройти 26 миль по громадным волнам океана и без передышки — опять в путь! 26 морских миль — это самое короткое расстояние между островами: от северной оконечности Медного до бухты Перегребной. Перегребная находится на юго-восточном берегу острова Беринга, а наше село Никольское — на северо-западном его берегу. Шлюпке ещё идти миль шестьдесят в обход острова. Ветер сейчас — норд-ост (северо-восточный). Шлюпка пошла прямо на юг. Ей нужно обогнуть южную оконечность нашего острова — мыс Манати — и подняться за ветром вдоль западного берега.
Тяжёлые буруны беспрерывно бьют в борт, кидают шлюпку на скалы. Дошла ли она до мыса Манати? Миновала ли его каменистый риф? Укрылась ли от сильного ветра за высокими горами нашего острова?
Это мы узнаем скоро — через сутки, если всё благополучно.
Но долго-долго будем ждать пловцов, если что-нибудь с ними случилось. И никогда не узнаем, где и как они погибли.
Сутки тоже немалое время, когда знаешь, что жизнь людей в опасности. Сейчас небо тёмное, в сердитых тучах. Каждую минуту на нём может показаться страшное белое облачко, похожее на тряпку с рваными краями. Шторм грянет — и шлюпки нет.
Вот почему я поминутно хожу смотреть на барометр. Барометр стоит низко. На хорошую погоду надежды нет.
Стучат в дверь. Это Пётр Березин, старшина промысла, по-здешнему — старшинка. Я показываю ему на барометр, делюсь своей тревогой. Но старшинка нисколько не верит барометру — машинке для предугадывания погоды.
Старшинка спокоен. Он улыбается.
Прошло два часа.
Барометр падает. Ветер заметно усиливается.
Мне это очень, очень не нравится.
Вечер.
С барометром что-то невероятное. В жизни своей не видал, чтобы так низко падало давление. Каждую секунду может разразиться ураган неслыханной силы. Конечно, шлюпка погибла.
Старшинке не втолкуешь. Он по-прежнему спокоен. Говорит: «Порга ничего не будет: рога луны устрые».
Алеуты во многих русских словах выговаривают «о» вместо «у» и наоборот.
К ночи барометр ещё упал. Будет что-то невообразимое.
Мы со старшинкой пили чай. Вдруг стаканы зазвенели на столе. Я подумал: «Вот оно! Начинается».
Но это был просто подземный толчок, лёгкое землетрясение. Они тут частенько бывают; алеуты на них не обращают внимания.
Прилягу пока.
Под утро старшинка меня разбудил. Я был уверен, что кругом тихо и в окно спокойно глядит луна. Погода прекрасная.
А он говорит:
— Плохо. Порга будет.
Я посмотрел на барометр. Он значительно поднялся. Опасность, видимо, миновала.
Я спросил старшинку, почему он ждёт пурги.
Он серьёзно ответил:
— Луна крен дала.
Вот в такие приметы он верит всерьёз, и его не разубедишь.
Поговорили о том, где теперь наши пловцы. Решили, что, наверное, уже половину расстояния до нас прошли. Миновали самые опасные места; они у нас на юге острова. И я лег совсем успокоенный.
А через два часа старшинка снова меня поднял и молча показал в окно.
Было уже светло, но ничего нельзя было разглядеть за окном: пурга, снег крутит, крутит… В стены дома глухо ударяет ветер.
Барометр стоял высоко.
Алеуты правы. В этой удивительной стране понимать барометр нужно не по-нашему. Здесь сталкиваются и переплетаются все воздушные течения океана. Здесь место, где зарождаются циклоны. И никогда не знаешь, что выкинет погода через час. О медновцах никто из нас ни слова. К чему?
Вот уже вторые сутки никто из нас не выходил из дому: шторм. За стенами дома невероятный грохот и гром. Дом качается. Такое ощущение, что его сорвало с земли и мчит куда-то по воздуху.
От шлюпки теперь не соберёшь и щепочек. Больно думать о погибших.
В шлюпке их было человек пять. Все алеуты. Были среди них старики, очень опытные мореходы. Они не раз уже совершали такие весенние поездки с острова на остров и за это пользовались почётом и уважением. Здесь особенно чтят людей отважных и вместе осторожных. Только таким и удается проскочить весной с острова между двумя штормами.
* * *
Четвёртые сутки. Вчера шторм кончился. Мы с Андрианом снаряжаемся в объезд ухожей. Моя обязанность — проверить, все ли юрташки в порядке. Юрташка — это домик промышленника.
Андриан — по-настоящему Андриан Пафнутьевич Невзоров — промышленник первой руки. Он, как все алеуты, лицом смугл, волосами чёрен, одет в робу — синюю американскую спецодежду. Чертами похож не то на эскимоса, не то на индейца. Он самый сильный человек на острове и один из первых промышленников. Дружба у нас с ним большая, испытанная в разных трудностях. Мне всё хочется поговорить с ним о медновцах, но он молчалив.
Всё население опять за работой. Чинят шлюпки и рыболовные снасти. Сегодня с утра несколько шлюпок вышло в море за треской.
Трески тут так густо, что таскают её из воды голыми крючьями, без всякой наживы. Крючья привязываются к поводку с грузилом. Поводок кидают за борт и дёргают. Бывает, сразу садится на крючья по две, по три рыбины, каждая весом в несколько килограммов. Вдвоём-втроём за два часа можно накидать полную шлюпку рыбы.
Впрочем, алеуты треску и за рыбу не признают; ловят и едят её только весной, когда выходят все их запасы более вкусной рыбы.
Что-то кричат с берега. Надо пойти посмотреть.
Медновцы прибыли, те самые; оказывается, шлюпка цела, и никто не погиб. Они тоже заметили в ту ночь, что луна крен дала. Сейчас же зашли в бухту, вытащили лодку на берег и сами спрятались в пещере. В этой пещере они и переждали шторм. Трое суток сидели почти без пищи, и всё-таки хватило сил столкнуть лодку в море и добраться до нас.
На следующий день мы с Андрианом выехали в ухожи.
Поездка по острову в это время года почти что удовольствие. Тундра ещё мерзлая. Сидишь верхом на узких санках — нартах, и быстро мчат тебя без дороги по твёрдому ровному насту лихие рысаки: если нет гор по пути, километров двадцать в час делают.
Рысаки у нас известно какие: клыкастые, в лохматой шерсти и лают. Пять пар здоровых псов в упряжке, одиннадцатый — самый главный передовой — ведёт всю упряжку.
Нашего передового зовут Тулупах: тулуп — значит пёс, и вправду шерстью похож на бараний тулуп.
Андриан каюром — кучером. Я сижу позади него и совершенно спокоен: с таким каюром — как дома на печке. Собаки слушаются его замечательно, особенно Тулупах. Андриан не то что не ударит, никогда даже не прикрикнет на него.
Едем. Я держусь за нарту, поглядываю по сторонам. Андриан посвистывает собакам, командует.
— Ака! — скажет тихо, и Тулупах поворачивает вправо, и вся упряжка за ним.
— Хуге! — Тулупах идёт налево.
— Прямо! — Тулупах прямо.
Впереди поднимается тундра, надо разогнать нарту. Андриан тихонько, таинственно шепчет:
— Ванька… Пшечь, пшечь! — Песец, значит.
Псы ушки поставят и — ух! — рванут, залают, понесут со всех ног.
А песца никакого и нет впереди.
Песец — ванька по-нашему — от собаки без оглядки бежит. Собаки, конечно, за ним. Вот каюр и обманывает псов, чтобы дружней взялись.
Ехали так, ехали — и заехали в скалы. Андриан слез: пошёл поглядеть пасущееся стадо наших полудиких оленей.
Сначала всё шло хорошо: я посвистывал, командовал, собаки слушались. Но, на мою беду, попался нам ванька. Сидит в стороне на высокой скале и глядит на нас спокойно.
Только я это подумал — ванька как тявкнет! Собаки увидали его и понеслись прямо на скалу.
Кричу им, ору — куда там! Никакого внимания.
Ну, думаю, сами всмятку, и от меня ничего не останется.
Сам уж только за нарту держусь крепче. И голос перехватило.
Ванька, видно, бывалый: и не думает бежать, сидит себе, тявкает, собак дразнит. Отлично знает, хитряга, что им не взлететь к нему по воздуху.
Ух, несёмся! Вижу, средство спастись одно: надо валиться с нарт. Всё-таки меньше расшибёшься.
И как раз тут Тулупах стал заворачивать. Упряжные псы в свою было сторону — к песцу. Тулупах на них как рявкнет! Забыли и ваньку. Здорово его боятся и слушаются.
Благополучно обогнули скалу, и Тулупах сам, без команды, опять взял прежнее направление: дорогу знает не хуже каюра.
Андриана дожидались, где уговорились.
Скоро и до юрташки добрались.
Андриан крикнул по-морскому:
— Майна!
Собаки встали.
— Вира.
Тулупах подошёл к нарте, остальные псы за ним, образовали полукруг и легли.
Мы слезли с нарт.
Юрташки промышленников стоят теперь занесенные снегом, пустые до осени.
Кончив промысел, каждый промышленник обязан привести в порядок свое жилище: печурку смазать жиром, чтобы не ржавело железо, трубу снять и спрятать, отверстие в крыше заложить дощечкой.
Вся посуда моется и тоже смазывается жиром от сырости. Алеуты-промышленники — народ аккуратный. Я объехал все девятнадцать юрташек и везде нашёл образцовый порядок. В одной только юрташке полный разгром; разбросана вся посуда, жир с неё слизан, от свечек остались только крохи. Бесстыдники воры съели свечи.
Это всё ваньки. И как только они сумели пробраться в юрташку?
Ещё в каждом ухоже я проверял ванек: как живут, не надо ли им какой помощи.
Смешно смотреть, во что превратились пушистые наши лисички, красавцы наши голубые.
Линяют: шерсть подтёрлась, побурела, пожелтела, свалялась вся в комья. Грязные ходят. Стыд и срам.
Парочками ходят сейчас: самец и самка. Каждая пара выбирает себе участок, где будет выводить детёнышей.
Лучшие участки берутся с бою. Дерутся не только самцы с самцами, а и самки с самками — только шерсть летит.
Уже начали норы устраивать. Кто старую подновляет, кто новую роет.
Ничего живут ваньки, в порядке.
Погода как раз простояла тихая, снежных вьюг не было. Весь остров мы с Андрианом объехали в шесть дней.
* * *
Сегодня утром вышел на берег. Что такое? Вся лайда[13] завалена дохлой рыбой. И странные рыбины: круглые и надутые, как футбольный мяч, на груди присоска, как резиновое блюдечко: присасывается к плоским камням.
Зовут рыбу эту здесь — мяконькая. Сейчас она стадами приходит к нашим берегам метать икру. Вымечет, обессилеет, и её выхлёстывает буруном на песок. Другая рыба как-нибудь справилась бы, ушла бы назад в море, а эта нет: наглотается воздуху — её и вспучит. Выпустить воздух она не может — и дохнет.
Иду по лайде, дивлюсь невиданной рыбе. В некоторых местах как возами её навалено. И тут ваньки. Со всего острова собрались пировать.
А бурун ходит здоровый.
Вдруг мелькнуло что-то тёмное. Я успел заметить: голова. Здоровенная, круглая, как бочонок, звериная башка.
Она исчезла, мелькнула широкая серо-бурая спина, ушла под воду, опять показалась. Похоже было, что там ныряет здоровый бычина.
Я живо скинул с плеча ружьё. Тут я никогда не расстаюсь со своей сильной американской винтовкой саведж.
Я принялся корчиться и приседать; мычать и реветь, как бык. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту, наверно, подумал бы, что я с ума сошёл.
Зверь вынырнул близко от берега и сразу заметил меня. Он выставил из воды только голову и уставился на меня круглыми подслеповатыми глазами. Наверное, он услышал моё мычанье и принял меня за своего родственника.
Зевать нельзя было: в один миг он мог скрыться и вынырнуть очень далеко.
Я быстро прицелился ему позади глаза и выстрелил.
Чудовище исчезло мгновенно. Вода взбурлила над ним и порозовела.
Попал!
До селения было недалеко. Я побежал за алеутами. Общими силами мы с трудом нащупали зверя баграми, накинули петлю из поводка и выволокли из воды.
Этого морского зверя называют сивучом. Он похож на тюленя и на моржа. Мой — старый самец, секач — вытянул 640 килограммов — 40 пудов. Это ещё не самый большой: бывают в 50 пудов и больше.
Последние дни сивучи часто показываются близ острова. Они преследуют мяконькую и подвигаются за ней вдоль берегов.
Алеуты бьют их из винтовок на мясо, из кожи делают подошвы, а из кишок — камлеек — непромокаемые рубашки.
Сейчас получено радио: 10 апреля к нам вышел пароход из Владивостока.
Писать больше некогда: к приходу парохода надо составить отчёт за весь минувший год.
27 апреля — 2 мая
Остров Беринга
Скоро и апрелю конец, а у нас всё зима, глубокий снег. Но тише вьюги и штормы, тише гудит океан.
Починили и спустили на воду катер, единственное наше моторное судёнышко.
Парохода ещё нет.
Каждый день океан выбрасывает на берег возы мяконькой. Но сивучей стало меньше: они уходят от нас на запад, к берегам Камчатки. Там их лежбище, там они будут выводить детёнышей.
Ваньки бродят по лайде, поедают выброшенную рыбу. Удивительно, до чего они осмелели: нисколько не боятся людей. Лежит себе прямо на дороге и ждёт, чтобы человек его обошёл. Шугнёшь его — он нехотя поднимется, отойдёт несколько шагов и опять ляжет.
Точно знают, что время не промысловое и трогать их нельзя.
В начале мая в норах у них закопошатся первые щенята.
Вот и май.
На лайдах уже другая рыба, не мяконькая, а мойва: мелкая, длиной до 18 сантиметров, из лососевых.
Рабочие, алеуты и алеутки, человек десять, перебрались из Никольского в летнее село Саранное, в глубь страны.
Из большого озера Саранного вытекает в океан речка. Скоро из океана пойдёт по ней в озеро метать икру нерка. У нас её зовут красной рыбой. Видом, величиной и вкусом она походит на кету и сёмгу. Только мясо у нее красней — как кумач. Алеуты готовятся к ловле её, перегораживают речку Саранную каменным забором.
10 мая у северной оконечности острова замечены первые морские котики.
Как в далёком Ленинграде ждут прилёта первого грача, так мы на острове Беринга ждём котиков. Они зимуют на юге за тысячи километров от нас и своим появлением возвещают начало весны.
Первыми прибыли старики самцы — секачи. Им лет по 8–12. Это крупные, пудов на 8–10, бурые звери с гривой на спине.
Прибыв из далёкого путешествия, они выходят на берег и влезают на камни. Лежат, величественно поглядывая по сторонам.
Тут их лежбище.
Каждый день прибывают новые и без ошибок выбирают себе те же камни, на которых лежали в прошлом году.
Пришёл наконец долгожданный пароход.
Едва показался вдали его дымок, как всем народом мы высыпали на берег. Дали знать в Саранное, прибежали и оттуда.
В двух километрах от берега пароход остановился и бросил якорь. Алеуты кинулись к шлюпкам.
Но раньше чем мы успели добраться до борта, пароход выбрал якоря и повернул в море.
Шлюпки вернулись на берег.
Семь долгих, тяжёлых месяцев вдали от мира, двести дней надежд, тоски, пять тысяч часов ожидания. Наконец вот он здесь, пароход, и… нет его.
А ничего не поделаешь: ветер начал менять направление, начал загибать в берег. Того и гляди, перейдёт в шторм.
Нельзя пароходу в шторм у берега оставаться: с любых якорей сорвёт и шваркнет о скалы.
Пароход не уйдёт, будет выжидать невдалеке.
Но нам-то каково! Ведь бывает и так: угонит его шторм далеко от острова; запас угля в трюме ограниченный; если на много дней завернет шторм, уходит пароход совсем, так и не побывав у нас.
Скверную провели мы ночь.
К счастью, наутро ветер улёгся. Пароход приблизился, шлюпки подошли к нему.
Закипела работа: живей выгружать. Никто не знает, какая погода будет через час. С утра до ночи и с ночи до утра катер таскает кунгасы — маленькие баржи. Пароход привёз строительные материалы, уголь, охотничьи припасы, продукты: муку, жиры, консервы, овощи, привёз журналы, газеты, письма за десять месяцев. Кунгасы его разгружают, разгружают, разгружают…
Чуть ветер — и стоп. Работа стала. Пароход отошёл в море. Шлюпка на берегу.
Ждут сутки, другие, третьи…
Улёгся ветер. Опять подходит пароход, мчится к нему катер. Разгружают, грузят, разгружают и грузят.
Грузят мешки с драгоценной жатвой обоих островов — пушистые шкурки голубых песцов.
Вот уже полмесяца, как подошёл пароход, а погрузка и выгрузка всё ещё не кончена. Кипит работа.
Писать некогда. Кончаю.
21 мая — 20 июня
Остров Медный
Как я попал сюда, на Медный, — это целая история. Расскажу всё по порядку.
Погрузку наконец кончили. Пароход ушёл. Вздохнули мы ему вслед и опять принялись за свои дела.
В речку Саранную пошла из океана нерка. Пошла, пошла, гуще и гуще — успевай только выгребать её из воды неводом.
Я опять побывал в тундре — ванек проведать. В каждой норе родились, где только пара, где пяток, а где и десяток маленьких, голых, слепых щенят. Мать греет их и кормит, и лижет. Отец стережёт нору и бегает на охоту.
Ходил я ещё на северное лежбище котиков. Там у нас устроена высокая наблюдательная вышка. В домике за берегом живёт наблюдатель, в другом — караул.
Наблюдатель каждый день в бинокль подсчитывает с вышки всех котиков, записывает всё, что у них происходит. Они его и не видят, и не чуют. У нас дело поставлено так, чтобы зря ничем не потревожить котиков. Бывает, ветер задует от домиков к лежбищу. Тогда караульные и наблюдатель не топят печей, не варят, не жарят — запах дыма беспокоит зверей.
Я тоже влез на вышку. На лежбище уже заметное оживление. Среди секачей появились полусекачи — четырёх- и пятилетние самцы. Начинают прибывать и холостяки — самцы до трёх лет. Они гораздо меньше секачей, и гривы у них нет.
Вернувшись в селение, я сел на катер, чтобы ехать на Медный. Небольшое судёнышко было сильно загружено, да и народу нас собралось порядочно: команда катера, две семьи с ребятами, трое караульных, русский старик один — всего человек пятнадцать. Весь переход по океану до Медного длится часов четырнадцать, и провизии мы с собой взяли на полсуток.
Из Никольского мы вышли утром, обогнули наш остров с севера и пошли в океан. Машина работала исправно, и старшина катера, пожилой алеут, рассчитывал быть на Медном ещё до темноты.
Часа два уже шли мы по открытому океану. Лёгкое мокрое облачко мазнуло меня по лицу и сейчас же пронеслось, растаяло вдали. Я стоял на палубе, спокойно наблюдал, как начинается туман. В рубке старшины есть компас, и туман катеру не страшен. Что ни случись, стрелка компаса неизменно будет указывать север и юг.
Мутные облачка налетали всё чаще, сбегались со всех сторон. Через какие-нибудь пять минут мы точно сквозь простоквашу продирались: белёсый туман уже окружал нас.
Туман густел и густел.
Час проходил за часом. Старшина ежеминутно справлялся по компасу и уверенно вёл катер вперёд. Туман стал ещё гуще. Казалось, катер с трудом разламывает его своими деревянными боками.
Начало темнеть. Никаких признаков Медного не появлялось. Старшина недоуменно пожимал плечами. Женщины уложили детей, сидели молча, не смыкая глаз.
Полночь настала. Никто и не думал о сне.
Старшина дал малый ход, и всю ночь качались мы на громадных волнах. Медный должен быть где-то близко. Идти вперёд нельзя: того и гляди, разобьёшься о подводные скалы.
Ночь длилась необыкновенно долго. Наконец темнота начала желтеть. Солнца мы не увидали: нас окружал плотный туман.
Старшина повёл катер вперёд, но без прежней уверенности в себе.
К полудню неожиданно подул ветер и быстро разогнал туман. Ждали увидеть Медный, но во все стороны открылся океан.
И нигде ни полоски, ни точечки. В какой стороне от нас Медный, никто не знал, даже старшина.
Катер хлёстко трепало ветром. Он скрипел и трещал — того гляди, развалится. Дети давно проснулись и требовали еды. Но вся провизия была съедена ещё вчера. Женщины безутешно плакали.
Старик уговаривал их, как мог. Я пошёл в рубку переговорить со старшиной.
Старшина-алеут только недоуменно крутил головой. По его расчёту выходило, что катер давно пересек Медный.
Я взглянул на компас. Всё в порядке, только… только к компасу прислонены винтовки.
Выяснилось, что караульные поставили сюда свои винтовки ещё вчера днём, когда мы вышли в открытый океан, и магнитная стрелка компаса отклонилась. Мы целые сутки шли по неизвестному направлению и не могли уже определить, где находится сейчас наш катер. Мы заблудились в океане, как заблудился в нём когда-то несчастный командор Беринг. Мы не знали, куда держим курс: в Америку, в Японию, к Чукотскому Носу?
Выяснилось, что на катере нет никакого запаса провианта, запас горючего для мотора на исходе и всё машинное масло израсходовано.
Кругом на тысячи вёрст качается океан. Без запаса еды и горючего мы не могли его переплыть даже при тихой погоде. А ветер креп. Спасения ждать было не от кого: в эту часть океана почти не заходят суда.
Я убрал винтовки. Стрелка компаса прыгнула и показала настоящий север. После короткого совещания старшина повернул катер и повёл его почти в обратном направлении.
Ветер креп, грозил перейти в шторм. Волны перед нами вырастали до неба. Ветхий корпус судёнышка трещал и стонал отчаянно.
Вахтенные стали к машине и поминутно плескали на подшипники воду из вёдер.
Старшина уже не смотрел на компас — только на воду и на облака — и всё проверял ветер.
Старик стоял у борта лицом к морю. Он ещё не знал, как отчаянно наше положение. Я подошёл к нему. Старик обернулся. По лицу его бежали слёзы.
— Они пришли за нашими трупами, — сказал он дрожащим голосом. — Мы погибли. Они никогда не ошибаются.
— Кто?
Старик молча махнул рукой в океан, за корму катера.
Я увидел: там прорезал волну косой черный треугольник, исчезал и опять показывался. Он быстро нагонял нас. Справа и слева от него показались такие же изогнутые чёрные треугольники. Я считал: пять, шесть, семь.
Иногда под косым плавником показывалась гладкая чёрная спина.
Страшные животные шутя догнали катер, пронеслись далеко вперёд, вернулись, плыли за нами, играя. Откуда-то к ним присоединились ещё четыре таких же.
За нами гнались самые страшные из океанских зверей — зубатые киты — косатки.
Появление косаток привело старика в ужас. Косатки — признак скорой гибели. Косатки чуют кровь, думал суеверный человек.
Сколько я ни толковал старику, что косатки не могли ни видеть, ни чуять нашей беды, он твердил своё: косатки-де знают, что настал наш смертный час.
А катер шёл и шёл. Косатки не отставали. Надежды на спасение не оставалось никакой.
Я отошёл от старика.
— Земля! — крикнул вдруг штурман.
Я поднял бинокль и стал смотреть, куда он показал.
Не сразу отыскал узенькую зубчатую полоску.
Невероятное зрение у алеутов. Какими-то неуловимыми, им одним известными приметами на воде и на небе руководствуются эти люди океана, отыскивают верный путь среди волн.
Все сразу повеселели. Смеялись над стариком и его верой в непогрешимость косаток. Старик уже и сам улыбался сквозь слёзы.
Мы вышли прямо назад на остров Беринг.
Косатки отстали от нас за несколько километров до берега. Топлива хватило как раз.
Через день мы все опять собрались на катере и совершили путешествие на Медный быстро и без всяких приключений. Косатки опять носились, играя, вокруг нас. Теперь даже старик их не боялся.
* * *
Остров Медный гораздо меньше острова Беринга: всего пятьдесят километров длиной, от трёх до шести километров шириной. Населения здесь 150 человек, из них 35 промышленников. Здесь песцы голубей наших беринговских и больше котиковых лежбищ. И ещё живёт морской зверь, какого нигде не увидишь. Он-то меня больше всего и привлекал.
Зверь этот держится у северо-западной оконечности острова, и увидеть его можно только при северо-западном ветре — норд-весте.
Я дожидался норд-веста, сел с алеутами в шлюпку и поехал вдоль берега.
Берега Медного — в недоступных, грозных скалах. Из глубоких падей между горами вечно дуют сильнейшие ветры. Его мысы опоясаны далеко уходящими в море рифами, и на них, ни на минуту не смолкая, ревут гривастые буруны.
На протяжении многих километров берег непроходим: каменные кручи обрываются прямо в море. Алеуты, как кошки, карабкаются по ним, но непривычный человек пусть лучше и не пробует: сейчас же закружится голова — и гибель.
Мы долго в шлюпке подымались на север от селения Преображенского вдоль восточного берега острова. Я не мог оторвать глаз от причудливых очертаний изгрызенных водой скал. Алеуты рассказывали, что к югу от селения берег ещё интересней.
Там вечно падающая высокая скала — Тизиков камень. Буруны выбили в нём большое углубление, и когда проезжаешь там в шлюпке, кажется: вот-вот на тебя рухнет громадный камень.
Там в скалах большая Говорушечья пещера. В ней человека оглушает хор тысячи крикливых чаек-говорушек. А рядом в скале щель — Говорящая пещера. Нахлынет волна, сожмёт в пещере воздух, отхлынет, и из щели с выстрелом вырывается воздух. В шторм не подходи близко — беспрерывно грохочет гром.
У северо-западной оконечности острова шлюпка причалила к берегу. Я прошёл вперёд, взобрался на скалу и в подзорную трубу стал внимательно осматривать море.
Остров кончается высоким разорванным мысом — тремя громадными острыми камнями. Поблизости от камня в волнах я заметил первого зверя.
Из воды высунулась толстомордая голова, похожая на тюленя, поглядела во все стороны, понюхала воздух.
Ветер дул с моря на берег, и зверь не мог меня зачуять. Показалась длинная гибкая спина. Зверь высунулся из воды по пояс. Стоял по-человечьи на задних лапах. Ростом он был с большого тюленя, но вытянутым телом напоминал резиновую кишку.
В коротеньких передних лапах он держал детёныша, бережно прижимая его к груди. Мать с ребёнком. Поплавала взад и вперёд, положила ребёнка на волну, как на постель, и скрылась. Лежит маленький на воде, трепыхается, барахтается. Верно, боится, не умеет ещё плавать.
Гоп! — мать вынырнула рядом и легла на спину. Малыш сейчас же поймал её за шею и уселся у неё на животе. Покачивается на волнах, как в лодке.
Мать лежит на спине. В лапах у неё охапка каких-то шариков, вроде серых яблок. Чуть разглядел в трубу — репка — ежи морские. Мать выбрала одну, попробовала на зуб — и швырк в воду. Видно, плох, не понравился: без икры. Попробовала вторую репку — и её туда же.
Третья хорошая оказалась, икряная. Мать раскусила и дала детёнышу. Тот взял лапками, как обезьяна, сунул в рот и быстро-быстро с ней расправился. А мать уж новую ему даёт.
Когда все репки вышли и малыш наелся, мать принялась играть с ним.
Гоп! — как руками подкинула его передними лапами. Малыш перевернулся в воздухе и упал к ней на грудь.
Гоп! — подбросила опять. Так и кажется, заливаются оба смехом, шалят, как люди.
Подальше ещё такой же зверь вынырнул, дальше ещё и ещё.
Мне повезло. Мало кто из учёных своими глазами видел живой редкостную морскую выдру — камчатского бобра. Я видел их полсотни сразу и долго любовался их играми с детёнышами.
Недаром алеуты считают морского бобра человеком. Очень уж, говорят, детей своих любит. Плачет тоже слезами. С палкой к нему не подходи: лапами ухватится за неё и не даст ударить…
С 1925 года на морских бобров объявлен запуск — полный запрет охоты. До 1935 года они будут жить под охраной закона, и никто не смеет их тревожить.
Когда-то их были тысячи здесь, на Медном и на острове Беринга. Их всех перебили поголовно. Ещё немножко, и они исчезли бы с лица земли, как исчезла морская корова.
На острове Беринга так до сих пор и нет ни одного. Сюда, на Медный, они приплыли с мыса Лопатка на Камчатке: там как-то случайно сохранилось их голов триста. Но здесь, на Медном, по нашим тщательным подсчётам, их штук семьсот. Это значит: семьсот штук во всём свете. Я пожил на Медном с неделю. Проверил котиковые лежбища, посмотрел, как ваньки тут живут. Всё то же, что и у нас, только ванек здесь всего голов восемьсот, а котиков богато: тысяч двенадцать.
Завтра отправляюсь назад на остров Беринга.
21 июня — 20 июля
Остров Беринга
Вот когда настало трудное время для ванек. В каждой норе полно детей. Мать от них ни шагу, и, значит, корми её, да посытней, чтобы молока хватило сосункам. А через три недели после рождения щенятам мало становится материнского молока, надо их всех мясом подкармливать.
Вот и бегает ванька на охоту, с ног сбился.
Штормов, как назло, нет, бурун не сильный, и мало выносит поживы на лайду. Где напастись мяса на всю ораву? Здорово приходится ловчиться ваньке, чтобы заткнуть голодные рты: где птенцов переловить, где яйца у чаек украсть, а то и к котикам на лежбище забежать.
А на лежбище сейчас страшновато: на камнях лежат сильные, сердитые секачи и зорко сторожат, чтобы никто не заходил в их владения. Сунется сосед — хозяин сразу в драку.
Дело в том, что вот уже несколько дней, как появились матки. Вокруг каждого секача их где одна, где две, где десять, а где и семьдесят, и у каждой по маленькому, беспомощному чёрному котику.
Новорождённые котики плавать не умеют, да и на суше без ног не больно ловко ползать. Матери не очень-то о них заботятся: покормят и уж глядят, как бы улизнуть в воду. Потихоньку от секача удирают: увидит — беда. Цап зубами и швырнет через себя, как щенка, — лежи смирно! Строгие очень папаши. Зато уж если матка доберётся незаметно до воды — прощай суток на двое, на трое. Махнёт за треской в океан километров за триста, там и кормится.
Секачи никуда не уходят и совсем ничего не едят, пока малыши не научатся плавать. Секачи охраняют малышей и маток. И тут к ним небезопасно приближаться даже человеку: зверь подвернёт задние ласты под себя, да как взметнётся — метра два пролетит по воздуху тяжёлое тело и так ударит, что не встанешь. Ведь весу в секаче — пудов восемь, а то и десять.
А зубами рванёт — здоровый кусок мяса вырвет.
Среди самих секачей закон «не лезь на чужую площадь» соблюдается строго. Достанется тому, кто вздумает его нарушить. На слишком задиристого соседа набрасываются вдруг все секачи сразу, и тогда задира должен быть счастлив, если ему удастся чуть живым уползти в воду: страшные клыки у секачей.
Маленький ванька это хорошо знает. Но голод не тётка, а новорождённый чёрный котик — богатая добыча.
И вот ванька тихонько крадётся по лежбищу, прячется за камнями.
Секач на такого мелкого воришку и внимания не обращает. Чёрные котики ещё ничего не понимают, лежат смирно. Матки сердито фыркают на ваньку: «Куда лезешь? Пшёл!»
Ванька не то чтобы так уж смел, скорей нахален. Он отлично знает, что на плоских культяпочках вместо ног никак его не догнать, и преспокойно подбирается к чёрному котику.
Но чёрный котик, будь ему всего три дня от рождения, не так прост — зубастый. Ванька к нему с хвоста, а он мордой; ванька с другой стороны, а котик опять к нему мордой, и зубы наготове.
Ванька и пляшет вокруг него: как бы подступиться половчей.
Глядишь кругом, все матки заволновались, и та, что поближе к секачу, уже тычет его мордой в бок: дескать, смотри же, что нахальный ванька делает. Ведь прозеваешь родного малыша, сторож нерадивый! Обернётся секач, поглядит спокойно, как ванька старается, да как фыркнет!
Ванька с перепугу через голову да по камням, как по воздуху, — только бы ноги унести.
Это всё можно видеть с высокой вышки над северным лежбищем. Вышку мы построили, чтобы, не беспокоя зверя, наблюдать с неё за жизнью котиков и подсчитывать как можно точней, сколько на лежбище секачей, сколько маток и сколько народилось чёрных котиков.
Холостяков на лежбище нет ни одного. Секачи прогнали всех прочь, как только начали появляться матки. Они теперь лежат в другом месте, дальше по берегу, на так называемой холостяковой площадке.
Легко подсчитать секачей и маток. Секач гораздо крупнее, у него грива; матка перед ним маленькая, тоненькая, и на груди у неё желтоватое пятно. Особенно заметны взрослые звери в сухую погоду. Они привыкли жить в воде. На берегу жарко, душно. Изогнув спину, они, как веером, опахивают себе лицо широкими задними ластами.
Но очень трудно даже в трубу с вышки найти лежащего между чёрными камнями чёрного, маленького и почти неподвижного новорождённого котика. И, увы, в рождении первого котика мы убедились не с вышки, а около ванькиной квартиры: у входа в его нору нашли свежеобглоданные косточки чёрного котика и его маленькие плоские культяпочки-ножки, такие жесткие, что они не поддались даже острым ванькиным зубам.
* * *
Для алеутов сейчас время трудное: в речку Саранную из океана валит и валит красная рыба. Тут каждый день год кормит: сразу в одной тоне вытягивают от тысячи до трёх тысяч рыбин.
Мужчины вываливают тоню, женщины пластают рыбу. На вешала подымать крупную рыбу тяжело, — это опять дело мужчин.
Надо спешить: красная рыба — это главная пища алеутов, красная рыба — это круглый год единственная пища их лохматых рысаков, красная рыба — это спасение для ванек в голодные зимние месяцы.
Надо очень спешить: в половине июля внезапно тучами появится мясная муха, и тогда прощай не успевший высохнуть запас. Мухи отложат в сырую рыбу свои яички, и через несколько дней от рыбины останется одна чешуя, кишащая тысячами червей.
Найдётся дело и нашему катеру. На нём развозят в эти дни уголь по ухожам. К началу промысла в каждой юрташке должен быть полный запас угля на всю осень и зиму.
21 июля — 20 августа
Остров Беринга
Ванькам полегчало: малыши-норники подросли и ходят уже с родителями на лайду, обучаются охоте на птенцов.
А мы ловим их. Прямо руками. Малыши не очень-то боятся нас. Подпускают близко. Кинешься за одним, он, конечно, наутёк, да такой шустрый — не догонишь. Только слабенький ещё, устаёт скоро. Тогда схитрить норовит: припадёт к земле, голову за камушек. Сам весь наружу торчит, а глаза зажмурил — спрятался. Тут подходишь и хочешь взять его руками.
Ой, нет! Ведь он серенький, мышастой масти. А камушек серый. Очень трудно его заметить, когда он так припадёт и лежит неподвижно.
Маленьких ванек мы ловим для питомников, отправляем потом на материк, чтобы и там разводились красивые голубые лисички.
Если большой заказ с материка, ставим на лайде коричневые, незаметные крепкие сети и загоняем в них сразу по нескольку ванек.
Чёрные котики уже все родились, больше не будет. Теперь надо сделать поголовный подсчёт, сколько их народилось в этом году на каждом лежбище.
Мы окружили главное лежбище.
Матки-то, конечно, сразу ускользнули в море — они робкие.
Мы их не задерживали и старались не пугать. Было три молодых сивуча ростом с кота-секача. Эти тоже бежали без боя: они ведь без малышей.
А вот секачи-коты — с этими пришлось повоевать. Фыркают грозно, рюхают хрипатым голосом — не подходи. Мы, разумеется, не обращаем внимания на их угрозы, потихоньку их оттесняем от берега. Очень-то близко не подходим — всё-таки опасно.
Они ведь глупые, увальни: прыгнет и как раз шмякнется на своего же малыша, чёрного котика. И, конечно, раздавит в лепёшку. Поэтому необходимо их удалить. Сейчас-то они не такие уже страшные, как были: ведь уже два месяца без еды сидят, да ещё линяют как раз, истощились, ослабли.
Пока с ними возились, часть чёрных котиков тоже удрала в море: это те, что постарше и уже плавать научились. Плавать они учатся в лужах на лежбище.
Первым делом этих плавунов пересчитали. От берега они далеко не отходят, тут все вертятся. Их немного: сотни две. Остальные все в куче в самой середине лежбища. Их кольцом обступили промышленники и не дают разбредаться.
Два счётчика с карандашами и книжками стали с одной стороны, два — с другой. И котиков стали пропускать в обе стороны между счётчиками, как в ворота.
Заторопились малыши, заковыляли к выходам. Некоторые валятся на бок, другие через них вверх тормашками, задние напирают, переваливаются. Счётчики считают и записывают. Насчитали 2800 голов. А в кольце ещё больше двухсот осталось, на глаз, конечно.
Тогда — стоп! Ворота закрываются. Счётчики входят в круг, кольцо за ними замыкается.
Теперь действуем так: двое ловят котика и держат его, чтобы не мог кусаться. Счётчик записывает и вставляет малышу в ухо серебряную пластинку с буквой и цифрой. На одном конце пластинки шипик, на другом — вдавлинка.
Шипиком прокалывается ухо, и концы пластинки соединяются плоскогубцами в кольцо. Малышу при этом не очень больно: не больней, чем серёжку вставить в ухо.
Раньше чёрных котиков клеймили калёным железом — это было очень больно. Чтобы не мучить их, я и завёл серебряные колечки. Они и в воде не ржавеют и держатся в ухе очень прочно.
Буква на колечке обозначает, на каком острове котик родился. Потом, когда он вырастет и попадётся нам в руки, мы будем знать, откуда он родом.
У нас, на острове Беринга, колечки с буквой «Б», на Медном — с «М».
На Медном серьга вставляется в левое ухо, а у нас — в правое.
Цифра обозначает год рождения котика, например: 0 — это 1930 год, 3 — 1933 год. Потом будем точно знать, сколько коту лет, можем ловить его каждый год и следить, как он растёт из года в год.
Нас было много, мы работали быстро.
Прошло часа два с нашего прихода на лежбище; мы окольцевали уже 138 самцов, 60 самок и так увлеклись делом, что не сразу заметили, какая тревога поднялась за нашими спинами.
Тысячи, тысячи чёрных голов почти сплошной массой колыхались в воде. Их стало втрое, вчетверо больше, чем было, когда мы согнали котиков с лежбища.
Малыши, секачи, даже робкие матки кучками поспешно вылезали на песок, и вся эта чёрная живая волна двигалась на нас.
Казалось, что всем скопом хотят броситься на нас.
Но это один только миг. Сейчас же кто-то из алеутов крикнул:
— Косатки!
Это страшное слово объяснило мне всё. Я взглянул на море.
Далеко на волнах сверкали косые чёрные треугольники. То появляясь над водой, то исчезая, они приближались с быстротой миноносок.
Многотысячное стадо котиков в панике бежало от них.
Косаток было несколько десятков. Они шли широко развёрнутым фронтом. Окружали стадо. Это была настоящая, по всем правилам, атака миноносцев.
Перед этой новой опасностью котики потеряли всякий страх к нам, людям. Все, сколько их было в округе, молодые и старые, бросились к лежбищу.
Против косатки — громадного зверя в несколько тонн весом — котики беззащитны. Даже старый сильный секач перед ней — как лёгкая вёсельная шлюпка перед подводной лодкой. Что же говорить о малышах? В брюхе одной убитой косатки учёные нашли двадцать четыре чёрных котика.
Перепуганные котики выбрасывались на берег. Чтобы не мешать им, мы поспешно убрались с лежбища.
С высокого берега я стал наблюдать, как развёртываются военные действия.
На лежбище всё смешалось. Старые секачи сбились в кучу с холостяками, матками и малышами.
Тут же теснились четыре рыжеватых сивуча.
На воде всё ещё мелькали тысячи гладких чёрных голов. Я с удивлением и тревогой заметил, что они колышутся на месте, не приближаются к берегу. Не видят, не понимают опасности?
Хотелось крикнуть им с берега: «Спасайтесь! Бегите!»
Косатки были совсем близко.
«Котикам уже не спастись», — подумал я.
И тут неожиданно случилось что-то странное: косатки разом остановились, их фронт смешался. Чёрные треугольники пошли сновать вправо и влево, точно перед ними неожиданно выросла невидимая стеклянная стена, и они заметались перед ней, тыкаясь носом, как рыбки в аквариуме.
Котики спокойно плавали у берега.
Я вопросительно посмотрел на алеутов. Они улыбались.
— Мель, — сказал старшинка Пётр Березин. — Косатки не могут.
Прошло несколько часов.
Косатки по-прежнему держались в море, не приближаясь и не отдаляясь от острова.
Котики лежали на лежбище, плавали у берега.
— Так будет долго, — говорили алеуты. — Косатки не уйдут, будут караулить несколько дней.
Я спокойный человек, но такое положение дел меня возмутило.
Что же, в самом деле, хищники обложили стадо, наши котики должны отсиживаться на лежбище, как в крепости, и будут голодать, пока враг не вздумает снять блокаду? А мы-то на что? Разве не первая наша обязанность охранять стадо от всяких бед и напастей, заботиться о нём?
И я придумал: надо перестрелять из винтовок косаток. С берега далеко — не попадёшь, да и котикам беспокойно. Надо с лодки.
— Идём, — сказал я алеутам, — возьмём лодку. У караула есть винтовки, у меня — мой саведж. Мы им покажем.
Алеуты только переглянулись и не тронулись с места.
Как ни убеждал я их, они не соглашались на мой план, Говорили, что с лодки они в косатку стрелять не станут, говорили, если ранишь, разъяришь косатку, крепкое, как ядро, двухсотпудовое тело с разгону с быстротой летящего с высоты камня ударит в борт. Какая лодка выдержит?
Не знаю, станет ли раненая косатка таранить лодку, но знаю, что алеуты не трусы, и никто лучше их, островитян, извечных жителей океана, не знает его опасностей.
Мне пришлось отказаться от моего плана, но в своём докладе правлению я указал на необходимость иметь на Командорах мореходный сильный катер с доброй гарпунной пушкой против косаток.
Бригады алеутов отправились по ухожам для ремонта юрташек. Катер развозит запасы вяленой рыбы по дальним ухожам.
В этом году мы заготовили красной рыбы 40 тысяч штук для себя и 10 тысяч для Медного.
Своей рыбы на Медном мало. Там алеуты заготовляли для себя только мясо упромышленных котиков.
* * *
Сейчас катер привёз плохую весть с дальнего ухожа Бобрового: кто-то чужой побывал в юрташке.
Дверь найдена открытой. В печурке обгорелые поленья, посуда в беспорядке. Это уж не ваньки, а люди, и не наши.
Алеут честен и никогда не трогает чужого. С хозяйством юрташки он хорошо знаком, а эти люди не нашли дымовой трубы, спрятанной, как обычно, между печкой и стеной, пытались так разжечь дрова. Они не догадались вымыть чисто смазанной жиром посуды. Наверно, потому и бросили её, что на огне от неё пошёл ужасный чад, вонь.
Кто эти неизвестные люди? Откуда? Зачем высадились на нашем безлюдном острове?
Ответить нетрудно: ведь в этом месяце молодых песцов-норников можно ловить голыми руками.
Пушистое золото приманивает охотников до лёгкой наживы.
Ухож Бобровый лежит на южном конце острова. Там легко незаметно высадиться, можно жить много времени и остаться никем не замеченным.
Назначил туда постоянный караул с винтовками.
С Северного лежбища дали знать, что косатки сняли осаду и скрылись с глаз.
Осада длилась пять дней.
21 августа — 20 сентября
Остров Беринга
Недели две я не был на лежбище. Пришёл вчера и еле узнал его.
Там нет уже разделения на главное лежбище и площадку холостяков: секачи, холостяки, матки — всё смешалось в одно мирное стадо. А чёрных котиков не узнать: они выросли, превратились в серых и плавают вместе со взрослыми.
Старики и молодые всё дальше отплывают от берега. Частенько бывает, наши отправляются в гости на Медный, а медновские гостят у нас. Скоро всем им трогаться в далёкий путь. Перед отвалом медновские и наши собьются в одно стадо.
Я долго стоял на вышке и разглядывал котиков в сильный бинокль. Глаза устали. Я положил бинокль и стал глядеть на море. Гладкие чёрные головы зверей то появлялись, то исчезали в воде.
Вдруг странное зрелище привлекло моё внимание: вдали от берега мчалось что-то длинное, тёмное. Оно змеёй извивалось на поверхности моря и, как иглой, прошивало волны.
Издали это «что-то» очень напоминало спину какого-то быстроходного морского животного, но гигантских размеров: в длину оно было метров тридцать.
Я опять взял бинокль.
Разгадка оказалась проста. То, что невооружённому глазу казалось гигантской спиной, было — как бы это сказать? — было чем-то вроде чехарды или пятнашек.
Молодые котики играли. Длинной вереницей они гнались друг за другом, то выбрасываясь из воды, то ныряя. Их было много, и их спины образовали почти сплошную, быстро двигающуюся ленту.
На обратном пути с лежбища я видал молодых ванек.
Теперь уж их не догонишь: здорово научились бегать.
В селении ждут парохода. Он должен был прийти в августе, но вот уже скоро половина сентября, а парохода нет и нет.
Разом пропала надоедливая мясная муха. Алеуты заканчивают заготовку юколы (вяленой рыбы). Прекратился ход нерки в реке. Но без перерыва пошла другая рыба — кижуч. Он тоже из лососевых, но крупнее, не такой красный, как нерка, и — на мой вкус — гораздо вкуснее её.
Кижуча заготовляем только для себя, собак им не кормим и песцов не подкармливаем.
У алеутов главная забота сейчас — сенокос.
На острове штук до сорока коров, две козы и одна лошадь, и всем им надо заготовить на зиму сена. Вот свиньи, с теми просто: посадил в шлюпку, отвёз в закрытую скалами бухту и пустил гулять на воле. Через скалы им не удрать, а съедобных морских водорослей, морских огурцов, ежей на лайде хватит на целое стадо. Быстро жиреют свиньи на берегу, во всякое время года там для них корм.
А сена накосить да высушить тут — дело трудное.
Хорошей травы мало. Есть заросли трав — пучки, лабазника — выше человеческого роста. Но эти травы не годятся в корм. Добрая трава растёт только в долинах рек. Тут алеуты и косят. Верней сказать, рубят траву сплеча: косы у них — не русские литовки, а особенные, американские. Но накосить не так трудно, трудно высушить. Редко, очень редко выдаётся у нас солнечный денёк. Всё туманы, туманы и бус — мелкий дождичек, водяная пыль с неба. Как тут сушить сено? Нужно перейти на силос.
Пока мужчины косят да сушат, женщины собирают ягоды. Ягода у нас разная: морошка, княженика, рябина, шикша. Шикша — ягода чёрная, растёт вроде вереска. Сухими её кустиками хорошо разжигать костры и топить печи; на вкус она ни сладкая, ни горькая, ни кислая.
Самая вкусная у нас ягода — рябина. Можно из неё варенье варить, можно и так есть: здесь она без горечи. А деревья — смотреть жалко: по колено рябина.
Катер закончил развозку юколы по ухожам. Возит теперь бригады плотников-алеутов, идёт ремонт и чинка юрташек.
А парохода всё нет. Придёт ли в этом году?
21 сентября — 2 октября
Остров Беринга
Показался наконец пароход! Шлюпки полетели ему навстречу.
Опять разгружают кунгасы муку, сухие овощи, консервы, чай, сахар, конфеты, мануфактуру, уголь. Разгрузка идёт медленно: чуть ветер, пароход снимается с якорей и отходит в море.
Наконец выгрузка закончена. Но тут ударил шторм. Пароход скрылся из глаз.
Три дня гремел ветер. Три дня мы жили между надеждой и отчаянием: вернётся пароход или уйдёт совсем?
На четвёртый день ветер спал. Пароход вернулся.
Началась погрузка. Кунгасы повезли бочки.
В этом году отправляем тридцать бочек с засоленными котиковыми шкурками, даём государству четыреста драгоценных шкурок с одного нашего острова да с Медного пятьсот.
Есть у нас груз и похитрей: живые ваньки.
Хлопотно с ними и трудно.
Давно уже алеутки наготовили им подорожничков — галет. Галеты для ванек делаются так: третья часть муки простой, третья часть тука — муки из сушёной рыбы — и третья часть риса и сушёных овощей.
Ещё выдаётся на каждого ваньку юкола из расчёта полрыбины в день на всё долгое путешествие. А путешествие может продлиться очень долго, смотря какая погода. Ехать ванькам на пароходе до самого Владивостока. Даём для них сена на подстилки да песку — чистить клетки.
Клетки стоят в трюме. Их привёз пароход с собой. Привёз он ещё и пищу для ванек, кроме той, что полагается от нас: компот, молоко консервированное.
Словом, поедут наши ваньки барами.
Теперь надо их на борт доставить. Схватишь такого барина за шиворот — и в мешок. Завяжешь. Потом другого, третьего, мешков десять надо на шлюпку.
А не лежат на полу мешки, скачут! Четвёртый, пятый мешок завязал, а первый уж пустой лежит: ванька в нём дырку прогрыз и — поминай, как звали! Пока за ним гоняешься, другой удерёт.
Наконец все десять весёлых мешков погрузили в шлюпку, отчалили. И тут покою нет: то из одного мешка, то из другого высунется острая мордочка и глядит с любопытством: «Куда это меня везут?»
Того и гляди, выскочит — и в воду.
На денёк отлучился я проведать котиков.
По дороге видал ванек. Молодые уже ушли от родителей, живут сами по себе. У стариков незаметно отрастает голубоватый, пушистый, густой зимний волос.
Пошли грибы. Леса у нас нет, а грибов много. Множество красных, или, как зовут их в русских деревнях, подосиновиков. Здесь их так не назовёшь — осины здесь и в глаза не видали. Много и берёзовиков; берёзки же крошечные, выше четверти от земли не поднимаются; от травы их с первого взгляда и не отличишь.
И вот замечательная особенность: грибы у нас без порчи, ни червя в них не найдёшь, ни улитки. Любой годится в пищу. Алеутки много их набирают и сушат.
На котиковом лежбище ничего нового. Только секачей почти не видно. Они впервые отправляются в путешествие.
* * *
Пароход простоял у наших берегов две недели и ушёл.
Теперь до весны не увидим. Девять долгих зимних месяцев будем одни. Идёт снег. И сразу тает. Стая за стаей отлетают от нас ары, розовые чайки-говорушки, бакланы-урилы.
Стая за стаей прибывают к нам зимние гости: утки-морянки, с острыми, как шило, хвостами и пёстрые каменушки.
21 октября — 20 ноября
Остров Беринга
Исчезли с лежбища холостяки. Скоро начнётся отвал и маток с молодыми.
Наши и медновские котики собираются в большие стада, уходят к югу. Зимовать они будут за тысячу километров — около японского острова Хондо. Много опасностей ждёт их в пути: хищные шхуны, страшные косатки.
Люди-хищники бьют котиков издали картечью. От быстроходных косаток котикам не спастись в открытом море.
Только бы добраться до зимовки. У острова Хондо есть мели — спасение от косаток. Там наши котики зимуют вместе с японскими.
А весной тот же опасный путь назад.
Сколько-то наших котиков вернётся к нам на будущий год?
* * *
А у южных берегов нашего острова появляются уже другие звери: громадные сивучи прибывают к нам на зимовку от берегов Камчатки.
* * *
Катер развёз по всем ухожам алеутов — заведующих ловушками-кормушками — начинается песцовый сезон. До промысла ещё далеко, но надо заранее к нему приготовиться.
* * *
Вечер. Пусто в тундре. Торчит только одинокая юрташка — домик зава ловушкой-кормушкой.
Выходит зав из юрташки. Через плечо у него верёвка, на верёвке болтается пучок юколы: пять — шесть больших рыбин. Зав направляется на лайду. Там сбрасывает свою ношу на землю, волочит её за верёвку по камням и песку. Пахучий след оставляет за собой юкола.
Пройдя по лайде, зав сворачивает в тундру. Юкола, подпрыгивая, тащится за ним.
Странная постройка стоит в тундре. Похожа на городскую купальню: маленький красный домик и крытый дворик с низеньким выходом. Только крыша и стены дворика как решето: столбы обтянуты проволочной сеткой.
Проволочная дверка поднята: вход свободен. Но зав не входит. Он поворачивает и опять идёт на лайду, направляется теперь по ней в другую сторону. Пучок юколы тащится за ним, оставляет пахучий след на земле. Темнеет. Зав вскидывает юколу на спину и поспешно через тундру и горы напрямик возвращается домой — в юрташку. И ложится спать.
* * *
Ночь настаёт. Снег блестит под луной. Голубые тени движутся по снегу, крадутся по тундре, пробираются на лайду: ваньки вышли на промысел.
Ванька идёт по лайде, каждый камушек осматривает, обнюхивает. Вот лежит маленький морской ёжик — репка. Ванька его на зуб — и нет ежа. Вот выбежал из-под камня крабик. Ванька прыг — и на зуб. Вот целая дохлая рыбина.
Только хотел её ванька схватить, да не тут-то было: откуда ни возьмись, набежали другие ваньки, разорвали рыбину — по маленькому кусочку досталось каждому. Отбежал ванька в сторону, дальше идёт. Вдруг вкусным запахло. Ванька нос по ветру. Ага, вон откуда! Дорожка по снегу — чудно пахнет! Ванька нос в землю — и пошёл, пошёл, побежал по дорожке. Долго бежал, вдруг впереди дом. Ванька — стоп! Надо бы сразу назад, да уж очень вкусно пахнет.
На крыше дома висит юкола, и ветер далеко разносит её запах. Ничего не шевелится ни в доме, ни во дворе. Зачем же бежать? Можно даже подвинуться ближе немножко. Чуть-чуть, и очень осторожно…
Пахучая дорожка ведёт прямо во двор.
Прямо посреди двора на снегу куча юколы. Вот удача!
Ванька первый попавшийся кусок цоп в зубы и скорей за ворота.
Нет, никто не гонится. Значит, можно присесть и уничтожить добычу.
Съел. Всё спокойно. Ещё раз попробовать?..
И ванька опять крадётся во двор.
* * *
Луна высоко взошла. Светло.
Зав ловушкой-кормушкой проснулся у себя в юрташке. Оделся, пошёл прямо к красному домику.
Сзади в домике двери. Зав открыл их и вошёл в небольшую комнатку. Из этой комнатки слева дверь, в другую, справа — в третью. В третьей комнатке крошечное окошечко, прямо на двор.
Зав стал у окошечка и смотрит. Натоптано во дворе здорово. Юкола вся разбросана, и заметно её поубавилось. А песцов ни одного.
Ну, дело простое: заслышали человеческие шаги, разбежались. Зав ждёт у окошечка.
Вот голубая тень мелькнула за решёткой. Замерла. Метнулась в дверцу.
Ванька!
Через пять минут пожаловал второй. Потом ещё два. Пять ванек побывало за ночь в сетном дворе ловушки-кормушки. Зав доволен: для первого раза очень хорошо.
Потихоньку выходит из красного домика, идёт в юрташку сон досыпать.
Так каждый вечер ловушкой-кормушкой делает подтаску к сетному дворику: волочит по лайде и тундре через ванькины тропы пахучую юколу. Ещё разбрасывает за собой кусочки юколы. Кусочки тоже ведут к сетному дворику. Через каждые двадцать — тридцать шагов — кусочек. Следит, чтобы ветром не сорвало юколу с крыши красного домика.
Это всё делается, чтобы привлечь ванек к ловушке-кормушке. Только в красный цвет домики у нас выкрашены случайно: просто не было другой краски.
В сетном дворике каждую ночь свежий запас юколы. И скоро ваньки со всей округи привыкнут посещать ловушку-кормушку. Настолько привыкнут, что перестанут даже бояться зава.
Зав всё записывает в свой журнал. Сколько кусочков юколы разбросал для прикормки, сколько съедено, сколько осталось.
Он должен подсчитать, сколько ванек живёт в его ухоже, сколько приходит в ловушку-кормушку, и послать эти сведения мне, заведующему промыслом. И подкормку должен производить с расчётом: по пол-юколы полагается в сутки на каждого ваньку.
Совсем не просто подсчитать, сколько ванек живёт в ухоже. Сегодня их тут сотня, а завтра десяток. Сегодня ветер с моря — все ваньки здесь, на лайде. Завтра ветер с берега — все ваньки перебежали на другой берег острова; там волны выкидывают пищу, тут волны приходят пустыми.
Три недели прошло с начала прикормки ванек. Страха перед ловушкой-кормушкой у них и в помине нет.
Ранним вечером они собираются у сетного дворика и с нетерпением ждут зава. Если он задерживается, идут к его юрташке, усаживаются против двери и вызывают хозяина лаем и тявканьем.
Зав выходит с юколой и топором. Рыбины большие, сухие. Каждую надо разрубить на восемь частей.
Ваньки сидят кругом, ждут.
Отскочит из-под топора мёрзлый кусочек, ванька подпрыгнет и — цоп! — словит его на лету.
Отрубленные куски зав зажимает под мышку: положишь на снег — ваньки сейчас же утащат.
Даже из-под мышки у зава утащить умудряются: подкрадутся сзади и тихонько вытянут.
Смелей всех старые ваньки. Те, что живут поблизости от юрташки и ловушки-кормушки.
Эти считают себя хозяевами сетного дворика и гонят прочь от него молодых и дальних.
Бывает такой, что всех разгонит и сам один так налопается юколы, что больше в него никак не лезет.
Тогда жадный ванька хватает оставшуюся юколу в зубы и бежит прятать её себе про запас — зарывает её в снег.
Только редко достаются ваньке эти запасы: чёрный враг сумеет разыскать их и уничтожить. Чёрный враг ваньки — это ворон. Он днём по следам находит запрятанную ванькой юколу, откапывает её и съедает.
Есть у ваньки и белый враг — большая снежная сова.
Обе эти птицы сильно досаждают песцам и промышленникам. Летом они таскают глупых маленьких щенят-норников. Зимой ворон растаскивает юколу, разбросанную для приманки песцов. Снежная сова, кроме того, поедает множество белых куропаток, а куропатки — пища песцов.
И всё-таки снежная сова полезная птица в нашем песцовом хозяйстве. Главная её добыча — рыжая полёвка, этот яд для песцов: от полёвок ваньки заражаются смертельной кишечной болезнью.
Прежде алеутам выдавали премию за каждого убитого ворона и каждую сову. Я отменил премию за сову.
Пусть этот сильный и ловкий ночной вор утащит несколько десятков белых куропаток, пусть унесёт несколько слабых, неосторожных норников. Зато он уничтожит целую гору песцового яда — тысячи и тысячи вредных маленьких грызунов.
С Северного лежбища отвалили последние матки с молодыми.
Сивучи большими стадами собрались у южных берегов острова. Катер вытащен на берег, машина разобрана. Мы отрезаны даже от Медного.
Штормы по нескольку дней не дают выйти из дому.
Алеуты обшивают лыжи скользкой кожей небольшого тюленя — нерпы. Шьют торбаза (высокие непромокаемые и мягкие сапоги из нерпы), подбивают подошвами из сивучьей кожи. Готовятся к зимнему промыслу.
21 ноября — 20 декабря
Остров Беринга
Из всех юрташек ко мне летят жалобы на обнаглевших ванек. Сильные песцы, живущие поблизости от ловушек-кормушек, становятся полными хозяевами сетных двориков. Никак не подпускают к юколе молодых и дальних.
Молодые и дальние ваньки голодают, тощают, а старики пухнут с жиру.
Плохо, если ванька тощий: шерсть у него слабая, жидкая.
Ожиревший ванька ещё хуже: шерсть на нём сваливается, становится вялой и мягкой, как вата. Такой мех ничего не стоит.
Надо что-то спешно придумать против стариков, а то какой же будет промысел: одни бракованные шкурки.
Я отправился по ухожам посмотреть, чем можно помочь беде. Остановился в юрташке моего друга Андриана Невзорова, в ухоже Толстый мыс.
Первая же ночь выпала ясная, лунная. Забрался в красный домик и стал у окошечка наблюдательной комнаты.
Вот подоспел толстый-претолстый ванька. Он сразу кинулся к кормушке и начал торопливо рвать юколу.
Скоро один за другим вошли во двор ещё пять ванек, тоже довольно толстые. Первый на них огрызался, но они не очень-то испугались, и все пятеро подошли к кормушке.
Пришли ещё трое. Упитанные.
Эти с трудом добились места у кормушки. За ними скользнули во двор четверо тощих. Тут началась драка.
Самый толстый ванька бросился на них, другие помогли, и тощих живо выперли со двора.
Они расселись за решёткой и голодными глазами смотрели, как пируют толстые.
Ещё и ещё подходили ваньки, все с подтянутыми животами и провалившимися боками. Толстые их не пускали во двор.
Девять тощих собрались за решёткой. И все щёлкали зубами, дожидались, пока наедятся толстые.
Один только молоденький ванька, из тощих, никак не мог успокоиться. Он то и дело заскакивал во двор, подкрадывался к кормушке и старался незаметно затесаться между толстяками. Но толстяки не зевали, и ему здорово каждый раз доставалось от них.
Наконец после хорошей трёпки он уселся за решёткой, зализал свои раны и стал внимательно смотреть на толстяков, слегка наклонив голову.
Я с нетерпением ждал, что будет дальше.
Вдруг он залаял, коротко, отрывисто.
Что тут сделалось с толстяками! Вмиг они очутились у решётки, друг через друга поскакали в дверцы и так быстро скрылись с глаз, точно у них выросли крылья.
Исчезли куда-то и восемь тощих.
А девятый, тот, что тявкнул, шмыгнул во двор, подошёл к кормушке и принялся спокойно уплетать юколу.
Я чуть было громко не расхохотался в своей засаде. Ведь этот короткий отрывистый лай у песцов — сигнал: тревога.
И конечно, все ваньки сломя голову бросились врассыпную. А хитрецу только того и надо было.
Прошло с полчаса, пока вернулись перепуганные толстяки. Тощий хитрец успел за это время плотно набить брюшко и убрался от них подобру-поздорову за решётку.
Я просидел в засаде всю ночь. Тощий ванька ещё два раза повторил свою хитрость. И каждый раз толстяки пулей вылетали из сетного дворика. Ловкий приём действовал без промаха. Как только раздавался тревожный сигнал, безотчётное чувство заставляло ванек бежать.
Назавтра я стал думать, как помочь тощим. Ведь если один из них и сумел надуть толстяков, то это ещё не выход. Он станет жирным, а десять тощих по-прежнему будут сидеть за решёткой и щёлкать зубами.
Надо придумать такое, чтобы все тощие были сыты, а все толстые похудели.
Не раз мне приходилось примечать, что ожиревший ванька не может подпрыгнуть так высоко, как худенький. Худенький легко прыгает на целый метр от земли. Толстый тяжёл для такого прыжка.
Я придумал вот что: надо юколу класть не на землю, надо её подвешивать на метр от земли, чтобы толстым не допрыгнуть.
Андриан смастерил деревянную раму, натянул на неё проволочную сетку и рассовал по ячейкам сетки куски юколы. Решётку с юколой подвесили на верёвке к потолку на метр от земли.
* * *
Ночью я опять пошёл дежурить в наблюдательный.
Ночь была тёмная. Ветер раскачивал решётку с юколой, проволока поскрипывала.
За дверцами несколько раз показывались ваньки.
Но ни один не решился войти во двор.
Эта неудача меня не обескуражила — привыкнут.
На вторую ночь самый толстый ванька пошёл во двор. Но сколько он ни скакал, не мог вскочить на решётку. Пришло ещё несколько толстяков. Попрыгали, и тоже напрасно.
Первый же тощий, может быть, тот, что поднимал ложную тревогу, легко вспрыгнул на решётку. Он сейчас же принялся за обед.
Толстяки в ярости плясали и прыгали под ним на снегу. Он раскачивался у них над головами и спокойно уплетал рыбку.
Другие тощие тоже скоро привыкли к решётке и наелись досыта.
Я уже считал свою задачу выполненной. Оставалось только во всех ухожах ввести такие кормовые решётки. Но никогда нельзя знать наперёд, как схитрит ванька.
К счастью, я остался у Андриана ещё на одну ночь и опять пошёл в наблюдательную.
И в эту ночь первым пришёл самый толстый ванька. Попрыгал у решётки — ничего не вышло. Подошёл к сетчатой стене дворика и задрал голову вверх.
Тут я сразу понял, что мой расчёт всё-таки неверен: прыгать высоко жирный ванька не может, но лазает он отлично.
И правда: толстяк ловко вскарабкался по сетке на проволочную крышу дворика и в один миг перегрыз одну из четырёх верёвок, на которых висела кормовая решётка. Решётка накренилась.
Толстяк перегрыз вторую верёвку.
Решётка упала одним концом на землю, куски юколы посыпались на снег.
Надо было видеть, с какой быстротой толстяк очутился внизу.
В эту ночь тощим ванькам опять пришлось сидеть за воротами и щёлкать зубами.
На этот раз исправить ошибку в расчёте было нетрудно: просто мы стали подвешивать решётку с юколой на толстой проволоке. Против толстой проволоки ванькины зубы бессильны.
Теперь такие решётки заведены у нас по всем ухожам, и ваньки не жиреют чрезмерно.
Тощие легко вскакивают на решётку и досыта наедаются на ней. Толстые сидят внизу. Им достаются только крохи со стола тощих.
Толстые скоро становятся тощими и получают возможность хорошо пообедать. А тощие, если жиреют, остаются без обеда.
От времени до времени заведующие ловушками-кормушками ловят по нескольку ванек и сейчас же выпускают: надо только посмотреть, как идёт у них линька.
С каждым разом волос всё полней, длинней и гуще. Скоро мех дойдёт. Тогда начнём промысел.
Разосланы уже по ухожам ящичные ловушки. Каюры развозят их по четыре штуки на нарте.
И вот наконец отправились по ухожам алеуты-промышленники — по одному в помощь каждому заведующему ловушкой-кормушкой.
Каждый промышленник получает от меня стандартный пакет: еда и мыло на полтора месяца. Охотничьи припасы — полкило пороху и два кило дроби на ружьё — развезены уже по юрташкам.
Все алеуты — хорошие стрелки. Как никто из материковых охотников-промышленников, они бьют птицу даже влёт.
Морской птицы на острове зимой много. К нам на зиму прилетают громадные стаи пёстрых морских уток — каменушек. Каменушки и чайки — любимая дичь алеутов.
21 декабря
Остров Беринга
Все промышленники на местах. Промысел начался.
Летят простые и спешные письма из ухожей в штаб, из штаба в ухожи. Простые письма доставляются заведующими ловушками-кормушками пешей эстафетой — от юрташки к юрташке и от ближней юрташки в селение.
Спешные письма — бегом. В письмах заведующих — всевозможные сведения: сколько старых, сколько молодых приходит в ловушку-кормушку, дошла ли шерсть, сколько поймано, сколько выпущено, сколько упромышлено песцов.
Штаб у меня.
Мчатся по всему острову гонцы-каюры.
Каждый заведующий ловушкой-кормушкой получает пакет из штаба. В пакете — приказ. В приказе сказано, сколько песцов должно быть упромышлено в сезон в каждом ухоже.
Каюров четверо. У каждого — нарта и добрая упряжка лихих лохматых рысаков.
Самый интересный из каюров — Дотра. Его настоящая фамилия Мякишев. Дотра — это прозвище, значит — доктор.
В дальний путь Дотра никогда не берёт с собой еды; привяжет на нарту полмешка табаку — и понёс. За щекой у него всегда с кулак табаку. Мчится Дотра по снежной тундре.
Вот впереди показалась юрташка.
Заведующий уже давно ждёт его. Скорей вытаскивает приготовленную золу, ставит на печку ведро воды.
Дотру надо угостить на славу: без угощения от Дотры не добьёшься интересных новостей.
Дотра подкатил, вошёл в юрташку. Тут ему первым делом надо золы предложить. Дотра табак размочит и смешает его с золой — приготовит себе жвачку. Золу зав загодя нажёг из выкидняка: из тех громадных, иногда в несколько обхватов толщиной, деревьев, что выкидывает волнами на лайду. Эти деревья приносит к нам от берегов Америки и Камчатки.
Потом обед. Самые вкусные блюда: суп из пареных чаек, жареное нерпичье мясо, свежее нерпичье сало. Потом чай. Чаю Дотра выпивает целое ведро. Хозяин томится, ждёт.
Наконец Дотра кончил. Он достаёт приказ и отдаёт его хозяину. Сам опять принимается за угощение.
Хорошо угостится и тут вдруг вспомнит, что в сумке у него ещё письмо есть от жены хозяина. Вытащит и долго вертит в руках, сверяется с адресом: дескать, как бы не перепутать писем, дело это важное, не всякий может понимать.
Но вот адрес точно сверен, и письмо передано хозяину.
И что же оказывается: никакого адреса на конверте нет, только одна цифра ухожа. Это маленькая тайна письмоносца: он неграмотный. Он знает только цифры.
За первым письмом появляется второе. И снова неграмотный письмоносец долго разбирает несуществующий адрес на конверте. И опять томится, угощает хозяин.
Когда все письма вручены, Дотра начинает выкладывать свежие новости. Так от юрташки к юрташке переезжает каюр Дотра только с запасом табаку и с сумкой письмоносца. И всегда бывает сыт.
Каюры — это самый быстрый способ сообщения с разбросанными по всему острову промышленниками, наша телеграмма-молния.
Но вот по всем юрташкам развезены приказы.
Теперь держись ваньки! Они давно привыкли каждую ночь приходить в сетный дворик за юколой. Штук по двадцать набивается их в ловушку-кормушку.
Зав поглядывает за ними из окошечка наблюдательной.
В одну прекрасную ночь зав дёргает за верёвочку. Дверца дворика падает, и все ваньки попались. Теперь им предстоит экзамен. Зав выходит во двор и загоняет их в первую комнату домика — в тёмную приёмную, или ожидалку.
Промышленник ждёт в задней комнате — экзаменационной. Когда все ваньки загнаны в приёмную, он идёт туда, а зав проходит в экзаменационную и зажигает в ней свечку.
Промышленник схватывает первого попавшегося ваньку за хвост, другой рукой перехватывает его за шею и подаёт заву через окошечко в экзаменационную.
Брать ваньку в руки надо умеючи. Он вьётся в руках, как змея. А вцепится в руку — не отпустит. Разжать ему зубы можно только топором.
Зав учиняет ваньке экзамен: подносит к свету и разглядывает шерсть.
Полноволосый. Нигде ни плешинки, шерсть ровная, вся серо-голубого цвета. Нигде не покалечен.
Зав разжимает ваньке рот. Возраст средний: три — четыре года. Возраст ваньки узнаётся по зубам, как у лошади.
Зав ловко накидывает на ванькин хвост тряпичную петлю и взвешивает его на весах-безмене.
Вес — четыре с половиной килограмма. Полный вес для взрослого самца. Годен.
Зав вырезает колечком шерсть у самого конца пушистого хвоста. Если бы это была самка, он вырезал бы колечко подальше от конца.
И это ещё не всё: зав клеймит ваньку щипцами в оба уха. В левое ухо клеймо «Б», то есть остров Беринга, и «33», то есть 1933 год.
В правое ухо клеймо: литер (латинская буква) ухожа и текущий номер.
Ваньке немножко больно — он злится.
Ему опять разжимают рот, суют за язык большой капсюль с лекарством и заставляют проглотить.
Это против страшных эхинококков, которыми ваньки заражаются от рыжих полёвок.
Наконец напуганного, сбитого с толку ваньку суют в тёмную деревянную трубу.
Ванька в ужасе мчится вперёд и… вылетает на волю.
Теперь он меченый, и если попадётся в другой раз, его только взвесят и опять выпустят.
Во второй раз он не испугается, только удивится.
А если и попадётся в третий раз, он будет держать себя нагло. И как только выпустят его в трубу, он — верть хвостом и скорей к дверцам сетного дворика: ждёт, когда опять впустят.
Зав и промышленники продолжают работу. Один за другим поступают ваньки из приёмной в экзаменационную. Каждого внимательно осматривают, взвешивают и записывают в промысловый журнал: производитель номер такой-то.
Молодых ванек не клеймят. Их только запишут в журнал, завяжут на хвосте петельку из шнура, дадут две маленькие пилюльки с лекарством и отпустят.
Петельку привязывают, чтобы узнать молодого, если ещё раз попадётся, не отметить во второй раз в журнале одного и того же. К лету шнур на хвосте истлеет и сам собой спадёт.
В промысел берутся в первую очередь больные песцы, калеки, у кого шерсть плохого окраса и престарелые, которым всё равно недолго осталось жить. Лучших всегда оставляют на племя.
Не все ваньки ходят в ловушки-кормушки. Есть такие, что живут в отдалённых углах ухожей и не попадают в сетный дворик.
Для них промышленники расставляют ящичные ловушки.
Ящичные ловушки похожи на мышеловки, только, конечно, гораздо больше. Это ящик, с боков и сверху обтянутый проволочной сеткой. Приманка — кусок юколы — нацепляется на крючок в самой глубине ящика. От крючка тонкая проволочка к дверце. Чуть тронь приманку — поднятая дверца падает, и ловушка захлопывается.
Как ни плотно захлопывается дверца, а всё-таки ванька умудряется поднять её и ускользнуть из западни. Пришлось приделывать наверху железный болт. Когда дверца падает, болт скользит по пазу и наглухо запирает дверцу. Болта ванька, казалось бы, уж никак не может выцарапать. Но попадаются и такие, что удирают даже из ловушки с болтом.
Много хлопот промышленнику с ящичными ловушками: надо расставить их по всей лайде, другой раз вёрст на пятнадцать, надо каждое утро обойти их все, вытащить попавшихся ванек.
А ваньки хитры.
В первый раз попадёт ванька в ловушку, он бьётся в ней, как птица в клетке.
Но вот его вынули, записали, заклеймили и выпустили.
Ванька сразу смекает, в чём дело: ящик с юколой ему не страшен — это только угощенье.
И вот только промышленник выпустит его, нацепит новый кусочек юколы и насторожит ловушку, ванька уж тут как тут. Не успеет человек отойти — ванька уже в ловушке и хвать за юколу. И даже не обернётся на стук дверцы. Съест юколу и ляжет отдыхать. Свернётся калачиком, спит себе.
Попробуй пройти мимо ловушки, где спит такой ванька. Он так на тебя затявкает, что поневоле обернёшся: ты что, мол, не знаешь, что обязан меня выпустить отсюда?
Беда промышленникам с такими ваньками. Нет средств их отвадить, и ловушка пропадает без пользы, превращается в кормушку для ваньки.
Ещё есть у нас на острове три самолова. Это хитрое сооружение. В землю врыт большой ящик с покатой крышей. На крыше дощатая труба крестом. Вход в трубу снизу. В верхней, глухой части кладётся приманка. Ванька чует запах юколы и лезет в трубу. Съедает угощенье и благополучно выходит назад.
Пожалуйста! Ведь это его только прикармливают, приучают не бояться ловушки.
Через некоторое время ванька привычной дорогой шагает к приманке: вдруг пол под ним проваливается, и ванька вверх тормашками летит в тёмный погреб.
В полу ловушки, посредине входной трубы, — опрокидывающийся люк. До сих пор он был закреплён, и ванька свободно проходил по нему. Теперь задвижку отодвинули. Ванька ступил на люк и провалился. Люк захлопнулся над ним. Ванька погребён в тёмном погребе до прихода промышленника.
Отсюда уж никак не выберешься, как ни хитри.
Зато уж ванька, раз побывав в таком погребе, в другой раз без спросу не сунется в самолов. Встанет у начала трубы и пробует лапкой, крепок ли пол. Не выкинет ли опять такой штуки, как в прошлый раз?
Промышленнику это и на руку: один и тот же ванька два раза не пойдёт в самолов, не станет надоедать, как с ящичной ловушкой.
Много надо хитрости, чтобы переловить всех ванек на острове. На каждую нашу выдумку они отвечают своей.
Недаром ванька сродни лисе патрикеевне.
21 января — 20 февраля
Остров Беринга
Помначкомпром обязан сам проверять промысел.
21 января выехал я с одноруким каюром Григорьевым в объезд по ухожам.
В это время года путешествие по нашему острову совсем не так приятно, как весной. Много опасностей ждёт в пути, и часто даже не знаешь, как близко был от смерти.
Пришлось и мне попасть в такое положение.
Вот выписка из моего походного дневника.
29 января
Погода неважная, с утра ветер ост (восточный), и несёт мелкий снег.
Сижу в юрташке на ухоже Лисенково. Надо мне скорей на Бобровый, а идти невозможно: путь туда очень опасный.
Каюр уверяет, что к обеду будет пурга.
Чтобы не задержаться долго, решили на собаках вернуться к Андриану, в Толстый мыс, где мы уже были вчера, и сегодня же выйти оттуда на лыжах в Перегребную.
Выехали в половине десятого при среднем ветре и малом снеге. Около часа поднимались благополучно в гору. Временами я слезал с нарт и шёл пешком.
Наконец взобрались на перевал.
Намотали цепи на полозья нарт, как на колеса телеги, и всё-таки понеслись с большой скоростью вниз.
Через десять минут достигли пологого места. Сняли цепи и косогором вдоль левого берега долины быстро, в один час, спустились до юрташки Толстый мыс.
Андриан нас встретил.
Как с утра предсказал каюр, после обеда разыгралась пурга. Мы поели, отдохнули и решили с Андрианом попытаться всё-таки сходить в Перегребную. Надеялись, что в перерыве между шквалами сумеем выбрать правильное направление.
Предстояло идти через горы.
Мы вышли в два часа дня с лыжами и сумкой.
Благополучно прошли берегом первую бухту. Из второй взяли на юг. Начали подниматься в гору.
Всё шло хорошо. Добрались до вершины первой горы, немного скатились, поднялись на вторую, повыше. Опять скатились, опять полезли вверх.
Пурга всё сильнее, и — самое неприятное — всё кругом заволокло густым туманом, ничего не видно.
Сначала Андриан шёл уверенно. Потом начал часто останавливаться, проклинал туман.
Туман не рассеивался.
Брели уже наугад, по ветру, хотя оба знали, что поблизости есть опасные снежные навесы. Ступишь — и рухнет в пропасть висящая в воздухе глыба снега.
Я шёл осторожно, то и дело тыкал лыжами вперёд: нет ли провала.
Попали на ровное место. Андриан и говорит:
— Теперь я знаю, куда идти. Это озеро.
Пошёл вперёд.
Направление показалось мне подозрительным. Ветер дул теперь сзади и немножко справа. Значит, мы повернули в глубь острова.
От тумана и пурги стало совсем темно.
Разом пошло круто вниз.
Выдвигались из темноты снежные завесы, тяжелели над головой.
Спустились осторожно в узкую долинку, но она уходила круто куда-то совсем не по нашему направлению.
Поднялись опять на гору.
Шли долго. Всё гора. Выше и выше.
Пошли косогором.
Вдруг Андриан разом остановился.
Обернулся — глаза чёрные, большие. Смуглое лицо посерело.
Я различил впереди глубокое ущелье. На другой стороне смутно виднелся крутой подъём и громадный навес.
Точно запомнились мне очертания страшного ущелья. Ступи Андриан ещё шаг — и он сорвался бы в пропасть, а за ним и я.
Мы быстро повернули и пошли назад.
Отошли несколько шагов и стали. Андриан сознался, что запутался безнадёжно.
Сняли лыжи.
Пошли в обратную сторону, против ветра.
Шли долго и утомительно, глубоко проваливались в снег. То и дело возникали впереди белые навесы, чёрные щели, дыры, и мы поспешно сворачивали в сторону.
Мокрый снег давно промочил нашу одежду; брюки, насквозь мокрые, пристали к телу. Силы выходят. Оба шатаемся, держимся друг за друга.
Вьюга в лицо, слепит и запирает дыхание. Лыжи в руках, как паруса, не дают идти. Бросить нельзя: только на них удержаться, если провалишься в щель.
Сил нет передвигать ноги.
Предлагаю Андриану выкопать лыжами яму и как-нибудь переночевать, пересидеть ночь в снегу.
Андриан не соглашается: одежды мало. Я — в одном дождевике, он — в фуфайке и робе. В сумке только тонкое одеяло.
— Маленько, — говорит Андриан, — ещё попробуем.
Дальше бредём.
На миг вдруг прорвало туман, и сквозь пургу в темноте встали: слева гора, справа гора и что-то чёрное в ней. Должно быть, долина к морю.
Опять всё скрылось. Но мы твёрдо запомнили направление по ветру.
Пошли. Вдруг круча вниз.
Осторожно пробуем лыжами: спуск и дно.
Спускаемся. Андриан впереди, я сзади.
Неожиданно Андриан исчезает.
Не успев понять, что случилось, и сам стремглав лечу вниз, пролетаю метра четыре и падаю прямо на Андриана. Больно треснуло лыжиной.
Поднимаемся, кости как будто бы целы. Всё на месте.
Находимся в узком ущелье речки.
Пошли по нему. Вдруг впереди снежная стена. Речка падает в чёрную дыру под ней.
Пробовали царапаться по левому крутому берегу — не влезть.
Андриан вырубает ступеньки лыжей, я — своими крепкими солдатскими сапогами. На счастье, надел их утром вместо мягких торбасов.
Вылезаем на пологое место. Шарим дальше в темноте — уступ. Такая крутизна вверх, что опять приходится спускаться.
Бредём по дну ущелья.
Андриан опять проваливается, к счастью, неглубоко.
Оказывается, проломил лёд и попал в воду.
Опять пробуем подняться. Ползём по стене. Выше и выше.
У Андриана из рук выскальзывает лыжина, со свистом укатывается вниз.
Нет сил вернуться за ней. Пусть пропадает.
Наконец вылезли на берег. Впереди гремит море.
Сразу как будто и сил прибавилось.
Через полчаса спустились на лайду. Здесь туман меньше. Светлее. Огляделись: мы в замкнутой скалами бухте. В одну и в другую сторону — скалы. Мы в каменном колодце.
Пошли наугад в правую сторону.
Гора обрывается в море. Бурун с бешеной силой бьёт в неё. Ударит — и откатится. Ударит — и назад. И нам надо проскользнуть по узенькой кромке каменного карниза, точно рассчитав время между двумя ударами буруна.
Мы с Андрианом посмотрели друг другу в глаза. Всё равно замёрзнем здесь в бухте.
Я подошёл к узкому карнизу вплотную.
Бурун ударил в скалу, взвился к небу и с шипением пошёл назад.
Я ступил на карниз, распластал руки, чтобы плотней прижаться грудью к скале.
Так, с повёрнутой вбок головой, быстро стал переставлять ноги. Левую отставил, правую к ней придвинул, и опять, и опять, чтобы не думать о другом, считал про себя шаги:
— Четыре, пять… восемь, девять…
На десятом услышал за собой рёв набегающего буруна, всей спиной почувствовал его тяжёлую силу: шваркнет о скалу и слизнёт, как спичку. Меня ударило в спину, обдало с головы да ног холодной водой и повалило лицом в песок, но я уже был по ту сторону скалы.
Холодный водяной язык тянул в море. Я ухватился за первый попавшийся камень.
Камень выдержал. Бурун схлынул. Я вскочил на ноги.
Теперь Андриан.
Он подхватил брошенные мною лыжи и ловко, как кошка, проскочил опасное место.
Бурун не успел слизнуть его.
Мы стояли в той самой бухте, откуда начали свой подъём в горы.
Легко и радостно стало. Присели отдохнуть.
Километра три ещё пришлось тащиться по лайде, по сыпучему песку против пурги. Мокрая одежда обмёрзла, стала как железные латы.
Добрались до юрташки мокрые от пота, без сил; руки и ноги дрожат.
Достал заветные — на самый крайний случай — полбутылки спирту. Ожили.
Хорошо, что не остались ночевать в снегу, — пропали бы.
30 января
С утра — норд-ост.
Пурга всё сильней, гор даже не видать. Идти — и думать нечегó.
Взялись за чистку песцовых шкурок. Андриан наточил мне нож, как бритву.
Начинается чистка с хвоста. Потом задние лапы, потом кругом по туловищу.
Навык нужен большой. Я через четыре с половиной часа дошёл только до передних лап, сделал два пореза больших и несколько маленьких.
А каюр Григорьев привязал нож к обрубку своей правой руки и так ловко им орудует, что очистил уже всю шкурку, даже ушки и лапки кармашками кончил, и ни одного пореза.
Обедали в два часа. Суп из нерпы с макаронами и рисом, к нему пироги с рисом, на второе — чайки пареные.
Всё очень вкусно.
Пурга, кажется, никогда не кончится.
31 января
Ветер переменился вест (западный). В девять утра стало проясняться.
Выехали с каюром Григорьевым на собаках в Перегребную.
Ехали тем же путём, что проделали третьего дня с Андрианом.
Только теперь я понял, как счастливо мы с ним избегли тогда погибели.
От второй бухты начинается ряд некрутых гор. Справа остаётся долина речки, по которой мы вернулись к морю.
С горы мы с каюром спустились к озеру, где Андриан сказал, что знает дорогу. Пересекли его. Тут перевал и длинный пологий спуск. Опять перевал, и скоро начались крутые обрывы в долину бухты Перегребной. Удивительно, как мы с Андрианом не сорвались с них в темноте.
Осторожно подошли к крутому спуску в пропасть.
Напротив совершенно отвесная стена метров в пятьдесят высоты. От верхушки стены простёрт в воздухе громадный снежный навес. И на навесе ясные следы двух пар ног. Один след резкий — от солдатских ботинок. Другой мягкий, округлённый — от Андриановых торбасов.
Чётко встали в памяти очертания страшного ущелья и та минута, когда Андриан вдруг остановился и обернул ко мне посеревшее лицо с громадными чёрными глазами.
Я различил впереди очертания глубокого ущелья.
Мы быстро отошли на несколько шагов. Но мы и не подозревали тогда, что стоим в пустоте над пропастью.
Как не обрушилась под нашей тяжестью висящая в воздухе глыба снега, до сих пор для меня загадка.
Мы впрягли собак и обмотали полозья цепью.
Сначала осторожно спустили нарту. Нарта укатила далеко в бухту.
Собак спустили так: спереди их держал каюр, а я сзади тянул за верёвку вместо якоря. Шипами сапог я изо всей силы упирался в твёрдый снег, и всё-таки меня быстро волокло вниз. Ущельем мы с Григорьевым быстро домчались до юрташки Перегребной.
До половины февраля продолжался промысел песцов.
К этому времени мы уже собрали положенное число голубых шкурок.
21 февраля — 20 марта
Остров Беринга
Февраль у нас тоже бурный месяц. Штормы такие, что по три, по четыре дня не высунешь носа из дому.
Голубые ваньки начали желтеть, буреть. Промысел кончен. Промышленники вернулись в селение. Но заведующие ловушками-кормушками продолжают ещё подкармливать ванек, ловить их и отмечать производителей.
Снегом заносит юрташки по самую крышу. Долго потом хозяин разгребает снег, чтобы выбиться наружу. Выползает, как ванька из норы! А что творится на берегу! Рёв и вой. И чего-чего только не выкидывается штормом на лайду!
В последние дни, одного за другим, выкинуло двух китов.
Первый — пловун, длиной около восьми метров, больше двух слонов, поставленных один за другим. Но перед вторым — синим полосатиком — он кажется малышом.
Выкинуло синего полосатика двадцати метров длиной.
Во рту у него свободно разляжется человек большого роста. Череп два метра длины, метр высоты.
У обоих китов распороты животы и внутренности выедены.
Это работа страшных косаток. Что перед ними самые крупные акулы. Одна акула не может вспороть брюхо киту, а нападая целой стаей, они справляются и с этим гигантом.
Как гора мяса, лежит громадный труп кита на лайде. К нему со всего острова собираются сотни ванек, слетаются тысячи птиц: чайки, вороны. Людям с трудом удаётся отбить у них дневную добычу.
Алеуты большими кусками режут китовый жир и увозят в селение — себе про запас. Китовым мясом кормятся ваньки зимой: оно здесь не портится.
* * *
Главная наша работа в этом месяце — дома, в селении. Работа ответственная: приёмка песцовых шкур.
Надо видеть, с каким усердием готовятся к сдаче промышленники и заведующие ухожами. Расправляют каждую шкурку, подчищают последние остатки жира на мездре, замывают каждое пятнышко на меху, расчёсывают шкурку гребешком волосок к волоску. Приёмка шкур — это экзамен для промышленников и заведующих ухожами. Лучшие работники получают премии деньгами и такими ценными вещами, как ружья, будильники, одеяла.
Председателем приёмочной комиссии — я, помначкомпром. Но едва ли не главный член её — старшинка Пётр Березин.
Вся комиссия тщательно осматривает каждую шкурку: нет ли порезов, подрезов, хорошо ли обезжирена мездра, хороша ли правка или посадка — не растянута ли шкурка, не осажена ли она. Измеряем каждую шкурку, определяем окрас меха: тёмный, тёмно-голубой, голубой, светло-голубой, светлый.
И вот надо определить сорт меха. Это уж дело опытного глаза старшинки.
Все затихают, когда старшинка бережно берёт шкурку в обе руки, поднимает её против света на уровень своих глаз. Вот он встряхнул шкурку раз и два, прищурился, нахмурился, встряхнул ещё. Голубой блеск волной пробежал по длинной ости.
Но старшинка хмурится, качает головой: наверно, не очень густ подшёрсток, или пух, или, может быть, недостаточно пышен мех.
Старшинка снова смотрит шкурку против света и вдруг пренебрежительно швыряет её на стол перед нами.
— Третьим сортом, — говорит он тоном судьи, выносящего обвинительный приговор преступнику.
И, не глядя больше на провинившуюся шкурку, берёт другую, опять теми же жестами поднимает к глазам, встряхивает, поворачивает к свету. Вдруг суровое лицо его распускается в улыбку, он удовлетворённо кивает головой. Ещё и ещё раз так и этак поворачивает шкурку к свету, опускает её, любовно оглаживает пышный мех и осторожно, как тончайший хрусталь, опускает шкурку на стол.
— Первым сортом! — объявляет старшинка торжественным голосом.
И все мы — вся комиссия и промышленники — тоже невольно улыбаемся, довольные и гордые.
После приёмки шкурка записывается под очередным номером, штампуется, к ней привязывается полотняный ярлык. Потом шкурки связываются попарно и вешаются на крючки в складе. Время от времени их проветривают. Затем их связывают по пяти штук в пачки, опять проветривают и в конце концов увязывают в большие мешки, шкурок по сто в каждом. Теперь наше пушистое золото готово для сдачи на пароход. И время: последние заведующие ловушками-кормушками возвращаются с дальних ухожей.
Океан ревёт и ревёт, но мы уже начинаем поджидать первую лодку с Медного. Удастся ли ей проскочить в этот раз между двумя штормами?
Промысловый год кончился.
Скоро весна.
Скоро, может быть, покажется на далёком горизонте дымок приближающегося парохода.
Васька-Ойка-Суд — Кожаный Чулок Предыстория одного заповедника
Размышления о Кожаном Чулке
В детстве я любил книжки Фенимора Купера «Кожаный Чулок», «Последний из могикан». Главный герой их — траппер по прозвищу Кожаный Чулок, или Соколиный Глаз, — был в моё время кумиром всех мальчишек с рогаткой за пазухой.
Траппер — североамериканский следопыт, зверолов, охотник. В военное время трапперы служили в армии разведчиками и проводниками.
Кожаный Чулок — сын леса, человек благороднейшей души и, судя по его цветистым речам, тонкий ценитель красот природы.
Стрелок без промаха. Друг мирных могикан — последних представителей когда-то славного индейского племени.
Городская жизнь чужда ему, в городе он теряется, тоскует. Зато под открытым небом, в девственных лесах и прериях, чувствует себя как дома.
Бьёт там зверя и птицу без счёта.
Я подумал:
«Тип Кожаного Чулка бессмертен. Кожаные Чулки не переведутся, пока на земле есть большие леса, обильно населённые зверем и птицей. Кожаные Чулки всегда, во все времена будут кумиром, образцом для подражания всем мальчишкам с рогатками. И это хорошо, потому что они отважны, предприимчивы, благородны, отлично знают лес и в случае надобности первые защитники родины».
Но для нашего времени в тип куперовского Кожаного Чулка необходимо внести существенные поправки. И первая из них: наш советский Кожаный Чулок не станет легкомысленно бить зверя и птицу без счёта.
Во времена Купера по лесным речкам и речушкам Северной Америки жило множество бобров; в прериях кочевали бесчисленные стада бизонов.
Где теперь бизоны?
Их начисто выбили трапперы.
Где бобры?
С ними тоже покончили трапперы.
Метис Серая Сова[14] — североамериканский траппер, наш современник — долго тщетно разыскивал по всей стране девственный лес, населённый бобрами. Нет больше в Америке девственных лесов. Нет и дикоживущих бобров.
Жилище одной из последних пар находит Серая Сова; ловит и увозит с собой бобрят. Бобры разводятся теперь в Америке в специальных питомниках: бобры «играют» в голливудских кинофильмах.
Неожиданное открытие
Не лучше обстояло дело и у нас в России до революции[15].
Отечественные «трапперы» истребили наших «бизонов» — зубров. Последних вывезли немцы, захватив в 1916 году Беловежскую Пущу.
Выбили наши «трапперы» и бобра.
В 1925 году был учреждён Белорусский государственный бобровый заповедник. В нём тогда насчитывалось десять бобровых семейств.
В 1927 году был учреждён Воронежский государственный бобровый заповедник. И в нём не больше было бобров, чем в Белорусском.
И уже в начале нашего столетия было твёрдо установлено, что, кроме этих двух мест, нигде в России дикоживущих бобров нет.
Время от времени возникали, правда, слухи, что где-то в Западной или Восточной Сибири кто-то нашёл неизвестные колонии бобров.
Привозили даже оттуда бобровые шкурки. Но каждый раз учёные легко опровергали такие слухи, доказывали, что это ошибка или обман. Шкурку-то, конечно, можно привезти из любого места, если предварительно она была туда завезена.
И вдруг в 1928 году попалась мне в журнале «Охрана природы» коротенькая заметка профессора Кожевникова: «Новое месторождение бобров».
Вот, что называется, сногсшибательная новость!
Оказывается, некто В. В. Васильев зимой 1926/27 года нашёл между Уральским хребтом и рекой Обью целых тридцать шесть речек, населённых бобрами. Более подробные исследования Васильева в следующем, 1928 году позволили увеличить эту цифру ещё на 9: всего оказалось 45 речек с бобрами.
Я подумал:
«Вот мой Кожаный Чулок! Нашёл последних на земном шаре неизвестных науке бобров — никому до него не дававшийся в руки живой клад. Какой подарок Родине!»
Очень мне захотелось узнать во всех подробностях, как ему удалось это сделать. Познакомиться с ним. И потом написать о нём книжку — книжку о нашем Кожаном Чулке для мальчишек с рогатками.
На ловца и зверь бежит
Года не прошло, возвращается из Свердловска один мой знакомый охотник. И, захлёбываясь от восторга, начинает мне рассказывать о своей встрече там, на Урале, с замечательным человеком:
— Орёл! В лесу как дома. Нырка на воде без промаха бьёт. Следопыт. Зверолов. Исследователь — нашёл бобров за Уралом!
— Постой! Не Васильев?
— Васильев. Василий Владимирович. Внук известного русского математика. В детстве, понимаешь, жил на Волге. С малых лет пристрастился к рыбной ловле и охоте. Целые месяцы на рыбалке за Волгой — индейцем, дикарём. Что промыслит, то и ест. Осенью надо в школу — ни одни ботинки не лезут, куртка не застёгивается.
«Синий журнал» знаешь? Дореволюционный развлекательный журналишко. Там снимок: стоит мальчик рядом с огромным сомом-людоедем. Сам поймал. Это он, Васильев. Мы в его годы пескарей ловили, уклейку.
Слово за слово, из сбивчивых рассказов знакомого возникло краткое жизнеописание Васильева.
В городах
Человек неукротимого темперамента и большой воли. Страсть, охватившая такого человека в детстве, живёт в нём до смерти.
Война и революция на долгие годы оторвали Васильева от милой его сердцу рыбной ловли и охоты. В тяжёлых испытаниях вырастали и крепли убеждения — убеждения коммуниста, строителя новой жизни.
Во время гражданской войны ему доверяют заведовать всеми складами Совета народного хозяйства. Он встречается с Лениным, делает ему доклады.
Но личная жизнь складывалась неудачно, грозила катастрофа. Город давил душу. Тоска по вольной жизни под открытым небом, довела до тяжёлой болезни.
И ему было разрешено выбрать себе поле деятельности по душе.
После окончания гражданской войны Васильев отправляется с одной из дальних экспедиций, им самим снаряжённой.
На реке Демьянке — притоке Иртыша — севернее Тобольска он сходит с парохода сам-друг с женой и всем своим багажом. А багажа у него — несколько охотничьих ружей да рыболовные снасти.
Превращение в Ваську-зверолова
Лесные люди — ханты, или, по-тогдашнему, остяки, — принимают его в свою охотничью промысловую артель. Дали юрту: «Живи, промышляй с нами».
Под их руководством он проходит суровую лесную школу — школу следопыта, зверолова, охотника-промышленника. Осенью и зимой учится тонкому искусству расставлять капканы и плашки на мелких пушных зверей. Бьет дичь и белку. Выходит против грозных лесных великанов — сохатых, медведей.
Летом в артели ловит рыбу.
Известно, в какой темноте царское правительство держало малые народы, как спаивали и грабили их купцы, скупщики пушнины.
Ханты не имели оснований доверять русским, любить их.
Но Ваську — так запросто стали они называть Васильева, — Ваську они полюбили. Васька — свой брат, делит с ними все беды и радости их трудной жизни. Васька всегда готов помочь и часто выручает товарищей из беды. Васька видел и знает много такого, чего не знают ханты. Он всегда держит своё слово и честен, как сами ханты.
Русские прогнали царя. Новые люди строят новую жизнь. Васька один из них. Васька рассказывает про новую жизнь, учит, наставляет. И ханты ему верят: Васька свой.
Много надо было терпения и выдержки, чтобы заслужить это доверие. Труднее всего было бороться с суевериями и предрассудками — с тьмой тысячелетий, в которой насильно держало лесные народы царское правительство.
Тайна живого клада
Много тайн леса открыли друзья-ханты Ваське-Шайтану. И главной из них была тщательно скрываемая от всех чужих тайна местонахождения живого клада — бобров.
Клад находился далеко от Демьянки, где жил Васильев. Пробраться туда было очень трудно. Одному не под силу снарядиться для такого путешествия. Но надо спешить: бобров там бьют, их могут истребить совсем.
И в голове Васильева созрел план.
Он переезжает в Тобольск. Путеец по образованию, он проходит там охотоведческие курсы. Поступает на службу в земельное управление охотоведом. И в то же время не теряет связи со своими лесными друзьями.
Тобольское земельное управление горячо заинтересовалось вопросом о неизвестных бобрах. И вот осенью 1926 года охотоведа Васильева отправляют в экспедицию для исследования глухого угла области — верховьев рек Большой Сосьвы, Малой Сосьвы и Конды. Маршрут путешествия выработан им самим.
На этом сведения моего знакомого о Васильеве кончались. Как был найден драгоценный клад, он не знал.
Но у него был записан адрес Васильева.
На следующий год я отправился в город Берёзов на Большой Сосьве, чтобы там лично встретиться с Васильевым и расспросить его самого о его замечательном открытии.
Встреча
В кепках, с портфелями снуют по площади люди…
Вдруг трое, как магнитом, притянули мой взгляд. Точнее, один из трёх, шедших рядом.
Человек этот тоже нёс портфель, тоже был в кепке и на первый взгляд отличался от других разве тем, что был не в чёрных, а в жёлтых ботинках. Но что-то резко выделяло его из общей массы горожан.
Я понял что — его походка.
Что же это? Ведь такая походка мне хорошо знакома. У кого я её видел? Где?
Закрываю на минутку глаза, и сразу — степь. И, мерно качаясь, идёт караван, идут «корабли пустыни». Мерная, плавная поступь, неторопливый, на долгий срок рассчитанный шаг, такт, ритм.
Рядом с верблюдами идут люди. Та же поступь у них, тот же шаг, ритм. Так же слегка подгибаются ноги в коленях, когда ступня плотно и уверенно ступает на землю.
Не раз я замечал: такая походка у всех людей, привыкших долго, упорно, расчётливо шагать. У всех путешественников, странников, охотников, не в городе живущих.
Открыл глаза: да, ошибки нет. На ногах — франтовские жёлтые ботинки, а кажется — высокие охотничьи сапоги!
Тогда встаю и уверенно иду навстречу этому человеку.
— Простите, вы не Васька?..
Орлиная бровь резко взлетает кверху. Глаза тяжело упираются в мои глаза — два дула в упор.
— …не Василий Владимирович Васильев?
— Васильев. С кем имею?..
Называю себя.
— А! — Орлиная бровь плавно слетает на место. Лицо сразу становится мягче. Он протягивает большую, сильную руку.
— Ваше письмо получил. Знакомьтесь.
Он представляет мне своих спутников — сослуживцев по заповеднику.
Выясняется, что до вечера нам толком поговорить не удастся. К заходу солнца он приглашает меня к себе на лодку — в своё походное жилище.
Лодка будет стоять за городом, на реке Вогулке.
Речное походное жилище
Солнце близко к закату. Косая тень легла от леса на сонную воду Вогулки. Под берегом сереет каяк — большая крытая лодка, что-то вроде речной арбы. В мачту впились обрубленные лапы, над ними прибито широкое орлиное крыло. На самом верху — флаг. Он кумачовый, красный, но сейчас в сумерках кажется чёрным.
Чёрный флаг — пиратский?
На корме у чёрной дыры под палубой — ружья, прислонённые к стенке. На верхней палубе под мачтой — бочонок.
Бочонок пороху?
И закопчённая железная печурка на носу судна с лежащей на ней трубой так соблазнительно смахивает на небольшую пушку.
С берега окликаю хозяина.
Из чёрной дыры под палубой возникает высокая фигура. Голова повязана зелёным платком вместо шапки. Крупные, решительные черты лица. У пояса охотничий нож. На ногах высокие, с раструбами сапоги.
Вот с кого писать корсара!
Он спускает с борта доску — сходни.
— Заходите.
В каюте под палубой две широкие койки. Одна застелена медвежьей, другая — сохатиной шкурой. На сводчатых стенах каюты — двустволка, призматический бинокль, острога на длинном древке.
На столике между койками в беспорядке навалены сделанные от руки топографические карты, карманный компас, блокноты, патроны, карандаши.
На более романтическую обстановку в своём походном жилище не мог бы рассчитывать ни корсар, ни Кожаный Чулок.
Но хозяин, кажется, так привык к ней, что совсем её не замечает.
— Садитесь, — говорит он просто, указывая на койку, крытую сохатиной шкурой.
Сам усаживается на медвежью.
— Есть хотите?
— Сыт, благодарю.
Так прозаически начался наш первый разговор.
Экспедиция в одиночку
По пути моему сюда, в Берёзов, — в Свердловске, в Тобольске, на пароходе — я встречал многих, знавших Васильева. И все охотно, с увлечением рассказывали мне о нём, о его открытии. Так ко времени встречи с ним я уже составил себе довольно ясную картину «поисков живого клада».
Осенью 1926 года Васька-Шайтан выехал из Берёзова в лодчонке и по реке Большой Сосьве поднялся до её притока — Малой Сосьвы.
Он вконец потратился на приобретение необходимого снаряжения. От денег, выданных на экспедицию, остался у него двугривенный.
Но в деньгах нет необходимости там, где население не покупает пищу и одежду в магазинах, а добывает себе всё необходимое для жизни прямо из леса, воды и земли.
С ним был помощник-гребец и лайка Язва — верная спутница его охотничьих скитаний.
Жизнь, полная лишений, а часто и риска, не по силам оказалась помощнику-гребцу. Скоро пришлось его отпустить восвояси.
Язва продолжала самоотверженно служить хозяину. Но и она не выдержала сурового испытания: зимой протянула ноги.
С осени 1926 до весны 1927 года Васька-Шайтан исследовал весь район верховьев Большой Сосьвы, Малой Сосьвы и Конды.
Это один из самых безлюдных и малоисследованных углов Зауралья. В глубь его отваживались забираться только самые смелые звероловы. Здесь, на площади примерно в триста тысяч квадратных километров, исследователь насчитал всего тридцать две жилых юрты.
Богатства
Здесь лучшие охотничьи угодья всего Зауралья.
Урман, никогда не слыхавший визга пилы, первобытный урман: леса хвойные — кедр, ель, сосна — и лиственные — берёза, осина, ольха, ива — вперемежку с громадными моховыми болотами, глухими озёрами.
Летом человеку не пробраться сквозь урман.
Передвигаться можно только по некоторым из его бесчисленных рек и речушек в лёгком, переносном челне.
Сосьвинские и кондинские ханты и манси не знают ни оленьих, ни собачьих упряжек. Зимой единственный их способ передвижения — лыжи.
На лыжах, один, сам таща за собой нагружённые едой и снаряжением нарты, и проделал большую часть своего путешествия Васька-Шайтан. Его ноги выдержали это испытание.
Он видел сотенные стада диких северных оленей. Они паслись на моховых болотах, разгребая себе копытами мох из-под снега. Трудами их пользовались белые куропатки.
В лесах он слышал глухой и яростный рёв сохатых, встречал медведей, прослеживал по следам рысей и росомах. Убедился, что здесь ещё много таких ценных пушных зверьков, как соболь, лесная куница и замечательная помесь их — кидас. Что тут без числа белки, зайцы, рябчики, глухари.
Озёра, реки и речушки богаты разной ценной рыбой и выдрой.
И в самой глуши, по речкам, стал испытывать: тут ли желанный клад?
Срезал осиновую ветку. Сделал дырку во льду. Сунул в неё ветку.
Долгое ожидание. И вдруг веточка задрожала, зашевелилась!
За нижний конец подо льдом дёрнуло. Дёрнуло ещё раз. Потянуло к себе под лёд. Сомнений быть не могло: дёргал бобёр!
Живой клад дался наконец в руки.
В сорока пяти речках — притоках Конды и Малой Сосьвы — оказались бобры.
Правда, живут они тут не густо, не собираются в большие колонии. Они здесь разошлись «на хутора» — не для того ли, чтобы верней спасти свои шубы? И даже почти не строят приметных хаток, а роют себе в берегах подземные жилища.
Всё же, по самому скромному подсчёту, их здесь сотни. И это в то время, когда считалось, что во всём нашем Союзе бобров можно пересчитать по пальцам.
Какой подарок Родине!
Васька-Ойка-Суд
Победа! Победа!
И вот победитель — один из миллиона, быть может, русских, носящих фамилию Васильев, — превратился сперва в простого Ваську-зверолова, потом в грозного Ваську-Шайтана — получил наконец своё третье и последнее имя: Васька-Ойка-Суд: Васька — Главный Судья.
Такое почётное прозвище ему дали сосьвинские и кондинские ханты и манси.
Он явился к ним первым представителем тех, кто устраивал во всей стране новую жизнь, уничтожал вековые несправедливости старых порядков. Он делил с ними пищу и раскуривал трубку мира. Он выдержал все жесткие испытания их суровой лесной жизни. Он, наконец, узнал их тайну и не стал их преследовать за то, что они так долго скрывали её для себя одних.
И лесные люди поверили этому человеку. Они сами поставили его Главным Судьёй над своими маленькими междоусобными распрями, доверили ему устройство их жизни на новых началах, сами выдали ему свою сокровенную тайну.
А ведь хранили они её веками.
Только идейная сила могла разрушить этот великий заговор молчания.
Почему молчали про бобров ханты и манси
В прежней, дикарской своей жизни ханты и манси поклонялись природе. У них были священные звери, птицы, рыбы, деревья, камни.
Речной бобёр был одним из их священных зверей. Они находили в нём сходство с человеком. Ещё бы! Разве бобры не строят хитроумных плотин, расчётливо не поддерживают воду в реках на нужном им уровне, не строят себе маленьких юрт с тайным выходом под воду, не ухаживают за своими бобрятами, как люди за детьми?
А когда бобёр свалит дерево, распилит его зубами на брёвнышки и, взвалив брёвнышко себе на плечо, шагает с ним к речке, поддерживая его одной «рукой», — разве тогда бобёр не похож как две капли воды на охотника, который тащит себе лес для костра?! Трубки в зубах нет — только и разницы.
Однако хоть и священное животное бобёр, но не бить их лесным людям было никак невозможно. Только у бобра есть «бобровая струя» — мускус, а пахучий, возбуждающий силы мускус необходим людям в их трудной лесной жизни. Воскури мускус — ароматный дым его прогонит злых духов из твоего больного тела, прогонит их из твоего жилища. Зашей кусочек бурой, высохшей «бобровой струи» в полу своей одежды — и будет везти тебе на охоте, потому что это талисман. Воскури мускус перед идолом — это угодно богам.
Так говорили шаманы. А они-то уж знают!
Бобры стали редки, стали пугливы, осторожны. Добывать их всё труднее и труднее. «Бобровая струя» ценилась всё дороже и дороже.
В 1927 году один добытый бобёр давал охотнику дохода — если перевести на деньги — рублей до восьмисот. И это один мешочек «бобровой струи», не считая шкурки.
Впрочем, шкурки бобровые ханты и манси никак не оценивали: бобровые шкурки шли у них в приклад (приношение, жертву) их главному богу — Торыму. И драгоценные пушные шкурки без пользы истлевали в лесу, развешанные у деревянных идолов.
Как же было не молчать про бобров?
Ханты и манси знали: проведают царские власти или купцы о бобрах — и очень скоро во всём краю не останется ни одного бобра. И лесные люди лишатся своего талисмана — «бобровой струи».
Крепко молчали ханты и манси, не выдали своей тайны русским властям.
Но от предприимчивых русских охотников, звероловов скрыть её не удалось им.
Васька-Ойка-Суд обнаружил в верховьях Конды двенадцать юрт русских промышленников, переселившихся туда ещё в 1914 году. Только один из этих охотников за двенадцать лет успел убить больше сотни бобров.
Неизвестно, сколько перебили остальные.
Почему молчали про бобров русские охотники
Русским охотникам отлично был известен давнишний закон, запрещающий бить бобров.
Но большой доход от каждого добытого бобра толкал на риск: игра стоила свеч.
Ханты и манси тут же на месте выменивали у русских «бобровую струю». А выделанные, выщипанные и раскроенные на воротники и шапки бобровые шкурки русские промышленники зимой контрабандой переправляли через Уральский хребет и сбывали спекулянтам.
В урмане не шумят. Люди, занимающиеся незаконными делами, всегда готовы убрать всякого, кто станет им поперёк дороги или может их выдать.
И мне было понятно, какому риску подвергался человек, взявший на себя смелость «выкопать» для государства живой клад драгоценной пушнины. Он мог погибнуть не только от холода, голода, от страшного физического истощения — мог и заблудиться, и пасть в схватке с опасными зверями, и утонуть в бурю в глухих, бездонных озерах. И ещё: рисковал получить пулю в спину из тёмной чащи леса.
В безлюдном урмане закон не страшен: пропал человек — поди разбери, как!
Васильев знал это. Но мужественно довёл своё дело до конца.
Собранных мною сведений о нём до моего прихода к нему в каяк вполне хватило бы на большой очерк о его открытии. Но для рассказа или повести мне необходимы были подробности — те мелкие, но точные подробности, которые делают рассказ живым и неповторимо своеобразным, описание ярким, увлекательным и достоверным.
Сообщить мне эти подробности мог только сам Васильев — мой Кожаный Чулок, герой моей будущей книжки.
За ними-то я и пришёл к нему в его походное речное жилище.
Разочарование
Сидя на койке, покрытой сохатиной шкурой, я пристал к Кожаному Чулку, к корсару, повязанному зелёным платком, с расспросами о его путешествии.
И ждал услышать в ответ цветистую речь всех корсаров и следопытов из прочитанных в детстве книг.
— Но ведь вы уже всё это слышали, — ответил мне мой Кожаный Чулок. И в голосе его послышалась неподдельная скука. — Лучше я вам расскажу, как сейчас обстоят дела с бобрами и заповедником. И что предполагается сделать в дальнейшем.
И вот он, постепенно оживляясь, начал развивать передо мною свои мысли о замечательном будущем этого богатейшего края.
Бобры уже взяты под охрану. Декретом Москвы в верховьях Конды и Малой Сосьвы площадь в 8 тысяч квадратных километров объявлена государственным заповедником. Вокруг него предполагается устроить огромный — в 40 тысяч квадратных километров — охотничий совхоз.
Излишек зверя и птицы, которым предоставлено спокойно размножаться в заповеднике, будет постоянно переливаться на площадь охотсовхоза. Тут будет ежегодно производиться отстрел дичи и ценного пушного зверя. Конечно, в разумном, строго определённом количестве.
Разумно хозяйничая, мы в ближайшие же годы увеличим поголовье не только бобров и соболя, но и всех нужных нам зверей, всей дичи.
Мы разведём здесь ондатру — так называемую американскую выхухоль, ещё американскую норку. Места для них подходящие.
Будем поставлять отсюда по всему Союзу расплодившихся бобров, соболей, лесную куницу — живое пушистое золото.
Один увлекательнее другого развёртывались передо мной смелые проекты. Мы обсуждали их, спорили — и тут же придумывали новые.
Только когда побледнела висячая лампочка и в открытую дверь каюты вошёл свет вставшего где-то за лесом солнца, я опомнился.
И увидел, что не узнал ни одной из нужных мне подробностей.
— Мне пора, — сказал я, поднимаясь. — Но скажите мне всё-таки: почему же ханты и манси не сердятся на вас за то, что вы лишили их талисмана?
Он улыбнулся.
— Очень просто: два «а».
— То есть?
— Агитация и аптека. Антишаманская агитация — и вся молодёжь и многие пожилые легко отказываются от всех подобных суеверий и предрассудков. Можно быть уверенным, что молодое поколение, пошедшее уже в нашу школу, даже не вспомнит о талисманах.
— А старики?
— Ну, для закоренелых язычников я держу купленную в аптеке «канадскую бобровую струю». Это обходится государству куда дешевле.
— Так. Ну и напоследок: хоть одно ваше приключение во время первого путешествия сюда. Встречу с опасным зверем. Бурю на озере. Счастливую карту в борьбе со смертью.
Мой Кожаный Чулок растерянно проводит рукой по лбу.
— Затрудняюсь, право…
— Ну, — помог я ещё, — что из всех трудностей этого путешествия вам больше всего запомнилось? Что было трудней всего перенести?
Он молчит, добросовестно, видно, стараясь вспомнить что-нибудь такое, что мне бы понравилось.
И вдруг светлеет лицом, как человек, нашедший правильный ответ на трудную загадку.
— Вот, знаете… Насекомые всех родов оружия. Уж очень их много в урмане и в юртах.
Наш Кожаный Чулок — настоящий
Через несколько дней я поехал с Василием Владимировичем в его каяке в глубь заново открытой им страны и пробыл с ним около месяца в юртах Шухтунгуртских — на базе заповедника.
Рассказ об этой поездке выходит, как говорится, «из пределов настоящего скромного очерка».
Скажу только, что, пожив с Василием Владимировичем, я понял: человек этот действительно один из наших Кожаных Чулков — настоящий.
Такие люди — сама романтика. Всем своим видом, существом, всей своей жизнью.
Так нельзя же требовать от них цветистой, романтической речи книжных, выдуманных писателями героев!
Ах, вы сами в сказке рыцарь! Вам не надо роз…[16]Не знаю, существовал ли куперовский Кожаный Чулок. Но настоящих Кожаных Чулков я видел своими глазами.
Они не похожи на куперовского: тот смотрит назад и славит прошлое, а наши смотрят вперёд, всё вперёд, в будущее — и крепко верят в него.
Птицы мира
Птицы мира
Осень.
Широчайшим — в полмира — фронтом летят над нашей землёй птицы. Это — перелётные покидают родину на всю зиму.
Хотел бы я быть главнокомандующим всеми этими бесчисленными стаями! Я бы кликнул клич всем нашим школьникам и дошкольникам. Мы целиком ловили бы стаи, — есть теперь такие ловушки, — и каждой перелётной, от ласточки до лебедя и журавля, надевали бы на ножку скатанное в трубочку посланьице — как это делают с почтовыми голубями. И всех отпускали бы на волю: лети, куда тебе положено!
Думают, что птицы улетают от нас зимовать на юг. Это неверно.
Осенью перелётные летят от нас по всем направлениям: на юг, на восток, на запад и даже на север, — кому куда надо.
На южном берегу Белого моря мой сын надел алюминиевое колечко на ножку птенцу тоненькой морской ласточки — полярной крачки. В конце лета эти птицы собрались в стаи и полетели прямо на север: в Баренцево море, в Ледовитый океан. Свернули на запад — в Атлантический океан — и на юг. Пролетели вдоль берегов Европы и Африки до мыса Доброй Надежды. Там повернули на восток, перелетели океан Индийский — до берегов Австралии, до Великого океана.
Через полгода окольцованная сыном молодая морская ласточка была поймана на берегу Австралии — за 24 тысячи километров от родного гнезда. А к началу следующего лета её стая опять была на родине — на южном берегу Белого моря.
Есть птицы, которые у нас из-под Ленинграда отлетают осенью на восток и, перелетев Волгу, Урал, всю Среднюю Азию, — проводят зиму в Афганистане, Индии, Китае. Многие наши водоплавающие — утки, чайки — из-под Москвы и Ленинграда летят зимовать на западе: в Скандинавии, Франции, Англии. Многие певчие, хищные, голенастые журавли и аисты пересекают Чёрное море и Средиземное, отдыхают в Северной или Южной Африке. А сибиряки крылатые — морские ласточки, кулики, казарки — отваживаются перелетать даже Великий океан — и зимуют в Америке.
Летят перелётные, летят над мирными нашими полями, конца-края которым не видно; над неоглядными и с высоты птичьего полёта степями, где прямыми ниточками протянулись ряды саженцев — защита от смертоносных суховеев; над гигантской сетью орошающих пустыню каналов и над реками, движущими турбины электростанций неслыханной мощности; над морями в дымках грузовых и пассажирских пароходов; над горами, где возводятся обсерватории. Летят, летят, — и несут на себе драгоценные посланьица во все страны мира, всем народам.
И все народы мира, заслоняя руками глаза от яркого солнца, всматриваются в летящие с севера стаи, вслушиваются в их голоса.
Громкоголосые журавли и лебеди трубят им из поднебесья:
— Кру-рру! Почта из СССР! Почта из СССР! Кру-рру!
Ласковые ласточки, залетая под кровли, щебечут людям на ушко:
— Почта из СССР! Почта из СССР! Прочтите, прочтите!
Никакая пограничная стража, никакие войска и полиция не остановят наших крылатых посланцев, — и им не откажешь в визе.
Будут люди во всех странах ловить перелётных, будут разворачивать трубочки и читать:
Клянёмся вражду между стран уничтожить. Жить в мире со всеми клянитесь вы тоже. Да здравствует дружба, да сгинет война На вечные времена!* * *
Минует зима, заиграет солнце, — и весёлым прибоем хлынут на родину бесчисленные стаи перелётных. Опять начнут школьники и дошкольники ловить птиц и у всех у них — от журавля до ласточки — снимать с ножки ответ:
«Клянемся!» — И подпись на всех языках.
Поэт и соловей
В детстве поэт не слыхал соловья, — не посчастливилось. Слышал только, как народ прославлял его пенье. И стал петь соловья. А заодно и розы.
Соловей и розы приносят радость. Радость приносит успех и славу. Слава приносит деньги.
Под старость поэт разбогател. Купил себе дачу с садом из роз.
Пришла весна. В кустах защёлкал соловей. Засвистало, запело множество других птиц. Поэту это не понравилось. Он подумал: «В саду поэта, всю жизнь поющего одного соловья, — и должен жить один соловей. Другим птицам с их жалким щебетаньем и чириканьем не место в моем саду».
В особенности одна птичка ему досаждала. Подойдёт поэт к кусту понюхать розу — она скрипеть. Скрипит и скрипит раздражающим дверным скрипом.
— Миленькая, — сказал поэт. — Ты оскорбляешь мой музыкальный слух. Ты мешаешь мне наслаждаться ароматом роз. Я выселю тебя из моего сада.
Поэт раздвинул куст и там — у самой земли — увидал простое травяное гнездо с пятью яичками земляного цвета.
Он осторожно отделил гнездо от веток — и унёс его в лес, далеко за ограду своего сада. Невзрачная птичка всё время летела за ним и жалобно стонала скрипучим голосом.
— Вот, — сказал поэт, опуская гнездо на землю в лесной чаще. — Живи здесь. Мы вполне можем обойтись друг без друга, миленькая.
И вернулся к себе на дачу.
Вечером он удобно уселся в шезлонг у себя на террасе и приготовился, как всегда, слушать соловья.
Но соловей не запел.
И вот беда: никогда уже больше не пел соловей в розовом саду поэта.
Оказалось — поэт сам, своими руками выселил соловья из своего сада: ведь та невзрачная птичка, что так неприятно скрипела у своего гнезда с яичками земляного цвета, и была — соловей. У своего гнезда, в тревоге за своих птенчиков соловей не поёт, не щёлкает, не рассыпается лирными трелями, а стонет неприятным дверным скрипом.
Народ знает это — и сложил загадку:
«Не в избе, не на улице — соловьиное гнёздышко».
Значит, дверь скрипит. Скрипит, как соловей у гнезда.
Но откуда же было знать об этом поэту?
Самые-самые
Очень, очень я люблю птиц.
Сдаётся мне, жить на нашей зелёной планете без птиц было бы ох как скучно! Как веселит глаз дивная расцветка их оперения! Как радует слух их чудесное пение! И как дух поднимает их лёгкий, свободный полёт! А волшебное их искусство гнездостроения «без рук, без топорёнка»! А голубые, белые, розовые в разноцветных крапинках их яички, сквозь тонкую скорлупку которых просвечивает маленькая нежная жизнь!
Изумляет меня, почему люди обращают так мало внимания на птиц? Лишают себя такого множества тонких наслаждений, теряют столько прекрасных радостей! Особенно — горожане.
В деревнях-то народ, искони присматривается к птицам. Частенько и прозвища даёт людям птичьи. Фамилии дают птичьи. Сколько у нас Орловых, Соколовых, Петуховых, Курочкиных, Куликовых, Лебедевых, Гусевых, Уточкиных, Голубевых, Ворониных, Сорокиных, Галкиных, Сойкиных, Грачёвых, Журавлёвых, Воробьёвых, Соловьёвых, Кукушкиных, Дроздовых, — да разве перечислишь всех!
Иной носит птичью фамилию, а сам всю жизнь даже не полюбопытствует, от какой птицы пошла его фамилия, как эта птица живет, хороша ли, чем кормится? Стыдно прямо!
Птиц много разных. В одном нашем Союзе живёт их без малого тысяча видов, а во всём мире — тысяч десять.
Стал я как-то прикидывать в уме, какие самые интересные из них: самая большая и самая малюсенькая, самая красивая и самая сладкоголосая, самая быстролетная, самая искусная в гнездостроении, самая полезная и самая вредная, самая милая, самая смешная.
Самая большая на свете была птица моа: в два человеческих роста высотой. Жила в Австралии. Истребили её люди. И теперь птицы ростом больше африканского страуса нет. И нет мельче южноамериканских птичек — колибри. Есть среди них пичуги со шмеля.
А у нас?
А у нас в Союзе самые крохотные пташки — королёк да крапивник. Побольше, конечно, колибри, но тоже меньше стрекозы. Королёк — зеленоватенький с оранжевым как пламечко хохолком. Крапивник коричневенький, хвостик торчком, а голос — сила! Вот их две — самых маленьких птички у нас.
А самая большая? Да ведь как считать, как мерить! По высоте, пожалуй, долговязый белый журавль — стерх. По дородности — лебедь или дрофа. В размахе крыльев — грифы и орлы. Очень крупные всё птицы, не знаешь, какую поставить на первое место.
Дальше ещё хуже.
Стал думать, кто у нас самый лучший летун? Стриж? Сокол? Слов нет — быстры! А ласточки? Да ведь они так ловки в воздухе, что ловят невидимых нашему глазу мошек и пьют на лету воду, проносясь над рекой, — и крылышек не замочат! А орлы, а грифы? Те могут часами кружить в воздухе, чуть покачивая широкими крыльями!
А золотистая ржанка? Родившись у нас где-нибудь на Новой Земле, через какие-нибудь три месяца отправляется она в воздушное путешествие через весь Азиатский материк и совершает беспосадочный перелёт над всем Великим океаном, стремясь к своим зимовкам в Америке! Кому отдать предпочтение, кого из этих птиц назвать самым лучшим летуном?
Стал раздумывать насчёт мастеров строить гнёзда — и совсем растерялся. Вспомнишь иволгино гнездо, — верх искусства! Висит в воздухе лёгкая люлечка из травинок, гибких стебельков, берёзовой кожурки; в развилке ветки подвешена высоко над землей, — просто загляденье!
Ласточкино гнездо посмотришь — тоже удивленье: до чего ловко слеплено из земли и глинки где-нибудь на скале над пропастью! А певчего дрозда гнездо! Глубокая чаша, внутри из удивительного цемента: древесной трухи и собственной слюнки! А у ремеза-синички! Настоящий сказочный теремок: рукавичка из растительного пуха к тростнику подвешена!
Ну, а самая милая и самая смешная из наших птиц?
Поглядишь на парочку самых простых галок: как они милы, как друг за другом ухаживают. Или как голубь с голубкой целуются-милуются. Или снегирушка-милушка, когда сидит на ветке и, весь напыжась, напевает себе под нос мелодичную свою песенку. Так волной и заливает сердце тёплая к ним нежность.
«Ужасти, какой смешной! — хохотала, помнится, деревенская девчурка, рассматривая только что выскочившего из яйца бекасёнка. — Сам — моточек ниток, а нос будто спица».
И правда: очень смешны, на наш взгляд, некоторые птицы: у одной нос в небо глядит, у другой — в землю, у третьей — вбок, у четвёртой верх и вниз перекрещен, у пятой — ноги ходулями, у шестой — хвост разводами. И разве не смешон знаменитый «гадкий утёнок» — такой несуразный на земле, — пока он не вырос в прекрасного белого лебедя? Выбирай, кто самый смешной?
А самая красивая из птиц? Они все прекрасны — от скромно одетых самочек до самых эффектно разукрашенных самцов. Ахнешь при виде семицветного наряда маленького зимородка или когда в свежей зелени берёзы увидишь вдруг златогрудую с чёрными крыльями иволгу. Не налюбуешься на лирохвостого алобрового тетерева-косача, на гордую осанку серпокрылого сокола-сапсана. Не оторвёшь глаз от серебристых чаек над синим морем, под синим небом. А вспыхивающее под ярким солнцем разноцветное пламя наших жар-птиц — фазанов! Какая красота!
А певуны!
На весь мир знаменит «певец любви, певец своей печали» — соловей. А кто любит утренние светлорадостные песни, для тех «певец полей — жаворонок звонкий». К слову сказать: мне ещё больше, чем полевой, по душе жаворонок лесной — юлка. Весной поёт он не только утром, но и все белые ночи напролёт, и голос у него — чистая флейта!
Да и все птичьи песни — голоса самой красавицы весны — так сладостно волнуют душу. Первым — даже в городе, ещё при полном снеге — зазвенит бубенчик синицы. И не успеет заневеститься, покрыться листвой лес, — звонким жемчугом рассыплется в нём солнечная песенка зяблика. И покажется тебе, что и всю-то жизнь живёшь ради такого вот ясного весеннего утра, когда вдруг «из страны блаженной, незнакомой, дальней» послышится пенье петуха — самого простого деревенского певуна! А какое множество прекрасных певцов в лесу, в лугах, в кустах у речек, — и как немногих из них мы узнаём, умеем назвать, даже если сами носим фамилию в их честь!
И наконец, какая самая полезная и какая самая вредная из всех наших птиц?
Тонкоклювые скворцы, синицы, мухоловки, пеночки и многие, многие другие певчие птицы ведут неустанную войну с полчищами насекомых, крючконосые хищники — с мышами, сусликами и другими вредителями полей. Польза нам от них неизмерима. Не будь на свете птиц, грызуны и насекомые уничтожили бы все леса, все поля, все огороды. Скворцы, грачи, чайки собирают свою добычу прямо с земли; синицы, поползни, дятлы — на деревьях; мухоловки, стрижи, ласточки — в воздухе. Кому отдать предпочтение?
А вред от птиц? Ну, про это уж прямо неумно спрашивать! Где-нибудь на просяных полях или на конопляных полосах простой воробей — враг человеку, способный уничтожить осенью добрую треть урожая.
Но сколько же пользы он приносит всё лето, сам поедая и таская своим птенцам огородных гусениц. И даже сам крылатый волк — большой ястреб-тетеревятник — свирепый истребитель дичи и зайцев — в то же самое время и благодетель наш. Там, где его уничтожат, тетерева, куропатки, зайцы заболевают и быстро вырождаются. Ведь в страшные когти его попадают, прежде всего, все слабые, вялые, нежизнеспособные птицы и зверьки. Поедая слабых, грозный хищник способствует процветанию породы. Зная это, кто всерьёз назовёт его вредителем?
Думал я, думал — и понял, что никаких самых среди птиц нет.
Нет по той простой причине, что каждая птица самая-самая. Каждая из них — маленькое совершенство своего рода на нашей зелёной планете.
Зима таёжная
Как рассказать о нашей северной зиме южанам, в жизни не испытавшим мороза, снега?
Речь пойдёт, конечно, не о московской или ленинградской зиме. Сдаётся мне, — зимы во всех огромных городах мира в общем похожи друг на друга. Погода в них уже почти уничтожена людьми. А что такое зима, как не погода прежде всего? Не всё ли равно горожанам, падает ли на них с неба сухая, кристаллическая или мокрая вода, — брать ли зонтик или надеть шубу, выходя на улицу? Всё равно так же быстро дворники и очистительные машины приведут в порядок тротуары, так же будут сновать по улицам автомобили. На севере разве только реки замёрзнут, речные трамваи — пароходики — ходить перестанут. Но общий порядок городской жизни, темпы её от этого не изменятся.
Другое дело — зима в лесу, в деревне, вдали от города. Северной нашей зимой там весь уклад жизни резко меняется. Но тут надо оговориться: так велика наша страна, что в разных её частях и зимы очень разные. На севере — жестокая арктическая ночь-зима; в средней, таёжной полосе — умеренный холод; на юге, в субтропиках — лёгкая, редкоснежная зима.
Мы попытаемся рассказать о лесной, таежной нашей зиме. В помощь себе возьмём четырёх помощников из числа коренных старожилов леса, жизнь которых непосредственно зависит от превратностей зимы. Посмотрим, что делают в зимнюю пору могучий медведь — «хозяин леса», так называет его наш народ, и самый крошечный у нас зверёк, меньше всякой мыши — землеройка-малютка; самая большая в лесу птица — бородатый петух — глухарь и малюсенькая певчая птица — подкоренничек.
Приход зимы
Ветры-листодёры сорвали последние отрепья с лиственных деревьев. Во всех деревьях прекратилось движение сока — снизу вверх и сверху вниз; загустел сок. Все деревья замерли: не растут больше, только сонно дышат. Ели и сосны крепко зажали в кулачки-шишки самое дорогое для них на свете — свои семена. Лес приготовился к встрече зимы.
Вовремя приготовил себе зимнюю спальню медведь. В песчаную яму на крутом холме под корнями вывороченной бурей ели натаскал косолапый елового лапника. Это — постель. Надкусил растущие рядом с ямой елушки — и они шатром прикрыли вершинками тайное убежище.
По-разному приходит к нам зима. Бывает — стаёт в одну ночь. С вечера ещё осень. Утром проснулся — зима, бело кругом. А бывает, — долго, по народному выражению, разъезжает осень на пегой кобылке: то чёрная земля, то побелеет от снега, то опять слякоть, кое-где только белые пятна.
Но вот однажды вечером хозяин леса неприметно пробрался — ещё по черностопу — к своей берлоге. Залез в неё и обернулся носом к пятé: к своему следу, которым заходил в берлогу. И не успел заснуть, как повалил снег. Прикрыл медвежий след. Прикрыл сломанные елушки. И больше уже не растаял: началась зима. Медведь заснул.
И как только старый ведун узнал, что пора? Ведь сколько времени бродил по лесу, ел ягоды, выкапывал ему одному ведомые коренья. Не раз встречал лосиху с лосёнком — и не тронул их. Нельзя ему перед сном мясного, совсем травоядным стал. Не раз выпадал и таял снег. Медведь не подходил к берлоге. А залез — и зима.
Спит медведь. А землеройке-малютке не до сна. Прожорливая ночная хищница, она целыми ночами охотится и ест. И ей хорошо, что ночи теперь с каждым днём всё длиннее и длиннее: больше времени для охоты. Чем холодней становится, тем больше надо дров для своей печурочки — желудка, больше еды. И носатенькая хищница всю ночь в движении. Растительная пища её не интересует, только — животные. Роясь под землёй, находит она себе личинок, мягкотелых улиток, хрустящих на зубах жирных жуков.
Малютка поистине гроза для всех, кто сам невелик ростом. Вот она зачуяла мышь в норке. Подняла свой хоботок, принюхалась — маленькие, как булавочные головки, глазки её подслеповаты, — подкралась и неожиданно — прыг мыши на спину, как рысь на оленя. Лесная мышь гораздо больше ростом землеройки и сильней её. Но малютка проворней: она уже вонзила свои острые зубки в мозжечок жертве — и мышь мертва.
Чуть свет, шумя широкими крыльями, сорвался с ветки глухарь. Спланировав, бесшумно приземлился на лесной дороге, вчера только проложенной огромным бульдозером. Огляделся. Раскопал снег лапами. Поклевал, заглотал с пятóк мелких камешков. Полетел на песчаный холм, где над лесом возвышаются большие сосны. Брякнулся на толстую ветку. Сложил крылья, окинул взглядом подступы к холму: с высоты далеко видно, — ни один охотник не подтаится. И спокойно принялся срывать хвою.
Колкие сосновые иголки — грубая, жёсткая, но зато какая витаминная пища. Только её одну будет употреблять глухарь всю зиму. Маленькие жернова — проглоченные камешки — перетрут её в желудке. Целый день сидит глухарь на сосне. Отдыхает — и снова срывает хвою. А к ночи летит прятаться на избранную им огромную ель: густое, тёмное дерево это хорошо скрывает от злых глаз даже такую большую птицу.
А весёлый подкоренничек весь короткий зимний день шмыгал по кустам, собирал на нижних ветках да на пнях всякую мелкую живность: попрятавшихся в щели паучков, личинок, сороконожек, куколок бабочек. Он уже приготовил себе уютный зимний домик в пустом, защищённом от всех ветров пеньке. Гнездо из мха, с круглым входом из тонких, гибких корешков и целой периной пуха и пёрышек внутри. Летний домишко, где он с женой вывел семерых детишек, чуть не сорвало ветром с куста. Весь день подкоренничек хлопочет, очищает лес от злых насекомышей, а долгую ночь спит в тёплом, надёжном убежище.
Медвежьи сны. Трескучий мороз. Злая оттепель
Спит медведь. И кто его знает, какие снятся ему сны!
А дни всё короче, ночи всё протяжней. Скучная туча обволокла всё небо, однообразно серая. И так низко над лесом, что кажется — налегла брюхом на вершины деревьев. Редко, очень редко теперь выглядывает солнышко.
Всё так же глухарь проводит день на соснах, глотает хвою и, набив ею зоб, летит переваривать ее на тёмную, мохнатую свою ель.
Всё так же землеройка-малютка разыскивает насекомых под землёй ночью, подкоренничек — в кустах днём.
И вот предел темноте: минует самый короткий день в году, совершается солнцеворот.
«Солнце на лето, зима — на мороз», — говорит народ. И уверяет, что в этот день медведь в берлоге поворачивается на другой бок. Однако проверить это, слазав в берлогу, охотников не находится.
А зима — это верно — всё круче на мороз.
Ветрá всё реже, будто и они застыли; крупные хлопья снега, качаясь, медленно опускаются с неба на деревья, ветки в пушистом инее. Всё выше сугроб на сломленных у ямы елушках. Но в сугробе круглая дырка — прóдух. Тут чело — лоб — берлоги. Медведь спит лёжа головой к выходу. Глаза его закрыты, — зачем они ему во сне? А носом он дышит — и нос его продолжает чуять: не приближается ли опасность?.. От жаркого дыхания зверя перед ним дыра в сугробе — и тает снег на елушках.
Тепло медведю под высоким сугробом, не пропускающим мороз. И почему бы, на самом деле, его медвежьей памяти не повторить ему в снах то, что приключилось с ним прошлой зимой?
А было с ним вот что.
Случайно наткнулся на его берлогу колхозничек. И сам чуть не до смерти перепугался, и медведя со сна напугал так, что тот выскочил и со всех ног — наутёк.
Другой берлоги медведь себе среди зимы не нашёл: ведь всё засыпано снегом. И пришлось ему остаться шатуном: шататься весь остаток зимы по лесу, добывать себе, как землеройка, мяса, а спал прямо на снегу, на слухý, как говорят охотники. Много тогда повидал.
Раз вышел на опушку леса к самой деревне. Батюшки, как человеческие-то детёныши зиме, оказывается, рады! Одни на салазках, другие на лыжах с горок скатываются, третьи по чистому льду речки на каких-то железках скользят. Крик, хохот, — веселье! Да и взрослые — ни один в своей берлоге не спит. Проложили себе по снегу новые дороги — прямо лесом, через замёрзшие болота. Ездят по ним с песнями на широких санях — рóзвальнях, да и на машинах тоже. Весь лес бензином провонял!
Есть что вспомнить медведю во сне.
Сонно теплится жизнь озими — вечнозелёных растеньиц, оставшихся зимовать под снегом — на дне холодного сухого моря. Но здесь было гораздо теплее, чем на поверхности снега. Когда в воздухе термометр показывал минус 30 градусов по Цельсию, на почве ртуть поднималась иногда выше даже красной черты 0–0. Землеройка-малютка перешла жить в кучу преющих под снегом листьев. Там она — сытая — завела себе детей в пору самых жестоких морозов. В норке, на мягкой подстилке копошилось с десяток крошечных, как жучки, голеньких сосунков, — и из отверстия норки шёл лёгкий парок.
Подкоренничек хоть и не собирался заводить себе маленьких — где возьмёшь еды для них среди зимы! — но сам тоже весело жил в эту пору. Плотное перо хорошо защищало его от холода. Выдался наконец один ясный, с высоким голубым небом и низким солнышком на нём январский денёк. Подкоренничек сейчас же вспорхнул на зелёный пальчик небольшой ёлочки — и разразился такой задорной, громкой песенкой, что всем на целый километр кругом показалось, что вдруг пришла весна. И откуда у крохи такой сильный голос?
Подкоренничек пел во всю глотку, захлёбываясь от восторга, от необычайной красоты вдруг вспыхнувшего под солнцем зимнего леса.
Запылали златоверхие терема огромных елей, тепло зарозовели белые стволы берёз, засеребрились осины; загорелые сосны стали оранжевыми. Весь заснеженный лес солнце превратило вдруг в какой-то сказочный, волшебный град со множеством домов, пристроек, воздушных ходов-переходов, арок, галерей. Солнце превратило малую снежинку в лучистую звёздочку, зажгло кухтý — лежащий на ветвях пышный снег — бесчисленными искорками всех цветов, играло ими, сверкая. Как же было не петь от радости крошечному — ростом с сосновую шишку, — востроносенькому, весёлому подкоренничку — крохе с такой горячей кровью, что ему никакие морозы не страшны!
Трескучие морозы, говорит народ. И верно: то тут, то там раздаётся в лесу резкий треск — как при ружейной перестрелке. Это лопаются от мороза деревья. Не всюду одинаково обезводили они себя на зиму. В тех слоях под корой и пробковой поддёвкой, где остался у них сок, он превращается в лёд и — расширяясь — рвёт тело дерева. На их стволах остаются морозобоины — глубокие раны зимы.
Но всего хуже, когда после трескучих морозов внезапно отступит зима на день-другой, станет оттепель, снег начнёт таять, — а там вдруг опять ударит мороз. Тут многим лесным старожилам — смерть.
В оттепель разрыхлится снег, станет пропускать сквозь себя воздух и талую воду. Ночью вернувшийся мороз просочившуюся вниз воду превратит в лёд, — как железом скуёт землю. И конечно: погибли в замёрзшей куче листьев голые сосунки землеройки. Сама она спаслась только тем, что вовремя перебралась на крутой склон песчаного холма: по нему талая вода скатывается, и под снегом тут всегда сухо.
Подкоренничку и злая для других оттепель — радость. Тепло — и он поёт. И старый ведун-медведь спит себе спокойно: знал, где выбрать себе место для сна… В крутые зимы он ложится в низинках, чуть не в болотах, а в зимы сиротские, как их называет народ, с частыми оттепелями, — повыше, на склоне холма.
Предвестники ухода
Спит медведь.
А света всё прибывает, и всё скорей, скорей. Но всё скуднеет запас жира у засонь, кончается продовольствие в норах и норках у запасливых хозяев.
Кончились трескучие морозы, — пришла новая беда: «Вьюги да метели под февраль полетели», — говорит народ.
Куда девались волшебные терема солнечного январского леса, зачарованная его тишина! Свирепый ветер со свистом срывает с ветвей снег, белыми облачками шрапнели рвётся в воздухе кухта и — распылённая — оставляет на девственной пелене земли тысячи щербинок от сорванных ветром сухих хвоинок, кусочков коры. И после свирепой метели опять, как в начале зимы, голые, не прикрытые снегом стоят лиственные деревья — и только тёмные, густые ели творят таинственную глубину дремучего леса.
Всё ту же скучную жизнь ведёт глухарь, с ели на сосну — и обратно на ель.
Всё так же шуршит под снегом, охотится ночами землеройка.
Поёт при солнце и прячется от вьюги в тёплом гнездышке бойкий подкоренничек.
Спит медведь.
Но что это вдруг с глухарём? На розовой утренней зорьке слетает он на землю — и молча печатает лапами, чертит могучими крыльями на снегу, на крепком утреннем насте какие-то таинственные знаки.
Да ведь это он — первый в лесу! — призывает весну.
Всё чаще выглядывает солнце. Всё глубже уходит в размокшую землю землеройка-малютка. Всё жизнерадостней поёт кроха-подкоренничек.
А медведь?
Впервые за всю зиму проснулся хозяин леса. Ещё бы: струйка холодной воды подмочила ему штаны! Если так будет продолжаться, — придётся встать.
Вот тут-то и будет конец зиме.
Весны предтечи
Конец февраля.
Величественный Корабль зимы дал течь. Чуть заметную, правда, пока, — но ведь начинается всегда с малого.
Глянь в окошко: там ещё мчится Корабль на всех парусах своих снегопадов, раздутых позёмкой, метелью, пургой. В деревнях поют:
Пургагира, пургагира, пургагира, пургага! Как задула пургагира все крутые берега…И в городе слышно эхо бессмертного певца непомерной стужи нашей мятежной зимы:
По улицам метель метёт, Свивается, шатается. Мне кто-то руку подаёт И кто-то улыбается. Ведёт — и вижу: глубина, Гранитом тёмным сжатая. Течёт она, поёт она, Зовёт она, проклятая[17].А утром поднимается солнце на бледно-голубое небо, — тишина, помина нет о вьюге, — паруса спущены. Корабль лёг в дрейф.
Течь обнаружилась на самом дне корабля. Текут струйки, сбегаются в ручеёк. Но маленького голоса его ещё не услышишь у себя под ногами: земля сразу впитывает воду.
С каждым днём всё ласковее солнце. Неприметно рушит оно белую палубу, — рыхлеет, ноздрится снег.
Ночами мороз надраивает палубу до блеска, кроет льдистым настом. Плохо приходится пассажирам, спящим в уютных каютах: тетеревам, куропаткам, рябчикам. Утром проснутся, а над головой — ледяная крыша. Жди, пока выпустят на палубу.
Ещё хуже приходится лосям, оленям, косулям: их крепкие копыта пробивают палубу, — и стекло наста в кровь ранит им ноги.
Тяжёлая снежная навись гнёт долу мачты и реи деревьев. Голубые матросики — белки, прыгая по реям, с шелестом роняют снег на головы безоружным, только что сбросившим рога оленям.
Но самое чудо свершается невидно, неслышно — тайно — в трюме. Там в лютые морозы появляются на свет крошечные — с крольчат — медвежатки. Медведицы-матери, сами не евшие с осени, кормят их своим молоком. Их серебристый сон в берлоге, под снегом продолжается — до весны.
* * *
Вновь летит, летит, летит, Звенит, и снег крутит, крутит, Налетает вихрь Снежных искр…Вихрь срывает с деревьев кухту — и в воздухе бесшумные взрывы, тающие облачка. И вновь Пурхан, — без пол кафтан, без пуговиц, — надул паруса — и мчит сумасшедший Корабль, корабль-призрак сквозь бурную лунную ночь. В такие ночи жутко ухают желтоглазые филины и волки справляют свои кровавые свадьбы.
Промчались неистовые тучи. Зажглась за лесом холодная палевая зорька — и с высокой мачты слетел на обледеневшую палубу грузный лесной петух — глухарь. Тёмный, бородатый, он смахивает на капитана пиратского корабля.
Он расхаживает по палубе, вдавливая в неё свои тяжёлые следы, и в полном молчанье чертит на насте судорожно приспущенными крыльями таинственные знаки: куда путь держать кораблю.
Не пройдёт и месяца, — он заскрежещет на утренней зорьке свою скрипучую песенку, первую песню леса — весне.
Весной раздумье
Слышу — сквозь дрёму: удар — и дробный раскат в небе.
Открыл глаза: падают первые тяжёлые капли. И вдруг хлынул весёлый ливень. Тёплый, ласковый, долгожданный. Льёт и льёт, блеском слепя в лучах уже выглянувшего из облака солнца. И вот смолк.
Прохладная длинная капля упала мне за шиворот с крыши шалашки, бежит по хребту, щекочет.
Чую запах сырой земли, тонкий аромат влажной зелени.
Беру в рот клейкий листочек, сорванный с берёзовой ветки, — на губах нежная-нежная — как лепет ребёнка — ласка листочка, во рту — вкус сладчайшей горечи начинающейся жизни.
Всеми своими чувствами, всей душой ощущаю весну — зарю любви — влюблённость.
Опять застилает сознание светлый туман дремоты…
* * *
Вдруг — и совсем близко! — шум: лопот крыльев, всплеск воды. Сквозь редкую ещё листву кустов вижу: тетеревятник напал на крякóвого селезня.
Хищные когти вонзились в спину, но железный клюв не успел ударить в темя: селезень нырнул. Ястребу пришлось отпустить его, чтобы самому не уйти под воду. Он взлетел — и скрылся за прибрежными деревьями. Я не успел даже выстрелить в него.
Селезень вынырнул, дал два кружка по воде, осматриваясь, и тут же — перед самой моей шалашкой — стал крыльями накидывать себе на спину воду: промывал полученные раны.
Я был свидетелем «покушения с негодными средствами». Тетеревятник небольшой: самец. Самка в полтора раза крупней его, — и то не всякая весной возьмёт крякóвого селезня. В эту пору года он весь сбитой, сплошные мышцы, — совсем не то что осенний жирный увалень.
Силён.
Люблю сидеть в шалашке у воды. Чего-чего тут не увидишь, сам оставаясь невидимым, — каких только сценок из жизни, так непохожей на нашу и так смешно на неё похожей! Сиди себе как в ложе — и смотри. И раздумывай над тем, чтó увидел. Времени хватит.
Вот — нападение ястреба. Очень и очень стóит над этим подумать. Глядишь — и откроется тебе что-нибудь в жизни.
Смотри-ка — какие франты весной эти селезни! У них ведь не как у нас: пестро и шикарно одеваются самцы, а самочки — очень скромно. Вот хоть этот крыжень — кряковый селезень. Почти чёрная голова на солнце отливает ярко-зелёным, на шее — белое ожерелье, грудь и бока — светлые, в тончайших волнистых полосках, на хвосте — завитушки, на крыльях — по ясному зеркальцу с лиловым металлическим блеском, — хоть сам смотрись, любуйся на себя — такого расписного красавца! Всё в нём ярко; в такое весеннее утро на сто шагов он приметен.
А может, этого-то селезню и надо, — чтобы подальше его видно было? Издали увидит его уточка, — глядишь, с одного взгляда и влюбится. Увидит с воздуха соперник, — тот в сторону: место занято! Приметит из засады ястреб, — чёрт с ним! Ястреба берут вялых, неповоротливых птиц. А попробуй напасть на такого молодца, полного сил и здоровья!
Этот вот селезнь — мой знакомый. Я не раз видел, как лихо он дрался с соперниками. А сейчас был свидетелем, как он ловко избавился от тетеревятника. В какой-то драчке у него сломано перо на левом крыле — и стоит торчком. По этому признаку я его и узнáю всюду.
А сейчас он прилетел на свидание со своей дамой сердца. Она — моя подсадная утка, Валюшка, вольноотпущенница. Выведет детей, — всё равно ко мне вернётся и их приведёт. А здесь — на воле — её жених охраняет.
Принято думать, что селезни — отчаянные донжуаны, что они покоряют всех уток подряд и идут на зов любой из них. Что это так, показывает охота с подсадной уткой: сколько великолепных кавалеров, явившихся на страстный зов коварной рабыни человека, перестреляет за весну охотник!
Так-то оно так, да не так-то просто… Ранней весной все селезни действительно женихаются со всеми утками. Но скоро образуются пары. Селезень охраняет свою подружку. Издали заметив соперника, он взвивается в воздух, — и плохо придётся чужаку, если тот сейчас же не обратится в поспешное бегство. Побеждает всегда влюблённый.
Но вот наконец и моя Валюшка. Как всегда, она незаметно выскользнула из кочек и поплыла по тихой глади озерка, оставляя за собой расходящиеся усики волны. Селезень сейчас же бросился догонять её, забыв о своих ранах.
И тут произошла насмешившая меня сценка.
На другом конце озерка плавала маленькая уточка-чирушка. Откуда ни возьмись рядом с ней с разлёту плюхнулся селезнёк. Кряковый селезень сейчас же на крыло и — со злым шипением — к нему. Маленький не выдержал, конечно, атаки такого силача, не стал ждать трёпки и, бросив свою даму, — скорей в траву. Селезень не успел даже сообразить, куда он делся, и недоуменно крутил головой. А в это время чирёнок выскочил из кустов — и тягу со всех крыл! Кряковый — грудь колесом — вернулся к Валюшке.
Смешно, право! Ведь чирёнок ему никакой не соперник. Но ведь тоже франт невыносимый — красавчик чирок-свистунок. По бокам головы и у шеи великолепные ржавые полосы, на крыльях — зеркальца отливают изумрудом. А ростом — вдвое меньше крякового. И не стыдно маленьких обижать?
Что делать: ревность слепа! Она не очень-то и у нас разбирается, есть ли причины ревновать. Чего же требовать от уток?
Время близилось к полудню. Моя подсадная, накувыркавшись головой под воду, задремала на воде под охраной верного своего защитника.
Я раздвинул ветки шалашки. Селезень кинул на меня испуганный взгляд, стремительно подплыл к утке и толкнул её под бок.
Валюшка подняла голову, равнодушно глянула на меня — и осталась на месте.
Селезень долго не мог успокоиться. Он тревожно плавал взад и вперёд, то хотел вспорхнуть, то спрятаться между кочек, — но каждый раз его удерживал взгляд на беззащитную подругу. Такова уж непреодолимая, даже перед лицом смертельной опасности, притягательная вязь влюблённости.
Прошло минут десять — долгое-долгое время на часах утиной жизни. Я сидел неподвижно.
Селезень наконец успокоился. То ли решил, что я человек неодушевлённый: верно, не раз ему приходилось видеть статуи у прудов в парках, — то ли махнул крылом: «Будь что будет! Вдвоём и смерть красна!» Он последовал примеру подружки: подвернул голову под крыло — и заснул.
И сейчас же Валюшка выпростала свой нос из перьев, взглянула на него, взглянула на меня, и — вот честное слово! — мне показалось, что она улыбается! Я так и знал, что она преспокойно его надувает и только и ждёт, когда он погрузится в сон. Тихонько-тихонько отплыла — и исчезла на берегу между кочек.
Там — я-то знал! — у неё было гнездо. И не могла же она привести к своему тайному жилищу эдакого ярко разодетого франта, обращающего на себя всеобщее внимание! Заметят его хищники — и рядом гнездо найдут.
* * *
Селезень спал не больше трёх минут.
Но когда он поднял голову и стал искать глазами подругу, — от неё и след простыл.
* * *
Прошло с неделю.
Однажды я опять с ночи залез в свою шалашку.
Заливались и щёлкали в кустах соловьи. Густо свистала в камышах болотная курочка. Лицо мне ласкал тёплый утренний бриз. Я с наслаждением хрупал захваченную с огорода редиску; она покусывала язык. Вдыхал в себя запахи озерка и обступившего его леса.
Когда рассвело, я с удивлением увидел перед собой на воде двух красавцев-селезней — крякового и чирёнка. Они мирно плавали друг рядом с другом, поминутно опрокидывались вниз головой и болтали выступающими из воды перепончатыми красными лапами. Доставали себе еду со дна.
Солнце поднялось над кустами, — они дружно снялись с озерка и один за другим, — большой впереди, маленький за ним, — потянули за лес — куда-то на днёвку.
Отвергнутые женихи, так и не ставшие отцами семейств…
Вчера только я нашёл гнездо своей Валюшки и — на другом берегу озерка — чирушки. Раз в день уточки пробирались на воду — и тут торопливо насыщались, прячась от своих кавалеров. Сходя с гнёзд, они тщательно прикрывали кладки вырванным из своей груди пухом: нежное одеяльце согревало и скрывало от чужих глаз их ещё не родившихся детей.
В гнезде чирушки лежало восемь бледно-палевого цвета яичек; в гнезде крякýши — двенадцать крупных, чуть охристо-оливковых овальных яиц.
На краю земного шара, или жизнь в Заполярье
Моим названым внукам Бао-бао и Сяо-ин.
Посмотрите на глобус: страна моя кончается на самом краю земного шара, далеко за Полярным кругом — там, где в Ледовитом океане Северный полюс.
Про дальний Север моей родины я и хочу рассказать Вам, милые внуки мои, чья родина — солнечный, жаркий Китай.
Белый холод
На берегу Ледовитого океана зима — ночь, лето — день: солнце зимой не всходит на небо, а летом не опускается за край Земли.
Зимою — снегопады и вьюги, — неба не видно за снежной завесой, — океан покрыт льдом, — и стужа, стужа — белый холод с земли до неба. И летом там холодно: слабое солнышко не успевает растопить льды, — ледяные пустыни плавают по океану. И когда с Северного полюса дунет ветер…
Я испытывал это сам — и видел, как зайцы, куропатки, комары и всё живое прижалось к земле и замерло. Почуяло мёртвый холод межпланетных пространств — дых мировой пустоты.
Кончился полярный ветер, — жизнь опять вскочила на ножки: залетали комарики, куропатки поднялись на крыло, забегали зайцы.
Бррр! — как холодно в Заполярье! Попробуй — высунь нос: он у тебя живо отморозится — и станет белым, как всё кругом.
Чёрный нос
Всё кругом бело: всюду снег и лёд. И все белые кругом: и заяц-беляк, и песец — белая лисичка, и полярная сова, и снежные куропатки. И даже морской медведь бел с ног до головы. А то как бы он стал подкрадываться к своей добыче — тюленям? Сунься-ка чёрный зверь на лёд, — тюлень мигом его увидит — нырк! — и ушёл в воду.
Тюлень — когда он маленький и ещё не умеет нырять — тоже весь беленький, пушистый, — так и называется — белёк. А вырастет, — медведю его не поймать под водой. Морские медведи подкарауливают свою добычу у прóдухов.
Прóдухи — это такие круглые дырки, которые делают себе во льду тюлени. Им же надо дышать. Вот они и вылезают через продух на лёд — подышать свежим воздухом, подремать немножко. А сами — жёлтые, с чёрными пятнами. Рыбе, которой они питаются, под водой их плохо видно. А вылезут на лёд — тут берегись.
Один тюлень выглянул из продуха. Огляделся внимательно: нет ли поблизости белого медведя? Покрутил, покрутил башкой — ничего не заметил — и вылез на лёд. Дышит. Глаза закрыл — задремал.
А белый мишка в тóросах находился. Торосы — битый лёд, громоздящиеся друг на друга льдины. За ними тюленю не было видно медведя. А мишка тюленя сразу заметил. «Сейчас, — думает, — подкрадусь — и цоп!»
Да вдруг вспомнил про свой нос: чёрный у медведя нос-то. Так — небольшая нашлёпка, а всё-таки чёрного цвета. Начнёшь подкрадываться — увидит. Как быть?..
Придумал!
Зашёл против ветра, — чтоб его медвежьего духа к тюленю не нанесло. Лёг на брюхо. Нос прикрыл передними лапами… И пополз как черепаха, отталкиваясь одними задними ногами. Ползти-то пришлось ровным местом, — торосы кончились.
Ну, а тюлень чуть-чуть вздремнул — и открыл глаза. Осмотрелся, понюхал воздух — и опять задремал.
Мишка ползёт, ползёт — старается. Ближе, ближе…
Тюлень опять раскрыл глаза. Опять вздремнул.
Мишка совсем близко…
Тюлень встряхнулся, глянул в сторону миши — да бульк в продух! Только его и видели…
Мишка так и не понял, как это тюлень его увидал, раз он белыми своими лапами свой чёрный нос закрыл?
А ведь очень просто. Чёрный мишкин нос — одна чёрная точка, как соринка. Одна соринка всегда на снегу очутиться может. Не страшно. А на каждой лапе у мишки — пять когтей. Здоровущих! Тюлень как увидал пять да пять — сразу десять чёрных полосок, — так и плюх в воду!
Мишка и остался с носом.
Под снегом
В Ледовитом океане много островов, островков, просто скал, зимой и летом покрытых снегом.
Как взойдёт весной на небо солнце, — покрывается снег льдистой корочкой — настом. Идёшь по насту — проваливаешься. И с шумом, с хрустом рухает вокруг тебя льдистая корочка. И вдруг под ней — весёлая зелёная травка и в ней — жёлтые цветки — полярные маки!
Оказывается, живая травка прожила здесь под снегом всю долгую-долгую зиму-ночь. Оказывается, для неё снег — просто не пропускающая холода крыша. Оказывается, маки оживают в ней весной, — и от живого, тёплого их дыханья кругом них тает снег, — и образуется комнатка. Сквозь льдистую крышу наста льют в комнатку, пробиваются лучи солнца, с горки стекаются сюда струйки талой воды, — и в комнатке свет и тепло. Маки встают на свои коротенькие нежные цветоножки — и распускаются лёгким цветом.
Как красиво у них в комнатках! Снежные стены искрятся и переливаются разноцветными звёздочками. Нефритом сияет шёлковая травка. И среди неё — нежнейшие лепестки жёлтых полярных маков!
Полярные маки — не дурачки: они и не думают выглядывать из-под своей льдистой крыши. Там — над нею — даже при солнышке ходит острый, как сабля, смертельно холодный ветер. Мигом головы отсечёт цветкам!
Красотой подснежных растеньиц любуются только оживающие тут комарики да прыгучие бескрылые мушки. И за это переносят пыльцу с цветка на цветок: надо же кому-то это делать, — раз уж нельзя пользоваться ветром!
Песенка на крыльях
Прилетели русские на самый Северный полюс.
Сели на лёд. Разбили палатку. Занялись научными исследованиями.
«Ну, — думают, — теперь мы на самом-самом краю Земли — в самом сердце ледяной пустыни. Уж тут-то никто не живёт. И никакая птица сюда не залетит».
Пробили дырку в толстом льду. Измерили глубину: четыре тысячи двести девяносто метров. Водяная бездна! Опустили в неё ведро.
Вытащили ведро, а в нём — кто бы подумал! — кишмя кишит всякая водяная мелочь: крошечные рачки, червячки, рыбки.
Вот тебе и нет жизни на Северном полюсе!
А через несколько дней высовывается из-подо льда большая — больше человеческой! — голова с висячими усами: тюлень!
И вдруг — замелькали в воздухе две маленькие пёстрые тени. Сели на снег — две пёстрые птички, два снежных подорожника, пуночки — самчик и самочка!
Самчик поднялся в воздух, — полилась весёлая песенка:
— Чингирей, чингирей, чингирей, псю — ит!
Тепло стало у людей на сердце.
Полярное чудо
Чудо, великое чудо в полярной пустыне! Стужа такая, что красная кровь моя стынет, Губы белеют, и пальцы согнуть не могу! — Вдруг на снегу — на мёртвом, на белом снегу, — Красным пылая ковром, водоросли растут! — Крошки-растеньица, чем вы питаетесь тут? И неожиданно слышу безмолвный ответ: — Пылью погибших планет.Учёные говорят, что микроскопические водоросли, образующие на снегу в Заполярье красные, розовые и оранжевые живые ковры, питаются залетающей из мирового пространства пылью метеоров.
Моя кровинка
Сел мне на нос комар. Крови моей напился. А я его бить не стал: убьёшь — свою кровь прольёшь. Он мне теперь — кровная родня. Пусть летит!
Он и полетел.
Летел, летел — и сел на цветок, на листок.
А тот цветок не простой: мухоед-цветок — росянка. Сладкая, клейкая роска на круглых листках.
Прилип комар к листку. Росянка свернула листок — и всю кровь комариную высосала. И мою кровинку в ней.
Приполз слизень — и тот листок сглодал.
А слизня слизнула лягушка.
А лягушу сглотнул уж.
И вот уже моя кровь в уже.
Но ужа поймал, проглотил аист.
А аиста скогтил, растерзал и проглотил орёл.
Подтаился я к тому орлу, застрелил из ружья — и бросил.
Тут подошёл порося и, никого не спрося, слопал орла.
Ух, я на него рассердился! В его жилах течёт моя кровь! Значит, порося — кровная моя родня?! Экое свинство!
Я зажарил того порося — и съел.
Так породнился я с целым светом: прошла моя кровинка по всем животам и вернулась в меня — домой.
Хозяин леса, или страшная ночь
Солнце ещё не зашло, небо пылало, а в лесу уже начинались сумерки.
Старый медведь поднялся с лёжки и неторопливо закосолапил к знакомой поляне. Неделю назад он заломал на опушке леса корову и затащил её на эту поляну, закидал хворостом. Когда от коровы пошёл душок, начал угощаться ею. Там должно было остаться ещё порядком мяса. В животе у старика урчало. Пора было подкрепиться.
За деревьями замелькали тени. Подслеповатые глазки медведя различили волков. Целый выводок их разбегался с его поляны.
Берегись, старик! Остался ты без ужина. Вечно голодные, волки не побрезговали и несвежим мясом, лишили тебя твоего запаса. Ладно ещё не накинулись на тебя всем скопом: как стал бы защищаться против свирепых лесных псов? Хорошо, что страх перед могучим хозяином заставляет без памяти разбегаться от него всех зверей.
Удостоверясь, что от коровы не осталось ни косточки, старый медведь побрёл к лесному озерку. Там, помнится, кормилась лосиха с лосёнком. Безрогая лосиха убежит, а лосёнку деваться некуда: запутается в густом ивняке, — легко достанется старику.
К озерку тропа круто шла через чащу. Осторожно спускаясь по ней, медведь услыхал вдруг стук копыт: снизу приближался большой зверь. Все лесные звери ходят бесшумно, робко таясь. А этот…
Медведь остановился. Потянул в себя воздух. И почувствовал душный запах зверя. И раньше, чем он успел принять решение, из-за поворота тропы показалась горбоносая голова с широкими рогами, с налитыми кровью глазами. Впервые в жизни хозяин струхнул.
Огромный лось с ходу принял боевую позу: нагнул рога, грозя ударить ими противника в грудь, — и медведь с удивительной для него лёгкостью повернулся — и пустился наутёк по узкому коридору тропы.
Всего несколько шагов оставалось до конца чащи, когда медведь почувствовал вдруг сильный удар в зад и боль от впившихся ему в тело острых отростков рогов. Он вылетел из чащи и, не помышляя о сопротивлении, помчался, вихляя, между стволами деревьев.
Один месяц в году медведь перестает быть хозяином леса и сам бежит от великана, который в это время пострашней его. И неизвестно, удалось ли бы старику унести свои косолапые пятки, если бы лось внезапно сам не прекратил преследования.
* * *
Всю ночь старый медведь пролежал под корнями вывороченной вихрем ели. В эту ночь такое творилось в лесу, что всё живое притаилось.
В темноте то тут, то там раздавался страшный рык каких-то чудовищ. Короткий кровожадный рёв, от которого у старого медведя на всём теле шевелилась шерсть.
Страх бродил по лесу.
Когда совсем стемнело и над вершинами деревьев выкатилось золотое колесо полной луны, медведь услыхал со стороны поляны, где волки растащили кости его коровы, жуткий стук костей. Будь тут человек, он подумал бы, что это бьются друг с другом вышедшие из могил великаны. Хрип, стон и громкое фырканье сопровождали эту битву.
В животе у медведя урчало всё громче, есть хотелось всё сильнее, но он не решался пойти поискать в лесу хотя бы какого затаившегося в траве зайчишку. Разные корешки и травы, даже сладкие лесные дудки перестали насыщать медвежью утробу с тех пор, как он отведал коровьего мяса.
Долго раздавался ужасный стук на поляне, — и вдруг смолк. Но выходить из своих убежищ всем зверям и медведю всё равно было страшно. Всем чудилось, что чудовища нарочно притаились, чтобы наброситься на того, кто высунет нос из своего логова.
* * *
Медведь дождался рассвета и вылез из-под корней ели.
Бесшумно шагая косолапыми лапищами по мху, он осторожно приблизился к поляне. Подслеповатые глазки его различали на ней неподвижную тушу большого зверя.
Подойдя, он узнал в ней напавшего вчера на него лося. Шея лесного великана была свёрнута набок, тяжёлые рога вонзились в землю острыми отростками. Земля на всей поляне была вспахана копытами, как на деревенском поле.
Долго стоял недавний ещё хозяин леса над неподвижной тушей, оглядываясь и нюхая воздух.
Что, старик, — страшно тебе? Объявилось в лесу чудовище, погрозней тебя, — оно убило великана — лося, так непочтительно наподдававшего тебе сзади вчера.
Чуткий нос старого зверя доложил медведю, что ночью на поляне бились насмерть два самца-лося. Это они, взрывая острыми копытами землю, полночи бились, стучали костяными рожищами, хрипели и фырчали. Сильнейший победил, — и вот его противник лежит со свёрнутой шеей, поверженный на землю.
Медведь повернулся, пошёл под деревья. Собрал там хворост и на задних лапах приковылял к туше с целой охапкой сухих сучьев. Стал, по своему обыкновению, засыпáть падаль от посторонних глаз. Дождётся, когда от неё пойдёт душок, — и примется угощаться ею.
Пройдёт месяц лосиных боёв, когда всё в лесу бежит от разъярённых рогачей. Настанет предзимье, — и могучие великаны побросают наземь своё грозное оружие — тяжёлые рога. Будут мирно стоять неделями на одном месте, задумчиво пережёвывая горькие осиновые да ивовые ветки.
И будут отходить, заслышав тяжёлый дух медведя, — пусть даже такого старого, как этот бывший хозяин леса.
Красногон
Прошедшей весной, — рассказывал охотник Касим Касимович, — купил я себе в городе у известного гончатника щеночка. И отец и мать у него — красногоны знаменитые. Красногоном зовут ту гончую, какая лисиц хорошо гоняет, заячий след бросает, если на лисий натечёт. Назвал щеночка Догоняй.
Ну, в городе где ж держать, на шестом-то этаже проживая? Свёз в деревню, знакомому старику отдал. Корми, значит, и присматривай: за содержание тебе платить буду. А осенью сам приеду — наганивать по лисицам.
Однако не получилось: осенью меня в командировку послали. Только среди зимы в деревню выбрался. Гляжу — Догоняй мой с целого волка вырос!
Пошли с ним в лес. Десятка минут не прошло, — натёк Догоняй на след, дал голос. Не успел я толком лаз занять, — катит на меня русачище. Ну, ковырнул я его через голову. Подоспел Догоняй, обнюхал зайца; пáзанки я ему отрезал, дал. Это — задние лапки заячьи. Награда гончаку за работу. Догоняй схрупал их — и мах-мах обратно в лес.
Взошел я на бугорок. Думаю себе: «Отсюда весь гон увижу. С холма óвидь большая».
Догоняй опять голос даёт. На этот раз смешно как-то, совсем по-щенячьи тявкает.
Гляжу — лисица! Выметнулась из кустов и стелет по снегу — красная, чистый огонь! За ней — Догоняй. И тотчас оба из глаз пропали.
Минуты не прошло, — опять показались, только… Я прямо глазам своим не верю: только теперь Догоняй впереди, а лисица его догоняет! Тявкает тоненько: вроде ей обидно, что догнать не может.
Добежала до пенька — и села, язык вывалила. Догоняй дал круг — и к ней. «Ну, — думаю, — даст ей сейчас трёпку!»
А он шагах в пяти от неё — стоп! Припал на передние лапы и давай повизгивать. Лисица вскочила — и на него. Он от неё.
Я стою — ничего понять не могу: то ли мой Догоняй ополоумел, то ли лисица какая заколдованная. Красногон же, сын знаменитых родителей! За что деньги плачены?
Наконец обернулся он. Сшиблись. Оба в снег повалились.
«Ну, — думаю, — кончено! Загрыз».
Не тут-то было! Повозились, повозились в снегу, — встали, расскочились, уселись друг против друга. Оба языки вывалили — дышат. Потом опять друг на друга. На дыбашки поднялись и один другого повалить силятся, — лапами борют, — играют!
Играют, стрели их в глаз! Настояще играют! Это гончак-то с лисицей! Красногон!
Я как гаркну:
— Чтó делашь!
Лис пулей в кусты. Догоняй за ним.
Домой я вернулся мрачнее тучи. Ничего старику говорить не хотел, да он заставил, — рассказал ему про пса. Гляжу: улыбается.
— Дивья! — говорит. — Что ж тут мудрёного, когда они с этим лисом добрые товарищи. Из одной плошки в детстве ели, играли, возились. Потом лисёнок верёвку перегрыз, в лес убежал. Ходил я с твоим Догоняем — на зайцев наганивал. Дак они как встретятся на опушке, так обо всём забудут: хаханьки у них да хохоньки, в хоронушки играют да в догоняшки.
— Вот вам, пожалуйста, — сказал охотник Касим Касимович, пряча детскую улыбку в густую бороду. — Выходит, сами по себе добрые они — звери-то. Даже хищные. А кровожадность у них с голодухи.
И, подумав, заключил:
— Дети и детёныши — они на всем свете одинаковые. Когда сытые, так не сердитые, игры одни на уме. Полагать надо, то же и у взрослых было бы, как бы всяк в душе своей дитя сохранил до старости.
Волк и капкан
— Полно шутить, — сказал волк капкану, — отпусти лапу-ту!
Вл. Даль. Толковый словарь живого великорусского языкаПопал волк в капкан.
Больно ему. Того хуже — страшно: придёт хозяин — шкуру спустит.
Изогнулся волк, что силы, капкан грызёт.
Ничего не получается: сталь.
Капкан и говорит волку:
— Напрасно стараетесь. Вот только зуб себе сломали. А я прекрасно к вам отношусь. Готов к услугам.
Зарычал волк в бессильной злобе.
— Ну за что вы на меня так гневаетесь, — продолжает капкан. — За то, что я поймал вас за лапу? Но ведь я только слуга хозяина. И таково моё предназначение: хватать и не пускать. Соответственно и моё устройство. Желаете, — я объясню вам механизм. «Всё понять — всё простить», — говорит мудрость.
— Полно шутить, — сказал волк капкану. — Отпусти лапу-ту!
— Как раз этого-то я и не могу сделать, — возразил капкан. — Наши желания должны быть разумными. Я объясню вам заодно и ваши обязанности в настоящем положении. Поскольку вам всё равно некуда спешить до прихода хозяина.
И начал:
— На воле ходить с оглядочкой надо. Вот вы не поостереглись, задели ножкой мою тарелочку, спрятанную под снегом, — и попали мне в зубы. Оступились, — теперь уже так или иначе придётся вам покориться неизбежному и дождаться здесь хозяина. А хозяин-то уж лучше нас понимает, что в наших интересах. Он возьмет ножичек и…
Тут капкан понёс такое, что волк, уже готовый примириться со своей горькой участью, с отчаяния перегрыз зубами собственную лапу — и ушёл в лес на трёх.
Впоследствии волк говорил, что ещё дёшево отделался.
Письмо с пером жар-птицы
Дорогой памяти Евгения Шварца
— Птицы никогда не лгут.
«Снежная королева»Друг мой, ты прав, глубоко прав: птицы никогда не лгут. И это — сказка с хорошим концом.
Напрасно думают, что жар-птица — птица радости — живёт только в сказке.
Она живёт в наших садах.
Мальчишкой я поймал её сам, своими руками.
Голос её как флейта. Многие слышат у себя за окном её пронзительный и радостный зов. Но редко кто даёт себе труд выйти из дому и найти её.
Это — солнечная птица, и поёт она только в солнечные дни в молодой, свежей, яркой листве. Кому ненароком и блеснут её золотые перья, тот подумает, что это солнечный луч играет в зелени. Перья жар-птицы как луч горят, — и она ни минуты не сидит на месте.
Когда мне в первый раз удалось разглядеть её в саду на берёзе, я так был восхищён, что тут же дал клятву себе во что бы то ни стало поймать её. Я хотел наслаждаться её красотой и пением у себя дома каждый день — и летом и зимой.
Но как поймать неуловимую жар-птицу?
— Надо найти её гнездо, — придумал я. — Она прилетит к своему гнезду — и попадётся.
Я был тогда несведущ в орнитологии — науке о птицах. О гнезде этой птицы знал только из сказки.
Я говорю про сказку с самым печальным концом: про сказку о человеке, потерявшем свою тень.
Я говорю о сказке, которую поведал миру Адельберт Шамиссо: «Удивительная история Петера Шлемиля».
Помнишь, как бедняга заметил на залитом солнцем песке человеческую тень, похожую на его собственную пропавшую тень?
Шлемиль кинулся на неё, схватил, но «натолкнулся на неожиданное и твёрдое физическое сопротивление».
«Невидимые кулаки, — жалуется Петер Шлемиль, — нанесли мне под рёбра самые неслыханные удары, когда-либо испытанные человеком».
Оказалось, то была тень невидимого человека. А невидимым этот человек был оттого, что нёс в руках «невидимое птичье гнездо, делающее невидимым того, кто его несёт, но не его тень».
Я знал, что птица, гнезду которой народная молва приписывает неполные свойства шапки-невидимки, как раз и есть моя жар-птица. Тебе-то, сказочнику, не покажется неправдоподобным, что сказка помогла мне найти в жизни то, что я так желал найти.
Петер Шлемиль «обнаружил тень самого невидимого гнезда» и по ней нашёл это гнездо.
Я поступил так же.
На одну из берёз в моём саду жар-птица прилетала всего чаще. Но как я ни заламывал голову, её гнезда на этом дереве разглядеть не мог.
Тогда я стал искать тень гнезда. И приметил: в одном местечке между ветками кружевная листва берёзы не просвечивает.
Я влез на берёзу и сверху увидел то, что ждал увидеть. Нет, не гнездо: только разевающиеся жёлтые рты сидящих в гнезде птенцов.
Тогда я сварил птичий клей и вымазал этой незастывающей адской смолой ветви, между которыми пищали птенцы.
Как жестоки мы бываем в погоне за мечтой! Тяжело мне теперь вспоминать этот мой мальчишеский поступок.
Недолго могла вынести голодный писк своих птенцов жар-птица. Прилетела кормить их.
Села на ветку — и уж больше не могла улететь — приклеилась.
Громкий победный марш барабанило моё сердце, когда я схватил прекрасную птицу и со всеми предосторожностями оторвал её от ветки.
Дома я отмыл тёплой водой клей с её ободранных до костей ног. И пустил её в приготовленную заранее клетку.
Как ужасно она закричала, как билась, увидев себя в плену!
Конечно, она разбила бы голову о крепкую решётку своей тюрьмы, если бы я не поспешил покрыть клетку непроницаемым для света покрывалом.
Так всегда поступают с пленными птицами, чтобы сделать их покорными. В тёмной тюрьме птицы перестают рваться на свободу.
Моя прекрасная пленница затихла.
Но очень долго, очень долго она не могла привыкнуть к своей клетке — даже в темноте.
Уже настала осень, когда я, задыхаясь от радостного ожидания, решился наконец впервые снять покрывало с клетки — и взглянул на свою пленницу.
Боже, что я увидел!
Не раз я находил на выдвижном днище клетки выпавшие золотые перья. Это было в порядке вещей: ведь осенью все птицы линяют и, перелиняв, становятся ещё красивее.
Но в клетке я увидел не прекрасную солнечную жар-птицу, а больную, грязно-бурую маленькую ворону.
Надо ли говорить, что она не пела?
Как стала бы она петь, когда у неё отняли её радость — солнечный свет, свободу? Ведь птицы никогда не лгут.
Я отнёс мою жалкую пленницу в сад — и там выпустил.
У неё едва хватило сил взлететь на дерево.
Лист уже падал с берёз, и её подруги давно улетели в свои солнечные края. Ей предстояло умереть здесь, среди обнажённых ветвей, и упасть на почерневшую от дождей, холодную землю.
Но я решил, что всё же ей лучше будет умереть на свободе, чем в клетке.
Ты, может быть, думаешь, что моя жар-птица всё-таки сказочная? Ты хочешь знать её учёное название?
Изволь. Теперь я стал сведущ в орнитологии — науке о птицах. Могу тебе назвать не только её имя, но и сказать, к какому роду-племени она принадлежит.
Эта птица сродни воронам — Corvidae. Вместе с тем из всех наших птиц она ближе к семейству райских птиц — Paradisadae.
Тебя не удивит близкое родство этих двух семейств.
У моей жар-птицы золотое как день оперение и чёрные как ночь крылья.
Согласно принятой ныне в науке тройной латинской номенклатуре, она носит название: Oriolus oriolus oriolus L. Ориолюс ориолюс ориолюс Линнея, а по-русски просто — Иволга обыкновенная.
Теперь-то я знаю, что в неволе иволга теряет свое солнечное оперение, никогда не поёт в клетке и скоро умирает.
Выпавшие перья — вот всё, что осталось мне на память о её красоте и песнях.
Одно из них посылаю тебе: memento mori! Помни о смерти!
Да послужит мой горький опыт предостережением всем, кто держит птиц в неволе.
Но ты уже, верно, негодуешь:
— Вот так сказка с хорошим концом! Да это же правда, правда с самым печальным концом.
Нет. Я ещё не досказал до конца.
Слушай.
Моя жар-птица, птица-радость, вернулась ко мне следующей весной. И снова я услышал её зов — всё такой же пронзительный и радостный.
Почему она не умерла осенью и как — бессильная — улетела зимовать в свою солнечную страну, — не знаю.
Знаю только, что жар-птицы, птицы-радости, живут в наших лесах и садах, живут в сказках. И если сами мы их не погубим, то никакие Советники и даже сама Снежная Королева не заморозят их песен.
Рождение радости
(РАССКАЗ СТУДЕНТА)
Я вышел из университета в шестом часу вечера. Последний и самый трудный зачёт был сдан, впереди — всё лето свободное. Но, странно, я совсем не испытывал знакомого с детства, с первых лет школы, чувства радости: «сделал дело — гуляй смело!» Ничего, кроме усталости.
Правда, этот месяц я очень усиленно занимался. Последние две ночи совсем не спал. Поддерживал себя только крепким чаем и кофе.
Хоть бы выкинуть сейчас всю эту науку из головы! Но, как это всегда бывает при переутомлении мозга, голова, так сказать, уже на холостом ходу продолжала работать всё в том же, налаженном направлении. Мысли крутились впустую, как разогнавшийся маховик, с которого сняли приводной ремень. Как ни старался, я не мог думать ни о чём другом, кроме только что сданного предмета, — ничего толком не видел кругом себя, ни на чём не мог сосредоточиться! Это было мучительно и смахивало на безумие.
Вдруг резкий визг ворвался мне в уши и как бы отдался в гулкой пустоте под сводом черепной крышки.
Это стрижи, как это с ними часто бывает, под вечер, играя и гоняясь друг за другом, стремительно ринулись с высоты и с криком пронеслись мимо меня.
Этот неожиданный крик был из другого мира, — не из того, в котором кружились мои мысли. Он как будто распахнул какую-то дверцу в мозгу: я вдруг увидел себя идущим уже за мостом по набережной Невы, впереди вставал Фальконет[18], жёлтое с белыми колоннами здание сената, мост лейтенанта Шмидта. Услышал гудки автомобилей, пароходиков, шум толпы. И вдруг мучительно пожелал очутиться далеко от этого шума и обычной городской суетни, ужасно сейчас меня удручавшей.
Очутиться где-нибудь у крошечной сторожки железнодорожного стрелочника, около домика с маленьким огородом и лужайкой, где ходит на приколе пёстрая коза или розовый поросёнок, — а кругом — свежий лес, и узенькая-узенькая речушка бежит, и — тишина. Такая желанная, такая отрадная лесная тишина!
Стоило только пожелать — и сейчас же само собой сложилось решение: еду! Я же свободен, как птица. По дороге на вокзал забегу домой, возьму плащ, немного еды — и ночую сегодня в лесу.
Есть своеобразное наслаждение — наслаждение свободой и неизвестностью: выбрать в стенной таблице цен за проезд первое понравившееся название станции, взять до неё билет — и ехать в совершенно тебе незнакомое место.
Через час я сидел в вагоне и ехал, сам не зная — куда.
Не знаю, долго ли так ехал. Только вдруг меня сильно встряхнуло, — я очнулся, — понял, что, может быть, давно уже дремлю — и с испугом взглянул в окно.
В окне я увидел как раз то, чего мне хотелось: сторожка стрелочника, белая коза на приколе, речушка, стена леса. Это совпадение моей мечты с действительностью нисколько не удивило меня тогда.
Ни минуты не раздумывая, схватил я свой плащ, сумку — и выскочил на площадку.
Поезд круто поворачивал и на повороте замедлил ход.
Я соскочил со ступеньки и благополучно приземлился на небольшой насыпи мягкого песка. Конечно, мне и в голову не пришло возвратиться к сторожке и справиться, куда это я прибыл. Заметив убегавшую в лес тропинку, я беспечно направил по ней свои весёлые ноги, предвкушая впереди новые удачи.
Разве мог я тогда предполагать, какое необычайное приключение придётся мне пережить?
В лесу я почувствовал себя так, точно погрузился в ароматную тёплую ванну. Тут, видно, прошёл недавно дождичек. Тонкий пар поднимался с земли, от замшелых пней и стволов; свежая листва блестела; пахло растительной сыростью.
Лес — наш северный сказочный лес — привечал меня как родного. Да он был родным мне. Всё в нём радовало мой глаз: золотистая зелень берёз, голубая — сосен, серебристая кожа осин, тёмная глубина елей, бирюзовые просветы неба среди вершин. Всё веселило слух: звонкое пиньканье и рюменье зяблика, далёкая кукушка, едва слышный звон пробирающегося украдкой где-то между кочек ручья, интимная, вполголоса песенка зарянки и нежная флейта тоненькой славки-черноголовки в мелком ельничке.
Дневные птицы уже заканчивали свои песни, лес наполнялся всё усиливающимся ароматом ночных цветов. Я давно потерял тропу и шёл наугад, придерживаясь ручья. Ручей вывел меня наконец в долину маленькой лесной речки.
Солнце село. Шёпотом завёл свою нескончаемую, призрачно переливающуюся трель козодой-полуночник. В лёгких сумерках зажигались крошечные песчинки звёзд. Место было прекрасное: на этом берегу луг высокой травы, на том — старая вырубка с пнями, давшими молодые ростки, дальше — тёмная стена леса. Неслышно несла свои спокойные воды речка, то блестевшая мягким голубым огнём, то скрывавшаяся в кустах.
Я подумал:
«Куда мне идти дальше? Прекрасней не найдёшь места. Тут и лягу. А завтра отдохнувший, со свежими силами проснусь на восходе и буду приветствовать солнце».
Как сквозь сон я почувствовал тот ослепительный восторг бытия, который охватывает человека — всё равно молодого или старого, — только при полном внутреннем слиянии его со всей жизнью матери-земли. Тот восторг, что заставил поэта воскликнуть в упоении:
Вчерашняя ночь была так светла, Вчерашняя ночь все звёзды зажгла Так ясно, Что глядя на холмы и дремлющий лес, На воды, блестящие блеском небес, Я думал: О! жить в этом мире чудес Прекрасно![19]Прочтя эти стихи про себя как молитву, я снял с себя сумку, повесил её на куст, завернулся в плащ и опустился на землю, — даже не посмотрев толком, где ложусь.
Пролежал минутку с открытыми глазами, — трудно было оторваться сразу от улыбавшегося мне всеми звёздами неба. Потом медленно опустил веки… и тут случилось непонятное.
Я совершенно отчётливо почувствовал, как под моим простёртым телом колыхнулась земля. Колыхнулась и понесла меня куда-то.
Движение становилось всё быстрее, всё стремительнее. Я раскинул руки, ухватился за траву, чтобы не упасть с этого качающегося ложа, со сказочного ковра-самолёта.
Последней моей мыслью было: «Где я лёг? Куда меня несёт?»
И я потерял сознание.
Если непонятным было моё отправление в это путешествие, то ещё удивительнее — прибытие на место. Я не почувствовал ни толчка, ни удара, ничто не колыхнулось подо мной. Но я вдруг понял, приходя в сознание: приехали!
Я хотел подняться, вскочить на ноги, — и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Только с большим усилием удалось мне поднять веки.
В первое мгновение я ничего не мог понять.
Я лежал в каком-то фантастическом лесу. Стволы деревьев были самых разнообразных цветов: зелёные, жёлтые, коричневые, красные. Одни гладкие, блестящие, другие были покрыты шершавой корой, третьи — гранёные. От стволов отходили могучие ветви — широкие и плоские, заострённые к концу. А листьев или хвои на ветвях не было. Некоторые ветви кудрявились.
Но ещё больше леса меня поразило нестерпимо блиставшее над ним солнце. Не то солнце, которое мы привыкли видеть на нашем небе, — которое видится, если посмотреть на него, а потом закрыть глаза, золотым кружочком с сиянием. Нет. Это солнце горело каким-то странно-белым огнём — местами пятнами, и больше походило на пожар какой-то планеты, чем на солнце.
С трудом собрав испуганные мысли, я сообразил: «Это солнце на полтораста миллионов лет моложе нашего. Это лес каменноугольного или юрского периода. Я сошёл с ума или… или переселился на миллионы лет назад. Что со мной будет?»
На земле под деревьями в полном хаосе валялись поваленные стволы, сломанные ветви. И вдруг я с ужасом увидел, что через груду их поднимается невероятное, фантастическое чудовище.
Всё его огромное тело было заковано в блестящую жёлто-зелёную броню. Голова и туловище слиты: шеи нет. Спина горбом, и по ней — острые листы брони треугольниками. Изломанные в коленях ноги все в шипах.
Чудовище почти перевалило препятствие, замерло вдруг, почти повиснув надо мной, — и прямо в меня упёрлись его выпученные, неподвижные, слепые глаза. Под каждым глазом была пика, остриём обращённая в меня.
Я похолодел. Но мозг работал отчётливо и с необыкновенной быстротой, вспоминая накопленные сведения, ища в них спасения.
«Стегозавр, — соображал я. — Гигантский панцирный ящер юрского периода».
Точно мне было не всё равно, в каком периоде многомиллионной истории Земли я погибну. Но чёткая работа мысли приносила облегчение.
«Стегозавры в юрском периоде — владыки жизни. Множество разных — от маленьких, с ящерицу, до огромных, с дом — какие-то сухопутные крокодило-киты. Все растительноядные, — значит, этот есть меня не станет! Такие вот — со щитами на спине для защиты от прыгающих на спину хищников — средних размеров — метров шесть в длину. Так и есть. Сколько в нём тонн? Не съест, но наступит — и в лепёшку, как танк лягушонка».
Лихорадочно соображая, я не отрывал глаз от этих страшных, бессмысленных гляделок. Они ничего, — понимаете? — решительно ничего не выражали. В них не было ни малейшего намёка на какие-то чувства, на какое-то соображение. Только небо отсвечивало в них, как в наглухо задраенных крышках бойниц.
Двинется эта бронированная туша мяса дальше по тому же направлению, — тогда я погиб, — или повернёт?
Какое дело этому живому танку, что я — человек, существо, неизмеримо высшее, жившее через сто миллионов лет после него? Что в моё время все самые страшные звери — тигры, львы, медведи, слоны — бегут от одного взгляда человека, все испытывают страх перед человеком — разумным существом.
Ни страха, ничего вообще невозможно внушить этому бессмысленному животному. Горе, ужас — только подумайте, какой ужас! — жить на Земле за миллионы лет до человека!
Когда не родилось ещё на свет ясное сознание. Когда животные двигались по Земле как неодушевлённые вещи.
Ужасные, бессмысленные гляделки! В сто раз лучше было бы мне встретить разъярённого тигра, с пылающими жаждой крови глазами. Тигр всё-таки что-то соображает и может испугаться за свою собственную жизнь.
Одна мысль била мне в голову: «Рвануться! Оторваться от этих невидящих, глухонемых глаз, — вскочить и бежать, бежать!»
Но я не мог пошевелить ни одним пальцем.
Чудовище тоже не двигалось, вися надо мной.
Невероятная пытка моего сознания длилась и длилась. Я был не в силах предпринять никакого действия, чтобы хоть ценой смерти прекратить её.
Одно было живое во всём моём теле, способное шевелиться, — мои глаза. И усилием воли я заставил их оторваться от глаз чудовища — посмотреть по сторонам.
Видения, одно другого фантастичнее, поразили меня: весь лес был полон движения, невиданной, невозможной жизни!
Мимолётно, как на киноэкране, проносились у меня перед глазами чудовищные образы страшноящеров древней эпохи Земли. Прошёл, подпираясь хвостом, извиваясь гибкой змеиной спиной в десять метров длиной, деинодон. Тяжелоголовый, зубастый, с тонкими передними лапками, такими крошечными, что он не мог бы дотянуться ими даже до собственного рта.
Прошагал стоймя уткомордый манджурозавр.
Показалась между деревьями маленькая головка гигантского, похожего на холм, диплодока — и долго ещё по земле тянулся его мясистый хвост.
И чем дольше я смотрел по сторонам, насколько мне позволяла неподвижная шея, — тем кошмарнее представали мне фигуры. Тут был и живой с оскаленными зубами скелет эдафозаура с частоколом костей на спине и под грудью. И согнутый дугой, как железный подъёмный кран, тяжеловесный моноклон с громадным рогом на носу и острым горбом на затылке. И совсем уж невероятный птеродон с нелепой треуголкой вместо головы, небольшим тельцем и огромным крылом, натянутым на кость и гигантский палец руки. Этот летающий ящер неуклюже поднялся в воздух, отчаянно махая крыльями, но тут же грузно свалился.
Все эти чудовища то появлялись передо мной, то внезапно исчезали, иногда самым фантастическим образом: вдруг отрывались от земли и уносились за вершины деревьев куда-то в небо.
И всё это совершалось как бы механически, без капли мысли, сознания, — все эти фантастические звери были как ожившие машины.
Я успел ещё подумать: «Страшно, о, страшно жить в этом мире чудес, где ещё нет человека! В мире, где нет ни любви, ни простой радости».
Все эти звери набрасывались друг на друга и пожирали друг друга.
И я решил про себя: «Пусть лучше меня сейчас же раздавит это повисшее надо мной чудовище; всё равно мне не жить в этом ужасном мире!»
Я опять перевёл глаза на стегозавра.
Он всё в той же омертвелой позе висел надо мной, перевалившись через груду поваленных деревьев. Он не двигался.
И вдруг за ним — далёко-далёко в небе — я заметил маленькую точку. Она двигалась: летала.
И оттуда — с неба — донеслась до меня песня.
Сердце затрепетало во мне, и весь я вспыхнул горячей радостью.
Это крошечное существо, трепеща крылышками, поднималось всё выше в небо, всё громче звучала его чудесная песня — песня радости, песня освобождения от страшного, исчезающего внизу бессмысленно жестокого мира, — песня света, любви и свободных просторов.
Впервые пришла мне в голову простая мысль: ведь с птицами, только с птицами родилась на свет радость! Не было, не могло быть никакой радости, никакого проблеска в мертвящей жестокости жизни. Птицы первые по-настоящему овладели беспредельным океаном воздуха, ушли от пригнетавших к земле необходимостей и — первые из всех животных на Земле — запели. Нет краше их голоса ни у кого на Земле. И человек, родившись, запел, подражая им — птицам.
Я очнулся.
Перед самым моим носом на кучке травинок и соломинок, похожих на крошечные деревца с заострёнными к концу безлиственными ветвями, сидело насекомое, цикаделька с острыми щитами на спине, — цикаделька, удивительно напоминающая страшноящеров юрского периода — стегозавров. Не остался ли до нашего времени тот страшный возраст Земли, когда высшими существами на ней, владыками жизни были гигантские сухопутные крокодило-киты с маленькими головками, с ничтожным мозгом, не могущим себя сознать, — не остались ли, — думал я, — эти древние формы жизни и сейчас, в виде таких вот крошечных насекомых? Смешной пережиток грозного времени?!
За речкой над лесом из тумана всходило солнце, — уже не белое: золотое наше солнце.
Высоко над вырубкой пел-заливался лесной жаворонок — юла. В каждой ноте его прекрасного голоса звучал восторг бытия: существует мир, существую в нём я — маленький, крылатый, — и жить в этом мире чудес прекрасно!
Восторг охватил и меня.
Я вскочил. Я запел — без слов, сам не знаю, что. Мне было прекрасно.
Потом, успокоившись и поев, я легко нашёл дорогу к полотну железной дороги: за лесом слышался гром проходящих поездов.
Через два часа я был дома.
Вот какие странные шутки играют иногда с нами наши нервы, наш переутомлённый мозг.
Может быть, вы хотите знать, какой зачёт я сдал перед тем в университете?
Конечно — палеонтологию: науку о странных существах, прежде населявших нашу Землю и уступивших своё место на ней легкокрылым птицам.
Статьи Отрывки из дневника Письма
История нашего рода
(Так, как я её слышал от старшего брата Льва Валентиновича, интересовавшегося генеалогией)
Причины отсутствия документов по нашей родословной
Документы по нашей родословной хранились у деда моего Льва Бианки. Дед обладал открытым характером; в его доме не было замков: документы, деньги, ценные вещи лежали у всех на виду. И вечно он был окружён весёлой, шумной молодёжью.
В день серебряной свадьбы деда и бабушки особенно много молодёжи собралось у них в доме. Девицы и их кавалеры украшали гирляндами зал, где — после пира — всю ночь должны были происходить танцы; делали розетки на канделябры с многочисленными свечами.
У них не хватило бумаги для розеток. В кабинете они разыскали большое количество хорошей пергаментной бумаги, исписанной только с одной стороны. Прекрасные получились из неё розетки.
К утру свечи в зале догорели. Прислуга выкинула обгоревшие и засаленные клочки пергамента. Дед спохватился только на следующий день.
История нашего рода сгорела. Свет её огня освещал лица оживлённой, танцующей молодежи и, может быть, помог счастию не одной пары. Это всё утешение, оставшееся потомкам беспечного деда Льва.
1. Томас Бианки — Вейс — Бианки
Памятная история нашего рода начинается с прадеда моего — Томаса Бианки.
По предположению рассказывавшего мне, Томас Бианки был карбонарием. Ему пришлось бежать с родины. Он поселился в кантоне Тургау, в местечке Бишофсцелль; принял швейцарское гражданство.
В то время Швейцария была завоёвана Францией. В местечке Бишофсцелль стояли французские войска, имелся свой «наместник» (Наполеона).
Иммигрировав в Швейцарию, Томас Бианки (вероятно, из конспиративной цели) принял фамилию Вейс (перевёл свою фамилию на немецкий язык; большинство населения Тургау — немцы).
Отличительными чертами его характера были: горячность (большой и бурный темперамент) и рыцарская вспыльчивость: совершенно не мог видеть никакой несправедливости и при любых обстоятельствах бросался защищать слабых и обиженных.
Однажды, проходя одной из улиц в Бишофсцелле, Томас Вейс услышал во дворе крики и отчаянный визг поросёнка. Бросившись во двор, он увидел, что наполеоновский солдат тянет поросёнка в одну сторону, а хозяин-бюргер в другую. Выяснив, что на его глазах происходит грабёж, Томас потребовал, чтобы солдат и бюргер последовали за ним к наместнику, забрав с собой поросёнка. Ему повиновались.
Во дворе правителя им пришлось ждать: у наместника обедали гости, он не был расположен отрываться от хорошего обеда ради какого-то поросячьего дела.
А Томас не был расположен ждать. Он без приглашения прошёл в дом и попал в гостиную. Через закрытые двери он услышал звон ножей и бокалов.
Увидев в углу комнаты клавесины, Томас подсел к ним и, взяв несколько аккордов, громко запел, давая таким образом знать хозяину, что его ждут.
Томас пел. Бюргер тоже вошёл в гостиную. Когда певец кончил, дверь из столовой распахнулась и в гостиную ворвался хозяин.
Тут между ним и Томасом произошел диалог вроде следующего:
Наместник. Кто вы такие, как сюда попали?
Томас объяснил.
Наместник. Кто из вас пел?
Томас. Я.
Наместник. Понимаете вы, что у вас замечательный голос? Вы учитесь петь?
Томас. Нет.
С этого и началась его карьера — карьера знаменитого певца.
Наместник оказался большим любителем и хорошим ценителем музыки (что не всегда совпадает). У него были связи в музыкальном мире. Он оказал Томасу Вейсу покровительство, реабилитировал его политически — что позволило Вейсу опять превратиться в Бианки, оставшись швейцарским гражданином, — и отправил его обратно в Италию к своему другу, знаменитому по тем временам композитору и музыканту (имя неизвестно). Томас Бианки стал профессиональным певцом (тенор).
Его ждала мировая слава.
Будучи уже европейской знаменитостью, он гастролировал по всем странам.
Женился он в Германии.
О жене его — вернее, о её родне — придётся сказать несколько слов особо.
2. Откуда родом жена Томаса Бианки
Семейные предания рассказывают, что Томас Бианки взял жену из того старого рода, одна из дев которого была причиной возникновения лютеранской религии.
Дева эта была замечательно хороша собой: в ней гармонично сочетались черты французских и немецких женщин. Она происходила от смешанного франко-аллеманского брака.
Лютер познакомился с ней и полюбил.
Его священнический сан лишал его возможности вступить в брак. И тогда, будто бы, суровый, но горячий проповедник, пылая неутолимой страстью, поднял свой решительный протест против показной аскетической тогда католической религии — и выдумал новую. Протестантская религия разрешала лицам духовного звания вступать в брак.
Лютер женился на своей избраннице.
Фамилия её в девичестве была — Бора.
3. Дальнейшая судьба Томаса Бианки
Гастролируя по всем европейским странам в качестве мирового маэстро, певец попал в Россию. Здесь он пел в Петербурге.
Его пленила русская природа.
Будучи богат, он купил себе имение в Польше (где-то под Варшавой). Петь продолжал главным образом в Петербурге.
Простудился там — и потерял голос.
Русские врачи не помогли. Он отправляется в Германию, в Шварцвальд. Там его заставили долгое время молчать совсем. И вылечили.
Он продолжал петь, говорят, с прежней славой.
Умер он, кажется, в своем имении под Варшавой, оставив троих детей: Льва, Иво и дочь Валентину.
4. Валентина Бианки
Имя Валентины Бианки упоминается в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.
Валентина Бианки обладала исключительным голосом (героическое сопрано).
Она была примадонной Мариинского театра.
Для её голоса композитор Серов написал партию Юдифи в опере «Юдифь». Партию эту — в таком виде, как она была написана для бабки Валентины, — до сих пор не может исполнить ни одна певица (непомерно велик диапазон).
Валентина Бианки рано сошла со сцены. Она полюбила, и жених её (фамилия его Фабиан) поставил решительное требование: или сцена, или семья.
Певица выбрала семью и уехала с мужем в провинцию (муж её был лесничим где-то в Остзейском крае).
У меня сохранилась фотография бабки Валентины; она — в роли Антониды в опере Глинки «Жизнь за царя».
Судя по фотографии, у бабки Валентины была фигура сорокаведёрной бочки. Такая же фигура была у знаменитой итальянской певицы начала этого столетия — Баронат. (Сверхколоратурное сопрано.) Баронат мне довелось слушать не раз.
Продолжается ли род Фабианов бабки Валентины, никому из нас, её внучатых племянников, неизвестно.
5. Иво Бианки (старший)
Иво Бианки был профессором Петербургской консерватории. Отличался, будто бы, неуживчивым и резким характером, он был ярым поборником справедливости. (Есть сведения, что состав преподавателей Консерватории того времени не отличался высоким моральным уровнем, чем и была вызвана «неуживчивость» деда Иво, человека крайне принципиального, аскета и холостяка.)
Были у Иво причуды. Так, он считал, что носить два дня подряд одну и ту же пару обуви крайне вредно. В одной из комнат его большой «холостой» консерваторской квартиры стояла 31 пара ботинок; каждый день в месяце чудаку подавалась новая пара, а вчерашняя ставилась на своё место.
Страдал любопытной идиосинкразией: плохо переносил все фрукты и ягоды и, в особенности, землянику: при одном запахе этой ягоды невыносимо страдал, до судорог. Идиосинкразия эта «передалась» в нашем роду моему старшему брату Льву Валентиновичу: он не ел никаких фруктов (кроме яблок и «большого круглого огурца» — арбуза; дыню не выносил) и пахучих ягод; от запаха земляники приходил в ярость; очень плохо переносил запах одеколона и многих духов.
Племянница моя Нерея — дочь среднего брата, Анатолия Валентиновича — очень любит землянику (как и все другие члены нашего рода), но, поев её, заболевает.
6. Лев Бианки (старший)
Когда деду моему — Льву — исполнилось 16 лет, его отец — Томас — заявил: «Довольно юнцу сидеть дома, пускай-де учится ходить на своих ногах», — дал ему письмо к какому-то влиятельному ученому другу в Германии и отправил сына за границу.
Лев Бианки вернулся из Германии гражданским инженером.
Про него — деда моего — знаю только, что он то богател, то разорялся, но опять легко богател; очень верил людям и вечно был окружён молодёжью.
Был на фронте в Турецкую войну.
Женат был на украинке Евдокии (переименовала себя в Елисавету), урождённой Сидоренко, особе с большим темпераментом.
Детей у него было трое: Валентин (старший), Иво и Сидония («тётя Зида»).
Но тут для меня кончается легендарная «история нашего рода» и начинается то, «чему свидетелем господь меня поставил».
Итак, вот и всё то, что возродилось из пепла сожжённых весёлой молодёжью пергаментов.
Июнь 1940. Михеево.Отрывки из автобиографии
— Ты должен писать свою автобиографию, — сказал мне однажды мой друг и редактор.
Слова эти и смутили и рассмешили меня. Коли уж «а-в-т-о-биографию», то уж, очевидно, с-в-о-ю. Но всякая автобиография всегда бывает похожа на публичную исповедь. Вот, мол, смотрите все, какой я. Всё равно как взойти на трибуну и, вместо интересной речи, которой от тебя ждут, взять да раздеться догола перед всем честным народом. Для совершения этого стыдного подвига надо быть либо Фриной, с её гордым сознанием совершенной красоты своего тела, либо убогим, с их профессиональным равнодушием к обнажению своих язв перед людьми. Поскольку я не принадлежу ни к той ни к другой из этих пород людей, мысль о написании автобиографии сильно меня смущала.
Однако зерно-мысль, что заронил мне в душу друг, прорастая, дало неожиданные всходы. Размыслив, я пришёл к выводу, что отказаться от всенародной в печати исповеди о своей жизни, если у тебя есть хоть что-нибудь любопытное сказать о себе людям, никто не имеет права, как мы ничего не имеем права утаивать про себя такого, что могло бы послужить к счастью или хоть к малой радости будущих поколений. И уж совсем не смешным показалось мне сочетание слов «своя автобиография»: ведь так соблазнительно и просто, так безнаказанно (поди-ка потом проверь!) для автора подменить в рассказе себя образом другого, выдуманного человека — героя рассказа! Так легко и прикрасить, и очернить себя невольно.
Тот ли я на самом деле, каким себя воображаю?
Принялся я за воспоминания о себе, стал припоминать себя маленьким мальчиком, и вот уже мне
все неотступнее снится жизнь другая, моя — не моя[20].Никого не хочу обманывать: здесь, в автобиографии, я не стремлюсь к фотографической точности описания пережитого — разве не бессмысленна попытка фотографировать давным-давно прошедшее? Моя задача — силой живого воображения нарисовать словами главное из того, что сохранила мне из далёкого прошлого память, «волшебной силой песнопенья» восстановить давно погрузившиеся во тьму времен картины и самого себя вытащить из этой тьмы, из тьмы — увы! — уже опять хаоса на свет рампы того театра, актёр которого, Александр Блок, опять и опять восклицает:
О, я хочу безумно жить! Всё сущее — увековечить, Безличное — вочеловечить, Несбывшееся — воплотить!Беспощадная искренность искусства — беспощадная, прежде всего, к самому себе — пусть будет мне порукой в предельной правдивости этих моих рассказов о пережитом чувствовании когда-то мною.
31 декабря 1951 г. г. Ленинград.Пробуждение
Мне кажется, что я был всегда.
Когда я обращаю свои мысли вспять, посылаю их в далёкое прошлое, я там не вижу своих первых дней. Память не сохранила мне о них никаких воспоминаний. И впечатление получается такое, будто я долго-долго спал, а потом начал просыпаться, приходить в себя. Откуда?
Как сказать: это впечатление возобновляется каждый раз, как я вижу признаки начала сознания, осмысления окружающего у новорождённых человечков или недавно прозревших зверят. Сходство с пробуждением от сна у пробуждающихся к жизни сознательной бесспорно очень велико.
Вероятно, первые годы жизни я плохо различал сон от яви. Я долго верил, что приснившиеся мне тогда сны были действительностью, то есть «правдой». И это свойство (поэта?) осталось у меня на всю жизнь: я до сих пор не научился свято верить, что то, что мы считаем «действительностью», на самом деле правда, а то, что мы считаем «сновидением», а пуще того «мечтой», «грезой», «фантазией», достигающей силы галлюцинации, — неправда.
Два сна врезались мне в память от первых дней моей жизни: один чудесный, солнечный; другой — ужасный. Эти сны, видоизменяясь, снятся мне до последних лет. И не будет преувеличением сказать, что между этими двумя повторяющимися снами протекла моя неспокойная жизнь.
Смертный сон
Я ещё маленький, едва научился ходить. Вхожу в мамину спальню. Мама сидит на полу перед печкой. Печка белая, кафельная. Чугунная дверца её открыта. В печке — зияющая пустота. В комнате — сумерки.
— Мама!
Она оборачивается ко мне, и я вижу на любимом лице жалкую, приниженную улыбку. В ту же минуту пустая печка начинает втягивать в себя маму, мою маму, мою родную маму. Мама становится маленькой, маленькой — и спиной уезжает, втягивается в пустую, тёмную печку — до конца эта её жалкая, беспомощная улыбка, — и всё исчезает в темноте, в пустоте.
Я поворачиваюсь, бегу из спальни, падаю, и всё кричу:
— Мама! Мама! Мама!
Сон солнечный
Утренним солнцем залита поляна, берёзы, ели, сосны, осины. Очень большие и красивые цветы; с цветка на цветок порхают яркие бабочки. Прекрасными голосами ярко распевают птицы, из травы и кустов прекрасными добрыми глазами смотрят на меня звери. Молодая женщина чудесной красоты стоит, вся залитая солнцем, и простирает ко мне свои прекрасные, золотистые от загара руки.
Себя я не вижу в этом полном чудес утреннем сне, но чувствую всё: и нежный аромат цветов, и прохладу утреннего ветерка, и свежесть росы. Слышу флейтовые переборы птиц и дивный голос красавицы. Она поёт:
Узнай же тайну третью: Тебя я полюбила.Это — заключительные слова её песни, но вот странность: сколько раз мне ни снился этот сон, всякий раз я начинал слышать и разбирать слова только с этого места.
Сама по себе эта тайна и жаркие объятья красавицы, куда я вслед за этими словами попадал, — всё было так чудесно, что я не допытывался до предыдущих двух тайн.
Примечательно в этих двух снах для меня многое.
Во-первых, то, что впервые они мне приснились очень рано, на самой заре моей жизни, когда ещё решительно никакого истолкования привидившимся мне образам я дать не мог.
Во-вторых, то, что сны эти, как я уже говорил, видоизменяясь, снились мне то чаще, то реже, то ярче, то невнятней в течение всей моей жизни.
В-третьих, я заметил, что первый — страшный — сон снился мне только в городе и ни разу в жизни не снился мне в деревне, в лесу. Солнечный сон чаще снился мне в деревне, но бывало и в городе, особенно весной, — и всегда под утро.
В-четвёртых, эти два сна как бы спорили между собой за мою душу в течение всей моей жизни. Уже в больших годах моих смертный сон стал уступать, стал сниться всё реже и реже, всё бледнее. Наконец совсем перестал, и в то же время — лет под пятьдесят — я окончательно освободился от всяких, всю жизнь меня мучивших «фобий», или, попросту сказать, страхов. Сон солнечный победил: он продолжает мне сниться и до сих пор, правда — очень редко.
В сне солнечном надо ещё отметить то обстоятельство, что молодая женщина в нем с годами меняла свой облик: в раннем детстве я не сомневался, что это моя мама, но очень скоро она превратилась в девочку, потом в юную деву, в молодую женщину: я стал узнавать в ней то жену, то невесту, то опять мать. Но всегда неизменно то был образ самой любимой, самой желанной на свете женщины. И неизменно, являясь во сне, она приносила мне счастье, в эти дни мне всё удавалось, я чувствовал себя в силах совершить любой подвиг. Наоборот, «смертный» сон мой отнимал у меня всю силу и бодрость; тупой, неизбывный страх в эти дни наполнял мне душу…
Отец
Мать, мама — самый близкий на свете человек. Она всегда с нами рядом, к ней несёшь все свои беды и радости, она — самая родная.
Совсем другое дело — отец. С ним ещё надо знакомиться.
Он существует где-то сам по себе, живёт отдельной от нас и неведомой нам жизнью. Мы его мало видим. В городе он встаёт поздно, — мы в это время обычно уже гуляем. Выпив чай, уходит к себе в музей. Приходит к обеду и сразу же после обеда уединяется в своём кабинете — работать. Так его и помнишь: вечно согнутым над письменным столом, с пером в руке. Кругом обложен книгами. Курит папиросу за папиросой. На столе у него всегда стоит большой белый чайник с крепким чаем без сахара и очень объёмистая чашка, из которой он прихлёбывает холодный чай, на минуту положив перо, и что-то упорно, прищурив глаза, пристально обдумывает. Встаёт из-за стола только к ужину. Потом опять за работу. Ложится поздно. «Опять в третьем часу лёг!..» — сокрушённо говорит мама.
Ещё меньше видим мы его летом, на даче. Он приезжает из города в пятницу вечером, когда мы уже спим, с утра в субботу — если только не заладил проливной дождь — уходит в лес. В августе, как начнётся охота, обычно с ночёвкой. А в понедельник рано утром уезжает в город, в свой музей.
Но и не видя отца, мы очень часто чувствуем его присутствие не только дома, где всё пропитано крепким охотничье-табачным духом, но — неожиданно — даже в лесу, далеко от нашего жилища.
Помню, как это поразило меня однажды.
В настоящий, дикий лес мать взяла нас с братом, когда мне было лет пять или шесть. С тех пор прошло больше полустолетия, а я всё ещё помню этот долгожданный, взволновавший меня день, как, бывало, волновали меня дни рождения, когда получаешь долгожданные подарки.
Миновав деревню, мы с матерью пошли дорогой через луг. Высокая трава вся пестрела цветами. Солнце припекало, а травинки и цветы ещё сверкали росой. Разноцветные бабочки порхали в воздухе, в небе заливался жаворонок, — и всё кругом было так чудесно, так знакомо, так похоже на мой солнечный утренний сон.
Я было погнался за какой-то бабочкой, но мать строго окликнула меня: «Нельзя мять траву, тут скоро будут косить, и посмотри, ты уж весь вымокрился в росе!»
Утешил меня длинненький чёрный жук. Я поймал его прямо на дороге и положил его себе на ладонь, ножками кверху. А он вдруг как щёлкнет головой, подскочил и упал обратно мне на ладошку — прямо на ноги! — и быстро пополз.
Я, конечно, сейчас же показал брату замечательного жука, но брат сказал: «Глупости! Только мучаешь жука».
Он всегда так: прибежишь к нему со своей радостью, а он тебе в ответ что-нибудь скучное-прескучное. С ним у нас никогда не удавались общие игры.
— Вот и лес, — сказала наконец мать.
Настоящий дикий лес оказался совсем не таким, каким он мне казался издали. Издали он был синий и стоял сплошной зубчатой стеной. А тут перед нами было просто множество деревьев, толпившихся без толку и порядка. Деревья были разные: с листьями и с иголочками на ветках, высокие и низкие, толстые и тонкие, тёмно- и светло-зелёные с коричневыми, жёлтыми, серыми, белыми, серебристыми и какими угодно стволами, но только не синие. Некоторые из деревьев вышли вперёд, в луг. Это были настоящие великаны с могучими стволами и толстыми ветвями, начинавшимися невысоко над землёй. Дальше в толпе стояли деревья тонкоствольные с ветками у самых вершин. Справа между кустами блестела речка.
Но наша дорожка свернула влево, в самую гущу леса. Тут сразу охватила нас тень и прохлада, лёгкий сумрак. Я сразу притих и замолк, невольно стал вслушиваться в тишину. От солнечных бликов из всех бесчисленных дырок зелёного шатра над моей головой в глазах пестрило.
Не нарушая тишины, тут, в вершинах деревьев, пели какие-то птицы. Но я вздрогнул, когда мать сказала вдруг громко:
— Видите эту согнутую берёзку? Это папа согнул её, чтобы нам не сбиться с пути — знать, на какую дорожку повернуть.
Отец сейчас же представился мне великаном «выше леса стоячего». Он взял и пригнул рукой одной эту высоченную тонкую берёзу, как травинку.
Мать повернула влево под воздушную арку другой согнутой тонкоствольной берёзы едва заметной тропинкой и, пройдя по ней шагов с полсотни, показала на залитый солнцем поросший травой холмик:
— Тут земляничка растёт. Давайте соберём.
Мать и брат стали собирать ягоды в свои плетёные корзиночки, а я — себе в рот. У меня не было корзиночки.
— Клади в мою, — предложила мать. — И смотри не отходи от меня далеко: заблудишься.
Но на этот счёт у меня были свои соображения.
Только белое с серым платье матери скрылось за кустами, я сейчас же сбежал с пригорка и побежал в глубь леса.
Какие громадные, высоченные были тут деревья! Они обросли седым мхом, с их толстых ветвей свисали лёгкие сухие бороды, совсем седые бороды, — сразу было видно, что это старцы — столетние или даже больше. Я погладил одно из деревьев рукой: кора на нём была тёплая, шершавая. Пощупал бороду: борода была сухая и жёсткая.
Как-то совсем незаметно для себя я очутился в заросли высоких, резко пахнувших папоротников и жёлто-зелёных толстых дудок. И тут вдруг с шумом и треском взорвалась передо мной какая-то — мне показалось — огромная птица.
Я вздрогнул и чуть не вскрикнул.
Страшная птица взгромоздилась на толстый сук ели и повернулась ко мне своей гладкой жёлто-коричневой грудью. Карий глаз её под красной бровью смотрел прямо на меня. Она сидела совсем близко от меня, всего в нескольких шагах, и я рассмотрел её мохнатые ноги, плотное оперение и сильный, слегка горбоносый, острый, как у нашего петуха, клюв.
Так мы простояли, глядя друг на друга, — не знаю сколько времени, мне казалось — очень долго. Испуг мой давно прошёл, и я уж обдумывал: чем бы хватить её? На миг я отвёл от неё свои глаза — взглянуть: нет ли под ногами какого-нибудь сука? — и в этот миг она, залопотав как-то по-своему, вдруг совершенно бесшумно слетела со своего сука и скрылась в чаще.
Сердце отчаянно колотилось у меня в груди. Страстный охотник уже проснулся во мне в эти ранние годы.
Немного успокоившись, я оглянулся — и неожиданно понял, что заблудился. Потерял направление, откуда пришёл, где осталась мать с братом. Утонул в густой заросли папоротников и высоких дудок.
Вдруг понял, что я один, совсем один в огромном диком лесу, где живут такие вот крепконосые птицы чуть не с меня ростом и другие, ещё не известные мне существа, может быть, очень страшные.
Однако у меня хватило мужества не закричать: «Мама!»
Я стал продираться сквозь чащу трав, раздирая их руками. Острые листья папоротников резали мне пальцы, но я изо всех сил боролся с этим войском: ведь оно хотело взять меня в плен.
Мы смеёмся над нашими детскими страхами. Напрасно.
В детстве мы многое переживаем гораздо ярче, чем потом. Особенно если у нас богатая с детства фантазия. Разве мало мы и взрослыми придумываем себе трагедий, и разве эти трагедии меньше значат для нас, оттого что они — плод нашей фантазии? И разве то, что так легко преодолимо для нас, часто не бывает серьёзной опасностью для ребёнка с его малыми силами?
Ад — тоже плод нашей фантазии, однако же как боялись его наши предки целых две тысячи лет подряд.
Мне представилось, что я давно убежал от матери, — встреча с невиданной птицей совершенно сбила правильное представление о времени. Казалось, я давно заблудился и теперь мне неоткуда ждать помощи.
Но я не плакал, я боролся. И страшные травы, окружившие меня, расступились передо мной. Какое множество их я поверг на землю голыми руками! Я чувствовал себя сказочным богатырём.
И вдруг травяное войско кончилось. Я видел себя среди высоких деревьев у подножия холмика, на котором мать собирала землянику. Страх мой как рукой сняло.
Я кинулся к матери и, захлёбываясь, начал ей рассказывать про свои приключения. Но она не стала слушать.
— Вечно ты со своими фантазиями! Идём дальше.
Мы опять идём по тропинке. Я ещё пытаюсь рассказать свои переживания брату, но он смеётся надо мной, говорит, что таких больших птиц у нас и не бывает. И уж мне начинает казаться, что я никуда и не отходил от матери и брата, что необыкновенная птица и война с травяным войском, которое хотело взять меня в плен, — всё это снилось мне… Уже не раз бывало со мной так. Не потому ли и стал я путать, где сон, где явь?
А мы идём лесным коридором: по обе стороны тропинки сплошной стеной растут невысокие ёлки. Лёгкий сумрак и тишина; ноги неслышно ступают по толстой подстилке опавшей хвои, и я опять будто сплю наяву, будто в сказке живу, где то и дело случаются самые неожиданные чудеса.
Но вот ёлочный коридор кончился; в глаза нам хлынул яркий свет: мы вышли на поляну. Тут опять всё, как в моём солнечном сне: и птицы громко поют, и бабочки порхают, и цветы растут.
Жарко. Мне хочется пить. Говорю об этом матери, хотя знаю, что у неё нет с собой воды и взять её негде.
— Иди за мной, — говорит мать таким обыкновенным голосом, будто мы дома и она предлагает мне: «Налей себе из графина».
С одной стороны поляна кончается крутым обрывом. Мать осторожно, бочком, спускается с него, а я сбегаю, хватаясь за все кусты по дороге.
Тут внизу тоже лес, но совсем другой: сырой какой-то, тёмный. Под самым обрывом, прорыв себе песчаную канавку, бежал чистый ручеек.
— Это родник, — сказала мать. — Вот тут он выходит из земли.
И она показала мне на небольшую песчаную ямку, тщательно кем-то прикрытую большим куском еловой коры.
— Это наш папа положил кору, — объяснила мать, — чтобы в родничок не сыпался разный мусор.
И опять мне почудилось, что отец — такой заботливый — где-то тут в лесу, рядом с нами.
— А это папа сделал берестяной ковшичек, чтобы удобно было черпать воду, — сказала мать, снимая с куста длинную палочку с фунтиком из кусочка чистой желтоватой берёсты и зачерпывая воду из родника. — На, пей, только смотри, потихоньку, маленькими глоточками. В родниках вода очень холодная, а ты вон как разжарился, — сразу простудишься.
В жизни я не пил такой вкусной воды, как эта! Так приятно было прикасаться горячими губами к прохладной берёсте, чувствовать, как ледяная — «зуб ломит!» — водичка бежит у тебя по подбородку и тонкой струйкой попадает тебе на ногу из маленького отверстия в носу берестяного фунтика.
Напившись, мы опять поднялись наверх, на солнечную поляну. Брат терпеливо дожидался тут, сидя на поваленном ветром дереве.
— Ну вот, — сказала мать. — Теперь позавтракаем, отдохнём немного и пойдём домой.
Она вынула из своей корзинки завёрнутые в чистую белую бумагу бутерброды с ветчиной и копчёным языком и, разделив их, дала нам с братом.
И вот ветчину и копчёный язык с этого дня я полюбил на всю жизнь: ведь я их ел когда-то в той волшебной стране, в лесном раю. Чудесные воспоминания об этом дне, спрятанные глубоко, в кладовой памяти, вдруг пробуждаются во мне, стоит мне только услышать запах копчёного языка.
— А найдём мы дорогу назад? — спросила нас мать, когда мы с братом кончили свои бутерброды. — Куда бы вы пошли?
Солнечная поляна была окружена лесом с трёх сторон, с четвёртой был обрыв. Лес был всюду одинаков. А с какой стороны мы пришли, я забыл. Не мог и брат сказать, куда надо идти.
— Вот так мы и заблудились бы, — сказала мать, — если б папа заранее о нас не подумал. Вот смотрите: он всюду поставил стрелки.
И она показала на стволы деревьев, затёсанные топором. На обнажённых от коры местах чернели стрелки — новое доказательство неустанной заботы о нас отца.
Обратный путь домой из лесу я не помню: наверно, очень устал от множества новых впечатлений. Как сквозь сон, помню только неожиданную встречу с отцом среди леса.
Мы переходили какую-то просеку. Мать неожиданно остановилась и показала рукой вдоль леса. Вдали под высокой елью я увидел маленького человечка с ружьём за спиной. Он стоял на просеке и, задрав голову, рассматривал что-то в бинокль на вершине ели.
— Не узнаёшь? — сказала мать. — Это же наш папа.
— А почему он такой маленький? — спросил я.
— Это тебе кажется, — ответил брат, — потому что рядом с ним очень высокие деревья. Мама, можно мне побежать к нему?
Мой брат всегда всё знал и никогда ничего не делал без разрешения родителей.
— Нет, нет! — поспешно сказала мать. — Нельзя ему мешать. Он разглядывает какую-нибудь птичку. Мы спугнём её.
И, взяв нас за руки, скорей повела дальше.
После этого памятного дня у меня надолго создалось убеждение, что отец мой — что-то вроде какого-то лесного духа, маленького, но могущественного. Он может взлететь к вершине самого высокого дерева и согнуть его в дугу, пригнуть вершиной к земле. Он знает в лесу все тайные тропинки, все скрытые роднички, знает всех лесных птиц и зверей, понимает их язык и распоряжается ими.
Отец часто приносил из лесу разных зверюшек и птиц, иногда живых, иногда мёртвых. Живые оставались жить у нас дома — в клетках или просто так в комнатах. С мёртвых отец снимал шкурки и возил с собой в город, в свой музей.
Оставшихся жить у нас зверюшек и птиц кормила мать, и они быстро ручнели. Больше всех мне полюбилась в детстве ручная жёлтенькая овсянка и две молоденьких косульки — козёл и козлушка. Козёл, правда, здорово дрался своими острыми копытцами и едва пробивающимися на лбу рожками. Он часто доводил меня до слёз, но я никогда на него не обижался, потому что и сам с ним дрался и, наверно, часто делал ему больно.
Зато козлушка была очень ласковая: больше всего она любила, чтобы ей чесали за ухом.
Отец не любил, когда мы называли их «козлом» и «козлушкой».
— Это совсем не козы, — говорил он. — Это настоящие олени.
Отчего я пишу про лес
Читатели часто спрашивают, почему все мои книжки про лес, про охоту, про зверей и птиц.
Помню себя маленьким. Мать ведёт меня за руку через улицу от четырёхугольного дома, где мы живём. Вводит в другой дом — длинный, громадный, в нём могли бы поместиться сотни изб. С улицы ступеньки вниз. Сумрак и сырость в первом этаже этого дома. Мы долго идём будто подземным ходом с каменными сводами. Глухой ряд больших шкафов делит его вдоль пополам. Шкафы, шкафы, шкафы…
Мать открывает дверь под тёмным сводом. Комната со шкафами, сверху из-под каменного потолка — мутный свет. От большого стола под окном идёт к нам отец.
Отец ведёт нас дальше по подземному ходу, впускает в высокий каменный колодец с лестницей. Ведёт по лестнице вверх. Чем выше, тем светлее, светлее — и вдруг — площадка с прозрачной стеной и там — за стеной — снег, в снегу разбитая лодка. Около лодки стоит на четвереньках белый медведь, другой опёрся на его спину передними лапами и озирается, высматривает что-то вдали блестящими глазками.
Отец за спиной у меня стучит в дверь. Дверь отворяется, нас впускают в чудесное здание. Из громадных окон льёт солнечный свет. Воздух вокруг меня ломается на блестящие четырёхугольники. Всюду звери, звери, звери. Люди ходят между ними, таращат на них глаза. А звери не пугаются, не бегут, не шевелятся. Но я уже не вижу людей, вижу одних только зверей.
Вот кусочек леса, два бурых медвежонка схватились в обнимку, медведь побольше — пестун, говорит отец, — сидит, не спускает с них глаз, а медведица развалилась на пригорке, дремлет.
Вот громадный чёрный слон за загородкой. Мне очень хочется дотронуться до его хобота, но отец сердито говорит: «Не сметь трогать!» Я отдёргиваю руку. Лось продирается по лесу… Два волка встретились… Два тигра — один на скале, другой под ним — оскалили зубы, сейчас кинутся друг на друга. Отходя, всё гляжу на них: нет, не кидаются! На берегу холодного моря лежат тюлени и красноносый кулик-сорока задиристо наскакивает на добродушного тюленёнка. Жирафа с высокой, как колокольня, шеей.
Бегу за отцом назад — мимо слона, которого нельзя погладить. Начинаются птицы. Утка вылетает из травы, с гнезда, а в гнезде — яйца. Орёл поймал большую рыбину… Грифы — крючконосые, с голыми шеями — пируют на дохлой собаке. Голый куст усыпан до того крошечными пташками, прямо не верится, что настоящие. Они ярких, всевозможных цветов. Отец говорит — американские колибри. И гигантская птица с лошадиными ногами — страус африканский. Залезть бы на спину ему — вот прокатил бы!
Дальше, дальше!.. Проплыл высоко над головой чёрный страшный аллигатор — крокодил с длинной, как щипцы, зубастой мордой. Сверкнула голубым брюхом косоротая акула. Застыли в воздухе рыба-молот, рыба-пила и рыба-меч.
Поворот. Громадный скелет кита — через всё здание. Плывут по воздуху белуха-кит, косатка-кит и грузная, белая морская корова.
Вверх по широкой лестнице. Киты уже внизу подо мной. Кругом — бабочки с крыльями величиной с мои ладони — и такими цветами переливают, что глаз не оторвать. Жуки с рогами… Чудовищные раки…
Звонит звонок. «Домой!» — говорит отец. Спускаемся к китам, идём мимо гигантских змей, мимо черепах со стол ростом… Птицы опять. Вот аист стоит на крыше. Окошечко — и там, в соломке, уютно-уютно свернулась тёплым кружком — кошка.
Ну, эту-то можно погладить. Отец с матерью не смотрят. Быстро протягиваю руки и — стук! — пальцы больно ударяются в крепкое, холодное. Стекло! Кошечка, аист — все звери и птицы за стеклом.
— Чучела, — говорит отец.
Пусть! Всё равно, я не поверю, что они — мёртвые. Я знаю: они нарочно так заколдовались: потому что люди кругом.
Вот уже нет людей. Только дядьки в серых куртках, похожие на отставных солдат, ходят от окна к окну: задёргивают громадные занавески на окнах. И звери, птицы погружаются в темноту.
Вот узнать бы такое слово: чтоб разом всё расколдовать. Скажешь — и вдруг задвигаются звери, полетят птицы, бабочки, киты поплывут — писк, рёв, шум поднимется.
Ух, здорово! И страшно: вдруг на меня кинутся?.. И радостно: а может быть, ничего — погладить себя дадут.
Но мы уже спускаемся вниз — в подземелье со шкафами.
Не верил я неподвижности этого удивительного собрания животных. В душе поднимался бунт: так мучительно хотелось, чтобы птицы пели и летали, чтобы звери бегали, чтобы всё ожило. И как же тянуло из этого мёртвого мира в лес, в луг, на волю — живую волю!
Этот застывший мир собранных со всего света неживых животных назывался — Зоологический музей Академии наук.
В нижнем, полуподвальном, этаже работали учёные и хранились научные коллекции[21].
Отец мой тоже работал там: он был орнитолог — учёный, специалист по птицам. Отец и был моим первым и главным лесным учителем.
Дома у нас жило много всякого зверья. Певчие птицы жили в такой большой клетке, что в ней мог стоять взрослый, не сгибаясь. Был у нас в квартире акварий с рыбами и террарий с черепахами, ящерицами, змеями.
Летом мы жили в деревне. Ловили птиц и брали на выкорм птенцов.
Перебывали у нас зайчата, ежи, белки, косули. Держали даже лосёнка — и он стал таким ручным и послушным, что ходил со мной по лесу, как собака.
Отец рано начал брать меня с собой в лес. Он каждую травку, каждую птицу и зверюшку называл мне по имени, отчеству и фамилии. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полёту, разыскивать самые скрытые гнёзда. Учил по тысяче примет находить тайно от человека живущих зверей. И — самое главное — с детства приучил все свои наблюдения записывать. Так приучил, что это вошло у меня в привычку на всю жизнь.
Один год подружился я в деревне с пастушком — хроменьким веснушчатым пареньком лет четырнадцати. Звали его Андрюшкой. Он пас коров у одной небогатой помещицы в красивом и диком лесу. Он был не из этой местности и на следующий год ушёл куда-то на заработки.
Одно только лето провёл я с ним. Мы построили себе шалаш на пригорке. В дуплах толстых пней, прикрывая мхом, хранили наши вещи: топор, чайник, сковородку.
Сирота-пастушок особенной какой-то — тихой и восторженной любовью любил зверей и птиц. И животные, казалось, понимали его, доверчиво к нему приближались.
Бывало, заиграет Андрюшка на дудочке — а играл он мастерски, только всегда печальные были у него песни — и к нему слетают птицы, совсем без страха скачут в двух шагах, весело поглядывают на нас одним глазом. А раз случилось — пришел дикий козёл с козлухой, стали в кустах и тоже слушают.
Косуль этих мы стали приваживать солью: густой раствор поваренной соли наливали в ямку. До соли все копытные очень охочи, и нам много возни было с коровами: то и дело гоняй их от солонца. Косули повадились ходить на солонец каждый день, и если в ямке недоставало соли, козёл гневно бил точёным копытцем о землю, сердито фыркал и кашлял. Косули совсем нас не боялись.
Гость пострашней повадился ходить к нам на солонец: громадный лось-одинец из казённого леса. (Одинцами называются старые лоси — быки, угрюмые животные, живущие отдельно от стада.) Он держал себя с нами строго, не позволял близко к нему подходить. Его жизнь, насколько пришлось узнать её, я описал в повести «Одинец».
Богатый помещик — герцог — владел в тех местах громадным, так называемым «казённым», лесом. Он снимал охоту на крестьянских землях и у мелких помещиков и всюду ставил своих сторожей и объездчиков, чтобы ловили браконьеров. Ходили слухи, что егеря привязывают для него дичь к деревьям. На облаву он приезжал в коляске с дамами, лакеями и выпивкой. Стрелкам подавались стулья, позади становился лакей и сразу после выстрела подавал стрелку другое, заряжённое ружье. Нагоняли дичь и зверя на стрелков согнанные с ближних деревень крестьяне под командой егерей. Но если кто из крестьян, хоть с голоду, убивал зверя или птицу в герцогских угодьях, его ловили, отбирали ружьё, сажали в тюрьму.
Я никогда не видал герцога, но всей душой его ненавидел. И рад был ему насолить хоть тем, что убивал его дичь.
Я был на год моложе Андрюшки, но у меня уже была тогда собственная двустволка: я охотиться начал очень рано.
Привычка заносить в тетрадь свои наблюдения распространилась и на охоту. К двадцати семи годам у меня накопились целые тома записок. Они лежали мёртвым грузом у меня на душе. В них — как в Зоологическом музее — было собрание множества неживых животных в сухой записи фактов, лес был нем, звери застыли в неподвижности, птицы не летали и не пели. Тогда опять, как в детстве, мучительно захотелось найти слово, которое бы расколдовало их, волшебным образом заставило ожить.
Таким словом могло быть только художественное слово. И вот я пишу рассказы, повести, сказки — про зверей и птиц, про охоту, про лес, мою радость!
11/Х-35 г. ЯковищиБорис Степанович Житков и его литературное наследие
В конце 1924 года был организован сектор детской литературы Ленинградского отделения ГИЗа. В числе первых авторов в редакцию сектора явился один известный поэт с тетрадью стихов для детей.
Поэта направили к редактору — пожилому человеку небольшого роста, с резкими чертами лица, похожему на француза. Поэт знал всех ленинградских редакторов, но этого видел впервые.
Редактор прочёл стихи и сказал просто:
— Не годятся.
Поэта передёрнуло.
— Кто вы такой, чтобы мне… — начал он.
Шаркнув ногой, легко и чётко редактор отрапортовал:
— Штурман дальнего плавания Житков.
И, не дав поэту времени опомниться, начал объяснять ему при помощи карандаша неправильности, допущенные маститым поэтом в стихотворном описании парусного судна.
При этом строгий редактор-новичок обнаруживает такой замечательный дар рассказчика, сообщает попутно сведения из всевозможных областей человеческих знаний, такие новые, увлекательные мысли высказывает о художественной литературе для детей, что поэт — это был настоящий поэт — забывает о своем оскорблённом самолюбии и с жаром вступает в разговор.
Беседа кончается мирно, и поэт берётся переделать стихи.
Став писателем, Борис Степанович Житков не перестал чувствовать себя штурманом дальнего плавания. Он и большой корабль своего творчества вёл с полным сознанием своей ответственности и с уверенностью человека, привыкшего ориентироваться по далёким звёздам.
Описанный разговор произошёл всего через несколько месяцев после дебюта Бориса Степановича в художественной литературе. Но в эти немногие месяцы Борис Степанович уже успел создать несколько классических вещей и уже мог давать полезные советы даже маститым мастерам слова.
Такое, на первый взгляд чудесное, возникновение нового «классика» покажется далеко не таким удивительным, если рассказать о том, кем был Борис Степанович в жизни.
Резкую грань надо провести между двумя типами наших авторов книг для детей. Одни из них родятся от литературы, другие — от жизни.
Авторы первого типа — назовем их условно «литераторами» — обычно рано начинают писать и печататься, часто ещё вундеркиндами. Они овладевают литературным мастерством в том возрасте, когда совсем ещё не знают жизни и, следовательно, ничего нового сообщить о ней людям не могут. Материал, содержание для своих стихов и прозы они черпают из литературы же. Начав с этого, они обычно этим и кончают.
«Поэт — сын гармонии: и ему дана какая-то роль в мировой культуре, — говорит Блок. — Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной, безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, внести эту гармонию во внешний мир»[22].
От первого, самого трудного дела поэты типа «литераторов» себя освобождают.
Это — люди комнатные, так всю свою жизнь и проводящие в комнатах. Зачем бежать им «на берега пустынных волн, в широкошумные дубравы», когда отлично кормят и приносят славу стишки, написанные дома, среди «забот суетного света», быть погружённым в которые «литератор» вовсе не считает малодушием.
Единственная специальность «литераторов», единственное возможное для них средство существования — это литература.
Не зная людей труда — суровых воинов жизни, видев их только через окошко своей комнаты, «литератор» пишет в своих стихах и прозе об этих людях, об их труде, об их инструментах, об окружающей их природе — о чём угодно. А поставьте его в положение Робинзона — и «литератор» погиб: ведь он ничего не умеет делать, он никогда не держал в руках ни одного инструмента, кроме пера.
Авторы этого типа всего лишь пересказчики. И так же понятно, что «литераторы» склонны к формалистическому оригинальничанью, к языковым и стилистическим «изыскам»: в чем же и показать себя пересказчику?
Другого типа авторы — настоящие писатели, вроде Бориса Степановича Житкова — обычно приходят в литературу с знанием жизни, с умением видеть и понимать эту жизнь. Жизнь они ставят выше литературы и берутся за перо для того, чтоб сделать жизнь лучше и разумнее. Жизненный опыт, «внутреннее давление» — свойственное человеку стремление передать накопленный личный опыт всему человечеству, в особенности же вооружить им вступающее в жизнь молодое поколение, — это внутреннее давление и заставляет таких людей писать, часто именно для детей писать.
Борис Степанович сорока двух лет от роду дебютирует в детском журнале «Новый Робинзон» рассказом «Над морем» и сразу же начинает вести в этом — с таким многозначительным названием! — журнале отдел «Как люди работают». Не комнатным же людям было рассказывать детям о том, как люди работают. Для этого нужен был именно Борис Степанович.
Он был человеком чрезвычайно больших и разносторонних знаний. Но этого мало. Его никогда ни в чём не удовлетворяли знания без уменья, столь характерные для комнатных людей, для всей рафинированной интеллигенции.
Трудно перечислить все его знания и умения. Достаточно сказать, что, окончив (после университета) Политехнический институт, он взял место инженера не прежде, чем сам познакомился с трудом рабочих всех подведомственных ему как инженеру специальностей. В 1908 году он был начальником научной экспедиции на Енисее и одновременно капитаном экспедиционного судна; к этому времени он уже проделал работу каждого из своих подчинённых: от матроса и кочегара до машиниста и штурмана, от препаратора до ихтиолога. Он любил всякий труд, брался за всякий труд и, взявшись, доводил приобретённое уменье до высокой степени мастерства. Человек изобретательный, он не довольствовался тем, что было, а старался усовершенствовать приёмы каждого труда, сконструировать новые, более совершенные инструменты и машины.
Читатель требует от писателя углублённого, исключительного знания жизни. Читатель-ребёнок во что бы то ни стало хочет видеть в любимом писателе своего героя, требует от него умения делать всё, о чём говорится в книге. Велико разочарование маленьких читателей, когда при долгожданной встрече с любимым писателем они убеждаются, что они обманулись, что всё обаяние автора их любимых книг заключается только в умении подобрать красивые слова. Встреча с настоящим писателем «от жизни», а не «от литературы» этим жестоким разочарованием не грозит им.
«Какой он детский писатель, — говаривал Борис Степанович, — раз он гвоздя в стену не умеет вбить».
Сам Борис Степанович мог рассказать и показать на деле своему маленькому читателю, как сделать звонок, шалаш, лук, как одеть куклу, как сделать модель маленького кино и большого парусного судна, парохода, буера, планера, аэроплана, как скорей и лучше научиться владеть топором, научиться плавать, стрелять, как смастерить змей и ещё тысячу других интересных вещей. И если б захотел похвастать, мог бы рассказать про самого себя, как он пулькой из винтовочки сбивал на лету перепелов; как вытаскивал из рек и морей утопающих; как в метель находил дорогу и спасал жизнь замерзающим путникам; как выбирался из-под опрокинувшейся и прикрывшей его собой лодки; как воспитывал волка; как под носом у царской полиции прятал у себя революционеров; как в шторм водил утлое судёнышко за границу и привозил оттуда литературу и оружие для революции — и ещё тысячу интересных вещей.
Борис Степанович был старшим братом славных героев своих рассказов.
Можно с полной уверенностью сказать, что он, попав на необитаемый остров, устроился бы там не хуже любимого героя детей (да и не только детей!) самого Робинзона Крузо. Да есть и прямое доказательство этому в его биографии: во время белого террора в Одессе Борис Степанович скрывался в землянке на пустынном берегу Чёрного моря.
Он жил отшельником, добывал себе пищу рыбной ловлей, охотой и другими робинзоновскими способами. А кругом царил голод, такой голод, что смерть тысячами косила людей, не умевших прокормить себя средствами первобытными.
Любя вещи, умея обращаться с каждой из них так, что они давали всю ту пользу, какую только могли давать людям, он, однако, никогда не окружал себя лишними вещами, всё раздаривал и умер, оставив после себя две скрипки да несколько книжек.
— Моральный комфорт мне дороже, — любил говаривать Борис Степанович.
В первые годы после нэпа, когда вся страна изо всех сил строила новую жизнь, он часто задавал знакомым вопрос:
— Если б вам сейчас дали миллион золотом с обязательством быстро истратить его по своему желанию, что бы вы сделали с ним?
И все, не задумываясь, отвечали:
— Прежде всего я бы накупил (или накупила) себе массу всяких вкусных вещей, потом хорошо оделся бы, потом снял бы себе отдельную квартиру с ванной и… — дальше шло перечисление всевозможных жизненных удобств.
Борис Степанович улыбался и говорил только:
— Но ведь для этого куда как много миллиона, а по условию надо его истратить весь.
И знакомые не знали, куда деть такую уйму денег.
Когда же его самого спросили, как бы он разрешил эту трудную задачу мотовства, он ответил:
— Я покупал бы не вещи, а события.
И, остановившись перед стенной картой родины, сказал, указывая на Новую Землю:
— Надо бы к чёртовой матери срыть эту перегородку. Ведь в неё упирается Гольфстрим. И весь его огромный запас тепла и жизни уходит без всякой пользы для нас в пустыню вокруг Северного полюса. А срыть Новую Землю — Гольфстрим пойдёт вдоль берегов всей Азии, отеплит, изменит климат, растительность громадных пространств, откроет непочатый край для жизни.
И миллион вдруг стал крошечным.
Штурман дальнего плавания, объехавший половину земного шара, изобретатель, инженер-кораблестроитель, химик, математик, замечательный пловец и стрелок из винтовки, настоящий «мастер на все руки» и к тому же человек, одарённый изумительным даром рассказчика, — что же удивительного, что такой человек в конце концов берётся за перо, а взявшись, сразу создаёт первоклассные образцы художественной литературы?
Для этого нужно ещё одно «небольшое» условие: то, что принято называть большим литературным талантом.
Стоит лишь познакомиться с двумя-тремя письмами Житкова-студента, чтобы убедиться, что такой талант таился в нём с юных лет. Но целомудренная душа всегда стыдится обнажить себя перед людьми. Первые шаги в искусстве — в том большом искусстве, порукой правдивости которого всегда искренность художника, — первые шаги труда. И человеку на пятом десятке лет ещё трудней вообразить себя писателем, чем юнцу. Однако изобретательность Бориса Степановича помогает преодолеть ему и эту последнюю трудность: он пишет свой первый рассказ по-французски («И будто это француз какой-то пишет, а не я»), а потом сам «переводит» свой рассказ на родной язык.
И скоро обнаруживается: искусство устного рассказа уже доведено Борисом Степановичем до той высокой степени мастерства, когда можно просто заносить на бумагу этот устный рассказ — и получается прекрасное литературное произведение.
У Бориса Степановича было органическое чутье русского языка, развитое рассказами и сказками новгородских нянюшек: до шести лет Борис Степанович жил в Новгороде. Чувство это только окрепло от усвоения других языков. Борис Степанович свободно говорил по-французски, английски, немецки и мог объясняться на датском, турецком, татарском, румынском, грузинском, украинском и на других языках. Но, быть может, всего важнее, что он всю жизнь провёл там, где слова создаются, где из созидательного труда родится живая, точная, действенная речь, — среди рабочего люда, на море, на земле, на фабриках.
Писатель, много повидавший и переживший, обладавший разносторонними знаниями и уменьями, писатель, которому есть что поведать людям, не нуждается в формалистических изощрениях. Создавая большую, жизненно-необходимую книгу, а не игрушечную литературу, он отвергает литературные «изыски». Его искусство всегда индивидуально, неповторимо и в этом смысле оригинально. Оригинальничать же ему не к лицу.
— Оригинальничать тоже не оригинально, — сказал как-то Борис Степанович одному из поэтов-«литераторов», наследников футуризма.
Большая изобретательность Бориса Степановича сказалась и в его литературном творчестве. В детской литературе он был созидателем новых жанров. Им создан сюжетный производственный рассказ; увлекательная, до сих пор ещё не поддающаяся классификации критиков, эмоционально насыщенная «деловая» («научно-популярная») книга; энциклопедия для маленьких, совершенно новой, своеобразной формы: дана живым голосом пятилетнего ребёнка.
Много новых ворот прорубил Борис Степанович в советскую детскую литературу, много новых авторов вошло, входит и долго ещё будет входить в художественную литературу через эти ворота, иногда, быть может, не зная даже, кто для них открыл вход.
Наш уголок вселенной
Книга о жизни родной природы
Говорить детям суконным языком проповеди, это значит вызывать в них скуку и внутреннее отталкивание от самой темы проповеди, — как это утверждается опытом семьи, школы и «детской» литературы дореволюционного времени.
М. ГорькийЭта книга — попытка нескольких писателей, художников и учёных рассказать малым детям о жизни вселенной, того её уголка, где живём мы — русские. Между книгой и детьми, ещё не умеющими читать, стоит воспитатель. Он читает детям вслух сказки и рассказы или пересказывает им то, что сам узнал из книги.
Эта книга — в помощь воспитателю.
Знакомство с природой
«Знакомство детей с природой является одним из основных средств всестороннего развития ребёнка, — говорится в „Руководстве для воспитателя детского сада“. — Непременным условием, при котором знакомство детей с природой может быть поставлено на должную высоту, является наличие у самого воспитателя необходимых знаний и интереса к природе».
«Мне кажется, — замечает английский поэт, житель самого большого в Европе города, — мне кажется, что мы слишком много любуемся на природу и слишком мало живём с ней»[23].
«Конечно, — говорит один из великих певцов нашей русской природы, — не найдётся почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть к прекрасному местоположению, живописному далёкому виду, великолепному восходу или заходу солнца, к светлой месячной ночи; но это ещё не любовь к природе: это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света; это могут любить люди самые чёрствые, сухие, в которых никогда не зарождалось или совсем заглохло поэтическое чувство: зато их любовь этим и оканчивается. Приведите их в таинственную сень и прохладу дремучего леса, на равнину необозримой степи, покрытой тучною высокой травой; поставьте их в тихую жаркую летнюю ночь на берег реки, сверкающей в тишине ночного мрака, или на берег сонного озера, обросшего камышом; окружите их благовонием цветов и трав, прохладным дыханием вод и лесов, неумолкающими голосами ночных птиц и насекомых, всею жизнью творения: для них тут нет красоты природы, они не поймут ничего! Их любовь к природе внешняя, наглядная; они любят картинки, и то не надолго; смотря на них, они уже думают о своих пошлых делишках и спешат домой…»[24].
Воспитатель, в душе которого не зарождалось или совсем заглохло поэтическое чувство, не может удовлетворить естественной потребности ребёнка к знакомству с окружающей его природой, и живому общению с ней, и познанию её. Равным образом не могут удовлетворить ребёнка: практический работник в природе, если он способен видеть в земле одни только «полезные ископаемые», в вековом лесе — только дрова и брёвна, в тугопёром краснобровом тетереве — только жарево; учёный, способный воспринимать грозу только как разряд атмосферного электричества; поэт, в стихах своих поющий только о соловьях и розах, но в жизни своей не вырастивший ни одной розы и не видавший соловья; учитель — преподаватель естествознания, — для которого всякая малая птица — воробей, учитель, который ни разу не полюбопытствовал рассмотреть этого самого воробья у себя под окном, который «знает» природу только «в пределах своего курса», в пределах чисто книжных и раз навсегда решил, что природа вся уже описана в учебниках и больше в ней делать нечего.
Одним словом, ребёнка не может удовлетворить обыватель, равнодушный ко всему на свете, кроме удовлетворения своих животных нужд, и по-казённому относящийся к служебным обязанностям.
«Природа, — говорится в „Руководстве для воспитателя детского сада“, — своим разнообразием, красочностью, динамичностью привлекает внимание детей, доставляет им удовольствие, радость». Красота природы, богатство в ней форм, красок, звуков способствует художественному воспитанию ребёнка, развитию органов чувств, развитию творчества.
И нам кажется, что первая задача воспитания детей в природе состоит как раз в том, чтобы не убить в ребёнке эту радость — творческую радость, а, наоборот, упрочить её так, чтобы подрастающий человек сохранил её на всю жизнь.
Сделать это может только любящий природу воспитатель.
Ребёнок в природе
Убить радость ребёнка при непосредственном его, чувственном общении с природой легко насильственным навязыванием ему наших взрослых о ней представлений.
Мы — взрослые люди — живём умозрительной жизнью, отличной от жизни природы и во многом ей противопоставленной. Другое дело — ребёнок.
Бессознательной жизнью цветов и птиц и всех детёнышей млекопитающих живёт новорождённый человек — маленькое млекопитающее. Только через три месяца после своего появления на свет он начинает сознавать себя, узнавать свою мать и в лице её радоваться своей родственной связи с миром: свидетелем тому — его первая улыбка.
Потом — медленно, годами — человеческий детёныш научается всё больше отделять себя от окружающего и противопоставлять себя всему, что не есть человек.
Желание помочь ему в этом нередко приводит воспитателей к насилию над его чувствами и робкой ещё психикой. Неосторожно обрывается пуповина его кровной связи с матерью-природой, и тогда ребёнок истекает кровью: превращается в одного из тех «людей самых чёрствых, сухих, в которых никогда не зарождалось или совсем заглохло всякое поэтическое чувство».
В постепенном своем умственном развитии ребёнок вкратце повторяет историю развития человечества от первобытного человека — полуобезьяны — до современного. Он заново открывает для себя мир и понемногу утверждает своё высокое место в нём. Он — маленький покоритель диких зверей, маленький Галилей и Колумб.
А оставленный наедине с природой, он превращается в маленького Робинзона, — учится понимать природу, жить, различая в ней полезное для себя и вредное; учится работать в ней, засучив рукава, чтобы удовлетворять ею разнообразнейшие свои человеческие потребности.
И всё это — играя и радуясь.
В своё время он пойдёт в школу и получит там необходимые знания о человеке, земле и вселенной — знания, добытые человечеством в течение тысячелетий, приведённые к системе и изложенные языком науки.
А пока он играет. Он одушевляет неодушевлённое, наделяет растения и животных человеческим разумом и со всей природой говорит на языке сказок, как это делал дикий ещё человек. Он ещё не может смотреть на мир через очки науки, её микроскопы и телескопы.
Дело воспитателя — оберегать его от вредных предрассудков, суеверий, от опасностей слепых инстинктов.
Но этой отрицательной ролью далеко не исчерпываются задачи воспитателя в ознакомлении детей с природой. Положительная его задача в том, чтобы самому играть с детьми в природе, — играть в Галилеев, Колумбов, в Робинзонов — охотников, землеробов, покорителей диких зверей и так, в игре, передавать детям свои знания.
А играть с детьми искренне, без фальши играть может всякий взрослый, обладающий поэтическим чувством природы, живой любовью к ней.
Поэтическое чувство природы
— Природа становится вдвое прекраснее, чуя присутствие поэта, — говорит мировой сказочник Г.-Х. Андерсен.
Однако нет необходимости быть поэтом в высоком и полном значении этого слова, чтобы видеть красоту природы и радоваться ей. Одно то, что у поэтов мы находим свои собственные ощущения и впечатления, переживаем с поэтами изображённые ими переживания, — одно это непреложно доказывает, что мы сами обладаем поэтическим чувством.
Практический работник в природе — колхозник, рабочий изыскательной геологической партии, шахтёр, лесник, пастух, сторож на огороде, лесоруб, рыбак, охотник — сплошь и рядом в высшей степени и одарён этим чувством. Из чувств этих простых работников и слагается высокая народная поэзия. Глубокому учёному, всегда строго бесстрастному в своих наблюдениях, опытах и выводах, наука не мешает глубоко переживать красоту: великий Линней, давший миру научную систему всего животного и растительного мира, в восторге упал на колени, когда увидел обширные луга английского нагорья, золотые от цветов дрока. Учитель, сам страстно любящий природу, всегда легко увлекает своей любовью учеников, и они становятся исследователями, строителями, или поэтами — певцами природы, или скромными практическими работниками, — но не простыми исполнителями, а теми, кто вносит своё новое, творческое слово в общую сокровищницу культуры. Ибо — как гласит восточная поговорка — сердце следует за сердцем, и, только отдав сердце, можно овладеть сердцем.
Любовь к родной природе так же естественна в сердце ребёнка, как любовь к матери и отцу. Тут воспитателю не много дела: только найти общий с детьми язык. Язык этот — язык поэзии, язык сказки.
Поэт похож на ребёнка: он заново открывает для себя мир. Детскими наивными глазами смотрит на землю, на небо — и в его широко раскрытых глазах изумление. Он верит своим чувствам, как дитя, и не ищет другого объяснения миру, чем то, которое подсказывает ему любовь к этому миру. Мир для него — чудо, жизнь — сказка.
На воздушном океане Без руля и без ветрил Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил[25].Как далека эта поэтическая картина звёздной ночи от схемы мироздания, с которой мы знакомимся в школе!
В силу своей профессии — вновь и вновь открывать глаза людям на красоту жизни, открывать в ней всё новые и новые красоты — поэт бежит от общепринятых понятий, общепринятых взглядов. На земле для него нет проторенных дорог. И даже родная, знакомая с детства природа для него — тайга бездорожная, дикая, девственная.
Природа — тайга. Поэт, художник, учёный в ней — охотники.
И ходят они по тайге — каждый своим путиком.
Путики
Путик — слово таёжное, охотничье слово. Это — не наезженная дорога, не тропа, проложенная одним, а потом наторенная множеством прошедших по ней ног, так что, идя по ней, остаётся только смотреть, чтобы не сойти с неё.
Путик — это путь одного, и неповторимый путь.
В тайге дорог нет. Артель охотников заходит в тайгу рекой: летом — на лодках, зимой — на лыжах с нартами. Зайдя, охотники складывают в зимовье провиант свой и запас — и расходятся на промысел.
Каждый ставит свои самоловы, ловушки-поставушки в местах, им самим облюбованных: на звериных сбежках, на птичьих жировках. Потом обходит их своим, ему одному известным путиком: собирает добычу. Попутно выслеживает зверя, стреляет дичь.
Пристален и приметлив глаз охотника. Чтобы промыслить добычу, он должен всё видеть: ведь зверь и птица таятся от него, бегут, едва он приблизится.
Всё должен примечать охотник: лёгкую вмятинку звериного следа на мху, царапины медвежьих когтей на стволе дерева, ронь на снегу: сорванные убегавшей по ветвям куницей кусочки коры, лишайника, хвою. Должен различать впереди себя слишком яркую зелень окна, коварно затянувшую провал в трясине. Видеть маленькую тучку на краю неба: налетев, она засыплет снегом все следы на земле.
И всё должен слышать охотник: тонкую дудочку невидимого в листве рябчика, отдалённый рёв сохатого, в шуме бурного осеннего вечера так похожий на стон надломленного дерева; шёпот трав и хвои, сухой щёлк осинового листа, оборванного с черенком крепким глухариным клювом.
Тревожный треск дроздов, резкий щёкот сорок позволяют ему следить ход медведя в непроницаемой для глаз чаще.
Даже запахи должен примечать охотник: тяжёло-сладкий дурман болиголова предупреждает его о близком болоте, тонкий аромат медуниц — о луге, дух разлагающихся остатков мяса — о скрытом убежище опасного хищника.
И должен быть памятлив охотник: в тайге легко потеряться.
Всех деревьев в ней не запомнишь. Но вот вопрошающий глаз натолкнулся на зарубку: ссечена топором красная кора сосны. И как спичку чиркнули в темноте — осветилась тайга кругом: десять лет назад здесь, прикрывшись широким стволом двух сросшихся берёз, скрылся из глаз быстроногий олень. Унёс с собой горячую, торопливую пулю охотника. Там прошлую осень нежданно вспорхнул из чащи запоздалый вальдшнеп, озарил зелень листвы раскалённой рыжиной распахнувшегося надхвостья — комком упал, сражённый быстрым выстрелом без прицела, навскид.
Вон там — вдали — над ровной щетиной обросшей гору тайги чёрным пальцем торчит в небо обугленная молнией вершина ели. Удержал её в памяти — и будь спокоен: хоть кругом обойди гору — не заплутаешь, маяк этот виден отовсюду.
Тут — под обрывом — однажды свалил с плеч тяжёлую добычу и усталый, счастливый напился из студёного ключа. А тут не рассчитал: хотел прямиком, да запутался в непролазном чапыжнике, большого тогда пришлось «обложить медведя»!
Так из «ума холодных наблюдений и сердца горестных примет» слагаются нетореные путики охотника в тайге. Земля, мох, трава отдают его следы, зимой их заметает вьюга — и нет тропы.
Поди спроси его, как он находит верное направление в эдакой глуши. Он ответит:
— Да просто. Выйдешь на гарь, там лиственницу одну гляди: как есть леший сидит.
— А какой он из себя, леший-то?
— Да ведь известно какой: одна ноздря и спины нет. Позадь его куст будет. Беспременно тут козёл заревёт или козлиху с козлятами подымешь: завсегда они тут. Дальше релкой иди, — брусничник там, самые косачиные места. Иди да иди, пока по правую руку не окажет себя в лесу беркутиное гнездо — далеко его видать… Тут оглядись, на летний восток лицом повернись — и ступай себе прямо.
Запомнив все эти его приметы, никак, однако, верного пути не найдёшь.
Лиственниц на гари много, но ни одна как будто не похожа на сказочного лесного духа. И глядишь, глядишь, присматриваешься, пока с удивлением не поймаешь себя на том, что уже в каждом искривленном стволе чудится тебе леший — «одна ноздря и спины нет».
Можешь быть уверен, что куст, за которым ты поднимешь козлиху с козлятами, не тот, в котором им «завсегда» сидеть положено. И релок кругом много, и все они с брусничником, и беркутиное гнездо — чёрная куча хвороста на вершине высоченной, голой от веток сосны — тебе «окажет себя» не справа, а слева, и поди-ка реши точно, где был «летний восток», то есть где летом вставало солнце.
Нет, искать тут по чужим «художественным» приметам нельзя. Чтобы не заблудиться в тайге, надо самому все примечать и своими руководствоваться приметами. Охотник только заведёт тебя в тайгу описанием своего путика. А выбираться из неё придётся всякому по-своему.
Вначале это трудно. Человек, привыкший ходить по широким, хорошо проторенным дорогам, только как на картинки смотрит на лес по сторонам, на луга, речки, на небо; он не обращает внимания на звериные следы, не прислушивается к птичьим голосам. Мысль его без цели блуждает по красивому ландшафту, не сосредотачивается на подробностях его.
Но увлечённый с дороги в чащу, он вынужден примечать всё кругом — и взгляд его становится пристальным, слух напрягается, и человек начинает замечать вокруг себя много такого, чего прежде и не подозревал здесь.
Родной мир — давно знакомый и порой казавшийся даже скучным — представляется вдруг совсем иным: полным неизведанных тайн, неосознанного значения. И, как ребёнку, покажется сказочным.
Задача составителей этой книги
Не учебник, не руководство в помощь воспитателю пытаемся мы дать этой книгой: учебников, руководств по любым отраслям естествознания много в распоряжении воспитателя.
Мы, как охотники, хотим заманить читателя в бездорожную тайгу рассказами о виденных нами чудесах, описанием своих путиков. Заманить в самое сердце тайги — и вдруг покинуть там.
Кто пойдёт за нами, заблудится, заблудившись, начнёт присматриваться, и, присмотревшись, испытает великую детскую радость узнавания.
И легко найдёт дорогу домой.
Мы зовём читателя отвлечься от домашних забот — пусть ненадолго! — оторваться от книги, выйти в сад — детьми выйти, — а там, если позволит время, и в луга, и в лес, и на реку.
Зовём ненадолго забыть, что мы люди взрослые, опытные, окончившие курс; хорошо разбирающиеся в окружающем нас мире и знающие своё высокое место в нём.
Мы зовём играть.
Играть вместе с детьми.
Книга эта делится на две части: первая — для чтения воспитателей, вторая — для чтения вслух детям. Первая содержит статьи, очерки и рассказы, вторая — рассказы и сказки. Всё это — о том уголке вселенной, где живём мы — русские.
(1943)Слово о краеведении
На районной конференции учителей
Поговорим на языке, на котором не говорят попугаи.
О’ГенриПриветствую вас, т.т., на первой боровичской краеведческой конференции учителей, на первой, надеюсь, в бесконечном ряду дальнейших таких конференций.
Слово держу не как краевед, не как учёный, не как методист, не как учитель — как сочинитель, писатель, художник, поэт — называйте как хотите, — как жизнелюб, ваш собрат.
Учитель и сочинитель
Я назвался вашим «собратом». На самом деле, разве учитель и сочинитель (писатель) не одно дело делают? Они учат жить. Особенно близки в своей работе учитель средней школы и сочинитель, пишущий для детей: и тот и другой делают особо ответственное дело: детей учат жить, так сказать, «открывают им глаза на мир». И у обоих одна и та же задача: коммунистическое воспитание детей.
Так как же не друзья и братья?
К сожалению, далеко не так. К сожалению, часто, — ох, как часто! —
Друг другу мы тайно враждебны, Завистливы, глухи, чужды, — А как бы и жить и работать, Не зная извечной вражды![26]Конечно, «о присутствующих не говорят»… Но факты: этой весной коллективное требование группы учителей — Ленинградскому комитету по радиовещанию — прекратить передачу «Сказок бабушки Арины». Дети, мол, перенимают словечки из сказок, а нам, учителям, велено бороться за чистоту языка.
Это — учителя-чиновники, способные понять лишь букву закона, а не его дух — суть.
Явление чрезвычайно распространённое: война таких учителей с живым, полнокровным, ярким и выразительным народным языком, с художественным словом в литературе.
Посади такого учителя редактором, — он выправит всю «Войну и мир» так, что от Толстого ничего не останется, разве только… «расписание уроков». (Лев Толстой в письме к Тищенко: «Люблю неправильности языка, которые есть характерности».)
Война таких учителей со сказкой. (Мне ли не знать их нападок! Хотя пишу только «сказки-несказки» с самым реалистическим основанием.) В результате ребёнок обескрыливается; в нём убивают фантазию, мечту; из таких выходят управдомы — люди, не способные ни к какому творческому труду, рóботы.
Сами эти учителя говорят на ужасном дохлом языке: «оформить детей к празднику», «извиняюсь!» (себя!), «выявить истину» и т. д., а когда пишут учебники, изъясняются таким «русским» языком: «Глухари стреляются из ружей с собаками». Не земля, а «почва», не дожди, а «осадки». Они и в художественной литературе требуют «обыкновенного суконного языка, доступного среднему идиоту». На художественную литературу для детей у них чисто утилитарный взгляд, чисто утилитарные требования к писателю, поэту, художнику.
Говоря с детьми на своём выхолощенном, омертвеченном, штампованном языке, они скоро разбивают себе лоб об стену — убеждаются в простой истине, высказанной М. Горьким в его статье «О безответственных людях и о детской книге наших дней» («Правда», 1930 г.): «Говорить детям суконным языком проповеди, это значит вызывать в них скуку и внутреннее отталкивание от самой темы проповеди, — как это утверждается опытом семьи, школы и „детской“ литературы дореволюционного времени».
Тогда они обращаются за помощью к писателям, поэтам.
Их требования:
— Напишите увлекательно, как переходить улицу.
— Дайте такую книжку, чтобы дети не играли с собаками и кошками, так как от этих животных у детей заводятся глисты.
— Напишите книжку — только непременно в стихах! — о пользе… касторки.
Смешно?
Нет, — страшно.
Эти враги художественной литературы не способны понять, что нет искусства без поэзии, а поэзии нет без музыки — музыки человеческого сердца, без любви и мечты. Что писатель, поэт, художник, прежде всего, живой человек, набитый не отвлечёнными понятиями, взятыми напрокат из учебников, а музыкой своего сердца, соприкасающегося в поэзии с сердцем мира, — что
Мира восторг беспредельный Сердцу певучему дан, —что поэт родится с певучим сердцем и в этом подобен детям: так же широко открыты у него глаза на мир, так же бежит от всего скучного, абстрактного, мертвящего:
Ненавижу всяческую мертвечину, Обожаю всяческую жизнь! —так же разговаривает со всем в мире — с людьми, животными, растениями, землёй, камнями и звёздами — на общем их языке: языке поэзии, языке сказки, музыки, волн морских, и шелеста листьев, и птичьих песен.
Поэт — это, прежде всего, мироощущение.
И когда бежит он
На берега пустынных волн, В широкошумные дубравы, —тогда для него:
Длятся часы, мировое несущие, Ширятся звуки, движенье и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого нет[27].Тем страшным «педагогам-чиновникам», о которых я говорю, «никогда не понять, что тот, кто что-нибудь вносит в искусство, изменяет всё, чему учился!» (Эмиль Золя. «Художник»), что поэт, художник, «сочинитель» заново открывает мир, мир для себя и людей, «сочиняет» свой мир, — что он подобен новорождённому или влюблённому.
Поэзия (музыка души) сродни первой улыбке ребёнка.
«Когда ребёнок, — говорит Онорэ Бальзак „Евгения Гранде“, — впервые начинает видеть, он улыбается…» (Первая радость — радость узнавания: мы узнаём мир и себя в нем, узнаём свою мать, давшую нам жизнь и кормящую собою!) «Когда девушка подозревает непосредственное чувство (то есть когда она впервые полюбила), она улыбается, как улыбалась ребёнком». «Если свет — первая любовь в жизни, то любовь — не свет ли в сердце?» — спрашивает Бальзак.
Немыслимо искусство без поэзии, поэзия без музыки, музыка без света любви. А любовь превращает жизнь в чудо, — для поэта жизнь всегда чудо, и всегда полна неизведанных тайн, и всегда полна красоты, а «красота, мне кажется, всегда — обещание счастья» (Стендаль).
Вот вам и — «пишите стихи о касторке»… товарищи сочинители! А учитель! Разве он обязан думать о счастье, о красоте и свете, о свете красоты, о каких-то неизведанных тайнах, превращающих жизнь в чудо, — о любви, о музыке, о поэзии, об искусстве, — когда учит детей, что 2×2=4?
Не трудитесь сразу дать отрицательный ответ.
Рассмотрим.
Обязанность учителя — передать вступающим в жизнь (детям) то, что человечество за все века своего существования накопило в сокровищнице своего опыта и знания, — в той мере, которая положена государством для дошкольников (обязанность воспитателей), для младших школьников (обязанность «комплексников» — преподавателей в младших классах), для школьников средних и старших классов (обязанность «предметников» — учителей, преподающих уже специальные, выделенные из общей груды науки дисциплины).
А зачем он обязан делать это (и делать на совесть)? Это ведь только средство. А цель? Цель в том, о чём я упомянул в самом начале и что одинаково составляет задачу и учителя и сочинителя (то есть поэта): научить детей жить, открыть им глаза на мир, дать им коммунистическое воспитание. Научить понимать окружающее, вложить в их души стремление к лучшей жизни, дать им в руки инструменты современной науки и современного искусства, безостановочно стремящихся вперёд. Одним словом, цель и учителя и сочинителя — счастье детей, всего человечества, за ним — и своё собственное, ибо нет для человека большего счастья, чем вложить свою лепту — пусть хоть грошик! — в общую копилку культуры, где копятся веками и тысячелетиями сокровища постижения жизни. За эти сокровища человечество выкупит в конце концов своё счастье у Вселенной.
Цель высокая. И преступление подменять её — средством.
Отсюда — задача учителя не быть попугаем, твердя заученное по учебнику. Цель его не узкая — «вложить» под черепную коробку детей, разложить там по полочкам готовые, спрессованные в кирпичики текстики знаний, снабжённые этикетками и пронумерованные, а очень широкая цель — научить учиться. Научить учиться из книг. Уметь обращаться с книгой — дело большое. Но ещё большее дело — научить учиться из жизни. И научить учиться этому учитель может, только сам учась, — не только из книг, но обязательно непосредственно из жизни. Научиться «собирать факты, чтобы создать из них идеи» (Бюффон).
Вот такой учитель — не дохлый чиновник От-сих-до-сихов, не обыватель, ничем в жизни не интересующийся, кроме «печного горшка» да своей служебной карьеры, — а живой человек, всем на свете интересующийся, живущий с широко открытыми на мир глазами, наблюдающий и думающий, — такой живой учитель — собрат поэту (сочинителю) и художнику. Собрат он и учёному.
И конечно, все здесь присутствующие именно такие люди и учителя…
Но вы, верно, давно уже хотите прервать меня: «Всё это прекрасно, но какое это имеет отношение к краеведению, — к теме нашего собрания?» Самое прямое отношение. Это я и постараюсь доказать дальше.
О нищенствующих богачах
Что значит человек,
Когда его заветные желанья
Еда да сон?
Животное — и всё.
Наверно, тот, кто создал нас с понятьем
О будущем и прошлом, дивный дар
Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
В. Шекспир. «Гамлет». (Перевод Б. Пастернака.)Оставив в стороне бога, увидим, что в процессе эволюции человек вступил на высшую от животных ступень именно благодаря этому «дивному дару» — разуму, сознанию, самосознанию, — «понятию о прошлом и будущем».
Понять прошлое и будущее невозможно без понятия о настоящем. Пристальное внимание к настоящему — к окружающему миру, хотя бы в самых узких рамках — пусть даже в пределах одной деревни, городка, сада и леса, одного озера или речки, — пристальное внимание — вот первое качество краеведа.
Живой краевед начинается там, где кончаются сведения о крае, почерпнутые из книг, и начинаются личные наблюдения из местной жизни — и, конечно, их запись, — личное исследование местной жизни, «собирание фактов».
«Краеведение» в широком смысле есть, в сущности, «жизневедение» в неограниченном масштабе, начиная с местного быта. Понятие «краеведение» охватывает как изучение местной природы, так и изучение местного человека — то и другое в их настоящем, прошлом (история) и, по возможности, в будущем. Ведение подразумевает в себе не только приобретение знаний, но и передачу их людям (культура и письменность).
Каждый писатель, в какой бы «край» он ни приехал, сразу становится «краеведом». С первого же дня пресловутая «записная книжка писателя» начинает заполняться его личными наблюдениями над местным наречием, местной жизнью человека и природы. Писатель, поэт собирает факты на месте, художник делает этюды. То и другое (в какой-то мере) пригодится им потом, ибо всякое настоящее искусство растет из жизни, в основе своей опирается на жизненные факты. «Творя», всякий художник преломляет эти факты, как говорится, «сквозь призму своей души» и особым образом, в силу своего таланта, претворяет их в образы — тем более типичные, чем более его «художественный талант» — в реалистические, романтические, лирические, сказочные образы, в зависимости от характера своей «душевной призмы», своего «таланта».
Художник никогда не бывает простым протоколистом фактов в своих художественных произведениях: натурализм — не искусство.
Вот почему я упорно придерживаюсь, говоря о писателе, поэте, художнике, пушкинского слова «сочинитель»: художественное творчество есть сочинительство.
Это, однако, относится уже к обработке собранных фактов, столь различной у писателя-сочинителя и учёного, не имеющего права ничего сочинять.
Вообразить себе только поэта, художника, не изучающего «натуру», питающегося одной литературой!
Мыслим разве учитель, беспрестанно, изо дня в день не изучающий своих учеников (то есть «местное население»!), условия их быта, их язык, их характеры, способности, наружность? Не делающий этого ничему не может научить детей, и это входит в его обязанности. А делающий это тем самым собирает, накопляет для себя, для своей работы краеведческие факты. Ведь в каждом крае, в каждой области, в каждом районе, в каждом городе и в каждой деревне свои характерные особенности местного населения, его быта, зависящего от особенностей местной природы, человеческого труда в ней и т. д. У «предметников» обязателен ещё некий специальный интерес в области того предмета, той научной дисциплины, которую он преподаёт.
И к кому же обращаться, приехав на новое место, как не к местному учителю, сельскому учителю? (Прежде ещё попы хорошо знали деревню — благодаря институту исповеди и требам.)
И кто же лучшие краеведы, как не учителя? (Серебров на Урале, Серебряный и др. на Алтае, М. Терезкин в Якутии; ярославские учителя-краеведы.)
Правда, с горечью приходится констатировать, что многие наши учителя (опять-таки не говоря о присутствующих!) именно в этом отношении далеко не на высоте положения. Мне лично сколько раз приходилось констатировать, что преподаватели, например, зоологии совершенно не знают местной фауны, изумляются, услышав, что у них под носом живут два разных воробья (для них всякая мелкая птица воробей, а побольше — ворона), а преподаватели ботаники ничегошеньки не смыслят в местной флоре. До того, что поповник («любит — не любит») принимают за лекарственную ромашку, а дерево «верес» (можжевельник) путают с травой вереск.
Такие учителя, учителя-чиновники (обыватели), знающие свой предмет лишь «от сих до сих», «в пределах учебника», не видящие вокруг себя того самого, о чем учат детей по книжке, могут вызвать у детей только отвращение к тому предмету, который преподают, только калечат детей.
Это — нищие, нищие духом и сердцем. Они слепы, глухи, и очень жаль, что и не немы к тому же: их мертвый голос убивает в ребёнке всякую любознательность и желание учиться.
Странное дело: как часто приходится слышать от сельских учителей и учителей в малых провинциальных городах жалобы на скуку. Как часто спрашивают у меня: «Зачем вы приехали к нам сюда? У нас тут такая скука! Ни театра, ни кино; гармошки даже нет в нашей деревне. Леса да болота — зелёная скука! То ли дело у вас в Ленинграде, в Москве… Тут и заняться нечем».
Признаемся себе со всей откровенностью: «скука внутри нас», и только внутри нас: нет её нигде в мире вне нас, ни одно живое существо в естественных условиях своего существования никогда не испытывает скуки, кроме человека. Скука (так же как пошлость) — понятие чисто человеческое. А человек скучает только тогда, когда ничего вокруг себя не видит и не слышит «интересного», не знает, чем занять себя.
Скучно, ох как скучно быть слепым, быть глухим и совершенно ничего не понимать, что кругом тебя происходит. Ещё бы не скучать такому человеку — нищему!
А надо сказать, что мы (как правило!) совершенно не видим того, что примелькалось нашим глазам, совершенно не слышим того, к чему привыкли наши уши, — как бы вовсе перестаём ощущать то, к чему привыкло наше тело.
Примеры.
Сидишь за столом, работаешь, куришь — и нисколько не обращаешь внимания на то, какой вокруг тебя воздух. Войдёт «свежий» человек: «Как вы можете тут сидеть? Да тут топор можно повесить!» Визжат купальщицы, погружаясь в воду. А через две минуты — тепло в воде и уютно, тело привыкло, и уже воздух кажется холодным.
У Чехова человек, проходя мимо магазина, ежедневно читает вывеску: «Большой выбор сигов». Случайно раз остановил глаза, оказывается: «Большой выбор сигар». А ведь каждый день читал и не удивлялся бессмыслице написанного: магазин-то табачный!
Мы даже самих себя не видим (кроме как в зеркале): например, рук своих. Короче говоря, мы не видим, не слышим того, о чём не думаем.
А задумаемся, взглянув, увидим — и вот удивимся. Мы не умеем видеть. Нас учат (учитель, учебник) видеть. Тогда, смотря, мы видим те признаки предмета, на которые нам указали. И обычно, научась предмет видеть, мы разучиваемся на него смотреть.
Взять эту бумажку в руку. Ведь совсем не всё равно, как на неё смотреть: отодвинув на длину руки — буквы многие не различить, держать «в фокусе» или — у самого носа (прочти-ка что-нибудь!).
…И всякий предмет, всякий пейзаж, всякое животное и растение рассказывает, как бумажка, покрытая таинственными письменами, которые надо разобрать.
Дело художника (писателя, вообще искусства) — учить людей смотреть. Смотреть и рассматривать.
Дело учителя обычно в том, что он научает видеть, не научив смотреть. И очень скоро (от ежегодных повторений курса) он сам абсолютно разучается смотреть, а значит, и видеть что-либо, кроме «перечисленных признаков».
Разучаясь видеть мир, жизнь, как она есть, во всей её сложности, неожиданности и красоте, мы живём в царстве признаков, ограниченных признаков, — ограничиваем себя, человеческое в себе, — пытливость глаз ребёнка и художника (которым всё интересно, для которых вся жизнь — тайна, диво-дивное!), — заключаем себя в узкие рамки, запихиваем себя в футляр.
Стоит задуматься, почему, рисуя человека с окончательно усохшей душой — классический тип «человека в футляре», духовного нищего, — Чехов неизбежно должен был взять именно педагога, учителя.
И ещё: недостаточно знать предмет по учебнику, — например, природу. Тут даже определителя мало: по кой-каким признакам найдёшь название растения или животного. А ведь названия — особенно придуманные учеными названия (абстрактные!), не народные — это только вывеска, этикетка.
Этикеточное (очень неточное!) знание природы приводит к тому, что человек, хорошо знающий растение, животное по учебнику, не узнает его в натуре, в поле, в природе.
— Это турухтан. Нет, турухтан с пышным воротником.
А дело в том, что в учебнике был рисунок самцов в весеннем пере. Учёный не узнал молодого скворца. Удода со сложенным хохлом не узнают. В лучшем случае мы знаем окружающих нас животных, растения лишь по названию, по имени: «ворона». Умеем повесить ярлычок, этикетку.
Человек, не умеющий смотреть на мир широко открытыми глазами, — слепец, сидящий на груде богатств и даже не подозревающий о них, нищий богач, так как бесчисленные эти сокровища принадлежат ему, а он ими не умеет пользоваться.
Всем нам принадлежат неисчислимые богатства, а мы, слепцы, даже не подозреваем о них. Мы «скучаем», не видя их. Но стоит только открыть глаза, мы ахнем от удивления, прозревшими глазами съесть готовы будем все эти сокровища — уж какая тут «скука»!
Краеведение есть кладоискательство, только клады, конечно, часто материальные, так сказать, «духовные клады».
Среди вас живёт один человек — краевед, высоко чтимый и ценимый всеми учёными и просто людьми, интересующимися вашим Новгородским краем, Боровическим и соседними районами, городом Боровичи, — человек, всю свою жизнь посвятивший всестороннему изучению этого уголка огромной нашей Родины: организатор и директор боровического Краеведческого музея Сергей Николаевич Поршняков — «знатный краевед», которым может гордиться Новгородская область.
Спросите Сергея Николаевича, знает ли он, что такое «скука», встречал ли он в жизни своей этого лютого зверя? И он — голову даю на отсечение! — ответит, что этот зверь ни в Боровическом, ни в Мошенском, ни в Опоченском, да и вообще ни в одном из районов области не водится в натуре, так сказать, «в диком состоянии». Живёт только в домах — вроде постельного клопа, — да и то лишь в очень запущенных, похожих на клетку, на тюрьму домах.
Нельзя себе даже представить, что Сергей Николаевич может не знать, «куда себя деть», от него можно разве услышать жалобы только на то, что в сутках всего лишь 24 часа, в году 365 дней.
Обладая огромными богатствами знаний, Сергей Николаевич раздаёт их всем желающим направо и налево по первому требованию, а часто и без всяких требований — сам старается всунуть их людям малым и старым. И от этого становится только ещё богаче — прямо миллионером.
Сергею Николаевичу всё интересно, всё: каждая «мелочь» кругом, случайно оброненное вами деревенское словечко, камень под ногой, травинка, песчинка, соринка, — то, что для нас — слепых и глухих — кажется чепушинкой, недостойной внимания. Мимолётность!
Сергей Николаевич может сказать о себе словами поэта:
В каждой мимолётности Вижу я миры, Полные изменчивой, Радужной игры.Ведь это нам с вами только кажется, что у нас перед носом всё такое неинтересное, давно известное, а вот там где-то — в солнечной Бразилии, — там действительно…
А ведь мы с вами живём в волшебной стране — в Стране Див.
Страна див, страна неописанная
Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь, в Боровическом районе Новгородской области — СТРАНА ДИВ.
Могу смело утверждать это, потому что её здесь открыл для себя. А это именно такая страна, которую каждый сам должен открыть — и действительно открывает для себя каждый краевед.
У входа в Страну Див надпись:
Равнодушным вход воспрещён.
Исследователь не может быть равнодушен, иначе он никогда ничего не откроет.
Колумб страстно верил в свою «Индию», в реальное её существование. Золотом этого Эльдорадо он соблазнил Изабеллу Испанскую, и она дала ему корабли. Экипаж его кораблей не верил в неоткрытую «Индию» и, устав блуждать по океану, взбунтовался и повернул назад. Страстное желание доказать свою правоту заставило Колумба преодолеть все препятствия и открыть «Индию» — Америку.
Каждый учёный, каждый исследователь (в любой области знания) страстно любит своё дело и именно благодаря этой любви находит то, что ищет.
Краевед — прежде всего исследователь, маленький Колумб. Он влюблён в свой край, и это помогает ему понять многое, что недоступно пониманию равнодушных, и увидеть в своём краю Страну Див. Каждый страстный краевед, как и учёный-искатель, подобен поэту, который, как известно, тем и отличается от «простых смертных», что он всегда влюблён. Влюблённость-то и помогает ему видеть чудесное, видеть великие тайны и великую красоту там, где равнодушный ничего не видит — и скучает, и не знает, куда себя деть от скуки, как убить своё время. Влюблённость — потом переходящая в глубокую, постоянную любовь, — даёт любому, даже самому среднему человеку, возможность видеть в том, в чём равнодушный видит лишь обыденное, ординарное, скучное, — удивительное, неповторимое, прекрасное — и так в самом малом влюблённый видит великое.
Вот избушка-развалюшка. Что в ней интересного?
Но приходит художник — человек, влюблённый в свет и цвет, — и то, что видит в ней, переносит кистью на полотно. И мы, равнодушно проходившие сто раз мимо этой избушки, ахаем: до чего же она красива, оказывается, и как она задевает нашу душу, — грусти в ней сколько, и музыки души — поэзии!
Вот девчонка. Вся в веснушках, нос — курнос, «туловище» ниже колен и ноги как у воробья, глядеть не на что!
Но вот приходит влюблённый в неё, смотрит на неё и восхищается, и говорит ей, говорит всему миру о её красоте — стихами говорит, — вот неожиданность, вот колдовство: мы, равнодушные, тоже вдруг начинаем видеть её красоту — светом любви горящие глаза, золотой волной спадающие на плечи прекрасные волосы, и душу её женскую, полную неисчерпаемой доброты и любви, начинаем понимать и уж знаем, что будет, будет счастлив с ней всю жизнь влюблённый в неё!
Приходилось мне говорить с учёными. Ну что, на наш взгляд, хорошего в Каракумах: пустыня, песчаные холмы, раскалённая каменная пыль — смерть и смерть!
А с каким жаром, с какой любовью говорят о ней работавшие в ней учёные-исследователи: академик Е. Н. Павловский, зоолог Б. С. Виноградов и другие!
Оказывается, даже пустыня — не пустыня: в ней жизнь, да ещё какая своеобразная — невиданная, неслыханная.
Там и спящие среди лета тушканчики, суслики, которых не вырыть лопатой (пришлось побиться, чтобы разгадать эту их маленькую тайну), страшные живут на них клещи, приносящие смерть людям, варан — сухопутный крокодильчик, степной удав в локоть ростом — и чего-чего только нет!
Приходилось мне самому путешествовать по разным краям огромной нашей страны. Сколько везде интересного! Закавказье — сожжённая степь. И даже за Полярным кругом, в царстве леденящей кровь Снежной Королевы, до чего же всё интересно, неожиданно-прекрасно и полно нескончаемых загадок и тайн!
Нельзя забывать, почаще надо нам вспоминать, что мы, что весь земной шарик — лишь бесконечно малая песчинка в этой невообразимо огромной Вселенной. И почаще думать о том, как этот наш земной шарик молод — совсем ещё младенчик! — и как молоды, как несведущи ещё мы, люди, и как много ещё надо нам, всем дружно взявшись, открыть, сделать открытий на нашей полной загадок и тайн планете.
Наши современники будут казаться героическими личностями, которые сквозь дебри невежества, ошибок и предрассудков пробивали себе путь к познанию истины, к умению подчинить себе силы природы, к построению мира, достойного того, чтобы в нём могло жить человечество. Мы окутаны ещё слишком густым предрассветным туманом, чтобы могли даже смутно представить себе, каким явится этот мир для тех, кому суждено увидеть его в полном сиянии дня.
…И тут опять — у глубокого учёного, в сухой как будто бы математике и физике, у астрономов в словах не то же ли, что у поэта в стихе, приведённом мною в начале.
Длятся часы, мировое несущие, Ширятся звуки, движенье и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего. Жалкого нет.И как бы каждому из нас ни казались жалкими свои силы, мы, продумав все эти мысли, не можем освободить себя от ответственности, о которой говорит Джинс: изучая настоящее и прошлое, строить основание для грядущего, то есть делать, в пределах наших сил, всё новые и новые открытия, собирать факты и создавать из них идеи.
Если уж в раскаленной пустыне Каракумы и в ледяной пустыне нашего Заполярья можно делать интереснейшие открытия, то здесь у нас, в пределах Боровического района, их можно — и гораздо легче! — делать: ведь и людей тут гораздо больше, и природа тут гораздо богаче, обильнее разнообразной жизнью.
О себе скажу прямо: я влюблён в эту вашу природу, и край этот для меня — настоящая Страна Див. А она — эта Страна Див — ещё никем не описана!
Тут у вас на что ни обрати своё внимание — пристальное внимание и вдумчивое, — всё удивительно, ужасно интересно, а уж красоты тут… Такой красоты природа — родной, русской, с детства милой сердцу красоты, — что, право, иной раз забудешься где-нибудь на лесной лужайке, на озере, у тихо пробирающейся в кустах речушки, на узкой тропке в поле, где рожь выше твоей головы, — и чудится, что ты всё ещё маленький мальчик и живёшь в сказке, или ты впервые серьёзно влюблённый юноша — и весь мир твой, и для тебя поют птицы, и цветы цветут, и бабочки над ними порхают, и само солнце для тебя горит и для неё — твоей любимой.
И невольно расхохочешься, вспомнив, что есть люди, которым в этом прекрасном краю скучно, — те люди, которые серьёзно думают, что «нет больше тайн природы, а есть голые факты, узнаваемые из учебников».
Нет, факты совсем не голые: каждый окутан — как в иные дни озеро окутано густым, непроницаемым для глаз туманом.
И в душе просыпается страстный охотник за фактами — пристальный наблюдатель, жадный исследователь, своего рода Колумб в загадочной Стране Див, стране неописанной.
Таким охотником, таким маленьким Колумбом может быть всякий: только начать, а там так увлечёшься, что и не бросить…
Стоит только присмотреться к окружающему, задуматься над ним — и все вдруг окажется удивительным, загадочным, полным скрытого значения. И страстно захочется распутать непонятное, разведать неизвестное, понять тайное.
Мы живём в удивительную эпоху — в эпоху, когда человек начал перестраивать всю жизнь на Земле, — и как раз это начали делать русские, на своей пятой части Земли, — перестраивать свою социальную жизнь на основе справедливости, экономическую — на основе научных данных. Перед человечеством начинают открываться неслыханные перспективы.
Деловые предложения
Но — довольно лирики. Перехожу к деловым предложениям. Предложение у меня, в сущности, одно: давайте все вместе — все, здесь присутствующие, — напишем совместную книгу — краеведческую книгу о Боровическом районе и городе Боровичах.
Не пугайтесь! А то предложу вам написать две книги:
I. Дела и люди города Боровичи и Боровического края.
II. Природа Боровического края.
1. а) Биографии знатных людей (награждённых знаками отличия и ничем ещё не награждённых — вот вроде С. Н. Поршнякова), всех выдающихся людей — наших современников — города Боровичи и Боровического района, — людей, внесших в местную жизнь и в жизнь всей нашей Родины нечто действительно новое и доброе (на потребу и радость всем);
б) биографии героев Отечественной войны — фронта и тыла, — героев местного происхождения;
в) биографии знаменитых соотечественников местного происхождения (Суворов, Миклухо-Маклай) и всё, что сохранила о них память народа.
2. Местный труд: заводы, производства, угольные разработки, артельный труд, городское хозяйство, дорожное хозяйство. Школа. И ещё — все остальные отрасли труда, какие имеются в вашем крае.
3. Фольклор и искусства. Запись местного наречия, песен, сказок и других видов народного творчества, кустарные игрушки и прочее художественное производство.
4. История города и края.
Во вторую книгу войдут:
1. Достопримечательные уголки природы Боровического края. (Художественное описание их; маршруты познавательных экскурсий и прогулок).
2. Геология края (включая палеонтологию).
3. Флора края.
4. Фауна края.
5. Археология края (о людях, ставших природой).
В целом эти две книги — два альманаха — будут боровической краеведческой энциклопедией.
Больно широко задумано?
Иным и не может быть общий итог совместных трудов всех местных краеведов. А временем я не ограничиваю. Однако заранее можно сказать, что если вы все возьмётесь за дело с любовью и старанием, — таких альманахов будет не два, а много, даже они могут издаваться периодически, например, каждый год.
А нужно для этого вот что.
Каждый из присутствующих возьмёт на себя, — конечно, в добровольном порядке, нежелающих нам не надо, — собирать материал по одной или нескольким («могущий вместити да вместит»!) из указанных тем.
Я лично, куда ни приезжаю, записываю себе местную речь и веду дневник биологических (подробнее всего — орнитологических) наблюдений. Всегда имею при себе записную книжку, а вечером дома переношу записанное в ней в дневник — уже подробно (когда привыкнешь, на это уходит немного времени). Где случится, записываю и фольклор — частушки, песни, сказки, легенды и т. д.
При этом быстро развивается, так сказать, «спортивный» интерес к делу, сильно увлекаешься им, становишься страстным охотником за словами и фольклором: тренируются глаз, слух, все пять чувств в природе, и огромное испытываешь наслаждение, одну за другой раскрывая её тайны, созерцая красоту её.
Слова я записываю на отдельных маленьких бумажках, не забывая проставлять на них ударение, тут же приводишь объяснение слова и помечаешь, где и от кого слышал его.
Общий дневник биологических наблюдений веду в толстых тетрадях, а кроме того, каждый вновь встреченный вид заношу на отдельных листках. Получаются карточные каталоги, которые потом очень облегчают обработку материала.
Вот и вся несложная техника записи.
Выберите, что вам любо, и приучите себя кратко, но регулярно записывать свои наблюдения — всего и дела. Привлеките к этому своему делу школьников, организуйте у себя в школе краеведческие кружки. Очень быстро увлекутся ребята, с азартом начнут собирать для вас материал, соревнуясь друг с другом, — вам придётся только руководить ими и проверять их работу.
Через год у вас скопится целая пачка записей.
Тогда приезжайте на очередную краеведческую конференцию — вношу предложение, чтобы такие конференции созывались непременно ежегодно (пока не будет необходимости созывать их чаще!), — приезжайте на конференцию и хвастайте товарищам (в кратких докладах с мест) собранным вами материалом, как хвастает охотник добытой дичью.
Все собранные на местах материалы сдаются в краеведческий центр, — конечно, этим центром будет ваш Краеведческий музей, — где они сортируются и тщательно хранятся для дальнейшей обработки и напечатания. Себе, разумеется, надо оставлять все черновики своих записей: понадобятся для дальнейшей работы — да и приятно же!
Однако мое «Слово» перестало уже быть словом писателя, сочинителя, просто занеслось уже в техническую область краеведения.
Кончаю наконец.
Разрешите только «для закругления» напомнить вам мои основные положения:
1. Учитель, и сочинитель (то есть писатель, поэт, художник), и учёный делают одно общее дело — постижение мира, постижение жизни, если — уча людей (детей), — сами из жизни учатся и — по слову Маяковского —
ненавидят всяческую мертвечину, обожают всяческую жизнь.Худшие их враги — «человеки в футляре», люди ко всему, кроме «печного горшка» да своей маленькой карьерки, равнодушные, обыватели-чиновники. Страшен большому делу учения учитель-попугай, мертво долбящий в головы своих учеников мертво заученный им учебник.
2. Нищенствующие богачи — те люди, которые не умеют смотреть и слушать, проходя мимо загадок, которые на каждом шагу нам задает природа, жизнь, скучают, не зная, куда деть себя и своё время, когда кругом столько интересного, столько удивительного, что начни только изучать — и жизнь покажется коротка. И «краеведение» есть, в сущности, «жизневедение» — приобретение знаний из окружающей тебя жизни и передача их людям. Немыслим поэт, учёный, учитель, не изучающий окружающую его «натуру», другими словами — не краевед. «Скука внутри нас», и сами виноваты, если скучаем. Привыкнув видеть окружающее нас изо дня в день, мы перестаём его видеть. Но стоит взглянуть кругом пытливым взглядом — и увидишь клад, сокровища, которые обогатят твою душу.
Первое качество краеведа — пристальный взгляд и вдумчивый.
3. Страна Див, страна, не описанная ещё никем — Боровический край. Любовь к своим родным местам поможет увидеть всю красоту их, своеобразие и значительность. Земной шар наш молод, мы — люди — совсем ещё дети, нам надо познавать наш мир, чтобы построить прекрасное будущее человечества. Каждый из нас отвечает за это будущее, каждый может постигать жизнь, делать открытия в том краю, в сравнении с раскаленными и ледяными пустынями огромной нашей страны, — богатейший жизнью край и неисчерпаемый источник открытий для краеведа-любителя уже потому, что мало был посещаем учёными-специалистами. Здесь каждый может быть Колумбом и делать удивительные открытия. Край прекрасный, дивный край. Жалок тот, кто, живя здесь, работает на него только в чаянии наградных, равнодушный ко всему, делает свою карьерку. Познавший свой край, полюбит его, а полюбив, прославит его в стихах и песнях.
Вот что Маяковский говорит в своем «Послании пролетарским поэтам»:
Оставим распределение орденов и наградных, бросим, товарищи, наклеивать ярлычки. Не хочу похвастать мыслью новенькой, но, по-моему, — утверждаю без авторской спеси, коммуна — это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен.Мои конкретные предложения передаю в президиум и на ваше усмотрение.
Моё дело — дело сочинителя — научить летать, а ходить научат вас специалисты.
Об антропоморфизме
Итак: уместен ли антропоморфизм как литературный приём в природоведческих книжках?
Мне кажется, безусловно неуместен, определённо вреден. Но, прежде чем так решительно высказаться, необходимо хорошо вполне разобраться в понятиях «антропоморфизм», «художественная литература» и «природоведческая книжка».
Скажем так: «антропоморфизм» есть всякая попытка объяснения действий не людей (животных, растений, неодушевлённых предметов) так, как если бы это были люди со свойственным им одним на Земле сознанием и всей сложностью вытекающей из него психологии.
«Природоведческая книжка» есть книжка, знакомящая читателя с природой, её жизнью и (почти неизбежно) пытающаяся объяснить читателю эту жизнь, её закономерности. Природоведческая книжка может быть чисто деловой — научной, учебной, справочной и т. д. — и может быть художественной.
Ясно, как день: в деловой — научной или учебно-краеведческой книжке — антропоморфизма быть не должно. Здесь он «неправда» и только дезорганизует читателя.
Художественная литература есть, прежде всего, особый род искусства и в основе своей имеет поэзию — музыку — игру образов. Напоминаю давно признанную истину: так называемый «натурализм», то есть прямое копирование, протоколирование жизни, не искусство и не может быть признан за художественную литературу. Но в понятие «краеведческих» и «природоведческих» книжек часто включают художественные произведения, если читатель знакомится в них с природой. При этом совершенно упускают из вида, что цель, задача художественных произведений совсем не в том, чтобы дать читателю некий комплекс научных («объективных») знаний о тех или иных животных, растениях и т. д., а в том, чтобы дать образ, субъективное, чувственное восприятие этих животных, растений и т. д. В художественной литературе антропоморфический образ животного, растения, даже неодушевлённого предмета — чистейшая «правда», глубоко верное изображение действительности: «паровоз устало пыхтит» выражение немыслимое по своей неправде в науке, но совершенно правдивое в нашем чувственном восприятии подошедшего к станции паровоза. Умнейшие ботаники — современники Пушкина — были убеждены, что анчар отравляет воздух. Эта «научная» истина оказалась впоследствии ложью — знания людей, их объективные научные понятия меняются и существуют иногда очень недолго. А пушкинский Анчар бессмертен. Образ этого страшного дерева — пусть ошибочно принятого за столь ядовитое — до сих пор ужасен для нас.
В чудесном сердечном рассказе Пришвина о слишком рано весной проснувшемся лягушонке совсем не тот смысл — «глупый» лягушонок Пришвина — тёплый человеческий образ, «поэтический» образ, в котором соединяются все на свете «слишком ранние предтечи, слишком медленной весны». Хотите — пожалуйста, считайте, что этот лягушонок — всё наше с вами поколение, слишком рано появившееся на свет и гибнущее глупо от войны, инфарктов, туберкулеза, рака на заре коммунизма, в царстве которого не будет ни одного из этих бичей человечества. А если вам хочется знать, почему в тысяче случаев лягушата иногда гибнут весной, не дождавшись настоящего тепла, — закажите на эту тему М. З. (который думает, что он знает это) научную статью, а не художественный рассказ. В учёной статье или в учебнике слово «глупость» было бы, конечно, совершенно неуместно и неверно, но в поэзии оно — чистейшая правда: конечно, «глупенький» лягушонок «поверил» первым лучам неверного весеннего солнца.
Итак, в природоведческой книжке «антропоморфизм» недопустим, а рассказы художника, поэта о животных, растениях и вообще о природе лучше «природоведческой» книжкой не называть, так как природоведение — наука, а художественная литература — искусство.
Подходя к М. М. Пришвину с требованием не называть незадачливого лягушонка «глупым», вы оказываетесь в положении астронома, ужасно рассердившегося на Лермонтова, который написал:
На воздушном океане Без руля и без ветрил Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил.И вообще утверждал:
«звезда с звездою говорит».Астроном же утверждает, что это клевета на звёзды и астрономический абсурд!
Искусство — лишь игра в действительность. Татьяна Ларина — лишь привидение, образ, рождённый гениальной фантазией поэта.
22 июля 1951 г. Репино.Язык — оружие мышления.
Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как.
А. Н. ТолстойМысли кое-как
Последнее время в «Литературной газете», «Советской культуре», в «Новом мире», «Знамени», «Звезде» и других газетах и журналах всё чаще начали появляться горячие призывы к всенародной борьбе за культуру нашей устной речи и литературного языка. Язык, как и всякий живой организм, подвержен болезням. Требование оздоровить язык — лучший признак здоровья народа.
В революцию огромный поток словомыслей — прошу у читателя разрешения написать здесь понятие это в одно слово! — могучий поток словомыслей хлынул в стоячие воды веками гнившего быта, смыл его с лица земли и неиссякаемой струёй начал работать на наше строительство — строительство ещё невиданного в мире нового быта, новой жизни. Мы так привыкли считать, будто весь этот поток дружно работает на нас, что совсем забыли заглянуть, не несёт ли он с собой мусора и болезнетворных микробов.
Болезни языка бывают разные. Одна из них проявляется в неправильном употреблении и соединении слов. Люди, привыкшие к этим неправильностям, уже больны.
Но вот раздаётся отрезвляющий голос.
— Мысль, изуродованная нелепым словом, только мстит за себя, — предупреждает писатель Фёдор Гладков.
Не будем долго останавливаться здесь на этих «нелепых» словах: множество их уже приводилось в наших газетах и журналах разными авторами. Приведём только несколько примеров, не попавших ещё, кажется, в печать.
Особенно не везёт у нас словам, перекочевавшим из других языков. Частенько слышишь такие выражения, как: «идея фикс», «для проформы», «одинарный».
Какой смысл брать термин с французского языка «идэ фикс» и произносить его наполовину по-русски: «идея» (с древнегреческого — «идеа»), наполовину по-иностранному — «фикс», когда это же понятие можно выразить вполне грамотно и общедоступно двумя русскими словами: «навязчивая мысль»?
Явное недоразумение получилось у нас с выражением «для проформы». «Про форм» значит (по-латински) «для формы». У нас получается: «для для формы».
Ещё большее недоразумение со словом «одинарный». Оно пошло у нас от французского слова «ординер», что значит: обычный, рядовой, заурядный. «Вода поднялась выше ординара» — выше обычного, нормального, среднего уровня. «Поставить в ординаре» — нормальную, не повышенную ставку. «Ординарный профессор» — штатный, занимающий кафедру, не экстраординарный (сверхштатный). Очевидно, по некоторому (приблизительному!) сходству корня этого латинского (откуда оно во французском языке) слова с русским словом «один» и начали у нас, толком не усвоив, уродовать наше числительное: «одинарные рамы», «одинарный материал», приделав к нему невероятный в русском языке суффикс «ар». Никак ведь не выговоришь — «дварный», «триарный»… Впрочем, тут виноват и сам русский язык: в нём недостаёт ещё одного прилагательного от слова «один»: мы говорим: «двойные, тройные рамы», но сказать «одиночные» или «одинокие» рамы мы не можем: не тот получится смысл!
Вероятно, многих из наших читателей удивит, что и с таким общеупотребительным у нас словом, как слово «кушать», не всё обстоит благополучно. В нашем языке — изобилие глаголов, обозначающих процесс еды: завтракать, полдничать, обедать, ужинать, закусывать, харчиться, лопать, трескать, шамать, жрать и т. д. Но когда мы хотим быть изысканно вежливыми, мы употребляем слово «кушать»: «Дорогие гости, пожалуйте кушать!» Отсюда это слово перескочило и в обыденную речь: «Ты уже покушал?» — «Я покушал».
Подчеркиваем: даже о себе мы начинаем говорить: «я кушаю», «мы кушаем». И получается смешновато: больно пышно. Вроде как сказать: «Я изволил принять пищу». Почему бы тогда не говорить: «Я откушал», «Я выкушал рюмочку»?
У нас не великосветское общество. Да, по правде сказать, и в великосветском-то обществе это слово употребляли, главным образом, лакеи: «Кушать подано!». «Оне (о барыне) изволили откушать».
И к чему нам это нелепое, какое-то сюсюкающее слово — так и хочется, произнося его, сложить губы трубочкой: «кюшать», — когда имеется у нас хорошее, здоровое слово «есть».
Пусть животные «жрут», шпана «шамает», «трескает», «лопает», пшюты «кюшают»; мы будем просто есть.
Часто слышишь в последние годы — увы, даже в выступлениях писателей! — нелепый оборот: «Я хочу предложить о том, что…»
Таких нелепостей каждый, верно, сам замечал множество. Важно только, чтобы мы не пропускали их равнодушно мимо ушей, а тут же исправляли их у себя и у других. Ведь, по остроумному замечанию одного философа XIX века, «язык ничего не может выразить, кроме истины, и если проскальзывает ошибка, то она проникает, так сказать, в промежутки между словами и вследствие дурного их выбора и соединения».
В этой статье мы хотим обратить внимание, главным образом, на другую болезнь языка — болезнь эпидемическую, очень серьёзную и проистекающую тоже от недостаточного внимания к языку.
Недавно мы были свидетелями такого разговора между хозяином-охотником и его гостем — учёным-агрономом.
— Насмешу вас сейчас, — говорил хозяин, раскрывая напечатанную на машинке толстую рукопись. — Это диссертация по охотоведению на учёную степень кандидата наук. И вот полюбуйтесь: «язычок»! Вот — про охоту на диких кошек: «Дикие кошки стреляются из ружей с собаками».
Гость не улыбнулся.
— Ну и что? — спросил он.
— То есть как — «что»? — изумился хозяин. — Труд, претендующий на научность, — и вдруг такая несусветная чепуха: какие-то кошки, кончающие жизнь самоубийством при помощи ружей, заряжённых собаками! «Стреляются из ружей с собаками»!
— Да вовсе нет, — скучным голосом возразил агроном. — Просто тут объясняют читателю, что диких кошек промышляют ружейной охотой, а разыскивают их при помощи собак. Обыкновенный научный язык. Я уж привык к нему и сам учусь писать так. Вчера мой редактор сделал мне выговор. «Вы, — говорит, — плохо уважаете своего читателя. Что это у вас за вульгарные выражения: „глубокий снег“, „мокрая земля“? Наши колхозники давно привыкли к грамотной агрономической терминологии, они просто не поймут вас. В научном труде вы обязаны писать: „глубокий снежный покров“, „избыточно увлажнённая почва“.
— Чёрт знает что! — вспылил охотник. — Эти ваши учёные редакторы воистину „словечка в простоте не скажут“! Заставляют писать на каком-то „обыкновенном суконном языке, рассчитанном на среднего идиота“, но совершенно недоступном нормальному человеку! „Глубокий покров“! „Избыточно увлажнённый“! Какие-то пережитки классового строя, когда учёные-теурги нарочно, наверно, старались писать так, чтобы не понять было „непосвящённым“, то есть простым людям. Нет, знаете, — горячился охотник. — Я это нарочно выяснил, я вам докажу! Вот извольте… — говорил он, доставая из шкафа два толстых тома с заложенными в них бумажками. — Вот извольте: „Основы охотоведения“, составленные Д. К. Соловьевым. Часть третья, страница пятьсот шестьдесят вторая. Читаем: „Дикие кошки стреляются из ружей с собаками“. Слово в слово!
— А издание?
— Издание: РСФСР, Народный комиссариат земледелия. Издательство „Новая деревня“, тысяча девятьсот двадцать пятый год.
— Ну, по-моему и вышло. Никакие не „пережитки“, а просто друг у друга „слизывают“. И кандидата получит — вот увидите.
— Нет, нет, стойте! Нырнём в прошлый век, в те далёкие времена, когда о советской культуре ещё и понятия не было. Вот: учёный-лесовод А. А. Силантьев. Санкт-Петербург, тысяча восемьсот девяносто восьмой год. „Обзор промысловых охот в России“, страница триста шестьдесят первая. Читаем: „Дикия кошки стреляются (через букву „ять“) из ружья с собаками“. Тютелька в тютельку! Теперь вы убедились, что этот дурацкий язык действительно „пережиток проклятого прошлого“?
— Гм! Действительно, — удивился гость. — Пережитки… А вот что наши молодые учёные на тридцать восьмом году революции до сих пор списывают с чужих трудов, подобно попугаям, даже не вникая в смысл переписанного, вот это уже не „пережитки“, а, как хотите, „типичные недожитки“! С такими пожитками нас в коммунизм не пустят!
— М-да! — сказал хозяин и согласился с гостем.
Согласимся и мы с ним.
Удивительно, как часто слова скользят по поверхности нашего сознания… ну так и хочется закончить эту фразу трафаретно: „…не оставляя на нём никаких следов“. Раз „скользят“ — значит, бесследно.
Но это была бы для нас ложь, самая вредная для нас ложь: успокоительная.
Нет, далеко не бесследно скользят по нашим мозгам слова, не проникающие в сознание!
Илья Эренбург в статье „О работе писателя“[28] говорит:
„Трудно себе представить не только поэта, но и прозаика, безразличного к слову“.
Трудно, конечно.
Но — включим радио.
Передают концерт. Диктор объявляет: „Вьётся вдаль тропа лесная…“ Слова поэта такого-то, музыка композитора… в исполнении…»
Все слова такие привычные, имена знакомые. А что-то царапнуло сознание.
Позвольте, как же так, действительно? «Вьётся вдаль тропа лесная…» Вьётся — ну, это ещё куда ни шло! Но ведь тут в какую-то даль лесная тропа вьётся! Поэт создает зрительный образ, а мы решительно ничего перед собой не видим: ведь коли в лесу вьётся тропа, то она исчезает у нас из глаз при первом же витке-повороте!
Поэт создаёт образ, композитор перекладывает этот словесный образ в музыкальный, певец голосом доводит до нас этот словесно-музыкальный образ. Ну, а если поэт безразличен к слову, обращается с ним кое-как и вместо образа у него пустышка, — тогда что делать композитору и певцу?
Уму непостижимо — как, но композитор всё-таки «создаёт», хоть и на пустом месте, какую-то музыку, а певец «с чувством» эту музыку исполняет.
Не задумался над содержанием песни и редактор. С его благословения эта песня не только внесена в программу радиопередач, услаждающих наш слух, но и записана на патефонные пластинки, то есть утверждена в гражданстве «в мире застывших звуков».
Не стоило бы нам здесь так много говорить о песне «Вьётся вдаль тропа лесная» — сколько угодно есть песен и хуже её, — если б подобные «художественные произведения» в стихах и прозе, в музыке, живописи — во всём искусстве не стали бы у нас явлением типическим и вполне удовлетворяющим иного бездумного потребителя. Безразличное отношение к слову (вообще — к материалу своего искусства) неизбежно порождает небрежность, неряшливость и с ними — неискренность, фальшь — прямую гибель всякого искусства.
Слишком много уж бессмысленных словечек и оборотов речи, штампованных фраз, готовых выражений чувств хлынуло в нашу речь и литературу. Вот и раздались призывы к всенародной борьбе против такой полировки мозгов, за оздоровление речи. И может быть, в первую голову следует начать эту борьбу с уничтожения «мелкой разменной монеты» стёртого словесного обихода. Вроде:
«Наше Вам! (При здоровании.) Пока! Всего! До скорого! (При прощании.) Смыться (уйти). Точно! (С военного „так точно“.) Обратно (вместо „опять“, „снова“, „повторно“). Вообще („Вообще я согласен“, „Вообще-то можно бы…“ и т. д.). Как таковой (а как „нетаковой“?) Я лично. (Я — личное местоимение. Зачем же прибавлять к нему ещё „лично“? Для важности?) Какое моё дело? Как и не мы. Мирово! Дать жизни!» и т. д. и т. п.
Пожалуй, стоило бы постараться сдать в архив и такие устаревшие обороты речи, как божба и чертыханье. Наши прадедушки и прабабушки искренне верили в богов и чертей, поэтому и выражали свои взволнованные чувства с их помощью. Когда же мы теперь произносим: «О, господи!», «Ах, боже мой!», «Ей-богу» или «Чёрт возьми!», «Чёрта с два!», «К дьяволу!» — мы решительно не представляем себе этих персонажей из «Священного писания» и только зря сотрясаем воздух. Наша божба и чертыханье наше — поистине «ни богу свечка, ни чёрту кочерга».
А как бы интересно найти совершенно новые, свежие, соответствующие современной психологии выражения наших сильно взбудораженных чувств! Только, конечно, не так, как это делают у нас частенько люди, не брезгающие площадной речью и блатным словарём. Задача — найти слова, точно передающие всю сложную гамму наших просящихся наружу переживаний. Что-то уж очень беден на этот счёт словарь нашей молодежи. Если человек что-нибудь принял близко к сердцу, говорят про него: «Он (или она) переживает», а если человек бурно проявил себя, то: «Он запсиховал» или кратко: «Психанул!».
К молодёжи мы обращаем этот наш призыв — бороться с болезнями нашего могучего и прекрасного языка. А лечение тут одно: внимательное, критическое отношение к слову. И смех.
По-хорошему, без обиды, посмеяться над пустым и нелепым словом у себя ли, у других ли в тексте, в устной речи. Подчеркнуть его нелепость или пустоту. Для этого обычно бывает достаточно слегка лишь изменить набившее оскомину слово или употребить его в неожиданном сочетании с другими словами. И помнить при этом, что живой язык состоит вовсе не из каких-то раз навсегда узаконенных мёртвых слов и подчинённых незыблемым законам и сочетаниям этих слов. Крепко помнить, что не язык существует для правил, а правила для общедоступности, увеличения доходчивости и выразительности языка. В основе всякого искусства — игра, и художественная, наиболее выразительная речь подчас ломает, играя, для своих целей все строгие правила, установленные языковедами.
Решительно мы не можем согласиться с Фёдором Гладковым в оценке замечательного словесного мастера Лескова. В статье «Культура речи» Гладков пишет:
«Горький указывал на язык Лескова как на образцовый и советовал учиться у этого писателя, как надо писать, но он не указывал на многочисленные искажения русского языка в его (Лескова. — В. Б.) произведениях. Лесков, на мой взгляд, чрезвычайно грешил против литературного языка. Его словесные выверты, кривлянье, нелепые выдумки были просто неприлично уродливы»[29].
Позволим себе усомниться в том, что Горький умалчивал о таких лесковских словах, как полные юмора и народного духа «мимоноски», «долбица умножения», «пришпандорки», «толпучка», «мелкоскоп».
Сдается нам, что Горький радовался этим забавным словечкам и в какой-то мере из-за них как раз и советовал нам учиться родному языку у Лескова.
Советуем и мы нашим читателям учиться обращению с языком, «игре со словами» у таких писателей, как Лесков, Чехов, чтобы развивать своё чутьё русского языка.
В мире слов
Под таким названием недавно вышла в свет очень интересная книжка профессора Ленинградского университета Бориса Васильевича Казанского[30]. Как раз когда я читал её, ко мне пришёл корреспондент «Пионерской правды» и, положив на стол листок исписанной бумаги, сказал взволнованно:
— Вот смотрите!
Я посмотрел и тоже взволновался. Отложил всю спешную работу — и вот пишу статью для вас, друзья мои, школьники.
«Слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете», — пишет Б. В. Казанский. И он прав.
«Разве не удивительно, что комбинация маленьких шумов имеет смысл, понятный миллионам людей? Вот вы слегка шевелите губами, языком, нижней челюстью, чуть напрягаете гортань — и окружающие понимают ваши желания, чувства, мысли…» «Попробуйте представить себе, что осталось бы вокруг нас, если бы не было речи? Не было бы общения между людьми, то есть не было бы общества, не было бы мысли, не было бы культуры, не было бы человека!»
«Слово может ранить больнее, чем нож, — говорит дальше Казанский, — отравить смертельнее, чем яд. Оно может потрясти массы людей, пробудить к действию целые народы. Тысячи пушек, взрывы сотен тонн динамита, усилия миллионов рук не могут сравняться с силой слова. Разве это не удивительно? Откуда эта всесильная, почти волшебная власть?»
«В самом деле, откуда?» — спросим и мы.
Подумав, ответим уверенно: чудодейственное могущество слова таится в культуре языка — смысловой и звуковой. В суровом отборе и точном подборе слова, в образности языка, в красоте его звучания, в свежести и яркости выражаемых мыслей и чувств.
Алексей Николаевич Толстой сказал: «Язык есть орудие мышления. Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как».
Попросту говоря, будешь внимательно относиться к словам, следить за своей речью, работать над словами — станешь человеком; не будешь — только засоришь свои мозги.
А теперь, что же было записано на бумажке корреспондента «Пионерской правды»?
Оказывается, там были записаны кое-какие…
Сценки на переменке
Звонок. Распахиваются двери, ребята пятых и шестых классов высыпают в коридор.
Из одной кучки доносится:
— Шамать хочется так… прямо гроб с музыкой!
Но упитанный мальчик, жующий большой бутерброд, локтем отталкивает товарища:
— Изыди, плебей!
В другой куче шестиклассник расспрашивает пятиклассников:
— Ну, как классная сошла?
— Классно! Люкс! На все пять! Мирово! А на Горку фискал Пырька училке накапал, что катает с отличника. Она его и накрыла.
— Свистишь?
— Ей-бо! Наши такой хай подняли — блеск!
В третьей кучке трое головами друг к другу склонились: о чём-то горячо шепчутся. И вдруг один громче:
— Атас! Кишка ползёт! Пока! Покеда! Наше вам с кисточкой! — И разошлись.
Мусор, пена
Ну как тут не взволноваться, если наши ребята изъясняются между собой на таком, с позволения сказать, «язычке»? Откуда они нахватались таких словечек?
Какая-то часть их — из воровского жаргона. Ворам надо, чтобы окружающие не понимали, о чём они говорят. Поэтому они берут разные уродливые словечки и придают им, если они на каком-то языке что-то значат, другой смысл. Таким образом, жаргон служит не объединению, как все языки, а разъединению людей.
Мне неизвестно, с какого языка взято и что по-настоящему значит предупреждающее об «опасности» — атас! Но вот ей-бо! образовалось на моих глазах из слов «ей-богу!» Прежде это была божба, клятва именем бога, что говорящий не лжет. Теперь это словечко решительно ничего не значит и убедить в правдивости сказанного никого не может. Так просто, шум, бесполезное сотрясение воздуха.
Смысла нет объяснять здесь значение других приведённых слов: большинство из вас их как-то понимает. Я бы сам обратился к вам с вопросом: откуда у вас взялось такое словечко, как «плебей»? И что оно, по-вашему, значит? Прежде на языке богатых и «родовитых» людей слово это имело презрительный, даже ругательный оттенок и обозначало оно — «человек из народа» (от латинского слова «плебс» — «народ»). Какое же значение придаёте ему вы, советские школьники, сами вышедшие из народа?
Народный язык наш я бы сравнил с могучим потоком. Как Волга-матушка, течёт он через всю нашу Родину. Он всем необходим, всеми любим. Он чист на глубине, и ничем его не замутишь. А по краям, на мелких местах, несёт мусор, выплёскивает на берег вместе с грязной пеной всякую дрянь. Вот вроде всех этих словечек воровского жаргона и слов, давно потерявших всякий смысл, как «ей-бо».
Стоит начать думать о словах, о языке, как весь этот мусор сам собой исчезнет из вашей речи: вам просто станет стыдно их произносить, а тем более — писать. Я в этом уверен.
Гораздо страшнее, сдаётся мне, другое.
Продолжим сравнение народного языка с потоком и увидим, что на берегах рек вместе с мусором и пеной скапливается обкатанная водой, обточенная со всех сторон в плоские кругляши…
Галька
Мальчишки подбирают её и пекут блинчики: с силой пускают по поверхности воды так, чтобы, скользя и отскакивая, эти плоские камешки сделали на ней побольше исчезающих кругов.
Занятие это лёгкое, общедоступное, не требующее особого умственного напряжения. «Бросая в воду камешки, — изрёк пресловутый глубокомыслец, Козьма Прутков, — смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою». Словесные блинчики даже к «пустой забаве» причислены быть не могут, поскольку образуемые ими «круги» на поверхности нашего сознания чрезвычайно недолговечны.
Я говорю о пресных, давно утративших свою соль, избитых, как бы штампованных выражениях и словах. Родится такое словечко — хорошее словцо! — к месту и ко времени, ну и пошло, и пошло из уст в уста, обкатываясь и обтачиваясь, как галька, на пути растеряло весь свой смысл, остроту свою, глядишь — и стало пошлостью. Сколько таких словечек:
«Пока!», «Наше вам!», «В основном!», «Закругляйся!» И целых фраз: «Давайте не будем!», «Ничего подобного!», «По чести говоря», «Вот в таком разрезе», «На все сто», «Как из пушки», «Держи пять», «Как штык».
Штампованные эти выражения совсем не «пустая забава»: они очень вредны. Часто у школьников целые доклады состоят сплошь из таких штампованных словес, перенятых у взрослых. Ни одной своей мысли, ни одного живого слова — всё галька, галька!
Недавно я был свидетелем разговора учителя с учеником:
Учитель (возвращая ученику тетрадку с домашним сочинением). Ты пишешь: «В смешанных лесах обычно всегда живёт много разных птиц и животных». Это примерно всё равно, что сказать: «Здесь изредка никогда не живут мальчики и люди». Если «обычно», то есть «очень часто», «сплошь и рядом», — значит, не всегда. И разве ты не знаешь, что птицы такие же животные, как звери? Или ты думаешь, что они принадлежат не к царству животных, а к царству растений или минералов?
Восьмиклассник (передернув плечами). Ничего я не думаю. Просто так написал. Взрослые на каждом шагу говорят: «Обычно всегда» и «Птицы и животные». Хотите, покажу? Им можно…
Учитель. И им нельзя. Ты взрослых слушайся, а пример бери с них, подумав. Взрослые часто говорят и пишут по привычке. А сочинения вам задают как раз, чтобы вы не писали «просто так», а хорошенько подумав. Ставлю тебе двойку с минусом за «обычно всегда» и за «птицы и животные».
В самом деле, стандартный, штампованный, стёртый язык вызывает скуку, а «скука, — говорится в „Толковом словаре“ Вл. Даля, — тягостное чувство, от косного, праздного, недеятельного состояния души, томленье бездействия».
Найдешь свежие, яркие слова — от скуки и помину не останется.
Переводчики с бессловесного
Растения и животные, леса, и горы, и моря, ветра, дожди, зори — весь мир вокруг нас говорит с нами всеми голосами. Но мы ему не внемлем.
Только малые дети разговаривают с ним на своём языке — и непонятный лепет их сам звучит для нас как журчанье ручья, шелест леса, перекличка птиц. Детьми мы долго учимся языку взрослых. А когда наконец научаемся выражать свои мысли словами, уже не можем рассказать, о чём мы беседовали с цветами, птицами, облаками: забыли.
Так со всеми, кто не сохранил в душе ребёнка. Язык стихий, язык всего бессловесного мира чужд им: они не понимают да и не хотят понимать его.
Но много среди нас людей, и взрослыми не утративших связи со своим детством. Жадно внимают они голосам леса и моря, шуму ветра и пенью птиц, но не умеют рассказать об этих ощущениях другим людям.
И есть среди нас редкие люди: широко раскрытыми глазами ребёнка смотрят они на мир, чутко внимают всем его голосам — и всё, что он рассказывает им о себе, переводят для нас на наш, человеческий язык. И мы — люди, не утратившие любви к бессловесному миру, — радуемся их рассказам, и всё равно — в стихах они или в прозе, сказка это или строго правдивая повесть. Эти люди — поэты.
В своих сказках и рассказах они золотым ключом — волшебным ключом любви — открывают нам тайную сокровищницу земли-матери и солнца-отца — отца и матери всей и всяческой жизни. А в той сокровищнице полно неведомых нам красот и чудес.
В каждом поколении у каждого народа родятся поэты — люди, так же хорошо понимающие бессловесный язык стихий, как и немой язык человеческой души. И каждый из них может обратиться ко всем людям стихами поэтов уже минувших поколений:
Вы, кто любите природу — Сумрак леса, шёпот листьев, В блеске солнечном долины, Бурный ливень и метели, И стремительные реки В неприступных дебрях бора, И в горах раскаты грома, — Вам принёс я эти песни, Эти сказки и рассказы!Здесь мы хотим обратить внимание читателя на нескольких поэтов нашего поколения — переводчиков с разных языков великого бессловесного мира на наш, русский язык — и с ним на язык всего человечества, — язык любви к полной красоты и чудес нашей вселенной.
Нина Михайловна Павлова
Мы раскрываем книжку — вдруг цветы заговорили с ветерком, с насекомыми, а дождевой червяк спел песенку.
И самое удивительное в этих удивительных рассказах, что мы с вами нисколько этому не удивились. Будто мы давно понимаем язык растений, маленьких животных — и сами умеем говорить на их языке.
Почему так?
Потому, нам кажется, что в рассказах Нины Михайловны всё — самая настоящая правда.
Очень правдиво рассказано, как живут цветы, кусты, деревья, как они ссорятся между собой и помогают друг другу; как червячок на ножках превращается в прекрасное крылатое существо. Очень точно рассказано о маленьких и больших чудесах в окружающем нас чудесном мире.
Потому эти рассказы так просто и естественно превращаются в правдивые сказки, где всё живо — и всё живое разговаривает с нами на человеческом языке.
Нина Михайловна — большой учёный, доктор биологических наук, ботаник. Но мало того: наша Нина Михайловна ещё и поэт. А поэты — уж это всем известно! — понимают все языки бессловесного мира и служат переводчиками с них на наш, человеческий, язык.
Николай Иванович Сладков
Сладков рассказывал, что как-то в Азербайджане купил по случаю партию патефонных пластинок, говорили — иранских. Дома — а жил он в то лето в сакле среди деревни — стал проигрывать их на патефоне. Сперва шли всё какие-то американские фокстротики. Потом вдруг попалась пластинка с надписью на совершенно незнакомом языке. Поставил. Раздалась дикая музыка: кто-то извлекал из дудки ритмические, но ушераздирающие звуки.
Не успел Сладков дослушать пластинку до конца, как его внимание привлекли колеблющиеся тени на земляном полу сакли. Оглянулся — на пороге, воротником раздув шеи, стоят на хвостах две великолепные очковые змеи и раскачиваются в такт музыке.
До того Сладков и понятия не имел, что в тех местах водятся очковые змеи. Потом оказалось — пластинка индийская: «заклинатель змей».
Этот случай может послужить прообразом ко всему творчеству Сладкова: он нашёл дудку, играя на которой, в давно знакомых и больше уж не интересующих нас местах извлекает на свет неведомые нам существа.
Сын коренного питерского рабочего Николай Иванович Сладков родился на окраине Ленинграда. Отсюда синей зубчатой стеной виднелся далёкий лес. Мальчику он казался забором, отделяющим знакомую улицу от остального мира, полного неизведанных чудес.
При ближайшем знакомстве лес оказался зелёным, разноцветным, населённым всякой удивительной живностью. В нем было здорово интересно, особенно весной, когда в зелени мелькали и пели птицы.
А синяя зубчатая стена просто отодвинулась немного дальше — за неширокую гладь Финского залива, на другой его берег. И стало ясно, что сколько ни приближайся к этому забору — в синем лесу всегда будут таиться всамделишные чудеса. «Мир стал таинственней и шире».
Увлечение самыми романтическими жителями леса — птицами — привело Сладкова-школьника в кружок юных натуралистов при Зоологическом музее Академии наук. Здесь он получил начальные знания орнитолога и навыки натуралиста — исследователя родного края.
Уже в эти ранние годы он почувствовал непреодолимое желание делиться своими лесными радостными открытиями с товарищами — и начал писать рассказы.
Финская война, передний край войны Отечественной, превращение в военного топографа, постоянные переброски с места на место — всё это беспокойное, жестокое время не способствовало, конечно, развитию литературного мастерства Сладкова.
Наконец война кончилась — и страна перешла к мирному строительству. Сладков «осел» на Кавказе — и в несколько лет стал подлинным мастером короткого рассказа. Помогли ему в этом три обстоятельства: хоть краткая, но регулярная оседлость, счастливый брак и рождение сына.
Пребывание по нескольку месяцев в одном месте давало молодому писателю возможность урывать от служебных обязанностей время для обработки кусочков его богатых дневниковых записей (плод твёрдо укоренившейся юннатской привычки). Заботливая жена обеспечивала спокойную работу в эти редкие часы. А маленький друг-сын помог ему снова взглянуть на мир широко раскрытыми, восторженными глазами ребёнка.
Все мы в детстве — маленькие романтики, весёлые первооткрыватели родной земли. Сколько каждый из нас видел и пережил всего чудесного в детстве! Да вот, на свою беду, мы прочно забываем, повзрослев, эти счастливые времена. А если, бывает, и вспомним случайно, то решаем, даже не улыбнувшись: «Мальчишество! Глупые сказки».
Так ли? Почему-то люди с сердцем поэта остаются верны своему детству — продолжают открывать свой мир, всю жизнь поражаются и восхищаются им.
Сладков принадлежит и к тем не забывшим детство людям, о которых так хорошо сказал Блок:
Как мало в этой жизни надо. Нам, детям — и тебе и мне. Ведь сердце радоваться радо И самой малой новизне. Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран, — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман.Сладков — необычайно зоркий, терпеливый, дотошный наблюдатель. Пытливыми глазами любящего чётко подмечает он то, что неизбежно ускользнёт от мёртвого взгляда человека, убеждённого, что всё в жизни известно и понятно. Сладкову одной пылинки или росинки достаточно, чтобы сделать за душу хватающее открытие… «И вот у самого моего сапога блеснуло что-то влажное. Росинка? Нет, — глаз! И сейчас же из-под самой ноги выпорхнул жаворонок». «…И тут открылись мне маленькие птичьи хитрости и великая птичья любовь». («В колее»). Слепая мать, чтобы спасти своих детей, бежит — на слух — прямо в руки своему врагу, — и это всего лишь птица. («Тетёрка». Сборник «Серебряный хвост»).
Движущая сила творчества Сладкова в его неутолимой страсти познавания, в жажде открытий, в любви к родной земле и всему живущему на ней. Бесстрашный разведчик, он, задыхаясь, рискуя сорваться в пропасть, взберётся на голую вершину Лысой горы и увидит там таинственный шабаш чудовищ («Ночь на Кара-Даге»). Любопытный — станет на колени и заглянет в снежную норку крошечной ласки, чтобы изумиться, как там всё красиво, какое там все лазоревое и золотое! («Серебряный хвост».) Терпеливый — не побоится отдать себя на съедение комарам в лесу и шаг за шагом распутает сложную связь маленьких толчков жизни от серой змейки, вспугнувшей зелёную ящерицу, до неожиданного появления из дупла рогатого чёртика — совки-сплюшки («Лесные тайнички»). Но и покажет, как добродушный щенок превращается в лютого волка, наглядевшись в холодные, мерцающие смертью глаза змеи («Рождение зверя»).
Всем своим творчеством Сладков как бы говорит: «Не слушайте людей, которые в живых деревьях видят одни сухие дрова, не верят в сказку жизни, шипят на всё весёлое и радостное! Верьте, даже в лесу, где все деревья пронумерованы и обречены топору, даже вот с таким безнадёжно скучным чудаком может вдруг случиться совершенно, казалось бы, невероятное приключение: возьмёт вдруг и оседлает задом наперёд кобылицу почище той, что „висла пластью надо рвами, мчалась скоком по горам“ с Иваном-дураком на спине» («Шип»).
Всё, что вокруг нас прекрасно и радостно, подмечают глаза Сладкова, а его волшебная дудка превращает всё это в те сказки, о которых думаем мы, что бывают они лишь только за горами, за долами, где-то в далёкой, чудесной Индии. Бесценный дар!
И не случайно, конечно, Михаил Михайлович Пришвин «заметил и, в гроб сходя, благословил» Сладкова.
«Главное, — писал Пришвин, — что отличает автора этих рассказов о природе, это, прежде всего, свой глаз, открывающий новое что-то в природе и как бы ещё небывалое».
Алексей Алексеевич Ливеровский
Поэт-охотник Сергей Тимофеевич Аксаков полагал, что охотником надо родиться, так же, как поэтом. И, конечно, не малое значение имеет тут место рождения.
Алексей Ливеровский родился на берегах Невы и всё детство провёл в деревне Лебяжье на южном берегу Финского залива. Неспроста эта деревня носит такое поэтическое название. Искони ранней весной, когда ещё не весь залив освободился ото льда, против этого места на песчаных отмелях останавливаются стада лебедей. Серебром отливают их могучие крылья, и серебряными трубами звучат в поднебесье их могучие голоса. Здесь пролегает «великий морской путь» перелётных из жарких стран на родину — в студёные полночные края. Осенью здесь тоже валом валит морская птица, совершая обратный путь с рождённой у нас молодёжью.
По всему побережью здесь живописные названия мест: Лебяжье, Красная Горка, Чёрная Лахта, Серая Лошадь. И есть у этих мест ещё одно свойство: поразительное сочетание моря и леса.
Одно из самых поэтических лесных таинств — глухариный ток. Весной в лесу на темнозорьке чуть слышится страстная до самозабвения, до минутной глухоты песня огромного бородатого петуха. И есть ли ещё на свете место, где эту песню услышишь под аккомпанемент ритмичного плеска морской волны и далёких лебединых труб?
Здесь — на золотом берегу Лебяжьего, в его прекрасных борах и рощах — вырастали люди, влюблённые и в лес, и в море, становились певцами их.
Ливеровский остался охотником на всю жизнь. Он не только слушает и понимает бессловесные голоса земли и моря, но и переводит их людям, не глухим к музыке родной земли.
Последние годы Ливеровский облюбовал себе для жилья и охоты Новгородчину — чудесный край лесов и озёр. Древняя Новгородчина пленила его не только красотой своих пейзажей, но и языком деревенского люда. Говорят новгородцы на наречии, едва ли не самом старинном во всём русском языке. Многие их слова как бы прямо растут из земли, из леса. Особенное это наречие хорошо чувствует Ливеровский, и, когда он рассказывает свежие лесные новости, нам кажется, что слышим их мы из уст древнего новгородского рыбаря или ушкуйника.
Кронид Всеволодович Гарновский
Ботаник, хранитель лесов и брат всему живому.
Родился в глухой Новгородчине, на отшибе, и до тринадцати лет жил у родственников, без отца, без матери. Кругом лес да лес — дремучий, сказочный…
Сверстников не было. А с кем-то надо играть. Знакомился с бабочками, жуками, улитками, птицами. Особенно полюбил елочки, сосны. Подружился с муравьями, майскими жуками, блестящими бронзовками, смешными слониками. Затевал игры с шустрыми долгоносыми зверьками — землеройками. Родным стал лес.
К тринадцати годам взяли отец с матерью. Деревушка стояла на лесосплавной реке Увери, — рядом заливные луга, болото и озеро — царство куличья и уток. И тоже — лес, лес кругом. Отец перемежал свою работу сельского слесаря с охотой и рыбной ловлей. От отца набирался разных навыков.
В четырнадцать лет пошёл работать на лесосплав. Потом бродячим слесарем исходил всю Новгородскую область, Карелию, — дошёл до самого Белого моря. Всё лесами, лесами — пешком, пешим ходом: на колёса денег негде было взять. Потом скопил на билет — поехал на Северный Кавказ. Там, в горах и лесах, пособлял казакам и черкесам убирать урожай. Потом вернулся в родные края. Многому научился у страстного краеведа Сергея Николаевича Поршнякова — руководителя музея местного края в городе Боровичи. Потом, кончив университет, поехал ботаником в уральские заповедные леса — изучать их и охранять. Теперь работает в ботаническом саду при университете.
Жить без леса не может. Попав в лес: «Я не гость и не хозяин, — я пришёл в свою семью», — чувствует он.
Святослав Владимирович Сахарнов
На человека надели водолазный костюм, нацепили грузила к ногам, а на плечи надели вторую — стеклянную — голову с дыхательными трубами и в таком виде опустили в воду. Человек медленно пошёл на дно — и тут ему открылся полный чудес подводный мир.
Было это на Тихом океане.
Человек был молод и полон любопытства. Невиданный беззвучный мир был ему как немое кино. Странные животные, странные растения населяли этот мир. На глазах у человека разыгрывались непонятные истории. Крабы-плавунцы гонялись за рыбками и как ножницами перерезали их пополам острыми клешнями. Колеблясь всем телом, прозрачные, как призраки, проплывали студенистые медузы. Разноцветные кораллы кустами росли у подножия подводных скал; странные животные, на всю жизнь прикрепившись толстой ногой ко дну, невиданными цветами расцветали, мерцая длинными густыми ресницами. Скачками проносилась каракатица, оставляя за собой чернильного цвета облако. И в тёмной пещере, прячась, подстерегал добычу ужасный осьминог — мягкотелое чудовище с кошачьими глазами, с клювищем хищной птицы, с извивающимися, как змеи, щупальцами, схватывающими в смертельное объятие трепещущее тело жертвы. И вся эта страшная и прекрасная жизнь безмолвна, всё совершается в ней без слов, без вскрика, без стона.
Поднялся человек обратно на поверхность, на вольный воздух, — люди разговаривают, чайки кричат и шумный поёт океан. И другим показался человеку этот вольный мир, будто заново родился человек, а в глазах у него — всё та странная подводная жизнь, и в ушах — немота.
Капитан третьего ранга Святослав Владимирович Сахарнов пишет про моря, океаны, про подводную жизнь, полную неслыханных чудес.
1956–1958.Рассказ о рассказах
ЛИРИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИГРЫ В НОВЕЛЛИНО
Приглашение к игре
Дорогие читательницы, дорогие читатели, юные и пожилые!
Позвольте пригласить вас играть в НОВЕЛЛИНО.
Эту литературную игру — увлекательную и полезную — назвал я так на милом моему сердцу итальянском языке, чтобы звучало не только красиво, но и немножко таинственно. Ведь в ней нам неизбежно придётся слегка приподнять занавес, за которым хоронятся пресловутые тайны художественного творчества — почти чудесные тайны.
Цель игры
Цель новеллино, как и всякой игры, — наслаждение. Игра сама по себе доставляет удовольствие, самый процесс её тешит играющих. А если человека сопровождает в игре удача, если он выигрывает, радость его удваивается.
Однако новеллино, как уже сказано, не только увлекательная, но и полезная игра. Она может привести к обнаружению в человеке таких возможностей, какие он в себе и не подозревал. Может разбудить в нём поэта, может сделать из него «мастера слова» — и «пустить» его, так сказать, «по миру», в лучшем смысле, конечно, то есть в печатном виде. А на худой, как говорится, конец — просто научить его чётко мыслить и грамотно излагать свои мысли и чувства — в письмах, например. «Худым» такой «конец» смешно называть: это будет большой пользой как для пишущего, так и для читающего его письма.
Что такое «новеллино»?
Новеллино — совсем маленький сюжетный рассказ, рассказ-дитя — новелла-бамбино.
Сами для себя ограничим рост этого ребёнка тремя машинописными страницами, другими словами — одной седьмой авторского листа, принятого у нас в 40 000 печатных знаков (примерно 21–23 машинописных страницы). Можно меньше, больше — никак. И будем стремиться, чтобы наши новеллино становились подлинными произведениями искусства. Малые размеры их этому не помеха: искусство меряется не величиной вещи, а качеством.
Новеллино — миниатюрный художественный рассказ.
Описание игры «новеллино-экспромт»
Игра состоит в том, чтобы, состязаясь с другими или самим собой, сделать прекрасный маленький рассказ.
Играть можно целым обществом, своей небольшой компанией, вдвоём или даже в одиночку, наедине с самим собой.
Опишем одновечернюю игру «Новеллино-экспромт». В небольшой компании. Попутно скажем и о других видах игры — что к слову придётся.
Литкомпания собралась. Литкампания начинается.
На стол кладётся стопка писчей бумаги хорошего качества из расчёта по крайней мере десять листов на каждого: много бумаги уходит на черновики. И — по числу играющих — зачиненные с одного конца голубые карандаши с резинкой на другом конце.
Мы особенно рекомендуем этот сорт карандашей, продающийся у нас во всех канцелярских магазинах, потому что, написав таким карандашом первые пришедшие в голову слова, можно потом стереть их и написать на их месте что-то более вразумительное, выразительное, точное. Предупреждаем: это каждому придётся делать не раз.
Если некоторые из играющих этим карандашам предпочтут другие, например с очень мягким графитом, и отдельно — мягкую резинку для стирания (ластик, гуммиластик), то их воля. Многие авторы авторучку предпочитают всем карандашам. Пусть пишут авторучкой. Искусство не терпит постороннего вмешательства, никаких ограничений своей свободы ни в чём, даже в таких технических мелочах: у него достаточно препон внутри самого себя. Важно, чтобы все были обеспечены любимыми своими средствами производства. Ведь даже и такой, казалось бы, пустяк, как жёсткий или мягкий карандаш, добрый сорт бумаги, на каком приятно писать, — излюбленное перо в руке, может подчас привлечь такое легкокрылое, капризное существо, как вдохновение. А без него прекрасного новеллино не напишешь.
Если договорено писать каждому на свою, на вольную, тему, то игра тут и начинается. Если же решено писать всем на одну тему, то важно выбрать такую, чтобы всем захотелось попробовать в ней свои силы, чтобы все загорелись ею. Уже здесь начинается игра со словом: ведь тема определяется словами, а они разные по своему объёму и диапазону действия, — и очень важно правильно выбрать их для обозначения темы.
Бывают маленькие слова, действующие на наше сознание, как включатель одной лампочки: они освещают очень ограниченное пространство вокруг нас. Скажем, наш стол или комнату. Есть слова-рубильники, включающие свет в целом здании, по всей улице или даже во всём городе. И такие есть слова, что зажигают солнце над целым миром: «жизнь», «любовь», «миру — мир».
Рассказ — в особенности такой маленький, как новеллино, — как бы выхватывает из жизни один эпизод, один случай. «Предшествующие и последующие моменты жизненного процесса в рассказе — в отличие от повести и романа — остаются в стороне». (БСЭ). Это как бы моментальный снимок фотографа, «фотомомент», запечатлевший на пластинке характерный сюжет, «кадр», как говорят в киноискусстве, из жизни героев. Вместе с тем нельзя забывать, что по этому моменту читатель должен иметь возможность вообразить себе и прошлое, и будущее героев маленького произведения искусства. Значит, как ни узка выбранная для новеллино тема, она должна быть звеном бесконечной жизненной цепи.
Для примера можем предложить играющим такие темы:
— Самый радостный — неожиданный — трагический — смешной — грустный — страшный — весёлый случай в моей жизни. Или встреча на фестивале — в лесу — на горной тропе — в самолёте и т. д. Столкновение. Сирена (набат). Удивительный сон. Поцелуй. Подарок судьбы (моря, леса, реки). Лучший час моей жизни. И так далее — до бесконечности.
Слова «мой», «моя», вовсе, конечно, не обозначают, что рассказанный случай произошел на самом деле и именно с автором рассказа. Эпизод может быть вымышленным, и вполне правомерно в художественной литературе описание от первого лица событий, произошедших с другими людьми, с лицами другого пола или с животными, растениями; даже с неодушевлёнными предметами. Случай может быть знаком автору по личным воспоминаниям, или слышан от кого-то, или пусть хоть целиком выдуманным из головы — лишь бы это не было плагиатом — рассказом, взятым у другого писателя.
Человек, предложивший интересную тему для новеллино, может слукавить: заранее подготовиться или даже написать рассказ дома на эту тему. Таким образом, он как бы берёт фору перед другими играющими, но это ещё не значит, что он выиграет.
Можно заранее объявлять, как, на какую тему будет предложено писать в следующий раз. Это только поможет людям обдумать заранее рассказ, отточить свои мысли на эту тему, подчитать, взять необходимые справки, — словом, «собрать материал». Качество рассказов от этого только выиграет. Известно, что многие исторические экспромты, неожиданные эпиграммы, великолепные импровизации, произнесённые в самом блестящем литературном обществе, долго и тщательно подготовлялись авторами у себя дома. От этого они не стали хуже.
Но вот тема задана. Избрано жюри из одного или нескольких лиц. В обязанности жюри входит: объявление начала и конца игры, поддержание тишины и порядка во время игры, сбор рукописей с пометкой на них времени сдачи, чтение рукописей про себя и вслух, — председательство на обсуждении их, — мотивированная оценка их — и назначение премий за лучшие новеллино-экспромты.
Но всё это — в дальнейшем. А сейчас руки играющих потянулись к чистым ещё листам бумаги. Всякие разговоры прекращаются, настаёт полная тишина. Все поворачиваются друг к другу спиной и закрывают глаза: так лучше сосредоточиться и обдумывать.
Надо сказать, что такая одновечерняя игра в новеллино-экспромт имеет чисто игровой смысл и спортивный интерес. От обычных в компании устных рассказов новеллино отличаются письменной своей формой, обуславливающей более тщательный подбор слов и правильное сюжетное построение вещи. Разница большая, часто целиком определяющая художественное качество вещи. Ведь писатель, выступающий со своими вещами в печати — а такими безусловно должны воображать себя играющие в новеллино, — невидимка для читателя, он не может помочь себе ни голосом, ни мимикой, ни жестами — игрой, которая так обогащает чтение рассказов актёрами, игрой, привлекающей на себя внимание зрителя и тем не столько приковывающей его внимание к тексту, сколько обычно отвлекающей от него. Писатель в своем общении с читателем полностью лишен права что-либо разъяснять ему, к чему так охотно походя прибегают устные рассказчики в своей компании. Новеллино-экспромт — спортивное упражнение на умение заинтересовать слушателей темой рассказа и удержать его внимание до самого конца повествования.
Но вот время писания истекает, один за другим играющие сдают свои исписанные листы жюри. Теперь ужин или чай. Все стараются не задерживаться за столом (что, конечно, на руку хозяйке). Затем — чтение новеллино в порядке их сдачи жюри. Обсуждение их, причём высказывание о каждом обязательно для всех присутствующих — хотя бы в самом элементарном его виде: понравился рассказ или нет, и что именно понравилось, что показалось безразличным и что решительно не понравилось.
Окончательная оценка рукописей производится людьми с наиболее развитым вкусом; подозревается, что они сидят в жюри.
Такова картина игры в новеллино-экспромт, игры в импровизацию. Игра в одиночку, с самим собой, сильно, конечно, отличается от игры в компании. Тут вряд ли имеет смысл ставить себе жёсткие сроки работы над вещью: надо работать над рассказом до тех пор, пока он во всём, до последнего слова, не будет удовлетворять автора. А для этого приходится надолго откладывать рассказ, чтобы он «поостыл», чтобы позабылся, и можно было бы по-иному взглянуть на него: как бы «со стороны», как бы «чужими глазами». Это очень помогает правильной оценке вещи и ее исправлению.
Оценщиком, жюри — тут сам автор: «взыскательный художник». Его суд беспощаден. Чуть у него является сомнение в каком-нибудь месте рассказа, в сюжетном повороте, в неуклюжей фразе, неудачном обороте, даже в отдельном слове — он должен понять причину недовольства собой и устранить недостаток. Пока это не будет сделано, вещь не будет давать ему покоя, «не отпустит его».
Но я уже слышу негодующий голос:
— Ты обратился с предложением участвовать в игре к своим читательницам и читателям, а речь повёл о трудной, подчас мучительной работе, посильной одним профессиональным писателям!
Голос прав и неправ.
Не боги горшки обжигают
Учиться писать — точно и красочно рассказывать в письме ли, в дневнике, в любом письменном отчёте — должен каждый грамотный человек. И он может сделать это, если будет почаще упражняться в этом. И лучше всего ему удастся это, если он будет делать это шутя и играя — играя в новеллино.
Многие читатели обращаются к нам — писателям — с просьбой рассказать, как мы пишем рассказы. И с каждым приходится вести разговор, что называется, от печки: что такое «художественная литература», «что такое хорошо и что такое плохо» с точки зрения художника — и почему; как строить рассказ да как улучшить свой слог. Всем и каждому приходится твердить одно и то же. А это трудно и нудно.
Это вот мое «лирическое пособие» вызвано как раз этим и является, так сказать, самозащитой от обстрела такими вопросами. Раз читатель интересуется этим делом, значит, оно ему для чего-то необходимо и он имеет право узнать о нем всё, что ему требуется. Написав это «пособие», я буду просто вручать его всем интересующимся «кухней писателя» — и это избавит меня от бесконечного повторения одного и того же, от разоблачения наших маленьких «творческих тайн» и технических приёмов. Поиграет читатель в новеллино — начнёт лучше понимать нас.
Это — первое моё возражение негодующему голосу.
Второе: я и сам был читателем, прежде, чем стать писателем. Вполне естественно, что после 35 лет работы в области художественной литературы и постоянных раздумий над ней мне захотелось распахнуть двери своей писательской лаборатории перед широким читателем. Памятуя, что писателем становишься из читателя, мне хочется всех читателей — юных и пожилых — научить внимательному отношению к слову, к языку. Ведь совершенно прав был Алексей Николаевич Толстой, утверждая: «Язык — орудие мышления. Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как». Неприятно же иметь среди читателей мыслящих кое-как («коекак»). Племя плохо мыслящих коекак — враждебное художественной литературе племя.
Необходимо именно читателей в первую голову привлечь к этой игре.
Третье: профессиональных писателей вообще не существует. «Писатель, — сказал мудрый Томас Манн, — не профессия, а проклятие». Писатель во многом подобен огнедышащей горе. Можно ли сказать, что извергать дым, камни и огненную лаву — профессия вулкана? Бывает, писатель живёт на гонорар за свои книги, но как только он превращает свой талант, фантазию свою, огненное своё вдохновение в профессию — он перестаёт быть подлинным художником; этим он и отличается от рядового служащего. В этом отношении старый, умудрённый опытом писатель-мастер и начинающий писать читатель — ровня: они оба — «свободные художники», подчиняющиеся лишь велениям своей музы.
Какое же «проклятие» (по слову Томаса Манна) они испытывают на себе? К этому мы не раз ещё будем возвращаться в нашем труде, и это очень скоро поймут на себе немногие из играющих в новеллино, которым эта игра поможет обнаружить в себе мироощущение и страсть, огонь, полымя подлинно поэтической натуры.
Я говорю о той страсти, которой не обнаружил Пушкин в своём Евгении Онегине, — о «высокой страсти для звуков жизни не щадить». Если кой-кто из новеллинистов почувствует в своей груди пламя этой страсти, забросит свои прежние занятия и всем своим существом переселится в заклятую страну искусства, то, значит, он нашёл своё призвание.
Возможно, говорю, кой-кто из увлёкшихся игрой в новелино вдруг очнётся и почувствует себя как Гейне:
О боже! Я раненный насмерть играл, Гладиатора смерть представляя!Но это будет значить, что в мире родился новый поэт, художник слова.
Обращение к писателям
Обращаюсь ко всем писателям, не превратившим свое писательство в профессию, открыть двери своих творческих лабораторий для играющих в новеллино.
Каждый из нас понимает свою работу по-своему, у каждого своя хватка, свои приёмы. Радостно открыть свою душу людям и передать им свой опыт, рассказать, как делаются вещи из слов, вещи из чувств и мыслей.
Вещь, сделанная из мыслей и чувств
Итак, играя, мы будем придумывать новеллино — маленькие рассказы, красивые вещи, сделанные из наших мыслей и чувств.
Всякое произведение искусства — дело рук человеческих — имеет три измерения: длину, ширину и высоту (или глубину). Новеллино — тоже.
Длина. Шутки ради давайте назовём первым измерением — длиной новеллино — его протяжённость во времени. Но под словом «время» мы тут подразумеваем не то количество минут по часам, которое мы потратим на прочтение нашего рассказа, а то переживаемое время, которое проходит в сознании слушателя, пока рассказ читается. Бывает, только рассказ начался, как уже и кончился, так интересно, — досадно даже, что конец! А бывает, — длится, — скучно слушать, рассказ полон длиннот. По объёму совершенно одинаковы: в обоих по три страницы; каждая читается ровно 2,5 минуты, каждый рассказ читался ровно 7,5 минут.
Объясняется это тем, что один рассказ хорошо построен, а другой — построен неправильно; рассказ «растянут», длина его не соответствует содержанию.
Условимся называть длиной протяжённость рассказа во времени, его сюжет, его композицию.
Ширина. Вторым измерением нашей вещи, построенной из мыслей и чувств, шириной, станем считать широту ее словесной (языковой) ткани. Так сказать, ширину палитры художника слова, богатство его живописных средств, его язык, или — как говорили в старину — слог.
Глубина, или высота. Мы постоянно говорим: глубина мыслей, заложенных писателем в его произведение, высота его идеи. Так и будем называть глубиной (высотой) рассказа глубину вложенных в него мыслей и чувств, высоту его идеи — его тему.
Есть в каждом настоящем произведении искусства и четвёртое измерение. Без него ни одна вещь не может быть, это — сила таланта; может быть — темперамент, горячая страсть автора, его вера — то, о чём писал Блок:
Но есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить.Во всяком случае, это нечто такое, что пока не поддаётся точному определению, как не поддаются определению такие понятия, как: художественность и сама красота. А раз так, то и развитию, мастерству оно не подвержено. И, значит, в своём практическом руководстве касаться этого четвёртого измерения мы не будем. В нашей маленькой экспериментальной лаборатории вещей, сделанных из чувств и мыслей, оно не подлежит анализу.
Первое измерение: высота, или глубина
Казалось бы, чтобы написать рассказ, надо:
1 — иметь, что рассказать,
2 — уметь рассказать и
3 — хотеть рассказать.
В жизни часто происходит по-другому: бывает непреодолимо захочется рассказывать, а что — сам ещё не знаешь. Ну, а умению рассказывать учишься потом всю жизнь.
Дети часто начинают писать, особенно стихи, в том возрасте, когда у них нет ничего, о чём стоило бы поведать миру: ни жизненного опыта, ни больших мыслей, ни сознания собственного мироощущения. И принимается ребёнок — тот, что станет потом писателем, — пересказывать прочитанное им в книжке, слышанное, виденное, пережитое им самим, не подозревая даже, что этим своим шагом он ступил уже на трудную, бесконечную дорогу страстного словоборца. Не чувствует ещё, что проклятье уже повисло над ним — и он обречён всю жизнь оттачивать своё слово, стараясь проникнуть им в заклятые тайники жизни.
Но мы — об играющих в новеллино.
Представьте себе, что вы взялись сыграть в новеллино на «вольную тему», то есть сделать рассказ о том, что вам придёт в голову, о чём вам самому захочется написать.
Перед вами лист чистой бумаги, как белое пятно на карте. Силой своего воображения вы должны вызвать на нём картину, живую картину.
Чтобы лучше сосредоточиться, вы закрываете глаза — и в поисках темы начинаете перебирать в памяти всевозможные интересные случаи из жизни…
Тёмная, таинственная шахта памяти! Поразившее вас однажды — может быть, очень давно, ещё в раннем детстве, — вдруг почему-то всплывет на дневную поверхность. Кто-то подаёт вам на-гора этот давно забытый случай из глубоких недр вашей души, на поверхность сознания. Вот она — тема! Она возникла у вас, как на экране, на внутренней стороне век, когда вы сидели с закрытыми глазами. И вы хватаете свою неожиданную добычу поспешно, опасаясь, как бы она опять не нырнула в тёмную глубь и не исчезла в ней навсегда.
Тема найдена. Вы раскрываете глаза и хватаетесь за карандаш, весь загоревшись желанием разработать, увековечить её на бумаге.
Остановимся на минуту, чтобы условиться, что мы будем подразумевать под словом «тема». Не мудрствуя лукаво, как это часто делается в сугубо учёных трудах, возьмём простое определение понятия из «Толкового словаря русского языка»[31].
«Тема, ы, ж. — 1 — предмет какого-н. рассуждения или изложения. (Один из примеров в словаре: „Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событьице“. Лесков.) … 2 — Музыкальное предложение, представляющее собой развитый мотив и являющееся основой для разработки (муз.) (Пример: „Тема с вариациями“.)».
Нарочно приводим здесь определение не только литературное, но и музыкальное. Нам кажется, что эти понятия родственны и тесно связаны друг с другом. Ведь тема любого произведения искусства родится в волшебной стране поэзии, а поэзия — та же музыка. В основе всякого художественного рассказа, как и музыкального произведения, «предложение, представляющее собой развитый мотив и являющееся основой для разработки». Разница только в том, что для композитора это «развитый мотив» в музыкальных звуках, а для писателя или поэта — в словах.
Тема художественного произведения приходит в голову тысячью разных способов. Своя тема находит тебя сама, сама начинает звучать у тебя в душе, — сперва тихо, неясно, потом все громче, внятнее, четче. Но если душа у тебя не музыкальная, если ты не поэт, не композитор, — не ищи её. «Это так же безнадёжно, — говорил замечательный наш писатель Борис Житков, — как сесть за свой письменный стол, пустить в ход вентилятор — и дожидаться, когда занесёт тебе в кабинет случайно брошенную кем-нибудь трёшку». Если же ты просто не пробовал ещё своих сил, но действительно, как говорят, «поэт в душе», — ты вспыхнешь от неожиданно пришедшей тебе в голову поэтической темы и всеми силами станешь пытаться разработать её на бумаге.
Жизнь — Земля. Изучая Землю, мы взбираемся на самые высокие её вершины, собираем богатейший урожай знаний с её поверхности и глубокие бьём шахты в её недра. Постигать жизнь можно, паря мыслью над её горами, погружаясь мыслью в глубочайшие её недра, исследуя её почву, где переплелась корнями вся её растительность, или прямо с поверхности брать темы для своих художественных произведений, находить «предмет изложения». Мелких тем нет, — есть только более или менее глубокая или поверхностная их разработка.
Никакой существенной разницы в писании рассказов на вольную и заданную тему не должно быть: заданную тему художник превращает в свою — тогда только он может писать на неё.
Каждый писатель может подтвердить, что лучшие его рассказы те, что ещё не написаны им. И правда: как ни стараешься лучше разработать тему, выразить её в самых точных словах, всегда всё-таки написанное куда бледнее того, что снилось в душе, играло, звучало, переливалось всеми живыми цветами в радостном зачатии творческого сознания.
Вот наконец и пришлось нам употребить слово творческий, которого мы так долго избегали. Весь процесс работы над новеллино должен быть процессом творческим, то есть вдохновенным.
Сейчас объясним, что мы подразумеваем под этими словами.
Творчество, вдохновение
Потому нам не хотелось без особой надобности употреблять слова творчество, творческий, что больно уж часто пишущая братия пользуется ими без всякого на то права. Только и слышишь: «моё творчество», «творческая среда», «я человек творческий», «творческий отпуск», даже — «творческая командировка», «Дом творчества». Совсем стёрли это слово, лишили его первоначального высокого его смысла. Ещё немного — и начнут говорить: «я — творец этого романа», «сотворил поэму», «полное собрание моих творений». Ну, просто боги какие-то! А Пушкин почему-то не провозглашал свои стихи «творчеством», себя — «творцом», а называл себя скромно «сочинителем».
Акт «творения», «сотворения» больно уж высок для простых смертных. Мы здесь будем употреблять понятие творческий труд, подразумевая под ним вдохновенный труд писателя, а определение вдохновения возьмём у Пушкина.
Как известно, Пушкин писал: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно — и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии».
Труд, для которого необходимо это особое состояние души, — творческий труд — существенно отличается от обыденного труда, не требующего для себя «живейшего принятия впечатлений и соображения понятий». В труде учёного бывает много такого чёрного труда, например точное, не допускающее ни малейшей фантазии, описание материалов, составление таблиц и сводок, всевозможные расчёты и т. п. Вдохновение нужно учёному для «соображения понятий»: то есть для вывода законов собранного материала. В труде писателя — когда весь материал для его вещи собран — такая «чёрная работа» должна вовсе отсутствовать: весь его труд должен быть вдохновенным трудом, так сказать — «творческим горением». Больше всего это относится к очень коротким литературным вещам, например к нашим новеллино. Такие малые вещи пишутся иногда одним напором, от одной вспышки вдохновения. И целиком это относится к новеллино-экспромтам, для которых писатель не собирает никакого материала — ни у людей, ни в «творческих командировках», ни справками в книжках: ведь новеллино-экспромт пишется «просто из головы».
Однако даже в этом случае отсутствие «чёрной», то есть подготовительной или полумеханической, работы никак не освобождает писателя от черновой работы, иногда огромной. Известно, что Лев Толстой переписал свою многотомную эпопею «Война и мир» 13 раз. Только гений мог свершить такой героический труд и добиться совершенства своей грандиозной вещи. Но и маленькие вещи требуют солидной работы в том случае, «если тема тебе не даётся». Знаю это по собственному опыту. Добиваясь внутреннего удовлетворения, я переписал свою вещицу «Метельки, или 1000 и один день» сорок четыре раза.
«Расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий» сопровождается радостным напряжением всех способностей, как бы озарением, когда в воображении вдруг соединяешь понятия, часто противоположные, о которых всегда думал, что соединить их немыслимо.
И невозможное возможно, Дорога дальняя легка[32] —и сам ты как во сне, когда тебе стоит только сложить на груди руки, слегка оттолкнуться от пола — и ты полетишь, кругом облетишь свою комнату под потолком, вылетишь в открытое окно и полетишь над землёй, и со спокойной высоты птичьего парения родная планета предстанет тебе совсем по-новому, забытому или вовсе небывалому.
И вот это волшебное ощущение полёта даёт огромную радость и никак не может быть названо проклятием.
Измерение второе. Длина
«Всё живое из яйца», — гласит старинная мудрость.
Вдохновенная тема зародилась в душе и со всех сторон обдумана, созрела, так сказать, в сознании.
Яичко снесено и выношено.
Хватаешь карандаш — и на чистом листе бумаги накидываешь всё, что приходит в голову на эту тему. Без всякого порядка.
Это, как я его для себя называю, накидыш.
Это — первое рождение, первое появление на свет, первое воплощение на бумаге до сих пор лишь в душе звучавшей темы. Совсем пока бесформенной, как бесформенны в свежеснесённом яйце белок и желток.
Дальше начинается, так сказать, выклёвывание птенца. Впитывая в себя белок, желток формируется, строится, компонуется в птенца. И тут вступает в силу второе наше «измерение» — длина.
Чем больше разрастается накидыш, тем больше материала, тем богаче может быть рассказ: больше будет содержать в себе мыслей и образов.
«Длиной» рассказа — мы условились называть сюжет.
Для определения понятия и здесь прибегнем к «Толковому словарю».
«Сюжет, а. м. (франц.) — совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения (лит.)».
Построение сюжета можно сравнить с игрой в шахматы. Как в шахматной игре, в нём есть дебют — начало, миттельшпиль — середина игры и эндшпиль — конец игры. Расскажем играющим в новеллино особенности каждой из этих частей игры.
Дебют новеллино не должен быть похож на приступ к игре в шахматы с человеком, который никогда не играл в эту игру.
Такому человеку предварительно надо объяснить, в чём заключается игра, как «ходит» каждая из фигур, надо рассказать все правила игры и расставить на доске фигуры. Мы же будем считать нашего читателя опытным игроком и равным противником. Сразу будем начинать игру.
Очень важно в самом начале захватить внимание читателя, заинтриговать его — и сразу «ввести в круг событий» — взять, что называется, «быка за рога». Вот как у Толстого в «Анне Карениной» — с первой же фразы: «Всё смешалось в доме Облонских». Или у Лермонтова в рассказе «Тамань»: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да ещё вдобавок меня хотели утопить». Ну как не заинтересоваться, что случилось в доме Облонских, или — почему, за что хотели утопить человека в приморском городишке?
В новеллино такое энергичное начало особенно важно: в этой коротенькой форме рассказа у писателя очень мало времени. Ведь мы определили наше измерение длины как протяжённость того условного времени, которое замечает читатель с начала до конца вещи. И, конечно, это время покажется читателю невыносимо долгим, длинным, если мы потратим его на предварительную, так сказать, расстановку фигур.
Когда об этом заходит речь, мне всегда приходит на память маленькая сценка за столом у одного писателя. Мы — взрослые — разговаривали, а маленькой девочке, пришедшей к нему в гости, хозяин дал какую-то книжку. Через несколько минут он обратил внимание на то, что читательница заглядывает в конец книги. Девочка на это спокойно возразила: «А мне и так неинтересно. Три страницы прочла, а всё ещё ничего не начинается».
Вот для того, чтобы сразу заскучавший читатель не полез смотреть конец рассказа или просто не отложил его в сторону, и надо, чтобы с первых же строк что-то начиналось.
Удивить чем-то, взволновать судьбой героя, поставить перед читателем кажущийся неразрешимым мучительный вопрос — вот задача «дебюта» маленького сюжетного рассказа-новеллино.
И тут необходимо предупредить играющих в новеллино вот о чём.
Как в геометрии между двумя точками можно провести только одну прямую, так и у нас в рассказах от начала — назовём его точкой А — до конца — назовём его последней буквой Я — можно провести лишь одну-единственную прямую сюжетную линию. Любая другая будет уже совсем иным рассказом.
Эту творческую прямую — воображаемую, тайную линию, невидимую читателю, — писатель должен видеть, ОЩУЩАТЬ с самого начала работы над построением вещи. Даже в тех случаях, когда ему известна только точка А, а точка Я еще скрывается от него в тумане Несбывшегося (термин А. Грина). На ней-то, как на ниточке, и будут кристаллизоваться все слова рассказа. Всякое отклонение от этой прямой есть длиннота и ослабляет рассказ.
Лирические и любые другие отступления от темы возможны (оправданы) только тогда, когда они — притоки потока, бегущего из точки «А» до точки «Я». Дерево, у которого может быть сколько угодно веток, но сучья которого необходимо обрубать.
Разве не всегда писатель знает конец своего рассказа?
Далеко не всегда!
Бывает, что знаешь только конец — и от него в своём воображении добираешься до начала. Бывает, что в голову приходит первая фраза — эдакий как бы узелок, — и начинаешь сам для себя его развязывать, и, когда развяжешь его и растянешь верёвочку, конец её окажется гораздо дальше или ближе, чем ты думал. Бывает, наконец, и так, что ни начала, ни конца рассказа не знаешь. Перед тобой самое сердце событий — и надо выяснить, с чего они начались и чем кончатся.
Не так-то просто бывает раскусить этот орешек, найти правильное, то есть совершенно правдоподобное построение рассказа. Надо выдумать так, чтобы всё в нём было как в жизни.
Короче говоря, — надо выдумать правду.
Но если это выдумка, то это уже не правда, а фантазия художника (искусство). Фантазируя, легко сбиться с пути и начать рассказывать такое, чему читатель не поверит.
«У всякого искусства есть два отступления от пути: пошлость и искусственность, — говорит Лев Толстой (дневник). — Между обеими — только узкий путь. И узкий путь этот определяется порывом. Есть порыв и направление, то минуешь обе опасности. Из двух страшней — искусственность».
«Направление» — это не наша ли невидимая прямая между точками А и Я? А «порыв» что-то очень похожее на «взлёт», «вдохновение».
Скажем от себя: вдохновение — дело наживное, дело рабочее. Бывает, чувствуешь себя усталым, совсем разбитым, бессильным справиться с поставленными перед собой задачами (опять вспомнишь Томаса Манна: «проклятие!»), но не сдаёшься. Долго ничего не выходит.
Потом начинаешь врабатываться, начинает что-то получаться — и вдруг опять: будто полёт во сне, приходишь «к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий». И опять — «невозможное возможно, дорога дальняя легка».
Добиваешься вдохновения работой, тем, что ищешь решения неразрешимого, стремишься понять тайный смысл совершающегося перед твоим умственным взором.
«Истинное художественное произведение, — говорит Лев Толстой, — …производится только тогда, когда художник ищет, стремится. В поэзии эта страсть к изображению того, что есть, происходит оттого, что художник надеется, ясно увидев, закрепив то, что есть, — понять смысл того, что есть». (Дневник).
Постижение жизни искусством возможно именно благодаря вдохновению — особому какому-то возбуждению мозга. «Удивительно… до чего хорошо работает мозг, когда он возбужден». (Веркор. «Люди или животные?»).
Хорошо — прямо как в русской сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Стоит писателю заказать что-либо невидимому духу, странное носящему имя Шмат-разум, как перед ним — писателем — является всё, что бы он ни пожелал.
«„Эй, Шмат-разум!“ — „Что угодно?“ — „Покорми меня!“ В ту же минуту — откуда что взялось! — зажглись люстры, загремели тарелки и блюда и явились на столе разные вина и кушанья»[33].
Часто выручает писателя таинственный Шмат-разум, когда ему приходится выдумывать правду, — невидимый его помощник. Надо только смело фантазировать, помня запись Марка Твена в одной из его записных книжек: «Говорят, что правда удивительнее вымысла. Это потому, что вымысел боится выйти за пределы вероятного, правда — нет».
Он указывает, из чего растить вымысел: «Описывая вымышленный случай, приключение или положение, вы можете сбиться с пути — и искусственность вещи легко будет обнаружена. Если же вы берёте факт, знакомый вам по личному опыту, — это будет ваш жёлудь. Он пустит корень, и дерево, хотя бы оно росло и цвело до самого неба, будет настоящим, не выдуманным».
И он же наставляет:
— Говорите правду или обманывайте, но попадайте всегда в точку.
А чтобы «попадать в точку», необходимо всегда помнить, что искусство — далеко не простое «отображение жизни». В искусстве жизнь преломляется сквозь «магический кристалл» (Пушкин), всё лишнее убирается с прямого пути рассказа от А до Я, что-то в действительности преуменьшается, что-то неизбежно преувеличивается, иногда до гиперболических размеров.
«Фигурально выражаясь, — говорит С. Образцов в своей книге „Актёр с куклой“[34], — художник всегда делает из мухи слона.
2×2 = 4 — это арифметика жизни.
В искусстве 2×2 = 5 или 20; чем больше, тем удивительнее, тем убедительнее.
В жизни варёная картошка и стол — всего-навсего картошка на столе. В замечательном фильме братьев Васильевых „Чапаев“… это уже не просто картошка на столе, это — гражданская война: 2×2 = 100».
В той же своей книге он правильно утверждает:
«По существу, произведение искусства всегда открывает что-то новое, в противном случае оно просто не нужно. И, мало того, внутри самого произведения искусства, по дороге доказательств, ведущих к общей цели, происходят тоже маленькие открытия».
Вот почему натурализм — не искусство: ведь он старается только копировать натуру, ничего своего не ищет и, конечно, не находит.
Помня золотое правило Чехова: «Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружьё, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть», — просим всех играющих в новеллино обязательно вешать ружьё — по возможности двуствольное, а то и многозарядное! — в самом начале новеллино — и тут же дать понять читателю, что оно вот-вот выстрелит, только неизвестно ещё в кого…
Миттельшпиль — середина игры
Повесив ружьё на стенку в точке А, устремляемся от этой точки к точке Я. Это — наш миттельшпиль.
В моей терминологии дебют, начало рассказа — это запевка, музыкальный узелок. Дальше строю скелет вещи.
Тут придётся мне просить прощения у читателей: иллюстрировать этот рассказ о том, как делаются рассказы, это лирическое пособие в помощь играющим в новеллино я буду примерами из своей рабочей практики. Не потому, конечно, что считаю их образцово сделанными, а потому, что только о своих вещах во всех подробностях знаю, как они были сделаны.
Одним из наиболее удачных своих сюжетных рассказов считаю «Последний выстрел», и хоть написал его ровно тридцать лет назад, хорошо помню, как он сделался.
Я жил тогда в маленьком провинциальном степном городке — и тосковал по лесу. Проснувшись как-то утром, вспомнил Алтай, на котором прожил четыре счастливых года, его дремучую тайгу, горы, изумительно метких охотников, с которыми пришлось там познакомиться, их замечательные рассказы — ночью, у костерка. Испытываешь какое-то особенное, настороженное чувство, когда сидишь в ярко освещённом костром кругу, а оттуда — из чёрного-чёрного чрева таёжной ночи, знаешь: следят за тобой чьи-то глаза. Следят с испугом, с любопытством, а некоторые, может быть, и с кровожадным вожделением, глаза зверей. И — кто знает? — может быть, и человеческие.
С утра в тот день меня охватила сладостная тревога, знакомое беспокойство: скорей, скорей за стол! (Верный признак приближения Шмат-разума: страстное желание писать, хотя сам ещё не знаешь — о чём.) И я уговорил жену и детей пойти на целый день на реку.
Проводив их, сразу сел за стол — и написал на чистом листе бумаги: «Выстрел раздался неожиданно, как гром из ясного неба». Фраза эта — кстати сказать, не бог весть какая оригинальная — уже вертелась у меня в голове. И вот ещё до прихода Шмат-разума я не повесил на стенку, а просто выстрелил из ружья, — и это был неплохой дебют, точнее — гамбит в рассказе, который я потом приписал к этой первой фразе, — как пиджак пришил к пуговице.
Тут — откуда ни возьмись — невидимо прибыл Шмат-разум — и давай подкидывать под перо разные удивительные вещи.
Первая фраза вдруг стала второй: над ней я надписал маленькую картинку — как охотники готовят в котелке сухарницу, — ночью, в тайге, на костре.
Пуля угодила в котелок. Два брата-охотника, естественно, вскочили и кинулись под защиту толстого ствола кедра. А лайка их — Белка — кинулась в темноту — на выстрел.
Миттельшпиль развёртывается так.
Из темноты до братьев доносится сначала звонкий лай, потом вдруг приглушённый хрип Белки. Охотникам становится ясно, что стрелявший украл их драгоценного помощника на охоте за соболями — их прекрасную лайку. Старший из братьев вслепую бросается в тайгу — выручать собаку. Второй выстрел из темноты ранит его в правую руку. Вор исчезает.
Преследование немыслимо. Братья-соболятники не спят ночь, думают, что им делать. Тут я даю читателю немножко отдохнуть от стремительно развернувшихся событий. Даю остыть и подумать старым соболятникам. Пока ночь, пока преследование невозможно, надо поближе познакомить читателя с братьями.
Братьям понятно, почему у них украли собаку: она — лучшая в округе лайка-соболятница, и у них много завистников. Только три драгоценности есть у стариков: их Белка, да сумка, уже полная соболиных шкурок, да их меткие глаза. На глаза лайку не сменяешь. Надо попробовать — на соболей.
А как найти вора? Сюда в тайгу одна дорога — река. По ней заходили охотники, по ней будет возвращаться и вор.
С детства молчаливым старикам не было необходимости обмениваться словами: мысль у них работала одинаково, точно на двоих была у них одна голова. И когда стало светать, оба враз поднялись и, не обменявшись ни одним замечанием, побежали звериной тропой вниз — к реке.
Тут интерес читателя перемещается: братья прибежали на берег, ждут, — а неизвестно, проехал уже здесь вор или нет? И внимание читателя опять напрягается: удастся ли старикам вернуть себе кормилицу?
Но вот мчится по течению стремительной горной реки лодка. Кто правит ею — не видно: на корме мешки с песком, а на носу — Белка, привязанная на веревке. Братья кричат вору, потрясая над головой сумкой: «Возьми соболей, отдай суку!» Напрасно. Лодка мчится мимо.
Тогда старший брат кладёт винтовку на сук, шепчет: «Щенков вору плодить!..» Но тут мысли братьев впервые поскакали врозь. Младший скидывает винтовку брата с упора, жестко говорит: «Сам сделаю!» — и прицеливается из своей винтовки.
Выстрел. Лайка сунулась носом вниз.
Вот весь мой миттельшпиль. (Конец расскажу дальше).
Путь от точки А до точки Я никогда не должен быть гладенькой дорожкой. На пути этом должны быть трудности, препятствия. Чем круче они, тем интереснее, напряжённее сюжет. Читатель как бы несётся прямой дорогой среди леса к неизбежному концу и не замечает, что справа и слева — сзади — сбегаются к этой дороге скрытые деревьями тропинки; обнаруживает их только потом, обернувшись назад.
Всякий сверток с принятого вначале прямого пути — линии А — Я — уводит читателя в сторону, удлиняет рассказ, отвлекает внимание читателя — и этим ослабляет действие рассказа.
В разных жанрах можно делать рассказ, но всегда крепко надо помнить слова Вольтера, что «единственный порочный жанр — скучный». А чтобы ваш рассказ не был скучен, держите вожжи внимания читателя в руках, то натягивайте их, то отпускайте, но ни на минуту не выпускайте их из рук. Для этого в вашем распоряжении все человеческие чувства. Напугайте читателя: пусть поволнуется за жизнь ваших героев. Дайте читателю поразмыслить (ослабив вожжи внимания), как им выбраться из трудного положения. Заставьте читателя посмеяться, погрустить, поволноваться, дайте чуточку отдохнуть — и опять, окуная то в горячую, то в холодную воду, играя на всех струнах человеческого сердца, уверенно ведите его своей дорогой.
Да, это нелёгкий путь: ведь писатель искренне переживает со своими героями всё, о чём рассказывает. Бывает, разрыдается, как это случилось с Дюма-отцом, когда он убил своего Портоса. Бывает, от души расхохочется, описывая смешную сценку. Помню, и у меня на руках выступил холодный пот от страха, и мне пришлось положить на стол скользящее в пальцах перо, когда я описывал гибель Гассана в главе «Над пропастью» (рассказ «Чёрный сокол»).
Нет, писательство — не профессия! Это и вправду проклятье!
А как трудно, мучительно трудно бывает порой начинать рассказ, двигать в гору длинный его состав, тяжело гружённый всеми бедами, горем и радостью, всеми разнообразными переживаниями своих персонажей! Пыхтишь как паровоз, сдвигая такой составчик с места, таща его в гору.
Но вот перевал, и рассказ пошёл под гору. Тут уж держись: тяжёлый состав подпирает тебя сзади и — хочешь ты этого или не хочешь — мчит тебя к станции-концу со всё нарастающей скоростью. Успевай только записывать.
Но ведь мы сравнили построение сюжета с игрой в шахматы.
Вернёмся к этому сравнению.
Мы говорили, что игре в новеллино только мешает расстановка фигур в исходной позиции и объяснение читателю, как «ходит» каждая из фигур, какой у неё характер. Наша игра начинается внезапным скачком в самую середину событий, и «противнику»-читателю предоставляется самому разобраться, какие у наших «фигур»-персонажей характеры.
В нашем миттельшпиле, как в шахматах, одна за другой «фигуры» вступают в игру, и автор должен умело управлять ими, чтобы довести игру до конца. Задача эта потрудней, чем в шахматах: ведь писатель должен сам выдумать характеры всем «фигурам», расставить их и играть за обоих игроков сразу! Проще говоря, должен выдумывать всю партию сам, а в партии должны быть интересные, остроумные, неожиданные для обеих сторон ходы. Выдумывать такие партии трудно, даже когда писателю помогает брат джиннов из «Тысячи и одной ночи» — Шмат-разум. Так трудно, так утомительно, что баснописец Лафонтен после написания каждой своей коротенькой басни требовал себе отдыха в течение двенадцати лет.
Эндшпиль
Конец новеллино должен быть неожиданным для читателя. Плох тот игрок, который сразу показывает свои карты, все свои козыри «противнику», и скучно играть, если с самого начала игры знаешь, кто победит. В рассказе держать читателя в напряжённом ожидании конца, как в картах, совсем не просто.
Всякий сюжетный рассказ сводится в конце к простому положению: либо — либо. «Терциум нон датур» — как говорили латиняне — «Третьего не дано». «А вот же — датур!» — как бы говорит писатель — и преподносит читателю такое разрешение вопроса, какого он никак не мог ожидать.
В рассказе «Последний выстрел» мне, кажется, удалось это сделать.
Сбросив с сука ружьё раненого брата, младший старик кладёт на тот же сук свое ружьё. Выстрел — и Белка сунулась носом в лодку. Лодка исчезла за поворотом реки.
Братья помолчали. Потом старший попросил поправить перевязку на раненой руке. Младший, поправляя, подмигнул ему. И вдруг из кустов появилась Белка — жива и здорова. Меткий охотник умудрился перервать пулей ремень, которым собака была привязана в лодке.
Читатель, следуя мыслями за старшим братом, который решил убить Белку, чтобы чудная лайка не досталась вору, ждет: либо младший застрелил ее, либо нет. Но автор как бы колдовски отвёл глаза читателю, и конец рассказа неожиданно оказывается совсем не таким, какого ждали. И тут «тропа», давно «вбежавшая» в прямую дорогу из А в Я, которую читатель не заметил, а теперь может увидеть, обернувшись назад: третьим «сокровищем» братьев (они же три чеховские «ружья»!), «которое можно отнять у них только с жизнью», названа была необычайная меткость старых охотников. До последнего выстрела это «сокровище» не было использовано в рассказе, и очень внимательный читатель мог ждать, что братья воспользуются им в конце: «ружьё», повешенное автором на стенку в начале игры, «выстрелило»-таки в последний момент, — и этим изменило конец всей рассказанной истории.
Выходит, в литературе, как и в жизни, постоянно «терциум датур» — даётся третье решение там, где, кажется, может быть только либо — либо.
Признанным королём неожиданного конца в рассказах был и остаётся американский писатель О’Генри. Любую «партию» он умел разыграть так ловко, что, знакомясь со всеми обстоятельствами дела, с положением «фигур» в игре, читатель никак не может отгадать, на чьей стороне будет выигрыш. И чуть не все эти неожиданные концы у него — то, что англичане называют «хеппи энд» — хороший конец, пусть даже в жизни эта история была настоящей человеческой трагедией и трагически кончилась. Вряд ли это объясняется исключительным миролюбием и сентиментальностью замечательного писателя, не позволяющими ему расправляться со своими героями так, как частенько расправляется с ними жизнь. Скорее, он подчинялся тут вкусу широкого американского читателя, который ждет от художественной литературы только беллетристики — развлекательного чтения — и терпеть не может, чтобы она наводила его на мысль, что в жизни иногда и умирают, совершенно не желает, чтобы писатель заставлял его мучительно над чем-нибудь думать.
И нам кажется, что трафаретный «хеппи энд», как любое обязательное правило в любом искусстве, к добру не ведет: омертвляет его, принуждая вливать живое содержание в мертвую форму.
Кстати, о содержании и форме в рассказах.
Давным-давно всем известно, что содержание и форма в искусстве составляют одно целое и друг без друга не существуют, друг от друга никак не отделимы. Все мы это говорим, но очень плохо понимаем. И когда доходим до дела — до обсуждения, скажем, какого-нибудь рассказа, — сразу начинаем: «По содержанию-то рассказик замечательный, а вот по форме…» — или наоборот.
Происходит это, верно, потому, что, логически мысля, мы неизбежно делим целое на его составные части — и тут-то и выдаём себя, обнаружив, что в глубине души считали форму и содержание составными частями вещи, сделанной из мыслей и чувств. На самом же деле нельзя изменить в законченном рассказе (если только он настоящее произведение искусства) ни одной его части, ни фразы, ни даже единого слова, чтобы не поломать и формы его и содержания. Даже прочесть рассказ — вслух или про себя — невозможно два раза одинаково, как нельзя дважды ступить в одну и ту же реку (Гераклит)[35].
Записная книжка
«Будь осторожен, как слезинка на веке, — ибо от смерти тебя отделяет всего один шаг».
Надпись на горной тропинке, на скале, повисшей над пропастью, в Горной Бухаре (Памир). Надпись сделана на таджикском языке.
(Сообщил Левушка)[36]*
Если бы в течение всей моей жизни играла б музыка, я был бы героем, гением, богом…
*
Лень — мать всех пророков.
Жалобная погода.
Отважные усы.
Злая ноздря (высоко вырезанная).
Если на дупле паутинка, значит в дупле никто не живёт.
Слёзы её сквозь улыбку — грибной дождь.
*
Охотнику много приходится видеть такого, что недоступно простым глазам. В его рассказах потом это вырастает в фантастическую картину, которой никто не верит. На охоте все чувства человека чрезвычайно обостряются; он может воспринимать то и так, что и как недоступно в будничной жизни. Запаса обычных слов недостаточно для описания, охотник-рассказчик невольно впадает в преувеличения, увлекается с «негодными средствами», и над ним смеются.
*
Улыбка робкой зорькой раздвинула губы маленького человека, расширилась, осветила глаза, потом всё лицо, потом на лице ей стало мало места — она слетела в воздух, росла, ширилась, пока не заполнила всю комнату. Заулыбались все вокруг маленького человечка.
*
Лунное молоко — туман.
Смажь-ка пятки заячьим салом!
Вдумайтесь в свои мозги.
Говорит швырками.
Не шелестите словами!
Трясогузка моргает крыльями (при полёте).
Зарянка свиристит.
*
Двойного блеска глаза у лисы — сверху поблёскивают и затаённый в зрачке глубокий, умный огонь.
*
Старательно спит ребятёнок.
Нога (икры) иглами еловой хвои набита (отсидел ногу).
Снегирь: — Жуть… Жуть… (звукоподражательное).
Хоть сзади, а в том же стаде.
*
Конскому пастуху показал (очень просил) бинокль; пастух глядит на аэроплан, радуется: — Ишь, проклятый, как притянул — рукой взять!
*
Кислица — (четырёхлепестковая) — благодать для охотника в жару.
*
Ломкий свист кроншнепа (большого).
Желна кричит истошным голосом.
У собаки думка в хвосте, у лошади — в ушах.
*
Кто первый сказал: «тоньше комариного писка»? Комар дудит басом.
*
Кузнечики трещат — точно кто-то беспрерывно заводит карманные часы.
*
Вечер хорош. Солнце село за большое, тяжёлое облако. Верх облака — широкая кайма — долго горел ослепительным золотом. Поля и небо расписаны зелёной, розовой, голубой красками, — одним словом, пошлейшее сочетание в живописи, в природе же — чудо, как хороши!
*
Сегодня сильный ветер (вест) и к 7-ми вечера нагнал тучу, спрыснул дождём, сломал одну из дуплистых лип в аллее (к счастью, скворчата из её дупла уже вылетели).
*
Весной журчейки бегут.
Страх придаёт храбрости.
Конь на ноги ленив.
Дер. Камзово. Новгородск. обл.Беда не по лесу ходит — по людям.
Елена Никитина. Дер. Яковищи. Новгородск. обл.*
И глядя на луну, рассказал хозяин, что там, на ней, стоят два мужика, а между ними мешок: хлеб делят. Один говорит: «У тебя детей много, бери хлеб себе». А другой: «А тебе на бедность надо, — бери себе». Так и стоят, никак не могут разделить.
19/VII 37 г., д. Михеево.*
Светлые, пресветлые дни! Каждое утро — проснёшься — и лучезарный мир в окне, свет и зелень.
*
На ели перед лесом пела «неизвестная» птица: я никак не мог её рассмотреть. А песня страшно знакомая, — но никак, никак не могу вспомнить — чья. Обязательно надо выяснить на днях. Уж не дубровик ли?
*
Здесь поверье: до Ильина дня комара убьёшь, — их решето народится; после Ильи убьёшь — решето их убавится. Оно похоже: бьёшь их, бьёшь, а всё прибывает!
*
Молодые шишечки — мягкие, нежные и как багряно-красные лампочки на маленьких, чуть повыше человечка ёлках.
*
Пить роску из манжеток. Весь день почти хранят росу. Осторожно-осторожно сорвать стебелёк с зелёной складчатой розеткой, как сложенные крошечные ладошки, хранящей чистейшую, драгоценную каплю, бережно донести до рта и, на мгновение ощутив на языке свежесть всего утра, — испить, приобщиться св. даров.
*
Пылит вовсю можжевельник: ударишь палочкой — и от куста дымное облако.
*
Страшно, если один ночью в лесу. Не страшно, если хоть собачья душа рядом.
*
Птичий язык:
Чечевица из куста спрашивает:
— Тришку видел?
Перепел бьёт:
— Спать пора!
Удод говорит:
— Худо тут!
Дикция-то, дикция какая!
Так и выговаривают!
Пеночка-теньковка высоко на ёлке нежненько выговаривает:
— Тё-тинь-ка, тё-тинь-ка!
А чиж:
— Чулки, чулки, валенки! (варежки! — лучше).
*
Хорошо зовут тульские птицеловы эту птичку: сорокопесенник. У неё и верно чуть не 40 песен: оч. разнообразная, негромкая, но красивая песня.
*
Тишина — бездна. И крик в ней — как камушек (канул).
Оглушительная тишина.
Заячьи хвостики на стебельках: болотная трава.
У летящей цапли шея, как у верблюда.
Отец мой — Лес, мать — Земля.
С бодрым утром!
Совесть — это тоже физиология (должна войти в кровь и плоть).
*
Я только ныряльщик. Я ныряю в глубину жизни за жемчугом. Низать его в ожерелья, носить его будут другие.
*
Детские книги надо писать так, чтобы они были доступны также и взрослым.
*
Новгородское. Когда набивают тюфяк соломой, говорят:
— Вот так перина с первого овина.
Каждая пушина по два аршина.
*
Лафонтен говаривал, что после написания одной басни ему необходимо отдыхать 12 лет.
(Из письма Е. Я. Данько).*
Мраморное утро — весеннее, крепкое, с заморозком — и ещё кое-где снег на чёрной земле.
*
Валька кричит: «Муравей пирог понёс!» Оказывается, здешние ребята муравьиные яйца называют пирожками — очень хорошо!
*
Нирвана не только в полном, идеальном покое. Нирвана и в полном неистовстве страсти.
*
В детстве я не ломал игрушек: «посмотреть, что там внутри». Подрос, — и мучительно мне было разбирать, развинчивать своё ружьё, конечно только когда портилось: ружьё — часть меня самого, продолжение руки и глаза, — кто же станет без необходимости резать свою руку или пытаться вынуть глаз?
Анатомом я не мог стать.
*
Кукушкины слёзки. Кукует самец, а самка-то хохочет!
Про книгу: «Издали хорошо». Издáли или издали?
В молодости стремишься жить вширь, к старости — вглубь.
Сидим у моря и ждём подводы.
*
Художник Ив. Богд. Стреблов, портретист:
— Я часто избегал смотреть людям в глаза: слишком много вижу в них. Это кажется мне нескромным, я отворачиваюсь, как отворачиваешься от освещённых и незакрытых окон.
*
Ленинград.
Солнце заходит, и тень большого дома справа ложится на стену дома против моего окна. Крыша, трубы. И из труб — тень дыма.
Тень дыма!
Это уже почти тот свет.
*
Смешок на всякий случай: дескать, я это для смеху.
*
Н. В. Крандиевская (бывш. Толстая) спросила у Ив. Алексеевича Бунина: «Чем пахнет снег?» Бунин подумал и ответил: «Грозой».
(Сообщил Ив. Серг. Сок.-Мик.)ЧТО ТАКОЕ «МЕЧТАТЕЛЬ»?
Человек, живущий двумя жизнями. Всё, что переживает он в «реальной» жизни, всё, что узнаёт сам или слышит от других, — всё переводит он в другую свою — внутреннюю жизнь, в жизнь мечтательную. Люди практической жизни в часы своего «досуга» думают — обдумывают совершённое ими, виденное, слышанное, пережитое, — обдумывают будущее, смиряя свою фантазию, как только могут. Мечтатель всегда мечтает, превращая таким образом всю свою деятельность и самую свою жизнь — в вечный «досуг», исполненный их фантазией. Полезен может быть мечтатель для человечества лишь тогда, когда фантазия его становится сама по себе делом, как слова могут стать делом («Слова поэта суть уже его дела» — Пушкин); мечтательность — основа изобретательства.
Живя мечтой, сквозь мечту видя жизнь, людей, их взаимоотношения, — очень часто окунаясь в «реальную» жизнь, оказываешься дураком.
Древние греки и римляне увенчивали поэтов и знаменитых полководцев лавровыми венками. В настоящее же время листья идут в кушанье для приправы.
Шуберт. Ботанический атлас 1870 года. С.-П.Б.
Pro domo sua[37]По реке идёт «сало». А мне надо плыть по этой реке, и — что особенно трудно — плыть вверх по течению. Для этого мне приходится без отдыха отталкивать со всех сторон нажимающие на меня льдинки — бесконечно поле этих холодных, твёрдых, острых серых льдинок, плывущих на меня по воде и под водой, — серое, настойчиво напирающее «сало». Правда, оно легко крошится в кашу, но освобождённое впереди пространство, где мне плыть, сейчас же снова заполняется сплошной массой этих ничтожных, но страшных врагов. А плыть вверх по течению нельзя, если впереди тебя и кругом вода не свободна.
Сизифов труд! Когда навстречу тебе идут большие, тяжёлые, но редкие льдины, — плыть вверх по течению легче: напрягшись, с трудом оттолкнул большую льдину, — и плыву свободно до следующей. А следующая когда ещё будет.
Вот и отбиваюсь все дни от сала. Время течёт. А я все на том же месте.
Если так будет продолжаться ещё год, то не выдержу: устану, пойду ко дну.
*
В искусстве, как и в жизни, в каждом случае есть только одна правда и множество лжей. Выдумывать лжи легко и просто, но очень трудно выдумать правду.
*
В моих снах-кошмарах «действие происходит» всегда в городской обстановке — в квартире, в здании, на улицах. Ни разу в жизни я не видел кошмара с местом действия в лесу, в поле — в природе, или даже в избе.
*
Это не литература, а словопырня.
Оглушительное впечатление.
Не жизнь, а судорога.
Читайте медленно, со шпонами.
Говорит курсивом.
*
Экая глыбища жизни! (О большом человеке, медведе).
*
Наука есть «холодная обработка» фактов; искусство — «горячая» (то есть страстная, изменяющая «химию» объектов).
*
Наше любимое занятие — собирать на берегу камешки.
Люблю бесполезные вещи, бескорыстную красоту неразгаданных образов. Оставьте нам детство, игру, всегда бесполезное, бескорыстное искусство, а мы оставим вам весь земной утиль — пользуйтесь, жирейте, стройте себе из него дома и машины.
На морском берегу бесконечных миров играют дети.
Р. Тагор*
Так хорош прибой, что смотрел бы, смотрел, смотрел на него. Сердце веселится бездумной, бездумной радостью стихий, разгульным их весельем. Ритм прибоя — строг и грозен; казалось бы — должно быть однообразно, а вот поди ж ты: нет двух схожих волн, одна на другую не похожа, всё меняется — и цвета моря, и грохот катящейся с уходящей волной гальки, и сила, и длина, и цвет, и высота валов.
Ух, хорошо!
*
В нашем саду цветут гортензии. Огромные — с голову младенца — соцветия гортензии похожи на кучу или букет зелёно-розовых бабочек, тесно обсевших конец стебля.
Чудесные желтоватые розы на высоком кипарисе нашей ограды — высоко (м. 12) в небе.
Оказывается, это одичавшие, сбежавшие из сада розы. Садил их садовник внизу у ограды, а они пробрались к кипарису, обвили его, старика, взобрались по нему в небо и там расцвели десятками цветов.
Что ж и их — как лианы — назвать «паразитами»?
*
Люблю смотреть на дельфинов. Научился находить их в бинокль среди бесконечного простора моря.
Надо найти хотя бы одиночную чайку и следить за ней, пока она не подлетит туда, где плавают на воде и вьются над морем её подруги.
Найди чаек — найдёшь дельфинов.
Чайки ищут, где идёт рыбка, — и слетаются сюда стаей. Сюда же приходят за рыбкой дельфины.
Чайки их совершенно не боятся. Видишь: плавают, а между ними, совсем рядом, поднимаются и опускаются чёрно-белые плавники весёлых морских зверей.
*
Для старости прежде всего, может быть, характерна быстрота времени. (Не знаю, так ли это у людей физического труда, но у нашего брата так.) К концу жизни дни, месяцы, годы, проходят с огромным ускорением. В нашу эпоху понятие «спокойная старость», очевидно, прочно ликвидировано. Чем меньше остаётся жить, тем больше дела, больше и скорей надо сделать. И — главное — ещё то и сё, ещё хоть немножко понять, узнать в жизни. Ещё, ещё, ещё, — хотя знаешь, что путь постижения жизни бесконечен и каждый новый разрешённый вопрос вызывает сотню следующих вопросов — «век живи, — век учись, а все равно дураком помрёшь».
*
Впервые в жизни — видел крякву-альбиноса.
*
Ещё моё: у гнезда не делать резких движений и разговаривать с сидящей птицей ласковым голосом, а ещё лучше — что-нибудь мелодичное напевать. Это — как масло на бурную воду тревоги птицы за птенцов (или яйца).
— У супружницы моей характер шквалистый, — сказал моряк.
Английское название беляка — Snowshoe rabbit — лыжный заяц.
Пристальный человек.
Душа, зажатая в кулак.
Мещанка беспробудная.
Мастер дела боится.
*
Утром будит неожиданно молодой голос Верики:
— Смотри, сколько солнца я тебе впустила! Какой чистый день встаёт! Чистый-чистый, ясный-ясный — таких ещё не было ни одного за всё лето. Это нарочно для нас! Солнышко не поморщится.
Она сняла шаль, которой занавешиваются на ночь мои два окна рядом (в «кабинете»).
Нежаркое солнце спокойно смотрит в комнату. Спокойно висят за окном косы плакучей берёзы, чуть дышат на них листья. Спокойный залив — не вода: хрусталь! Мерцают с той стороны на окошке тончайшие паутинки, как алмазом режут стекло — и стекло остаётся цело. Ясен лазурный шатёр.
«Свете тихий…», неужто мне опять 17 лет?
И откуда такие девические ноты в утреннем голосе моей любимой старушки?
Какая отрада — жить! И как много в мире солнца.
*
И опять:
Бродить — искать, искать и находить, найти — и радость, радость и удивление, —
ты опять в стране Див, мальчик!
*
После захода солнца зажигается в высоком небе одна звезда — золотая Венера. Огромная, сияющая, она полновластно царит во Вселенной. Особенно хороша она сквозь мелкое ещё кружево молодых берёзовых листьев.
*
Утра — мои.
Дни то душные, пáрные, полные комаров, то суховейные — всё равно дышать нечем. И я обливаюсь потом, задыхаюсь, не могу ничего делать — умираю.
Но каждое утро для меня — воскресенье. Каждое утро — весна. Свежая, светлая — святая. В просветлённой душе просыпается детская жизнерадостность. Дышится легко. И — плохо ли, хорошо ли — я живу.
Утра ещё мои.
*
Во все времена у всех народов первый враг искусства — пошлость.
«Пошлость» — согласно изысканиям Ел. Як. Данько — это то, что однажды кем-то было найдено и пошлó: стало употребляться всеми, потеряв при этом сущность свою — душу.
В пошлости всегда — «несоответствие», как говорится, «формы и содержания», фальшь стёртой монеты, давно несоответствующей своему первоначальному весу, то есть истинной — всегда условной! — ценности.
Искусство есть — прежде всего — открытие мира своими глазами (субъективно), исключающее какие-то общие взгляды («общие глаза» — нонсенс), чужие непереваренные мысли, взгляды, ощущения.
Пошлость враждебна искусству по самому своему существу. И какой это страшный враг — страшнее денег! Мефистофель мог бы спеть пострашнее песню, чем свою:
…На Земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он царит над всей вселенной. Тот кумир — телец златой.Правит миром (людьми именно) всесильный бог — Пошлость. Телец златой — лишь его икона.
*
Хозяйка затопила русскую печь. Весело побежал огонь по дровам. Вдруг одно из поленьев запело, сперва — басовито, возмущённо, потом — всё тоньше и жалобней…
— Ты чего пищишь? — спрашивает хозяйка. И деловито разговаривает с горящим в печке деревом, с огнём, со своей посудой. Лары и пенаты не умерли и не умрут вовек, — пока душой дома будет женщина.
*
Уже июль!
Этой весной я понял, что ужасно беднею с каждым годом.
Лиля Л. ходила со мной по лесу и всё восхищалась чудесным запахом свежих листьев берёз. А потом, в поле, — сильным ароматом душицы. А я почти не чувствовал запахов — не испытывал этого простого и прекрасного наслаждения.
Притупляется всё — зрение, слух, обоняние. Душа нищает.
Волшебная кладовая памяти — вот откуда остаётся доставать свои выдохшиеся сокровища престарелому художнику. Только дети и влюбленные имеют право называться живыми.
Прекрасны бывают и руины, но в них уже никто не живёт.
Уж не живут и во мне радости.
*
В 4 часа утра за окном туман с земли до неба. С востока он озарён — и весь розовый. Черно выделяются в нем только ближайшие предметы: наш забор, ветви берёз, ели у дороги — и совсем чёрные — банька на берегу и тополь за ней. Дальше ничего не видно, даже залива и поля, — сплошая розовая муть.
Утро тихое, безоблачное, прохладное. Где-то в елях напевают скворцы.
*
Днём (перед дождём?!) кричала гагара. Она кричит так: «О выпь! О выпь!» или: «О, кто ты? О, кто ты? Караул! Утонул!.. О выпь, выпь!»
*
Не вчера ли только весь день была на небе муть, лили дожди, а сегодня сияющий день.
И вновь, как в первый день созданья. Лазурь небесная тиха, Как будто в мире нет страданья, Как будто в сердце нет греха. Д. МережковскийЧуть веет ветерок, не определишь даже — откуда.
*
В полдень зажглись сами собой лампочки. Через несколько минут Павлик наладил у нас и радио. Музыка, музыка в зелени листвы и трав, над бессмертно спокойным озером!
*
Музыки, музыки! И музыка слышится: в шелесте травы и листьев, в весёлой перекличке мимолётной стайки щеглов, в бубенчиках бродячего выводка синиц, в жужжании залетевшей в окно мухи.
*
Звенит теньковочка под окном, пухлячки шепчут: «Сестрица, тише! Тише, тише!..»
*
Восход чистый, яркое солнышко. Потом опять мокробесие: тучи запеленали небо в грязные пелёнки, спрыснул дождь.
Встал в 6 — и вот опять испытал восторг жемчужного часа.
В такие безоблачные утра мир раскрывается как огромная жемчужина Вселенной.
В этот утренний час движутся, «бродят» горы.
Сперва, когда ещё солнце глубоко под дальними горами, кажется, что перед глазами лишь два хребта: впереди — чёрный, спокойный; сзади — белоснежный, с резкими диковинными очертаниями — и весь в сиянии. Потом начинается движение, между этими хребтами и впереди чёрного возникают новые хребты и отдельные вершины. Горы беззвучно перемещаются, строятся. К тому времени, как солнцу показаться из-за дальней вершины, они замирают в строгом строю — и уж на весь день.
*
Чудесное утро! Встал в 5 часов (хотя лёг в 3 часа) — и радость, радость наполняет душу!
Гоголёнок мой говорит:
— Ну, разве не стоило родиться на свет даже для одного такого чудесного утра!
— Стоило, конечно, стоило, мой умница!
Береговушка говорит:
— В это утро мне кажется, что весь мир — мой дом, и я не могу усидеть в своей норке, — мне хочется обнять крылышками весь свет.
— Вот я тебя поймаю за хвост и хорошенько оттреплю за такие слова! — тоненько рычит Щенок из Первой Охоты. — Потому что этот прекрасный мир — мой, а не твой!
— Маленькие, не ссорьтесь, — говорю я. — Тем-то и хорош этот светлый утренний мир, что всем в нём довольно места и всем в нём прекрасно. Даже стеклоглазый Ястреб сейчас кроток и невинен, как только что вылупившаяся из яйца заряночка. Правда, он схватил и унёс Мухолова, он растерзал куропачьего петушка Бровкина, но это было прошлым днём, и он не помнит об этом.
*
Утро как стёклышко. Даже туман на озере кажется чьим-то тёплым дыханием, на минуту замутившим гладкую поверхность зеркала, — и так легко с него сходит.
Птицы, научите меня вашим песням, вашим гимнам Пресветлой Утренней Жизни!
За это я попрошу людей устроить вам на моей могиле бесплатную столовую, где вы всегда найдёте себе еду в лихое время бескормицы, уютные спаленки и надёжные ухоронки от врагов, а летом приют для гнезд…
— Это можно, — сказал Красноголовый Воробей. — Повторяй за мной — и ты научишься. Ну: «чик-чирик!..»
*
Сегодня на рассвете проснулся от стука упавшей вещи. Гляжу — синица! Впорхнула, скинула со стола пузырёк с валерьянкой и камфарой (я принимал вчера) — и вмиг выпорхнула обратно над занавеской — в окно. Итак, долой лекарства! Ясней не скажешь.
*
Автор писал автобиографию в автомобиле авторучкой — автоматически.
*
Пожилая машина превращается в животное: старый автомобиль ворчит на своего хозяина; паровоз, насчитывающий за своей спиной десятилетия, дружественно перекликается с горами и лесами; старинные стенные часы отлично всё знают в семье и в роду, много о чём могут рассказать.
*
Сложить бы такие простые стихи, как песня весёлой синицы. Вот такие бы, например:
«Зин-зи-вер. Зин-зи-вер! Зин-зи-вер!»
Чем плохи?
*
Прекрасен сегодня вечер: тих, светел и прозрачен, как сткло. (Мне кажется, в этом старинном произношении слова гораздо лучше передается именно прозрачность стекла; «стекло» может течь («стечь» и «стекло»), может быть мутно, а сткло ломко и прозрачно, как льдинка). Это надвинулась на нас (уже дня три) шапка арктического воздуха, а она — из льдистого, совершенно прозрачного хрусталя. Он (воздух) потеплел, а прозрачности своей не потерял. Всё вдали стало видно рельефно, — и кажется, что твои (мои) глаза вдруг чудесным образом помолодели.
*
Писанье — род недуга.
Членистоногий тростник.
Украшашкин.
Не примечать, так и хлебушка не едать.
Русская народная пословица.Тяжко тебе? Думай о других.
Когда она замолкала, казалось, что в комнате потушили примус.
*
…Решил этим летом перейти опять, вернуться к старинке: простым (если не гусиным, то) стальным перьям и деревянным вставочкам (ручкам).
Это проба пера. Пишу и наслаждаюсь. Пёрышко простое, белое, а вставочка — толстая, пробковая — всё та самая, которой папа написал чуть не все сто своих научных трудов, да и я ряд своих сказок и рассказов.
Прелесть как хорошо пишет!
Хорошо выезженный конь, право же, куда приятнее вечно портящегося автомобиля!
*
Вопрос ориентировки птиц в пространстве и времени при перелётах так же сложен и малопостижим, как вопрос о том, почему человек влюбляется в ту или иную особу (без расчётов): тут, вероятно, тоже неизбежность выбора по неким точным признакам, известным подсознанию человека, но невидимым его сознанию.
*
Служкой у палача он точил меч для казнимых и мылил верёвку для тех, кого должны были повесить, — и утешал свою совесть тем, что он облегчает участь страдальцам.
ТОСКА ПО ХВОСТУ
Да… Был бы у меня хвост — прилёг бы я вот на этот диванчик, задремал бы на нём, а хвостом, как палкой, по полу — стук, стук, стук!
*
Звали его Клим Климыч, а любимая поговорка его была: «клин клином вышибай». И конечно, все звали его Клин Клинычем.
*
Аккуратный, рассудительный, всё делающий по уставу, по правилам немец Густав Густавович. И конечно, все звали его Устав Уставычем.
*
Всю ночь шёл дождь. С южной стороны стволы всех сосен почернели — мокрые. Белочка бегает только по серой (или жёлтой) стороне деревьев.
*
Песня у садовой камышевки длинная, бойкая, но бестолковая.
*
Перевод на русский песни зяблика:
— Слышь: тишь, тишь, тишь в лесу, лесу, лесу — это счастье!
*
Из нашего окна провели провод — от радиоприёмника к антенне, укреплённой на соснах. Теперь на эту проволоку часто садится горихвостик — покрасоваться, себя показать и людей посмотреть, — совсем близко от меня.
ЛАЗУРНЫЕ НЕБЕСА
Где-нибудь, в Италии, например, может быть, такие и бывают — не знаю. Не сбылась мечта — не побывал.
А у нас небо совсем не лазурное. Обычно оно цвета сильно разведённой синьки. И тусклое.
Но бывает и живописным. Вот хоть сегодня утром, часов в пять.
На бледно-голубом фоне очень высокие и очень медленные белые облака, ярко и радостно освещённые солнцем. Из-за моря кто-то пытается набросить на них фату, газовые шали. Тоже белые, но совершенно прозрачные.
Шали одна за другой проносятся ниже белых облаков — не могут их закрыть.
На юге — туча. Она густо-синяя, по краям выцвела, грязноватого цвета.
Края высоких, почти неподвижных облак (не — облаков!) солнце расцвечает золотом и алым, розовым, оранжевым. Краски его ослепительны.
В Италии — на родине моих отцов — может, прекраснее небеса; не сбылась мечта, — не побывал, не видел. Но хорошо и у нас небо.
Очень хорошо бывает.
*
Омертвела душа.
Умер один из самых близких в жизни людей — и не слезинки… Только сжалось сердце и весь день вздыхалось.
А в молодости бывало! Неудержимые рвались бы рыдания. Омертвение до равнодушия.
Дойдёт до того, что и собственную смерть примешь так же равнодушно.
*
Солнечно. Во время утренней прогулки нашёл у третьей берёзы от нашей двери подберёзовик. Теперь для меня и это — достижение.
*
Рыжка на каштане среди его белых цветов и зелёных листьев.
На спине у неё и на бёдрах все ещё сероватая попонка.
Группа девочек под предводительством мальчишки сбегают с холмика, что-то громко обсуждают под самым каштаном. Рыжка застывает на противоположной от них стороне ствола. Ребята городские, неприметливые, а и скользнет кто взглядом, — примет за кусок сосновой коры: тут кругом сосны.
Наконец ребята убегают.
Белочка спокойно поворачивается, взбирается на крышку скворечника и растягивается на ней во всю свою маленькую длину. И так она лежит, распластавшись, положив голову на ручки и свесив легкий хвостик, — «загорает».
Проходит десять минут, четверть часа, — она все в той же позе принимает солнечную ванну.
Наконец приходит Коля и снимает её. Но она уже изменила свою позу. Потом она очень грациозно чешет ножкой за ушком и, подогнув хвостик под себя, пропускает между ручек и быстро-быстро покусывает его.
*
Скворчат скворчата. Большие уже и перепархивают в самых маковках деревьев. А всё равно — подлетает мама, скворчонок пищит, широко разевает рот, — и она пихает ему в пасть больших червей (гусениц).
*
Я никогда не был дачником.
Совсем другая психология. Дачники загорают, катаются на лодочках, любуются закатами (восходов они никогда не видят: надо же выспаться!), а потом играют в карты, засиживаясь за полночь, чтобы как-нибудь убить время. Убийцы прекрасного времени! Самоубийцы, конечно. Люди, которые не знают, куда себя деть, когда, как улитки, вылезают из своих ракушек (канцелярий, контор, кабинетов, спален).
Я счастлив тем, что я в жизни специально не загорал, никогда не катался на лодке «просто так — для прогулки», видел тысячи радостных утренних зорек.
*
Песен больше нет. Почти: утром рано иногда славка одну коротенькую про себя пропоёт, но ни синиц, ни зябликов.
Зато всюду пищат синичата, зябличата, сорокопутята.
*
Вот жаворонок. Строфа его песни издалека, из-за реки, вплетается в моё сознание и обогащает его радостью.
Без жаворонка жизнь скучновата.
*
После дождя берёзы стали (чуть) розоватыми. Изумительное дерево! У него не ствол, а тело.
*
Если любишь свою землю, любишь на ней всё: и солнечные дни, и дождик — ласково сияющую под ним влажную листву, блестящие капли его, нежный плеск листьев под ним. Безразличным в лесу никто не может оставаться.
*
Pnenaminальная работоспособность.
Глубокая редактура.
Поэт (писатель) — мироощущение, а не профессия, не служба.
*
Надо запомнить: Москва, Д-40, 1-й Строевой переулок, дом 14, квартира 2, Иван Григорьевич Гашичев.
Человек, предложивший думать о птицах при постройке домов — учитывать их потребности, устраивать пустоты для гнёзд.
*
Вечером вчера торжественно выпустили ежа. Пока он лежал, свернувшись, на травке за нашим домиком, подошли Михаил Львович и младший брат Тур с женой. И сразу оживляются люди, увидав жителя другого мира, им неведомого.
*
Каждый должен иметь прожиточный минимум света и ласки.
А сколько у нас одиноких, окружённых глухой стеной равнодушия!
Стараюсь порадовать их, чем могу, в письмах.
*
Проснулся кругом в дожде. Шелест листьев под ливнем. А мысли всё равно весёлые. И в саду веселье: прыгают, пищат, дерутся, перекликаются стайки слетков. Тут скворчишки и дроздушки, и молодые зяблики, синицы, пухлячки, воробьишки.
Не понимаю, как можно скучать в лесу — пусть хоть дождь! Не понимаю глупого, бездарного, до краев надутого важностью дачника, возмущающегося играми ребят в саду (даже не под его окнами): «Мешают работать!» — но нисколько не жалующегося на резкие гудки паровозов на близкой станции, на оглушающий шум самолётов, назойливый стук моторных лодок… Мёртвым людям нравятся мёртвые звуки, а живые выбивают их из равнодушия.
Не понимаю. Мне — как и моему отцу! — нисколько не мешают шумные игры детей и молодёжи, их смех и крик. Даже помогают работать, радуя и веселя, как хорошая музыка.
Мешает только, когда начинается плач, ссоры…
*
Стук копыт на мостовой — и сразу возвращаешься в детство!
*
Солнцем провожает взморье. И так неохота уезжать! Жили бы да жили в лучезарной зелени, и я бы спокойно работал, мысли всякие приходили бы в голову — слева.
С ежедневной стайкой скворчат прилетает скворец — и поёт, поёт у своей скворечни!
Да, ему есть о чём петь. Хорошо ему было летать в саду, и скворчиха, в которую был он влюблён, вывела тут ему милых скворчат.
И вот белочка знакомая — Черноспинка — бежит с дуба — по веткам тополя, потом рябины, потом по нашей крыше — и исчезает в голубых ветвях канадской ели, где у неё гнездо.
«МИР ДАН»
Какая чепуха! При наших так дьявольски ограниченных средствах постижения его — наши жалкие «пять чувств» плюс логическое сознание, — что можем мы постичь в мире?! За границами наших возможностей и ультраслух кошки, и ультранюх собаки, и эхолот летучей мыши, и тепловые ямки гремучих змей.
*
Гости — воры времени! — двигались, как тучи, — и всё на наш редут.
ЖЕЛАНИЕ
Рассказ о том, как у ящерки от желания выросли крылья.
*
Хмурутро. А чего ж теперь и ждать? Светосмерть.
Как трудно, поди, птицам летать в этом мокром, грязном, тяжёлом воздухе!
Чаек сегодня не видно.
*
У всякого человека своя стихия. У кого — море, у кого — горы, степь, поля. Ветер, огонь, вода, воздух. И много людей, чья стихия — город, зрелища, домашний уют, домашность.
Моя стихия, любимая стихия — лес.
Толпы деревьев, густейшая конденсация растительной и животной жизни.
Лес на берегу моря — колыбель моя. Утренний сон.
Чувствую: в лесу я — в своей стихии, как моряк чувствует себя в своей стихии в море, как горожанин — на улицах города.
*
Что делаешь, делай на совесть — и, значит, никогда не делай того, что не велит тебе совесть.
*
Каждую истину переверни вверх ногами — и посмотри, что из неё получится. Но помни: ложь, перевёрнутая вверх ногами, не обязательно — истина.
*
Не признаю кровного родства, кроме самого необходимого: мамы и папы. Признаю только родство по мироощущению (поэтич.) и миросозерцанию (пониманию) да ещё — по доброте.
*
«Светосила» — какое замечательное слово!
Надо способствовать ему перебраться из оптики в художественную литературу.
*
Там справедливо, не справедливо, а называют меня своим учителем: Н. М. Павлова, Н. И. Сладков, Э. Ю. Шим, Кр. Вс. Гарновский, А. А. Ливеровский, С. В. Сахарнов, Н. Ф. Раймерс (К. Иванченко), М. С. Гроссман, М. Дм. Зверев и ещё с десяток людей.
*
Какие могут быть в это время года «утренние мысли», когда утра нет, весь день вечерние сумерки!
*
Этот год тем светел мне, что в нём я окончательно понял: солнце внутри нас — и оно неистребимо.
Солнце бессмертно.
*
Утром всё небо покрыто чуть голубо-серым ватным одеялом. На западе оно дырявое, клочьями, в иных местах слабое — и просвечивает жёлтым.
Опять снегири на черёмухе.
*
Что надо сохранить от ребёнка в душе взрослого?
Широко раскрытые на мир глаза.
Непосредственность ребёнка.
Горячую на всё отзывчивость.
Чистоту помыслов.
Мечту.
Доверчивость.
Мироощущение поэта: жизнь — сказка.
Восхищение первооткрывателя мира.
Мира восторг беспредельный.
Доброту ребячью.
*
Жизнь существует для того, чтобы о ней рассказали.
*
Может, назвать статью о красоте природы «Невдомёк»? Невдомёк нам, что мы живём в прекрасном мире.
Невдомёк, что красоты, удивительного изящества исполнены все движения нашего котёнка.
Невдомёк, что зори — каждая! — неповторимой красоты, — и не просто они краски, пятна на небе, а полные содержания, смысла и значения картины.
*
Чудеснейшее свойство человеческого ума и сердца — воображение.
Храбрость может обойтись без него — храброму человеку даже лучше, если у него нет воображения; а любовь — никак.
Любовь к родному уголку мира. Полный дремучих тайн лес, просторы степи и тундры, горы, море — создают воображальщиков, мечтателей, сочинителей, поэтов.
ЛЕБЯЖЬЕ
Соединение леса и моря дало поколение моряков, охотников, биологов, путешественников.
Что посеешь в детстве, взрастишь в зрелые годы.
Родина творит нас в первые годы после рождения. Люди с несколькими родинами. Рождённые в лесу обычно не понимают красоты степи, рождённых в степи давят горы.
*
Красоты у птиц.
Красивы самцы, самочки скромны. (Красота внешняя и внутренняя). Сколько эстетических наслаждений дают птицы. Красота оперения, пения, полёта, гнездостроения.
*
Проникновение в красоту даёт рост наслаждению ею.
Живопись для глаз собаки — просто чёрно-белое пятно. Красивый пейзаж на картине оставляет равнодушным непонимающего. (Неродная, незнакомая природа — не понятна.)
*
Опять огромнейшее синее, чистое-чистое небо. Просто чудо-март!
*
На восходе паровоз за лесом всё пускал огромные клубы дыма: ему тоже хотелось, чтобы восходящее солнце поиграло с его облачками, позолотило их.
*
Ночью выяснилось:
первый (с устатку) сон — каменный,
среди ночи — деревянный,
под утро — ниточный, кружевной.
*
На зорьке пришло в голову.
В каждом дереве — если на него смотреть на расстоянии — виден характер особый, свой. И в каждом — если присмотреться — сидит кто-нибудь: в кроне, в отдельных ветках, в стволе: медведь, птица фантастическая, заяц.
Может быть, это душа дерева?..
*
На зорьке — золотистый шёлк неба.
Немыслимо, чтобы когда-то кому-то могли надоесть утренние зорьки. Нет такого человека на земле!
Три лебедя ополдень летели с SW на NO.
*
Днём мульти — «Снегурочка». В который раз смотрю — и опять слёзы лью.
Каждое слово известно — и каждое берёт за душу, уводит в раннее детство, в сказку, которой жил тогда. Но не изверился и сейчас.
*
«Я пишу с ошибками и боюсь простЫдиться»
(Из письма радиослушателя «Вестей из леса»)*
Горе от срыва поездки на весеннюю охоту — чувствую: последнюю! — неописуемо. Впрочем, скорее теоретическое горе: практически при моей феноменальной слабости сейчас мне, может быть, даже не удалось бы подняться на эту авантюру, и срыв её — только облегчение.
Игра, всё на свете для меня — игра! Посидеть с ружьём на пенёчке, послушать вальдшнепов и лягушек, а на утренней заре — тетеревов, и обязательно с ружьём, заряженным ружьём в руках (и пусть оно ни разу не выстрелит!) — разве это не игра?
Воображение, перемешанное с фактами.
*
Мировоззрение всегда условно. Скучнейший прозаик вдруг вспыхивает горячим романтизмом: влюбился. Или, слушая музыку, соприкасаясь с поэзией (искусством), вдруг начинает мироощущать жизнь другую.
Когда же в человеке бывает правильное ощущение жизни, когда для него «чудес не бывает» или когда «жизнь — чудо»?
Не сомневаюсь, что «жизнь — чудо». Ведь если всё скучно, прозаично, то и не надо жить, жизни нет — пустота.
*
В кратком автобио надо, в сущности, ответить на один вопрос: как мог я быть охотником?
Дьявольски трудная тема!
Но нельзя уйти, не ответя на неё. А если полностью развернуться, то в своём автобио надо развернуться на тему: «Три клада было у меня».
Охота. Литература для детей. Единственная в мире женщина, которая не мешала работать.
*
Только один день — единственный! — после тёплых дождей почки вдруг налились — золотистые огоньки на ветвях берёз, лип, ясеней. Как радостно!
ЗАВЕТЫ
Ширше шагай по жизни, ширше! Не мельтеши.
Взвейся — и смотри на жизнь с птичьего полёта.
Ползучему гаду трава мир застит.
Мыслящему человеку жизнь — полёт.
*
Листья распускаются, как улыбки.
*
Громко поют зяблики. Я всё перевожу их бравурную песенку. Получается — в лесу, в саду слышь, тишь, тишь, тишь в лесу, благодать, счастье!
*
Я в самую душу блаженства залез:
Тут солнце. И море. Тут птицы и лес.
ДУША-ДУШИЦА
Знаменитый аромат сена зависит от одной простой травинки: есть она среди остальной травы, — сено душисто; нет, — сено не пахнет или пахнет гнилью.
Травинка эта — душица (или — душистый колосок).
Из душицы, верно, и делаются духи «Душистое сено»? (Узнать!).
Девушка, женщина в доме — душа-душица.
*
Водяной чёрт, по свидетельству местного населения, живёт в дальнем (от нас) конце озера Волосова. На зорях поднимается из воды — большая чёрная спина. Чуть не до смерти напугал старика рыбака, удившего там на озере. Видели и другие.
Возможно, очень старая щука или крупный сом.
*
Чудесное милое существо — маленькая героиня моих «Лесных домишек» — живёт у нас в комнатах. Сейчас, когда я пишу это, она сидит у меня на левом плече — греется на солнышке; изредка, шурша, перебирает розовыми лапками. Она сыта: отлично ест мух из рук.
Если ей надо снести белый пакетик (что бывает удивительно редко!), она ловко пятится, быстро перебирая короткими ножками, — как, очевидно, делала это в своей норке. Вечером вчера она забралась спать Виктору в рукав. Посаженная в корзинку, не успокоилась, пока ей туда не положили тряпки и не устроили из тряпки норку.
Это — молодая, видимо ещё не вылетевшая из гнезда береговушка. Левый глазок у неё начал глядеть, но левым крылом она не владеет. Заживет ли?
Доверие к людям полное, при приближении руки — сразу настораживается: нет ли мухи? Проголодавшись, начинает просить есть, — издает тихий, совсем не похожий на обычный крик береговушек, низкий писк.
*
Я сидел за своим столом ночью при электричестве и был всецело погружен в свои мысли. Конечно, я в эту минуту совершенно не отдавал себе отчета, где я нахожусь, — в городе, в деревне ли?
Вдруг лёгкий шелковый шелест, — и на лист бумаги передо мной, шурша крыльями, опускается ночная бабочка.
«Добро пожаловать, принцесса!» — воскликнул я мысленно, поражённый столь неожиданным вторжением в мой абстрактный мир царственно прекрасного живого существа.
Крошечная принцесса куталась в свои серые с золотом крылья, как в дорожный плащ. На каждом крыле у нее были три черные точки — как пуговицы.
Растерянный, я смотрел на нее, как на чудо, которое мне удалось подсмотреть нечаянно и противозаконно, как на тайное чудо. Она же не обращала на меня никакого внимания и держала себя у меня, как и должна себя держать прекрасная и любимая принцесса со своими подданными в стране ей подвластной.
Яркая электрическая лампочка горела над моим столом, вместе со светом излучая тепло. Но моя принцесса и не думала лететь на её свет и биться, биться головой о раскаленное стекло пузырька, как это делали все залетавшие в мою комнату обыкновенные ночные бабочки.
На тоненьких-тоненьких булавочных своих ножках она прошла по бумаге и остановилась у четырёх чёрных строк — начала стихотворения, завязавшегося несколько лет назад у меня в душе, а сегодня неожиданно вдруг припомнившегося мне — и только что занесенного на бумагу. Вот они:
Бессмертье надвое рассек Мечом всесильный бог природы. С тех пор в тоске кромешной бродит И зверь земной и человек.«Интересно было бы узнать, что она думает об этих строчках?» — подумал я с вполне понятным волнением автора. Но спросить ее не решился, сообразив, каким чудовищным гудением должен ей показаться мой голос. Да ведь и я не летучая мышь, чтобы услышать ее тончайший ультраголосок. Надо придумать какой-нибудь иной способ внутреннего общения. И мне казалось почему-то в ту минуту, что это возможно и даже просто.
Читая мои строчки, крошечное существо задумчиво шевелило своими упруго изогнутыми перистыми усиками. Потом вдруг блеснуло на меня смехом золотистых своих глаз, взмахнуло плащом — и бесшумно исчезло в электрических сумерках, царивших в углах моей комнаты.
Крошечная ночная принцесса исчезла так же мгновенно и неожиданно, как появилась. И только в душе у меня осталась грусть о ней — лёгкая, как золотистая пыльца её пушистых крылышек. Грусть и раздумье: что значил весёлый смех её прекрасных глаз?
Узнаю ли когда-нибудь, чем вызвано это чудесное посещение? Пойму ли намёк?
КОНЕЦ ОБОЛОЧИНЫ
(Рассказывал в Котчине старик).
Когда оболочина (облако) состарится, она падёт на землю.
…Был такой случай около Котчина: старая оболочина, волочась над лесом, уронила на него клок своего тела. Рассказчик пошёл поглядеть его, но попал к шапочному разбору: бабы разобрали почти весь кусок оболочины — натирать себе ноги от ревматизма. Всё же рассказчик видел и рукой пощупал этот клок оболочины: «он вроде как стюдень, белый, весь в пупырях и холодный как лёд».
Поверье о падающих на землю оболочинах слышу в Новгородской области не в первый раз. Знает его с детства и А. Е. Кольцова. Описание её (со слов «очевидцев») упавшей оболочины целиком совпадает с котчинским. А. Е. (Сашенька) говорит, что оболочина «похожа на студень» (плотностью).
В первых числах сентября [19] 50 г. колхозники принесли А. Н. Якобсон «кусочек оболочины, упавшей в поле у Котчина на снопы».
А. Н. загнала «оболочину» в бутылку, закупорила ее и… забыла дома, мне в Погост не принесла.
Отвезла сама в Ленинград, где один её знакомый сказал, что это хорошо ему известный быстрорастущий гриб. А. Н. оставила бутылку с «оболочиной» на окне, на солнце — и «оболочина» превратилась в вонючую жидкость, почти бесцветную.
Пробирку с этой жидкостью Тал. носил в университет микроботанику проф. Наумову. Профессор смотрел её под микроскопом. Ничего, говорит, не разобрать, — одни бактерии. Рассказом об «оболочине» заинтересовался, просил ему доставить кусочек.
Ир. Андр. Крюкова говорит, что у них на границе Московской и Тульской губерний поверье об оболочине широко распространено. И. А. помнит, как однажды крестьяне жаловались, что упавшей оболочины в поле наелась скотина (коровы) — и вся заболела.
*
К ночи с неба как одеяло отвернуло. Вызвездило. Ночь тёплая, как в июле. И вся окутана туманом. Спокойно дышит земля.
*
Утром — на восходе — золотой туман. Тот же золотой туман, что у английских живописцев Тернера и Констебля. Тепло…
*
(После города).
Самое сильное впечатление (на меня) за день: зелень. Трава, лес, поля — это рай.
И тишина. Какая тишина!
*
Кусочки пиленого сахара, опущенные на дно стакана с чаем, выделяют, тая, из себя пузырьки — и на поверхности образуется точно такой же прямоугольничек из белых пузырьков — образ кусков сахара.
Как это похоже на искусство!
А смерть? Не значит ли это перелиться из одной формы в другую, или изойти пузырьками, оставив по себе образ на поверхности жизни?
*
Талант — любовь. Если чего не любишь, — как ни талантствуй — ничего не получится.
Любовь — чувство ответное. Когда любишь, — весь мир к тебе обращается с доброй улыбкой.
Если полюбишь, одно будешь знать: как бы получше сделать. А там похвалят, не похвалят, — пустяки! И не стыдно нисколько: пусть хоть смеются.
*
Она была так мала ростом, что даже Мухой называть её казалось преувеличением; все называли её Мушкой.
*
…Слушал по радио «Рассвет на Москва-реке» Мусоргского. Господи! Вот эта музыка — всё. Сколько б её ни слушать, — всё бы жить, любить, верить. Ведь это — чистая природа, — и человек, колокола его — входят сюда, как благовест.
*
Вкратце, но подробно.
Тут окружают нас неслыханные знаменитости.
Я — человек верующий. Только вот — во что?
*
Пью это солнечное утро глотками, как ликёр. Каждая минута приносит мне новую радость, доставляет своё наслаждение. Верно, что жизнь чем дальше, тем интереснее. Дряхлеет тело, но дух всё выше. Всё больше начинаешь замечать то, что прежде ускользало от твоего внимания, всё многочисленнее, как прекрасные цветы, раскрываются перед тобой маленькие тайны природы, всё выше и непостижимее волнует тайное тайных. Перед полётом в неведомое, полётом, именуемым смертью, каждый час становится всё драгоценнее, каждый миг озаряется невиданной красотой.
Так — когда выглянет солнышко.
*
Высоко над высокими соснами проносятся чёрные стрижи, проплывают белые чайки, — а синие тени их переносятся со ствола на ствол, перелетают с ветки на ветку в саду у нас, как в подводном царстве. Кажется, во всём саду перепархивают синие птицы.
*
Врачи запрещают мне работать. Слепцы! Воображая, что лечат меня, на самом деле толкают меня в объятия смерти: я приближаюсь к ней не бездельничая, а работая, я зарабатываю себе бессмертие своими книжками, — пусть хоть маленькое, всего лет на сто.
Впрок.
СИНИЙ КРАЙ
Домик на самой окраине города. Из окон вид на широкое поле и далёкий, далёкий лес. Синий лес. Девочка мечтает: там, в далёком синем лесу, живут синие птицы — птицы счастья.
Бабушка рассказывает ей сказки про синий лес, синий-синий край далёкой мечты.
Бабушка с девочкой устраивают кормушку — столовку для птиц. Здесь им показываются разные птицы: снегири, воробьи, сороки. Но бабушка и девочка ждут посланцев из Синего Края.
Зимой прилетают: сойка — голубо крыло, поползенька в голубом мундирчике.
Весной прилетает варакушка — синий соловейка с таким чудным синим горлышком, что нет сомнения: он из Синего Края Далёкой Мечты.
РАДУЖИШКА
Фонтанчик наладили — диво, как хорош! А тут ещё дядя поставил меня себе между колен:
— Смотри, кто в фонтанчике живёт. Видишь?
Смотрю на солнце сквозь фонтанчик, а в нём, в фонтанчике, радужишка, да какая весёлая!
*
Читатель! Случались ли с вами в жизни чудеса? Ну, хоть маленькие? Припомните-ка!
Знаю: случались. Только вы забыли о них, потому что это было давно. Чудеса случались с вами в той далёкой стране, что зовётся Овтстед[38]. Это волшебная страна, и вполне естественно, что там на каждом шагу случаются с людьми настоящие чудеса.
(Обращение к Читателю перед началом рассказа.)*
Спокойный ритм моря, ритмичный шелест набегающих волн — сладостная музыка мне. Укачивая душу, он рассредоточивает мысли — и так даёт лучший в мире отдых. А когда отдохнёшь, — нет лучших условий, чтобы сосредоточиться и писать. И на нервы спокойный ритм моря действует как массаж, как тихая колыбельная.
*
Сегодня — день летнего солнцестояния. Макушка лета через прясло глядит. Тяжело думать, что с послезавтрашнего дня каждые сутки день будет уменьшаться, уступая место ночи. Прощай, Юность Дня, вернее: до свидания до 23-го декабря!
*
…Ложась спать, надевает на нос очки: чтобы лучше рассматривать сны.
*
Взрослый человек — Иван-непомнящий (своего) родства (с природой). Ребёнок отлично чувствует своё родство не только с млекопитающими, но и со всеми животными, и с растениями, и даже с неодушевленными предметами (вещами), в особенности — с Землёй.
*
Гремень — камень. Камень, в котором сидит, затаившись, огонь. Если ударить по нему железом, то из него выскочит гром и молния. Загремит гремень и спалит огнём сухое дерево — бревно.
Как выйдет на небо солнышко, как зазвенят за окном в два бубенчика синицы, как забегают по оранжевым реям мачтовых сосен ловкие рыжие матросики с гибкими пушистыми хвостами — крепить зелёные хвойные паруса, — так забудешь о здешней санитарно-курортной пошлятине, и дышишь легко, и радуешься жизни. И вот ещё по душе мне, когда зашумит, загудит в вершинах старых сосен сердитый норд-ост, поднимет гребни синих вод, замашет над ними белыми чайками!..
*
В старости дни маленькие, сморщенные. Всё куда-то спешат и никуда не успевают.
*
Не только дети всех стран, народов и рас, но и детёныши всех теплокровных животных (а может быть, даже всех позвоночных!) образуют ИРИ — Игровой Ребячий Интернационал, точнее: Интервидал, то есть Международное Сообщество. А по-украински: ИДИ — Игровой Дитячий Интервидал. Или, лучше, так: МИБ — Мировое Игровое Братство.
Кот коту — смертельный враг. Но котёнок котёнку — родной братишка. Посади их вместе — и они сейчас же примутся играть друг с другом, как кот с котом (или кошка с чужой кошкой) драться.
Это — внутри вида. Но вспомни «детскую площадку» Московского зоопарка: разве там детёныши самых различных видов зверей — медвежата, козлята, лисята, щенята (динго), тигрята, ягнята, волчата и не знаю кто — отлично не уживаются вместе?
Что их объединяет? Самое сильное детское чувство: потребность в игре.
Эта же потребность заставляет крепко дружить и человеческих детёнышей с собачатами, котятами, ягнятами, а подчас и тигрятами, львятами, волчатами и т. д.
Игры у всех одни: догоняшки, прятки, горка, которую одни берут приступом, а другие защищают; горка, с которой катаются по очереди или обнявшись; самбо; совместные (ставши в круг) ритмические движения (зачатки танцев) и… Но надо ещё подумать, что следует за этим «и». Подумать, разделив игры МИБ на мальчишеские и девчонкинские и учтя, что все они натуральные игры без мячей и прочих инструментов…
Всякая игра требует чувства: увлечения, страсти. Всякая игра есть условность: правила игры всегда условны. Пятнá условно хватает (или просто салит) удирающего, штурмующий условно нападает на защищающего горку, щенята, котята «условно», понарошку хватают друг друга за горло и т. д. Условность правил в натуральных играх очевидна, и эти правила заранее известны всем детенышам, хотя никто им не объяснял их. Хорошая игра неизбежно ведет к дружбе: если играющие поссорятся, раздерутся, то они лишатся партнёра (партнёров) — и игре конец.
Игра не только начало всякого искусства, но и всякого вообще дружественного единения теплокровных.
Игра — начало добра. Добро и зло мыслимо лишь в мире теплокровных, и познаётся оно первоначально в игре. Все теплокровные детёныши родятся добрыми, игры их добрые, — пока родители обеспечивают их пищей и жильём. Только оставшись без пищи и жилища, теплокровные начинают поедать друг друга уже не понарошку. Играя же, все на свете детеныши образуют самое настоящее МИБ.
*
Рыбодерево! Растёт здесь в саду… Издали его листва в точности напоминает крупную рыбью чешую, а ветви — плавники. Оказалось, — молодая липа с крупными листьями.
В каждой новой вещи, в каждом новом явлении есть нечто от чуда. Об этом стоит подумать художникам — всем, кому положено смотреть на мир всегда впервые. Привычка — вторая (и худшая, ложная!) наша натура — величайший враг «художественного ока». Привыкнув, мы перестаём видеть вещи, замечать явления. Путешествия — посещение новых для нас мест — неизменно дают подсветку нашим глазам и всем нашим чувствам. Такое же действие производят на нас новые вещи на месте старых в собственном нашем дому: вдруг опять начинаешь чувствовать, какое чудо — мир и как чудесна жизнь…
Почаще меняйте привычную обстановку, т. т. художники, писатели!..
*
Некоторые даже взрослые думают, что ворон — муж вороны. Вот смешные! Это всё равно, что уверять, будто жена кузнеца — кузница, а дети его кузнечики.
*
Думать, что после смерти ничего нет, не менее глупо, чем верить в любую форму загробной жизни.
*
Шутки ради, забавы для взял я послушать морскую раковину — ту, что в детстве доставляла мне столько наслаждений своими «рассказами о море», слышимым в ней «шумом прибоя», и что до сих пор уцелела как-то и лежит у нас на трюмо.
Я приложил раковину к уху — ничего не услышал, приложил к другому — тоже.
Я не испытывал этой раковины добрых пятьдесят лет. За полвека она могла обезмолветь…
Я передал её Вовке Гнеушу — поэту.
Едва он приложил раковину к своему уху, взор его затуманился и на лице засияла нездешняя улыбка.
— Шумит… море! — сказал он мечтательно.
Значит, не раковина онемела, а я оглох. Печальное открытие!
И тут я вспомнил, что давно уже музыка не производит на меня того чудодейственного впечатления, что производила в детстве и в молодых годах, когда вся окружающая жизнь целыми месяцами преломлялась у меня в душе сквозь хрустальные звуки Моцарта и других моих любимых композиторов. Вспомнил, что и мои «внешние чувства» сильно притупились: уж не различаю я стрелок через Неву, от Академии наук на часах, что под шпицем Адмиралтейства, не чувствую тонкой прелести вкуса омара и ананаса, не различаю в последние вёсны чудесного аромата клейких листочков берёз, в который был так влюблён прежде.
Неужели дойдёт до того, что онемеет для меня весь мир, как онемела для меня эта Морская Раковина, рассказывавшая мне в детстве волшебные сказки про тёплое ласковое море, про чудный камень яхонт и птицу с ликом девы?.
Вспомнишь Блока:
Оставь мне, Жизнь, хоть смех беззубый, Чтоб в тишине не изнемочь!И ещё:
Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим.— Скорей выгони кролика, а то он совсем съест медведя! — такой возглас можно слышать у нас в квартире, когда наш кролик забирается в столовую. Понравился ему, видите ли, ковер из белого медведя, — он объедает у него под мышками сукно, а заодно и шёрстку.
*
Пока шапка летит, — то есть от того мига, когда была брошена возможно выше в воздух сорванная с головы шапка, до того мига, как она падёт на землю. Мера времени очень короткого сна, которым забывается иногда человек — потеря сознания на миг, — «будто облачко налетело»… (Народная — в Новгородской области — мера времени).
*
Переводы с птичьего языка:
Большие синицы (самки) рано утром перекликаются у меня под окном:
одна: — Букетик! Букетик! Букетик!
другая: — Пустяк! Пустяк! Пустяк!
третья: — Дурочка! Дурочка! Дурочка!
Песня зяблика:
— Слышь-ка, слышь: чуть-чуть-чуть три — четыре рубля не выиграл! — и ужасно как рад, дурачок!
*
Всесторонне необразованный человек.
Рассказусы.
Доказательство от препротивного.
Доказательство от милого.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
*
Голубые росы. (Ярко-зелёная весенняя трава и белая на ней влага — голубое.)
Сосновый бор — строгие колонны. Хоралы ветра на хорах, в вершинах. Просторный храм. Но храм может наскучить.
Лиственная роща — весёлый павильон. В стенах его и на потолке поют птицы. Белые стволы берёз, серебро осин радуют взоры, в траве играют солнечные зайчики и змейки. Прохладная тень отрадна. Весело на душе в лиственной роще. Но и веселье может наскучить.
Смешанный лес — вот никогда не надоест! Сосны, берёзы, осины, кудрявые ольхи и темные, косматые ели, создающие таинственную глубину. Лес, по которому Серый Волк мчал Ивана-царевича, держащего в объятьях свою царевну.
*
Рябчики на пищик: пять, пять, пять тетеревей!
Козодой поёт жабьим голосом.
*
Утром пастух здесь в Узмени вызывает скотину не игрой на свирели, роге или дудке, а сиплым свистком грошового свистка. Это уже не
Рожком горниста — рог Роланда И шлем — фуражкой заменя,а гораздо хуже. Это как драгоценные своей красотой и поэзией самоцветы подменять в украшениях штампованными изделиями из пластмассы, алмаз — стеклом.
ПЕСНЬ О ПТИЦАХ
В этом мире, полном чудесных тайн и тайных чудес, едва ли не больше всех земных существ полюбил я птиц. Лёгкие, они первые на Земле поднялись в воздух. Первые на Земле они стали вить красивые тёплые гнёзда. Первые на Земле они запели. И с песней поднялись в небо.
Умерев, я хотел бы возродиться птицей: чёрным жаворонком, или скворцом, или чёрным соколом-сапсаном, или юлой.
Повинуясь таинственной силе, летят они осенью с родных гнездовий на светлый и тёплый юг — за солнцем, за солнцем! (Полярная крачка буквально «летит за солнцем» из Арктики в Антарктику.) И с солнцем возвращаются на милый север.
Тоскует моё сердце зимой на севере — во тьме. И вот стремлюсь за птицами на светлый юг.
И вот я с ними — в Гаграх.
Первое солнышко, первое голубое небо после месяца дневной полутьмы! Свет, блеск бесчисленных алмазов, голубые — длинные в полдень! — зимние тени из изб и деревьев, убранный в кружева инея лес.
Была зима серой, стала белая.
ЛЕС ЗИМОЙ В БУРЮ
Кажется — рвётся шрапнель: буря сбрасывает с ветвей большие тяжёлые комья снега и тут же в воздухе разбивает их, рассеивает — среди стволов метёт белый снежный дым. То и дело такие вспышки — и в шипящем гуле елей и сосен рвутся и рвутся немые снаряды, возникают, несутся и рассеиваются холодные белые облачка.
*
Джимка — после десятидневной со мной разлуки — удивительно нежен ко мне. Хороший человек — собака, говорит здешний пастух.
*
Здесь мхи и мхи, все тропы в них упираются — и звездой выходят в болота лесные мысы. На одном из мысов кричал ворон: — Онк! Онк! — похожий крик есть и у вороны. Не пойму, что он значит?
*
Весна 1942 года. Город Оса.
Здесь тихо, красиво, отрешённо. Вид из наших окон широкий, дальний: на улочки под горой, на Каму с её гористым здесь правым берегом, на обширный заливной луг с пасущимися на нём стадами коров, коз, гусей, стаями грачей и воронов (которых тут удивительно много).
Когда утром поднимается с заливного луга густой туман и между белыми стволами берёз сливается с небом, — а небо белёсое, одного цвета с туманом, — кажется: за оградой монастыря (мы живём в доме б[ывшего] архимандрита) — конец света. И отрешённость от мира ещё больше.
И думаешь: да есть ли на свете война?
Красного камня громоздкий собор за зелёной площадью… На голом камне — у крыши — растёт весёлая берёзка. Какую она там нашла себе почву? Пыль, занесённую ветром с базара?
По старинке ночью в Осе бьют сторожа в колотушку.
*
Восход солнца 8 сентября 1942 года.
Зловещий спектакль, которого никогда не увидишь летом, — разве зимой. Грозное знаменье.
Белое небо, белая Кама. Чёрный лес на горе за ней. Слоистые облака над чёрной горой зловещего лилового цвета — густого, невпроворот. И под ними разгорается жуткий красный огонь — как в жерле огромной русской печи. И как из нутра русской печи потянулся, облизывая чело её, повалил снизу серый дым-туман. Мертвенно-серые клочья тумана вставали, вытягивались в небо как бестелесные призраки — как призраки умерших. И всё разгорался, всё страшней становился пышущий жаром красный с желтым — но не оранжевый! — кроваво-красный с жёлтым огонь — и глухо пылало над ним зловещее лиловое зарево. А выше — немотное небо бледнело от ужаса.
…И казалось, что-то неслыханно страшное идёт в мир, грозя всему живому неисчислимыми бедствиями. Казалось: огонь, разгораясь за чёрной горой, пожрёт всю Землю.
Но серые призраки умерших вставали из земли, из реки ещё скорей, и вдруг, откуда ни возьмись, сплошной стеной, немой лавиной двинулись сверху по Каме, стремительно вырастая.
…И почти мгновенно закрыли собой, потушили разгоревшееся пламя восхода и лиловые облака. Всё утонуло в мертвенно-сером — и река, и чёрная гора за ней, и кровавый огонь, и самое небо. Ничего не стало.
Худой сарайчик на берегу — перед самыми глазами у меня — стал чёрным, обуглился.
Когда через час туман сошёл, — утро встало голубое, небо было перламутровое, Кама — стальная.
*
Ясное, солнечное утро после дождливых дней. Отсыревшие пни в поскотине курятся лёгким дымком. На горе Старая Гарь высокие отдельные мачтовые сосны (оставленные при рубке) снизу до половины и выше объяты высоким пламенем: так и горит жёлтая и красная листва высокого подроста берёз и осин.
Летом липа всякий лес превращает в уютный запущенный сад.
Железные лиственницы сторожами стоят на огромном пожарище (Новая Гарь), обугленные снизу, чёрные телом, прямые, с корявыми ветвями и бледной зеленью хвои вверху.
Ель даёт лесу глубину и делает его «содержательным» (дичь, зверь могут прятаться) и таинственным.
Берёза — самое белое, самое чистое в мире дерево — красит любой лес и веселит сердце своей белизной, крепкой зеленью, песнями радостных птиц (птицы радости живут на берёзах — иволга, пересмешник, зелёная пеночка).
Трепетная осина с её серебряным стволом и вечно шепчущимися листьями — тихая музыка леса, его разговор.
Строгая стройная сосна стволами-колоннами своими превращает лес в храм, в колонный зал (бор).
Пихта — ласковая ель. Прижмёшь ветку к лицу, — хвоя не колется, она мягкая. Стройна, как свеча. Зелень тёмная, ствол серебряный, как у осины. Узкая, пронзительная вершина.
*
Состояние отчаянное: только одно с великим трудом наладишь, укрепишь, расположишься работать — кррах! — другое треснуло и опять дом разваливается. А худшее, что нет уже сил бороться: душа омертвевает.
Мучился этим, сидя в лесу. Кругом — молодые пихты протянули свои ласковые руки, растопырили нежные светло-зелёные пальчики (молодые побеги).
Смотрю, одна пихточка (как сёстры в тёмно-зелёном платье) в красивых рыжих митенках: на концах веток перед светло-зелёными кончиками-пальцами — широкий (как завёрнутый рукав) ободок: сожжёная (побитая морозом?) мёртвая хвоя.
Значит, кончики отмерли. Смерть? Нет, опять ещё не смерть: смочил тёплый дождичек, осветило солнышко — и пошли новые побеги. Опять живёт дерево и радуется жизни.
Мне стало стыдно за себя, стыдно своего похоронного настроения.
И верно: опять легче стало, почувствовал, что ещё жить буду, жить — радоваться солнцу.
*
Вечная вражда между педагогами и писателями (художниками): педагоги учат видеть, и потом человек видит в живом и мёртвом только то, что его научили видеть, а писатели (художники) учат смотреть — открывают глаза на мир, приучают рассматривать его. А обыватель («ученик») только глазеет на мир, — не смотрит и не видит: обычного мы не замечаем — только глазеем на него.
*
Перед смертью, оглянувшись на всю свою жизнь, ясно видишь: всё то, ради чего стоило жить, отмечено радостью (родной дом, мать, любовь, дети, «открытия» и снова и снова — природа! — все радости!).
*
Лучшие лекаря — природа и любовь; лучшее лекарство — радость!
*
Лес — самосвет: осенью, когда ярко расцвеченная листва уже поредела — и вдруг ударит яркое солнце — и все листья наполнят лес многоцветной игрой отражений.
…Во мне живёт некая жизнерадостная сила. Вижу всё, что у меня было и есть хорошего, светлого в жизни (любовь, любимая работа — «творчество», маленькие открытия, наслаждения природой и собственным телом и умом), — всё хорошее от этой силы. Благословенна она и во мне и в других — в людях, зверях, птицах, цветах и деревьях, в земле и воде. Радует она в других так же, как в себе. Знаю: умру, а она останется. И не всё ли равно — во мне ли, в детях моих и не моих, — в тех, кто появится на свет после меня. Обитавшая во мне жизнерадостность будет жить в них. И это чудесно.
*
Он был поэт и не мог говорить неправды. Только факты, им передаваемые, всегда были остраннены и истина — всегда немного преувеличена.
*
Митрополит в метрополитене.
Паучки бокоскоки.
Прекрасное без прикрас.
Совершенно летний день — совершеннолетний.
Две топóли (от тополь!) в чистом поле. (Песня по радио.)
*
Марк Твен: «Когда то, чего мы очень долго ждём, наконец приходит, — оно кажется неожиданностью». В. Б. «Если тут слово „долго“ заменить словом „страстно“, то это то, о чём я сто раз думал на тяге».
*
— Друг, я смертельно болен.
(И человек рассказывает о том, как много ему надо сделать в жизни, как он ничего не успевает, какие замечательные открытия он мог бы сделать, если б смерть не ставила ему близкой препоны, — сколько мог бы разведать, понять в жизни. Как теряет силы…)
Кончается фразой: — Болезнь моя называется — старость.
*
— Покатилась душечка в рай и хвостиком завиляла! — бабушка выпила рюмку водки.
*
…Сядешь в качалку на террасе, руки за голову — и дивишься чистому голубому своду и жёлтому сквозь густой утренний туман солнцу.
От лёгкого покачивания, что ли, — от того, что всё у тебя перед глазами слегка колеблется, кружится слегка голова, — летят в голову забавные, лукавые головокружительные мысли:
А что если наша вселенная — птица? И солнце — всего лишь желток Снесённого птицей яйца голубого?В юности я думал:
— Если бы в течение всей моей жизни играла музыка, — я был бы героем.
Чары музыки тогда необычайно на меня действовали. Неделями я жил под обаянием понравившегося мне симфонического концерта, оперы или голоса. Вспоминались обрывки мелодий. Даже снилась мне музыка.
Зрелость убивает непосредственность восприятий. Теперь, выходя из залы концертной, я оставляю в ней обаяние звуков.
Целыми днями работает радио. Слышу ли я музыку (особенно, когда чем-нибудь занят?) Ушами — нет. Но всеми порами тела.
Но не исключена возможность, что звуки проникают в нас помимо нашего сознания. Даже могу утверждать, что так. («Пойманный» случай с пароходными гудками на Неве: я их не замечал, но они резко меняли моё настроение, — тому верное доказательство.)
*
Четверть века сидел я в приготовительном классе, учился писать, учился чистописанию. Наконец разрешил себе попробовать перейти в первый класс. И уж как хочется, как надо написать теперь что-нибудь первоклассное!
*
В 6 утра вышел за калитку, долго сидел на канавке: дорога, поле впереди благодатное. Слушал утренний гимн жаворонка. Охватило чувство огромности Вселенной. Думал: самое страшное — пошлость, не замечающая разницы между живым и мёртвым, упразднившая тайну. Всё тайна. И в этом всё дело. Нашёл объяснение крошечного явления — двух фактов — причины и следствия — и думает, — понял всё. Кретин. Миллион таких взаимоотношений ещё ничего не доказывает. Доказывает только, что всё связано. А всё равно не понять, чтó исчезает, когда живой ребёнок вдруг становится мёртвым. Или из мёртвого вдруг становится живое (этим занимаются растения. А тайна животных нисколько не меньше: из живого живое — тайна рождения).
О природе
Весна
Таинство зорьки свершилось так.
Началось с того, что чуть-чуть зарумянилось тёмное небо. Разгорался румянец на сером уже небе. Серое небо на севере залила палевая зорька. Небо начало голубеть, зорька стала золотиться. Небо стало синеть. Лёгкие белые облачка дыма, быстро бегущие по синему-синему небу (за лесом пыхтел паровоз), окрашивались в красноватый цвет.
Вершина седоватой от инея берёзы начала золотиться: показалось солнышко. Солнечно — и всё хорошо!
*
Каждое утро первым делом выхожу на крыльцо и смотрю: есть ли ещё два белых пятнышка снега на северных склонах холмистого левого берега Удины у Карабожи.
Прошла первая гроза, прошли тёплые дожди, а белые пятнышки снега всё ещё есть.
*
Какая разная тишина весной и осенью. Вслушиваешься, ничего не слышишь, но ждёшь доброе — это весна. Улыбчиво, сладостно, радостно.
А осенью: вслушиваешься — ждёшь страшного. И по-разному грустна тишина весной и осенью. Осенью грусть тютчевской «возвышенной стыдливостью страдания». Весной — стыдливой радостью творчества.
Тишина не может быть одна в комнате роженицы и в комнате покойницы.
*
В деревне человек предполагает, а бог располагает. В городе… наоборот. В городе погоды не существует: она никак не сказывается на распорядке времени, на делах человеческих и их настроении; разве только ветер, приносящий наводнение, исключительно сильный мороз, когда мёрзнет вода в водопроводе, или гроза, когда перестаёт действовать телефон и радио. А тут в лесу…
Вчера вечером ветер, холод, дождь — никуда не пойдёшь. Сегодня то же. Сильный норд, морозец. Хозяйка говорит: это холод ломает почки у черёмухи.
*
И вот я опять среди деревьев. Отвели мне комнатку наверху, натопили жарко. Я один.
На окнах оттаявшие мухи жужжат стаей. И бьются, бьются в стёкла две крапивницы.
Вчера пошёл бродить. Лёд на Оредеже позеленел, стал как плохое оконное стекло. В лесу глубокий снег, весь усыпанный сухими иголочками елей и сосен. Ходить можно только по утоптанным людьми или лошадьми дорожкам. Ходил в лес. Он молчит. Что там дальше в нём — не поймёшь, не разгадаешь. Неизвестное манит.
Сегодня за речкой у домика лесника — эстонца Каро — увидал щебечущего скворца — и даже вздрогнул от радости.
Нет лучше времени — весны!
*
Выбрали хорошую полянку, негусто заросшую берёзовым и осиновым молодняком. Тут много следов заячьих и белых куропаток.
Поют зарянки и певчие дрозды. Один из них энергично повторял: «Дураки вы, дураки, дураки». Но он плохо выговаривает «р» — и получается у него: «Дуяки вы, дуяки, дуяки!» Этот дрозд всё время менял свою песню. Потом же стал такие слова выговаривать, как «епископ», «риволи», «Фелисити, Фелисити», и вдруг опять: «Дуяки!».
И верно: «дуяки», до густых сумерек простояли в лесу, но так и не услышали ни хорканья вальдшнепа, ни тетеревиного «чуффы», ни даже блеяния бекаса (хотя рядом было болото).
Нет в этом году долгоносых. Наверно, что-нибудь стряслось с ними на зимовке.
*
Долго шёл дождь, было гнетущее настроение. Потом дождь переставать стал — и вдруг над деревьями показалась полоса светлого неба. Сначала узкая, становилась всё шире, — и мне показалось, что кто-то долго на меня сердился и вдруг всё переменилось, я прощён и светло и легко на душе. Дождь совсем перестал, а прощённое настроение ещё долго радовало душу. Умытые небеса и умытая душа.
*
Заневестились белые берёзки (воздушная дымка их весной). Оголтело орёт зелёный дятел.
Лягушка-турлушка — и вперебой ей так же, но громко и долго завёл козодой, оборвал песню и, как в ладоши, захлопал крыльями.
Хорошо подметил Николай Анатольевич[39], как незаметен бывает переход от светлых ночей к тёмным: обычно около этого вот времени (середина, конец июля) погода портится — сенокос обычно спрыснет дождичком, — а когда опять освободится небо от пелены туч, — ночи уже темны.
*
Хозяин (Я. М. Круглов, лесник) рассказывал, что раньше (ещё после войны 1914 года) тут появилась масса волков. Чтобы избавиться от них, ловили волчат летом, привязывали к плотикам и пускали вниз по речке. Волчицы будто бы убегали за ними по берегу.
*
Оксочи. Нас встретила красивая каменная церковь на холме, крошечная станция, громкая песня зяблика, рулады скворцов, жужжание зеленушки, восторженный крик зелёного дятла.
*
Вечер. Солнце над самым лесом. Чуть бормочут у гнёзд скворцы. Паутинки блестят на телеграфных проводах, на голых ветках яблонь, на заборе. А в воздухе пляшут золотые от солнца комарики. Пролетевшая около них бабочка (маленькая крапивница) кажется тёмной птицей.
*
Большие берёзы все в почечках, лес весь в крапинках. А маленькие берёзки на солнышке уже раскрывают ручки, ладошки-листочки.
*
Сегодня с ночи небо в сером одеяльце. Утром гроза прошла стороной, слегка спрыснуло, и весь лес окутался туманом. Туман в кронах сосен, между стволов, выше крон. И кажется, что мы — на дне озера Светояра в невидимом граде Китеже. Тоже счастье.
Меж стволов пронзительно пронизались стрижи.
*
Когда стоишь перед стеной леса, всегда волнуешься: а что там за ней, что там в нём? Войдёшь — кругом густо насыщено тайной: из кустов блеснут чьи-то быстрые глаза, что-то прошуршит в траве — быстро, отрывисто (мышь) или длинно (змея) — чей-то роговой нос высунется из листьев, что-то кто-то пикнет, хрюкнет, заворчит, зашипит, пискнет, — и опять всё тихо, всё неподвижно. Но живой этой неподвижности и тишине не веришь.
*
Прилетела серая мухоловка. Дергача и погоныша всё нет. Вечером я вышел на крыльцо — всё поёт! Не сходя с крыльца, слышал: Соловьёв, косачей, дроздов, лягушек и где-то в стороне Костяничной горки громко кричал Подковкин[40]: «Чер-рвяк! Чер-рвяк»! Не вечер, а сладостный сон.
*
Сегодня с утра тут и поют — пеструшка, теньковка и лесной конёк. Видел парочку долгохвостых синиц. Розоватые снизу тёплые шарики с тонкими длинными прямыми пёрышками — как они милы!
*
Яркое, жаркое-жаркое солнце! Горихвостка поёт, трясогузки цикают, перевозчик плачет, черныш токует на мутной и быстрой реке. Все птицы сразу тут как тут. Дятел где-то тук-тук-тук! Журчейки несутся, как сумасшедшие. Все так явно обрадовались неожиданному приходу весны после слишком долго задержавшейся зимы. Со всех сторон скачут лягушки — и все к канавам, к ручьям, к речке — хоть прямо по снегу. А снегири ещё в саду. Светло-голубая спина и красная грудь — сбоку весенний снегирь, как кисель с молоком.
Днём — волшебное ощущение (стоял наверху на балконе): дождь прохладный, крупный на голову и жаркое солнце в лицо, в грудь; потом крупный резкий град — и всё-таки яркое, жаркое солнце — не верь: шучу! — и небо голубое (градоносная туча сзади, да и маленькая, минутная).
*
Порхал вокруг, высоко над спиной поднимая крылья — как гребцы на военных лодках по команде «суши вёсла!» — козодой.
*
Солнце заходит. Оно жёлто-золотое, золотой и весь угол неба на западе. Но голая ещё пашня вдруг стала малиново-красной, и над ней китайскими фонариками горят просвеченные золотом солнца светло-зелёные берёзы, Кажется: они поют высокими сопрано, а редкие среди них тёмно-оливковые сосны и ели изредка вторят им — октавой. Голубая над золотом полоска неба и пышной шапкой накрывающие её облака кажутся спокойным сладкоголосым хором, полно и торжественно звучащим piano, pianissimo.
Потом понемножечку золотые фонарики берёз потухли, пашня побурела, золото сошло с неба, облака стали — лиловый бархат, — гудение низов контрабаса. Нет: теперь уже симфония неба — орган!
*
На Картофельной горке, на солнечных и защищённых от ветра склонах расцвели ландыши (ландыши — дыши!).
Лето
Громкое хлопанье крыльев и неистовый крик петуха под окном, рожок пастуха, мычанье выходящих со двора коров, песни утренних птиц — всё это входит в сон сладостной музыкой, расцвечивает его, не будя спящего, — и человек блаженно улыбается во сне. Наконец маленькая горихвостка так задорно и весело прозвенела у самого окна, что спящий просыпается. Он ещё не раскрыл глаз, но сознание возвращается к нему, и человек открывает глаза под радостное пение птиц, крик петухов, звон лошадиных колокольчиков и чуть слышное издали кукование кукушки. Солнечный радостный свет, светло-голубое небо с медлящими на нём белыми облаками-барашками, зелень свежая, живая зелень кругом, утренний бодрый холодок, бревенчатые стены избы, — боже, до чего хорошо!
И прежде чем вернуться к привычным, ежедневным мыслям, проснувшийся так, без всяких соображений лежит несколько минут, погружённый в блаженство.
Может ли такое быть в городе? Там утром в утончающийся сон человека набатом входят гудки заводов: «Тревога! Проснись, проснись, не опоздай!» Стреляющий шум моторов и угрожающий рёв гудков автомашин: «Берегись, мы проснулись! Проснись, задавим!» Железный скрип, металлический звон трамваев.
И нервы ещё не проснувшегося человека уже напряглись в борьбе, в самозащите, слух насторожился, глаза под ещё опущенными веками тревожно забегали по сторонам.
*
Тончайшие паутинки радости. Не рвите их, не рвите!
Сейчас в мою чашку с молоком, когда я подносил её к губам, упал цветочек незабудки из букета, — и как же это нежно-весело: голубое в белом, и в голубом — чуточный жёлтый глазок!
*
Облака, похожие на воздушные пироги на невидимых блюдах.
Только тут понимаешь, как может быть человек счастлив и как безнадёжно он несчастлив, лишённый земли, воды, леса — всей отрады вечной красоты и благодати невыдуманной жизни.
*
Каждый листик берёзы блестит, каждая травинка кивает тебе. На воду смотреть нельзя — ослепляет.
От невозможного этого счастья запевает душа. И весь мир становится близок и понятен так, как может быть близок и понятен только просветлённой любовью душе.
*
Вечер прохладен и светел. Чудное время: свет, тепло, океан свежей зелени. Праздник красок, света, ароматов, звуков. Круглые сутки не смолкают птицы: едва смолкнут дневные голоса — уже защёлкали, засвистели соловьи — и всю ночь, всю ночь напролёт свищут, а чуть утренняя радостная зорька — уже на смену им поднимаются в небо с песней жаворонки.
*
Телефонный провод идёт через лес — болото — озеро — в лес. Поют птицы, шуршат звери, стрекозы присаживаются на провод — и идут человеческие разговоры через лес.
*
Поражаюсь листве: как яростно ярко горит каждый листик берёз, осин, рябин, ив, ольх под тёмным пологом тёмных елей и сосен! Право же, все листья — самосветы. Они не только питаются солнечным светом, но и сами излучают его.
ЗАВОДИНКА
Заворот течения (местной речки) и в тихой заводи обломки. Своя, медленная жизнь. Зацвела вода: ряска. Где ряска — там чирята. Они не боятся человека, а с удивлением и как бы с укором на него глядят: тут же «дом», тут нельзя пятнать, бить, стрелять.
*
Сижу за столом у открытого окна. Только что прошёл тропический короткий ливень с грозой. В воздухе пахнет так, словно только что внесли с большого мороза в комнату чистое бельё. На клевере под моим окном сияют алмазы дождя. Они — белые.
Но вот засияла одна большая капля на листке — то белым, то изумрудным, то золотым светом. Точно вся радость умывшейся Вселенной собралась в ней.
Вспыхнула ярче прежнего — и нет её!
Исчезла раньше, чем я успел написать о ней.
Но уже зажглись другие — поменьше, но тоже цветные, переливчатые самоцветы. Дергач при полном солнце закричал от восторга.
*
Вечер чудесный, слегка прохладный. Река отражает в себе не небо, а берега: зелёная, где на берегу кусты и деревья, жёлтая — под кручей.
Среди зелени лесов голубоватыми кажутся поля ржи. И всё кругом мягко голубеет после дождика.
*
Дорога вдоль берега маленького лесного моря — Пироса. Летают утки: пролетела над головами шилохвость, тирнкал тревожно, завидев нас, свистунок и т. д. Жаворонков здесь полон воздух.
*
Такие зорьки, такие утра — божий дар.
Ясно небо, тиха вода. Торжественно-радостное встаёт солнце. В мелкой траве у дороги — «скворчиная школа». Оживлённо бегают, собирают что-то на земле, перелетают один через другого. Вдруг сорвутся и обсыплют телеграфные провода, наполнят ёлку. И оттуда — из глубины густых лап — счастливое щебетанье молодежи и тихие песни стариков.
В кустах у воды захлёбываясь поёт садовая камышевка. В поле плачут чибисы, но в их мелодичном (издали) плаче нет и тени горя или грусти.
В далёком лесу кукует кукушка.
…Как бывало, забудешь, что дни идут, Как бывало, простишь, кто горд и зол, И смотришь: тучи вдали встают, И слушаешь песню далёких сёл, (птиц? — В. Б.) А. Блок*
С запада поползла туча — иссиня-чёрная, во весь горизонт. Час ползла, другой… А прямо против моего окна — светлые облака. Чёрная туча неожиданно бросилась в атаку. Ветер в дугу согнул деревья. Молнии исполосовали небо. Солома завихрилась и полетела с крыши. Косой ливень хватил в окна, и запрыгали по земле градины. Грядки побелели в огороде: ветер задрал капусте листья. Как сорванные плащи, проносились по небу плоские чёрные облака — и всё мимо светлого места в небе против моего окна.
…Через десять минут туча пронеслась.
Но это была только прелюдия: уже надвигалась вторая туча — ещё темней, ещё страшней, ещё больше — сразу в полнеба. И она закрыла белое неподвижное облако против моего окна.
Вот она надвинулась, как шапку натянула на брови, метая молнии из очей. Полил ровный, тяжёлый, сильный дождь. Стало холодно и темно. И кажется: никогда уже не будет света, тепла, солнышка.
Но тут прямо на западе ярко улыбнулась светлая полоска неба. Зажглась как надежда, как ласковое обещание радости и счастья.
А молния слепит глаза, и гром грохотом тысяч каменьев рушится на голову.
Но вот всё тише гром, ослабевает дождь, небо становится как матовый колпак и постепенно всё ярче освещается с запада, где всё ещё улыбается солнечная полоска, хоть и затянутая лёгкой плёнкой облаков. Прошёл и этот дождь с грозой, но светлая полоска так и не погасла.
Вечер был тих и светел.
*
Ночью был дождь, а сейчас припекало.
Садились на землю бабочки: крапивницы, шашечницы, лимонница, махаон. Садились, раскинув несколько раз крылья, складывали их над спиной лепестками. Пили из крошечных лужиц. Пели, захлёбываясь от счастья, лесные коньки, звенели на берёзах и соснах овсянки; червонная иволга прилетела на мой свист и села совсем открыто на сухую берёзу.
*
Под полночь. Тёмная-тёмная ночь, и на юге, над концом озера полная луна в чёрном облаке — как в маске: в облаке две яркие прорези для глаз, снизу белое кружево света.
*
Штиль был полный. Солнце зашло при абсолютно чистом небе. Палевая заря скоро перешла в багряную. На северо-западе еще при полном дневном свете обнаружился тончайший серебряный серпик новичка. Постепенно — со все сгущающимися сумерками — он все светлел и сам начинал светить. По всему озеру были разноцветные светы и отсветы, тени и оттенки. Заливчик за Домовичами лежал серебряный как ртуть. Лес на северном и восточном берегу стоял торжественно-тёмный, удивительно ровный — как под гребенку подстриженный, — даже не зубчатый. «То не ели, не тонкие ели на закате подъемлют кресты» (Блок). Тёмные ели на острове Еловике, просвеченные зарей, чётко вычертили на ней каждую свою мохнатую ветвь.
Птиц не было на озере. Только в сырой низинке в кустах ив и ольх застрекотал, подражая оркестру кузнечиков, сверчок (камышевка) да пролетела к Еловику запоздалая чайка. С нашего полуострова доносился низкий, упругий свист погоныша.
Во втором заливе мы нашли уведённую несколько дней назад у нашей соседки-учительницы и затопленную здесь у берега лодку. Валя откачал её, и мы повели её на буксире домой. Время от времени она приближалась к корме нашей лодки, догоняла и словно с благодарностью совала мне морду-нос под локоть.
Всё жило, всё было одухотворено в этот прекрасный вечер — всё в покое наслаждалось им. Я его чувствовал по себе, хотя у меня весь этот день болела голова и был я сильно расстроен. Умиротворение понемногу охватило душу, и боль не мешала глубокой тихой радости.
*
…Справа — красивейший из здешних островов прекрасной формы, с очень стройными, чётко-прозрачными прямоствольными и прямолапыми елями и двумя белыми кружевными берёзами, с кустами и цветами.
(Вот бы себе построить домик с большими окнами на все четыре страны света и общаться с Большим Миром только на лодке!)
*
Сегодня с утра яковищенские и сивцевские начали жать рожь, и в прохладе вечера разлился сухой ржаной аромат, и бабки стоят в полях, как шахматные фигурки, — стройно и чинно. А под Михеевом — влажный аромат свежескошенного сена. Хорошо!
*
Живу как в сказке. Так хорошо бывало только в детстве.
Последнее время вечера стоят прохладные, ясные, тихие. Войдешь на «план» — на зады, в огород, — тихо, светло. Поёт свою бесшумную песню козодой. Да за полями, в Заболотье, побрякивают, позванивают колокольцами выпущенные на травку в ухожу стреноженные кони.
Изредка проскрипит в полях коростель — и замолкнет, будто совестится своего скрипучего голоса.
28 июня колхозники наши вышли все в чистых, ярких платьях: начали сенокос.
Накануне ещё начались в предзакатные часы новые звуки в деревне: металлический звук отбиваемых кос.
И сейчас, когда я пишу это днём, оторвавшись от работы, стучат, как дятлы, по всей деревне.
*
Вечером высоко-высоко над погостом в неподвижном воздухе под ясным небом, раскинув крылья, медленно проплыла большая серая цапля. Проплывая над широким тихим плёсом озера, только раз, и то будто нехотя, шевельнула крыльями. И ни разу не повернула свой длинный, как бушприт, вытянутый впереди тела клюв.
ЦВЕТОК-ОДНОДНЕВКА
В огороде у нас под окнами расцвело много маков — красные, бледно-фиолетовые, розовые. Будто большие бабочки осыпались на траву на грядках.
Налетел шквал — и ни одного лепестка на маках не осталось, всё сдуло. А и без того жизни цветка мака чуть не сутки.
Осень
Порыв ветра — и с берёз у моего окна лёгкими бабочками летят жёлтые листья. Неожиданно среди них появляется настоящая жёлтая бабочка. Порыв иссяк, лёгкие листья, покачиваясь в воздухе, бессильно падают на землю, а живой жёлтый листочек, покружив на месте, косо улетает вверх, исчезает за листвой берёз, как будто листик вернулся домой.
*
Уже осень… Кусты опутаны паутиной; длинные концы её развеваются по ветру. Ночь удивительно чистая, вся в звёздах. Необычайное лето: сейчас малина дала новые ростки и опять зацвела. Здесь примета: когда малинник цветёт (летом) не по новым, а по старым кустам (что бывает очень редко), засевай поля старой рожью (старым семенем, прошлогодним).
*
После заката в долины лёг тяжёлый туман; чёрные ели, тёмно-малиновый закат. Торжественно опускалась ночь.
*
После долгого ненастья, ежедневных дождей наконец просветлело, показалось днём голубое небо. Сейчас же все кусты и трава покрылись густой, липкой паутиной. Вечером я вышел в Залив — постоять на утином лёте, и мои сапоги сразу стали похожи на валенки: так густо их облепила широкими сетями раскинутая всюду по траве паутина. Летающих паутинок, однако, не видел — оттого ли, что это ещё не «бабье лето», оттого ли, что вечер, оттого ли, что воздух ещё тяжёл и влажен?
*
Над холмами, над полями днём полетели паутинки. Одна, извиваясь, как в медленном движении извивается длинный пастуший кнут, тихо пролетела мимо меня, и на конце её был серый комок — верно, паучок-воздухоплаватель.
Началось бабье лето.
*
Прекрасно было узкое озеро, держащее в своих объятиях лес, где берёзы стоят, уже расцвеченные прядками золотой своей седины, как цветами.
*
Тихая тёплая заря, просторно разноцветное небо. Бормочут на пиках отдельно стоящих елей косачи, изредка чуффыркают. Ни с чем не сравнимо это тёпло-звонкое бормотанье в свете утренней зорьки!
Повсюду частые сети пауков. Некоторые молодые ёлочки стоят как невесты — убраны тончайшей фатой с головы до ног.
И на траве паутинки везде, тут — как гамаки, люльки воздушные, где, наверное, любят качаться крошечные лесные феи, эльфинки.
*
Одинокий куст вереса (можжевельник) на голом берегу Пироса.
На верхней веточке его дрожит, как живое, слюдяное крылышко «драконовой мухи» — стрекозы («коромысла»).
Лёгкая трясогузочка, взлетев с берега, поймала в воздухе стрекозу, села, разделала её, ударив несколько раз об землю, оторвала клювиком, пустила по ветру крылья. Одно крылышко зацепилось за ветку вереса, запуталось в липкой паутине — и вот трепещет на лёгком ветерке, рвётся улететь куда-то… и не может. Никому оно больше не нужно: птицы не едят жилковатых жёстких крылышек стрекоз.
*
Довольно тёплый, облачный, под вечер ясный день. Ласточки (касатки) мелькнули перед окном утром и пропали, больше их целый день не видно. Уже несколько дней они не прилетают к нам под крышу, не радуют нас своим весёлым щебетом. Зато воробьи целой стайкой по осекам раскричались, расчирикались — у них оживление и какая-то радость. Вот и не скучно.
Утром, как все эти дни, прилетал скворец к скворечне, напевая тихонько. Так и слышатся в его приглушённых напевах воспоминания о солнечной весне, пережитой им здесь, мечта о новой весне — будущей, после возвращения на родину.
*
Хорошо, как хорошо утром! В манжетках алмазы росы, стаи дроздов и разных вьюрков с треском и жужжанием перепархивают с лядинки в лядинку. Все низинки и склоны холмов в ухоже устелены ровными рядами золотистого льна — как к празднику половиками.
*
Бормотанье косача на заре странно похоже (издали) на журчание весеннего ручейка, потому, может быть, так волнует осенью.
ПЕРВЫЙ УТРЕННИК
Вчера на заходе народился новичок. Ночь стала ясная, холодная, со всеми звёздами. Часа через два после захода заиграло северное сияние — бледные мечи под Полярной звездой, неясный свет под ними.
Ночью морозный туман.
Развиднелось хорошо до восхода солнца. Бело кругом: изморозь на земле, на траве.
Ядреное утро. Все лужицы затянуты ледком. Ветра нет, листок нигде не шелохнётся. Воздух чист и звонок. Воробьишки радостно, бойко чирикают, наперебой кричат петухи. Слышно, как в ухоже на елях чуффыркают косачи. Слышны гудки паровозов на железнодорожной станции — за 15 верст (по прямой). Скворушка напевает у своей скворечни. Мир высок и прекрасен.
Сейчас бы в отъезжее поле или хоть с одной своей звонкоголосой гончей!
*
Лес красив — задохнуться! Золото в зелени! В тёмной — еловой, в голубой — зелени сосен. Самоцветы осин и берёз! Я видел одну невысокую берёзку у дороги среди вересковых просторов. Белейший ствол, а на ветках — чёрные перчатки (до «локтей») и золото листьев — как старинная бронза! Чудо-дерево, песня, а не дерево! И совершенно неважно, что я сегодня без дичи!
*
В ухоже две сороки обнаружили на ели сову (серая, может быть, и уральская неясыть). Треск подняли — не приведи господи! При моём приближении сова слетела. Полетела через луг. Тут её подхватила вечерняя стая ворон. Что было! Вороны, непрерывно каркая, обсели все деревья, соседние с тем, на которое опустилась сова. Ругали её, пока опять я не спугнул её. Сова полетела в лес. Тут новые стаи ворон присоединились к первой. Собралось не меньше ста штук. И всё это кричит, ругается неимоверно. Я опять спугнул сову, она внезапно куда-то исчезла. Вороны потеряли её, разобрались по стаям и разместились на ночевку.
*
Пошёл проститься с лесом. Дождь, бурое небо, капель, остатки снега под деревьями. А всё-таки чудесно! Тёмно-зелёная сырая зелень хвои и брусники. Рябчики уже укладывались спать на деревах. Стрелять не пришлось. Но всё-таки хорошо.
*
Октябрь. Мухи помёрзли. Но далеко, конечно, не все ещё.
И вот: вечером зажигаем керосиновую лампу. Свет — кружком и тепло от неё на потолке. И сюда слетаются и тут (на освещённом и таком тёплом кружке на потолке) начинают «танцевать» мухи, всё время стукаясь о потолок — пак-пак-пак! А потолок оклеен газетами.
Вот — поздняя осень дома, в избе.
*
Тихое-тихое послеполудня, — не шевелится даже свисающая гирлянда листьев плакучей берёзы против моего окна. Небо в белых облаках. Тепло. И вот обнаружилось, что тут у нас живёт эхо: в тишине этой по обыкновению громко разговаривают в садах женщины, и их голоса отдаются в невидимом своде. Сдваивается даже «пилик!» трясогузки, бродящей по берегу залива. Отзывчивая тишина. Отзвуки. Неподвижные круглые облака отражаются в зеркальной воде залива.
В такие часы — прислушайся! — явственно слышишь свой внутренний голос — голос того, кто не спит, когда мы спим…
Эхо — прекрасная нимфа — невидимая живёт среди нас везде и всегда, а мы не замечаем её в сутолоке нашей шумливой жизни, заглушаем её таинственный голос своей крикливой деятельностью, не слышим его за другими — привычными нам — голосами земли и неба: за шумом ветра и волн, шелестом леса, лаем наших собак и мычаньем коров. Нужна минута редкой тишины — тишины во Вселенной и в нас, — чтобы нам её услышать.
— Я молча говорю издали с тобой (наша народная загадка), — говорю из дали, — и ты можешь тогда слышать, какой отзвук во Вселенной рождает твой крикливый голос — и задуматься над этим.
*
С того самого дня, как мы поселились тут, как ни выглянешь в южные — на конец озера — окна, всегда видишь посреди плёса стоящую лодку и неподвижную фигуру удильщика в ней.
В этом месте плёса, говорят, край внезапно обрывающейся глубокой ямы. Здесь хорошо ловятся окуни, ерши и другая рыба.
Каждое утро, каждый вечер, всегда на одном и том же месте. Неподвижно склонённая спина, тусклые глаза, терпеливо устремлённые на поплавок, покачивающийся на спокойной воде или пляшущий на волнах. Вечный блеск и переливы воды в глазах. В любую погоду, днём и вечером, днём и вечером, а иной раз — когда плохо клюёт — и целый день без перерыва.
Клюнуло — потянул. Серебряный блеск вылетевшей из воды рыбки, трепет прохладного живого тельца в стынущей руке, тихий плеск пойманных пленниц в грязной лужице воды на дне лодки. И снова — блеск воды, недвижная леска, поплавок.
Слезятся старческие глаза, ноет часами согбенная старая спина, дрожат корявые руки.
Терпение, терпение, терпение: будет уха, будет варёная рыба в избе, где ни крошки хлеба, один щавель-кислица.
И никто не упрекнёт, что сидишь на чужом горбу, заедаешь чужой век.
*
Осенний холод, тяжёлое небо, сплошной полог стремительно ползёт по своду, а внизу — над самым лесом вдали — гряда отдельных белых облаков, ярко освещённых невидимым ещё солнцем.
Значит, скоро будет день на святой Руси, — туча сойдёт, откроется солнце. Будет, будет радость!
Солнце только на минутку показывается — и опять исчезает… Тучи, тучи, тучи — оболочина во всё небо. Ветер холодеет, холодеет кровь. Дождь.
Осень, осень!
*
Сильный Südwest шумит по вершинам сосен, а внизу, на косогоре — тишина, кудрявые ольхи не шелохнутся.
С легким треском сам по себе срывается с ольхи лист, падает, качаясь, воздушная лодочка, задевает листья веток, шуршит, а внизу, на земле уже высохшие такие же листья жестяным хрустом хрустят под лапками лесной мыши.
*
Самое интересное: при средней полевой дороге стоит большой зарод хлеба («литвин» по-здешнему). Когда мы с Т. подошли к нему вечером, из зарода, как береговушки из обрыва, стало вылетать множество (десятки) овсянок. Запоздалых можно было руками поймать. Здесь они ночуют, забравшись в норки между стеблями хлеба.
*
Ходили в Яковищи. Множество маликов[41] через дорогу и лисьи следы. Все кусты, весь лес в куржаке, как в сером пушистом мехе. Серое с просинью небо, серые искристые поля. Сто тысяч оттенков и комбинаций серого цвета.
О ТВОРЧЕСТВЕ
Новелла, повесть, роман — прежде всего — игра (как и всё искусство). Как в шахматах, в них есть дебют — миттельшпиль — эндшпиль, и законы всех этих фаз игры необходимо знать. Как в шахматах, автор часто находится в цейтноте (надо бы рассказать о том, о сём — да некогда). Изучая теорию шахмат, писатель может изучить структуру рассказа. И понять, что в художественной прозе необходимо так же расчётливо и прямо идти к цели, так же делать «лучший в положении ход», как в шахматах.
*
Смешно, как приходят «идеи» в голову! В. привезла из города купленную в Литфонде цветную бумагу (белой нет), синие, зелёные, серые листы. Все эти дни я писал на них. Вдруг сейчас пришло в голову: на синей бумаге надо написать «Синий рассказ», на зелёной — «Зелёный рассказ» и т. д. И сейчас же написал на разных листках соответствующие названия и первые фразы рассказов. Вот так — из игры — родятся лучшие вещи. Это зачалось от солнца: солнце ярко светило, играли все краски.
*
Чтобы писать, необходимо:
1) удивляться всему, как будто в первый раз видишь или заново видишь — как когда после лета возвращаешься в город. Каждой вещи, всему живому, всей жизни надо удивляться. Почувствовать, что всё — чудо, нечудесного в мире нет. То есть надо родиться вновь, вторым рожденьем — рожденьем в искусстве, где всё — игра чудесных сил.
2) видеть, слышать, ощущать (удивившись, начинаешь присматриваться, вслушиваться, ощупывать, внюхиваться) — как мать своего ребёнка, как лётчик свой мотор, моряк — парус, видеть с закрытыми глазами (как лицо своей матери).
Источник художественного творчества — память.
3) уметь мечтать (фантазия — цемент, соединяющий самые разнообразные — в их единстве — вещи в одно удивительное целое).
Этих трёх даров достаточно, чтобы быть «поэтом в душе», но не на деле.
Чтобы писать, надо ещё:
4) уметь описывать, и тут область слова начинается, искусство слова, техника его, дар и знание приёмов, поэтика.
5) уметь строить вещь.
*
Писал до шести часов с таким напряжением, что дошёл до «умопомрачения в глазах» — видишь только края предмета, а в середине «слепое пятно». Пришлось полежать минут 10 с закрытыми глазами, а потом пойти пройтись.
*
Есть и такой способ: начать писать без всякой мысли в голове, просто потому что хочется сказать, описать что-нибудь, — потому что соблазнишься видом, ощущением, чувством, звуками — и хочется их описать. Тогда из этого материала взаимоотношения и взаимодействия вещей и персонажей, в этих взаимодействиях неожиданно обнаруживается, как стержень, сюжет. Иногда это приходит с последней фразой, заключительной фразой нагромождённого в случайном порядке материала (описаний) — и вся вещь вдруг осветится назад, станет ясна правомерность и закономерность вещей и персонажей, их связи.
Так было у меня с рассказом о заячьем страхе (11–13.Х-39 г. — Михеево): просто захотелось описать, как заяц боится хробосткого ольхового листа, засыпавшего землю, как он не решается войти в лес. Это оказалось кончиком ниточки от клубка; возник рассказ, правильный сюжет и стиль которого я понял, лишь написав заключительную фразу: оказалось возможным что-то заключить (вывод!) в нагромождении этого материала, хаотическое нагромождение живого материала захотело организоваться в организм.
Всё это лишний раз доказывает, что основа творчества — в подсознании.
*
Путь искусства настолько же незаметней, прямее и быстрее пути науки (логики), настолько пути метро незаметней, прямее и быстрее путей трамвая…
*
Лозунг для детской литературы: Детям — доброе.
*
Есть места с чудесным свойством: там приходят в голову мысли замечательные или мысли деловые, очень важные, но донести эти мысли до дому (или до дела) невозможно…
Была и поляна в лесу, где мне задумывались чудесные вещи — сказки, рассказы. Но до дому я их не доносил.
Вернувшись на «заколдованное» место, опять всё то же переживёшь, вспомнишь и передумаешь.
*
Игра — серьёзное жизненное дело. Игра совсем не только привилегия детства: тысячи игр изобретают для себя взрослые. И всё искусство в известном смысле — игра. Недаром говорят: играть на скрипке, рояле и всех прочих музыкальных инструментах, а народ говорит: «играть песни».
Общеизвестно: играя в куклы, девочки учатся такому серьёзному жизненному делу, как выхаживание и воспитание ребят; а мальчишки, играя в солдаты, — быть смелыми, активными, дисциплинированными и т. д., то есть быть бойцами в жизни.
Но есть игрушечные игры — они одинаково унижают достоинство как взрослых, так и детей.
Шутка, улыбка, смех в литературе нужны и взрослым и детям, нужно нарочное — игра. Но унижает и развращает детей игрушечная литература.
*
Пишущий для детей не имеет права относиться к своим читателям, как к маленьким.
*
Хорошо кухарке: недосол на столе, пересол на спине — только не пересаливай!
А писателю и недосол и пересол — всё на спине.
*
Маленький писатель ревниво заботится о том, чтобы в его писании не повторялись слова, особенно — местоимения; большой писатель даёт им полную волю, даёт своей речи течь совсем свободно, и его речь всей его жизнью, всеми мыслями и вечным отбором так вычеканена, что нет даже такого вопроса: повторять ли слова, или там местоимения, или нет. Диктует напор мысли, и темперамент, и воля высказать.
(О Б. С. Житкове.)*
Искусство («творчество») — особый род недуга. В этом убедился опять (в который раз!) сегодня.
Вчера заново переписал, переделывая, «Чайки в заливе». Лёг в два, перечитывал «Строители» Киплинга; заснул в четыре. Без четверти восемь проснулся от сна: приснилась поразительная форма рассказа, позволяющая в нескольких абзацах исчерпать ярко и убедительно огромное содержание.
Во сне мне казалось, что я разбираю рассказ Киплинга. Проснувшись, с изумлением увидел, что всё моё.
Во сне же, оказывается, передумал «Чаек».
Мысли колом сидели в голове, спать больше было невозможно. Сделал «Чаек». Новая форма рассказа ускользает.
И ускользнула!
*
Была замечательная ночь.
Во втором часу я лёг в постель с книжкой в руках («Историю двух городов» Диккенса перечитываю). Надо сказать, что день перед тем был довольно унылый: после двух дней неплохой работы («В. Г. Дуров младший») наступил день безделья, работа не удавалась, не звала.
Думал, ложась: «Прочитаю, настроюсь, Диккенс на меня всегда хорошо действует. Утром работа пойдёт сама».
Читал, курил, ни о чём не думал.
Вдруг замечаю, что не отдаю себе отчёта в том, что читаю. Мысли мои далеко: я думаю о висящей надо мной книжке «Птицы всего мира».
Безо всякого видимого повода, только выдумалась вдруг замечательная форма для такой книги. И увлекла меня в целый вихрь выдумок.
Я отложил онемевшего Диккенса и долго лежал, курил, думал при свете. Прекрасные вещи выдумывались не только в области работы, но во всех областях (организация жизни, установление отношений с издательством… и т. д. и т. п.). Настроение из унылого сразу вскочило до прекрасного. Сердце забилось, как от любви или вина.
Я был счастлив.
В 4 часа я потушил свет, но долго ещё не мог заснуть: «машинка» продолжала работать — и о чём бы я ни думал, всюду с лёгкостью находил выход, легко продумывал свой творческий путь.
В половине шестого проснулся, не сразу поняв, что спал: вероятно, и во сне фантазия продолжала работать, потому что разницы между сном и бодрственным состоянием никакой не заметил.
Ещё закурил (хоть пепельница была уже полна). И в блаженном — как в угаре любви — состоянии думал о том, что вот за такие минуты, часы можно отдать чёрт знает что, и ни на какую профессию писательство не променяешь.
Потом заснул легко и проспал до 11 часов.
Несмотря на недосып, чувствую себя прекрасно, в очень повышенном настроении и рвусь в бой, то есть работать.
*
Сознаюсь, у меня бывает нередко: когда сажусь писать — не знаю, куда меня приведёт тема, даже сюжет. И нисколько не стыжусь этого: писать — как любить, часто не сразу человек осознаёт, что он полюбил; и не может знать, куда любовь приведёт его.
«Творить» — это осознавать жизнь через любовь.
*
Наука убивает живое.
Искусство воскрешает мёртвое.
Во всех сказках, чтобы воскресить мёртвое, разрубленное на части тело человека, его спрыскивают сперва мёртвой водой (и от неё разрубленные части тела срастаются, но тело ещё мертво), а потом живой водой (и от неё-то человек воскресает, открывает глаза и произносит: — Долго же я спал!).
Это — один из глубочайших сказочных (то есть наиболее глубинных) образов.
Так художник сперва с циркулем в руках изучает анатомию (мёртвое, убитое тело), делает себе чертёж-план (части тела срастаются, но ещё мертвы) и потом, брызнув на мёртвый план живой водой своей фантазии, воскрешает его, воплощает в образ (иногда — из глубины веков).
*
Всю жизнь меня поражало, как начал писать. Начнёшь о чём-нибудь думать усиленно, вынашивать в себе какую-нибудь мысль (ещё больше — образ!), всё кругом так и подскакивает к ней: «И я, и я, и я! Возьми меня, и меня, и меня». Глядишь — и верно: всё подходит! Возьмёшь случайную книжку, и в книжке о том же, о твоём; с человеком разговоришься — он о том же; в природе, что увидишь, случится что, — всё о том же, об этом же самом говорит тебе. Вот когда так, значит мысль (образ) правильная. Удивительного в этом подскакивании ничего нет: всё в мире, в жизни едино, в частном — общее, в малом — великое. На этом и зиждется всё искусство.
*
Отовсюду слышу — и вот опять говорили 30 августа на городском собрании дошкольниц в Боровичах («на меня» созывали), — что «Лесные домишки» — любимейшая книжка дошколят. Что в ней «угадано» для маленьких? Мне кажется, — большая уютность: все домики и один другого лучше, уютнее.
Маленький герой — ещё «глупенький», ничего в большом мире не знающий, всюду тыкающийся носом — как и сами читатели (слушатели).
Может быть, то доброе, что встречает Береговушку — слабую и беспомощную — в этом огромном, но уже не чужом ей мире: по-доброму все почти встречают её, хотят ей помочь, предлагают переночевать у них.
В общем-то, что можно бы назвать «Дом и Мир», где весь Мир — дом для маленькой.
Собственно, почти на ту же тему у меня «Приключения муравьишки», «Мышонок Пик» — тоже.
И надо бы ещё раз как следует развернуться на эту тему.
Пусть маленький беспомощный птенчик потеряется, не послушав родителей. Его приключения в огромном, тёмном лесу, на реке, в поле. Всюду стерегут его большие опасности, неожиданные и — кажется — неотвратимые. Но и всюду доброе к нему, и всегда — в нём самом уже заложено всё то, что необходимо для избежания этих опасностей.
«ПТЕНЧИК-РОБИНЗОН»
Это может быть тетеревёнок, отставший от выводка. Он не знает своего отца — и очень пугается чёрного косача.
Может быть зайчонок, сидящий под кустиком, которого охотно кормят все пробегающие мимо зайчихи.
Может быть боевой утёнок, в одиночку испытывающий много бедствий, затем присоединяющийся к другому выводку (но — другой породы утки никак не принимают!), а затем попадающий в стаю — уже на большой воде.
*
Или искусство есть средство постижения жизни — средство sui generis[42], — или нет искусства — tertium non datur[43].
«Свой род» постижения жизни искусством, своеобразие его и отличие от науки заключается в том, что не одним логическим мышлением оно пользуется для своей цели (то есть постижения жизни), а ещё — и преимущественно — методом организации в гармонию человеческих эмоций. Область эмоций, корни их лежат в огромной и тёмной области подсознательной жизни человека, недоступной логике (математике) и часто её опровергающей (логика человеческая есть далеко не совершенное орудие). Извлекать корни эмоций из подземного (подсознательного) мира удаётся художнику средствами ритма (то есть музыки). Жизнь есть не только вечное движение, а вечно ритмичное движение. Ритм — закон жизни всей — одинаково жизни Вселенной (вращение небесных тел), человеческого существования и жизни атомов, электронов и всех бесконечно малых составных. (В постоянном изменении ритмов состоит эволюция мира человека и всего прочего живого и «мёртвого»; слишком резкое изменение ритма (например, удар кометы или пули) влечёт за собой мгновенную смерть, то есть неожиданное распадение на составные части. Нахождение в малом ритмов великого составляет сущность искусства и его цель — внелогическое познание (объяснение) жизни. Ощущение ритмов в себе и вовне требует от художника того, что на обыденном языке зовётся «талантом» — ощущение, выделение и приведение в гармонию ритмов. Отсюда — талант (художник) — организатор («инженер») подсознания.
*
Я принадлежал к числу тех мальчишек, — может быть, довольно редких, — которые не ломают игрушек, чтобы посмотреть, что у них внутри и как они устроены. Когда, маленький, я услышал от мамы, что красавицу Саню врачи разрезали ножом, вынули у неё что-то из живота (очевидно apendix) и зашили, — я заболел. Позднее (с восьми лет), когда у меня появились ружья, я не мог себя заставить разбирать их даже в случае порчи: мне казалось это так же трудно и… святотатственно, как вскрыть собственную руку и вообще резать человека, животное, произведение искусства. Из такого человека никак не может получиться анатом, врач; не получится и учёный-орнитолог. Но мог получиться художник-орнитолог.
Наоборот, из отдельных частей разрушенного мне в детстве всегда хотелось сложить целое.
Живой образ — синтез, искусство — с детства необычайно сильно действовали на меня, и я всегда видел и вижу в них чудо, необъяснимое никаким анализом, никаким разложением на составные части, — никакой логикой…
Недостаток ли это у меня? Думаю, нет. Недостаток смелости, последовательности на своей линии — да.
Разве обязан человек, всецело преданный художественной литературе, непременно также знать полиграфическое дело?
*
Маленькие рыжие муравьишки не спят, таскают что-то по столу, кучами набиваются в мёд, лазают по моей рукописи, не страшась пера. Сильно подозреваю, что они, как в сказке, пришли поработать за меня ночью. Давай-ка лягу скорей спать. Утром проснусь, а на чистой бумаге такая чудесная сказка готова — с хрустальными дворцами и белкой, грызущей золотые орешки!.. Или перо жар-птицы…
*
Гм!.. Бумага так и осталась чистой. Ничего не наработали хламушки-муравьишки! Придётся, видно, самому… Ну, что ж, — поскольку небо чисто и в окно льёт солнце, рокочет море, молчат горы, поёт в саду заряночка, — попробуем.
*
Наука и искусство — это две параллельные линии (пути постижения жизни), сливающиеся в бесконечности.
Лучшим примером того, как поэтическое мироощущение может гармонично сливаться в человеке с научным миросозерцанием и — поэтический дар с научными способностями — являются для меня: прежде всего — Михайло Ломоносов (открывший закон сохранения энергии и т. д. и написавший прекрасные оды) и — Вольфганг Гёте, поэт и учёный, один — со стороны — в то время понявший, что в споре Кювье — Сент-Илер всё-таки прав Сент-Илер, формально переспоренный знаменитым Кювье.
Душа поэта — вот точка, где соединяются параллельные линии.
И это — потому что поэт сам Вечность и частицу её носит у себя в душе.
*
Холодный ум сокрушает всякую тайну (души и природы) легко — как скорлупку яйца. Но что мы узнаем о таинственном даре песен, сокрушив соловьиное яичко? («Розовое и оливковое»). Отсюда — страстное желание заблудиться в науке, в природе, в своей собственной душе — и вера в единственного проводника — искусство, логикой никогда ничего не объясняющее (Вергилий — поэт, проводник Данте по всем кругам ада!).
И наконец, величайшее открытие всей эпохи — энергия — начало всему, и она бессмертна.
ГЛАЗ ПОЭТА
Видеть то, что не бросается в глаза людям, мимо чего проходят равнодушно. Назвать увиденное так, чтобы все его увидели, — вот дело поэта, назначение его в жизни людей.
*
Терпеть не могу писанины!
Как часто эту фразу слышишь… даже среди писателей.
А я люблю — и не боюсь в этом признаться. Нисколько не стыжусь, что люблю добротную бумагу, приятное, удобное перо, красивый чернильный прибор, пресс-папье. И как не любить — не понимаю: ведь это же мои орудия производства. Я расстраиваюсь, когда приходится писать на плохой, серой и рыхлой бумаге, малейшая порча хоть одной буквы в моей пишущей машинке портит мне настроение.
Я читал где-то, что гениальный Ци-Бай-Ши больше гордился тем, что он умеет красиво писать иероглифы на своих картинах, чем самими картинами. И как хороши у китайцев все предметы писанины: тушь, кисточки, бумага, растиралки туши.
*
Никогда ещё так явно не ощущал я своей прямой зависимости от солнца. Такое после переезда сюда радостное рабочее настроение быстро сменилось ужасным упадком сил, намокшие крылья «вдохновения» безвольно поникли — райская птица превратилась в мокрую ворону. Начались нервные корчи — корчи душевные.
*
Сегодня в 3 часа 40 минут разбудило меня солнышко. Золотой радостью играло оно на белой деревянной стене перегородки. Спать дольше (а лёг я около полуночи) показалось преступлением. Сразу стало что-то задумываться, потянуло к брошенной в бессилье работе («Знаешь ли ты этот сказочный край?»).
*
Из глубины души поднимался «мира восторг беспредельный». Вдохновение сушило крылья, готовясь широко взмахнуть ими — и отделиться от земли.
*
Каким сказочным изумрудом вспыхнуло вдруг передо мной пёрышко свистунка, воткнутое мной в пробку баночки для чернил! Как заблагоухал жасмин, поставленный любящей рукой в гранёный стаканчик с водой. И большие ромашки — «любит — не любит, к сердцу прижмёт» — расправили свои юбочки навстречу снопам солнечного света.
Как юный повеса в ожидании утреннего свидания с возлюбленной только для отвода глаз ложится с вечера в кровать, не спит, томится, а забывшись и задремав невольно, внезапно пробуждается и, вздрогнув, порывисто поднимается и устремляет полный отчаяния взгляд на часы: — Проспал?.. Проспал?.. — и, убедившись, что до желанного срока ещё долго, ох, как долго! — решает всё же не смыкать глаз, чтобы, снова отдавшись мечтам, не задремать, — и в конце концов, истомлённый невыносимой самопыткой, решительно сбрасывает с себя одеяло, одевается и, стараясь никого не разбудить, крадучись, покидает ненавистную опочивальню задолго до условленного часа, — так точно я сегодня провёл ночь, в нетерпеливом ожидании рассвета, когда можно наконец вскочить и, схватив перо, с головой отдаться невольно прерванной с вечера работе.
*
Удивительное дело, до чего я привык «мыслить» с пером в руках и бумагой перед глазами: ничего ведь не могу додумать без пера!
Интересно и то, что, стремясь скорее, скорей за работу… решительно не имеешь представления, что сейчас напишешь. Теперь я ничего вперёд не додумываю, всецело отдаю себя «на волю волн» и прочих неведомых стихий, слова сами подскакивают, — хватаешь их с воздуха и только записываешь, сюжет и характеры самостийно развиваются без участия моей воли и мысли, вполне — часто — неожиданно для меня, и я ужасно обижаюсь, если в рассказе не сходятся концы с концами!
Задумал:
СТРАНА ДИВ
написать сборник рассказов на тему — по новгородским лесам и озерам
на основе своих дневников многих (1929–1947) лет.
1. Собачьи Горбы (Волхов)
2. Оз. Великое и Бродское
3. На Мологе
4. Оз. Ямное
5. Оз. Карабожа
6. Оз. Пирос
7. Оз. Боровно
В большинстве рассказов главной «опорной» фигурой должен быть краевед-всевед С. Н. Поршняков.
Основная мелодия: «Страна Див» — незнакомое в знакомом, фантастическое в обыденном, родная красота, детский (охотника, поэта) восторг бытия, родная земля — мать человеку.
Подтемы: Карст — Неолит — Тетеревиное царство — Цапля на страже — «Все сады в росе, но теплы гнёзда» — Свояни — Удинка — Жальники — Белая кряква — Залётные (камнешарки и др.) птицы — С гончей (Н. А. Зворыкин) — Ив. Серг. Соколов-Микитов — Ирэн — Юннаты — Птичья дружба (селезни) — Сплавины.
Дневник 1952 г.*
СТРАНА ДИВ (Волшебные рассказы)
«Волшебные рассказы» — что это такое?
«Волшебные сказки» — это где разные лешие, русалки, черти, феи, колдуны, — одним словом, всякое там, чего на самом деле не бывает. Небылицы. А рассказы — это то, что бывает. Как же это рассказ может быть «волшебный»?
*
Язык — возбудитель и формировщик (организатор) наших чувств и мыслей.
Поэзия (вся художественная литература!) — «язык образов». Чем меньше читатель (слушатель), тем конкретней возникают у него образы (нет ещё отвлечённых понятий), тем точнее должен быть язык художественного произведения.
— Ветер свистел в ушах казарки. — Девочка рисует: птица — казарка — с ослиными ушами.
— Завтра тебе стукнет шесть лет. — Спать не мог: всю ночь стучало! (Сердце, конечно.)
Часто обнаруживается, что дети не понимают нашего языка и переделывают наши слова по-своему, совершенно меняя смысл услышанного.
— Весь наш интернат заболел карантином.
— Ходит (в) поле сухарёк. Вместо: ходит по лесу хорёк. (—«хорёк» + сухарёк!).
— Прочитай про бедного Рапунка. (—«раб»? + Рапунок, (Игорёк, Василёк, щенок!)
«Анчар»:
…Человека человек Послал к анчару властным взглядом. ………………………………………………………… Принёс — и ослабел и лёг Под сводом шалаша на лыки, И умер бедный Рапунок Непобедимого владыки.Такие недоразумения возникают на каждом шагу.
*
Когда пишешь, если тень сомнения является в каком-нибудь месте, уже значит плохо, уже надо бросать и переделывать; когда читаешь написанное, если хоть чуточку стыдно выговорить, — значит, слабо, искусственно или пошло.
*
Первая фраза.
Самое главное — найти первую фразу. Она вспыхивает в сознании, как огонь в ночи. И освещает весь рассказ. В ней, как в зародыше, чудесным образом уже заключена вся птица — голый птенчик, который обрастёт сначала пушком, потом трубочками, в которых прячутся нежные кисточки, в свою очередь вырастающие в мягкие контурные перья.
Вспыхивает первая фраза — и уже неудержимо захочется писать — и будешь писать, пока не кончишь. Это — как маленькое чудо.
Едва ли не интонация первой фразы (которую я охотно назвал бы «первыми словами») решает лад, музыкальный строй всей вещи. К первым пристраиваешь другие слова, «следующие»; ими, возвращаясь к началу, меряешь всю словесную ткань рассказа.
Первые слова моих первых маленьких рассказов, и до сих пор — через 35 лет — мною не забытые:
— Высоко над рекой, над обрывом летали ласточки-береговушки. — Тёплое лирическое начало (запев).
— Надоело щенку гонять кур по двору. — Жёсткий запев.
— Слышишь, какая музыка гремит в лесу? — Восторженный, «на цыпочках» запев.
Первая фраза однажды родившегося, но вот уже десять лет всё ещё не написанного рассказа, который, однако, неизбежно будет написан, если буду жив:
— Как? Вы не помните, как родились на свет? Совсем, совсем не помните? Вот удивительно! А я отлично помню.
Догадался! Верно, это потому, что вы человеческие дети, а я появился на свет утёнком, да таким боевым, что сразу после рождения мог драться, ходить и плавать.
(Из повестушки «Три мира», рассказанной молодым гоголёнком.)
Лучший — хо-хо! — пример того, что найденные первые слова не забываются и через 10 лет — и требуют родить!
В ПОИСКАХ СЮЖЕТА
Пришёл ко мне художник Кукс и говорит:
— Я предложил Детгизу книжку про колхоз — «От зари до зари». Работа колхоза в суточном разрезе. В сенокос. Это будет рассказ художника детям о колхозе. Рассказ в пейзажах.
— А сюжет?
— Сюжета никакого нет. Просто картинки — рассматривать.
— Возраст читателя?
— Младший школьный.
— Для этого возраста альбом пейзажей не гож. В самом маленьком возрасте человечек, разглядывая картинку в книжке, испытывает радость узнавания: «Лошадка! Корова! Курочка! А это кто?» Сразу не может припомнить и очень радуется подсказке: «Овечка, овечка!»
Совсем другие требования к картинке в книжке у семи-восьмилетнего ребёнка: он ищет в картинке иллюстрации к прочитанному. Хороший художник ведёт свой рассказ о прочитанном: рассказ «изобразительными» средствами. Читатель ищет на рисунке прежде всего героев рассказа и зрительно представляет их себе так, как заблагорассудится изобразить их художнику. (Если нарисованный образ художника совпадает с описанием писателя.) В этом самом динамичном возрасте — старшем дошкольном, младшем школьном — ребенок во всём ищет сюжета, действия, раскрывающегося в сюжете. Ему не интересен пейзаж сам по себе, ему необходимы герои на фоне этого пейзажа, что-то делающие герои. Художественные выставки, вернисажи, где живопись и графика расцениваются как таковые, где сюжет часто даже мешает правильной оценке искусства художника, — не для детей этого возраста. Разве что это выставка картин художника-баталиста, — тут от мальчишек не будет отбоя.
Итак, альбом пейзажей ни к чему. Нужна сюжетная книга.
— Тогда нужен текст. Напиши его для моей книжки. Вот мои эскизы к ней. — И Кукс оставил мне свои 17 эскизов колхозного дня в сенокос и просил выдумать сюжет для книжки.
Сюжет не надо «придумывать». В каждой теме сколько угодно сюжетов. Надо только найти их — и выбрать подходящий для данной книжки.
Тема Куксовой книжки: труд колхозников в сенокос на фоне новгородских пейзажей. Задача книжки: наилучшим образом познакомить читателя (дошкольного и младшего школьного возраста) с этим трудом, дать правильно оценить его, заинтересовать им и, может быть, даже научить любить его.
*
Постараюсь высказать свою точку зрения на научно-художественную литературу…
Никакой «научно-художественной литературы» не существует. Существует наука и существует искусство. Мы без затруднения различаем произведения того и другого.
(Глубоко убеждён: искусство и наука сольются и станут единым в будущем, как они были едины в далеком прошлом — на заре сознания. Нас интересует настоящее того и другого.)
Наука стремится к возможно большей объективности подачи материала, искусство — к наибольшей эмоциональности и субъективности.
Откуда возник миф о существовании «научно-художественной» литературы для детей (и народа)?
Наука суха, тверда, надо крепкие зубы, чтобы «грызть гранит науки». Для детей этот камень надо смазать маслом.
И не учитывают, что масло если и поможет ребенку проглотить камень, то нисколько при этом не сделает его мягче и удобоваримее. Научная литература, смазанная «художественным маслом», просто создаёт несварение мозга — и убивает его. В старое время встречал я полузнаек, воспитавших свои мозги на Бикермановском «Вестнике знаний», и в наше время точь-в-точь таких же чеховских типов, все свои полузнания получивших из нашей научно-популярной или научно-художественной литературы («Знаем, знаем, зачем земля круглая…»). Набравшись всевозможных верхов, нахватавшись обрывков каких-то случайных сведений, эти полулюди — те, что слышали звон, да не знают, откуда он, — в слепом своём самодовольстве воображают себя всезнайками и портят всё, за что бы ни брались.
Всю жизнь свою я посвятил борьбе с этим ублюдком человеческого творчества — научно-художественной литературой!
Каждой своей книжкой, каждым рассказом, каждой статьёй и сказкой, — худо ли, хорошо ли, успешно или нет, — я всегда старался доказать, что любой научный материал может быть вобран в художественное произведение, что средствами искусства можно одновременно обогатить ум и душу человека (ребёнка). «Волшебной силой песнопения», но отнюдь не наклеиванием этикеток с надписью «Шампанское» на бутылки с водопроводной водой или вывешиванием вывески «Театр» над лавчонкой со скобяным товаром.
Пора, наконец, понять, что форма и содержание в искусстве одно. Все об этом твердят, а понимать по-настоящему — почти никто не понимает. Потому-то и получается, что считают, будто можно взять научное содержание и придать ему художественную, или, как ещё говорят, занимательную форму. Вроде, значит, взять отвратительную на вкус, но полезную для ребёнка пилюлю и обсахарить ей. Более чем наивное представление людей, воспитанных на «научно-популярной» литературе, что вся наука зло, что «корень учения горек» (уча, били учеников) и что можно подсластить его, разыграв его, как в театре, сделав из него игрушку.
Какая наивность думать, что так называемые «популярные» труды Тимирязева по ботанике, Ферсмана по геологии — и есть «научно-художественная литература»! Вдумаемся в их образный чистый русский язык, присмотримся, как строят (компонуют) каждую фразу своих трудов эти писатели-учёные, чем заинтересовывают они читателей — и убедимся, что их труды чисто художественные произведения, где цель — передача читателям знаний (единственная цель у всех произведений искусства и науки) — достигается чисто художественными средствами, средствами искусства.
*
В критике художественных вещей необходимо не только указывать на слабые и плохие места, но и объяснять, показывать, почему то или другое место слабо, плохо. Критик, редактор сам должен быть писателем, сам должен уметь заменить плохие слова хорошими, неточные — точными.
Благожелательность, доброжелательство часто играет в этом деле решающую роль.
Бывают в рассказах ямы, как камнями и хворостом заваленные, засорённые мёртвыми словами, сухими фразами, словесным мусором. Потрудись — очисти такую яму. И сам испытаешь большое наслаждение, когда отвалишь последний камень — и вдруг из-под него фонтаном забьёт чистейший родник словесного творчества, такой всегда неожиданный в ещё неумелом писателе.
Ну, а если очистил яму, а родника нет, можешь быть уверен, что неудачник больше тебя мучить не станет: сам он поймёт, что нет в нём животворного родника и что попытки его — пытки для других и для него самого.
Удачи в рассказе всегда дают наслаждение, приносят радость.
Труд без радости — мученье. Добровольно не станешь им заниматься.
*
Беру чистый лист бумаги. Печатаю (Ноябрь) — и народное: «выехал на пегой кобыле. Под ногами — то грязь, то снег».
И пускаюсь в неведомое плаванье — по каким тропам — неведомо, куда — неведомо. Всадника взял у народа: всадник на пегой кобыле.
*
Вера в человека — огромная сила в художнике. И большая опасность для него самого в жизни. Как часто видишь при первом знакомстве одни ослепительно прекрасные возможности, заложенные в человеке, и совершенно не видишь его, как он есть. И бывает, Светлый Ангел очень скоро оказывается скучнейшей метрикой, Светлый Рыцарь — пошляком и негодяем.
*
Утром Гр. Павл.[44] принёс толстую пухлую вёрстку «Лесной Газеты». И вдруг мне показалось: умру, а что-то от меня останется. Что-то останется, но уже не я. Может быть, весь высший смысл человеческого существования именно в том, чтобы себя (своё «я») перевоплотить в мир, — чтобы
…Всё сущее увековечить, Безличное — очеловечить, Несбывшееся — воплотить! (А. Блок).Раньше я говорил:
— Стараюсь писать так, чтобы доступно было и взрослым.
Теперь смело утверждаю:
— Никогда я ничего для детей не писал. Писал только для взрослых, сохранивших в душе ребёнка.
*
«Миги жизни сочтены» (А. Блок. «Дон Жуан»).
Миги длинные, протяжные, — миги мимолётные, — миги, остающиеся в памяти на всю жизнь.
«Застывающий миг» — искусство.
И тут: «Жизнь существует для того, чтобы её воспели» — для людей.
Ибо, не воспетая, она исчезает бесследно для новых и новых поколений. Вся культура — воспоминание. Вся культура — в искусстве.
*
Кто хочет что-нибудь сделать в жизни, должен с детства вести записные книжки утренних мыслей, наращивать в них цепной реакцией длинные — через всю жизнь — мысли, вытягивать свою жизнь прямо, как копьё, и заострять её на конце.
Только тогда он может рассчитывать внести свою жемчужину в сокровищницу общечеловеческой культуры.
*
Чуть-чуть, говорят, не считается.
В искусстве чуть-чуть почитается.
*
Г. И. никогда не был поэтом именно потому, что он — отличный переводчик и холодный человек.
С детских лет став перекладывателем прекрасных чужих стихов на родной язык, музыкантом-исполнителем, но не композитором, он всё невольно стал подгонять под классические образцы поэзии — и в нём была подавлена, не развилась страсть поисков нового, поисков себя в поэзии.
*
Нет солнца на небе, так освещает внутреннее солнышко: так называемое творчество. Это что-то вроде конденсации солнечной энергии в душе. Может быть полная тьма снаружи, а всё равно свет внутри — великая охота жить и жизнь петь.
*
Я — вслед за князем Мышкиным! — полагаю, что с детьми можно и должно говорить обо всём решительно. Больше того: я считаю, что лучший в мире сказочник — Ганс Христиан Андерсен — именно был тем и гениален, что поднимает и разрешает средствами поэзии глубочайшие темы человеческого существования, сложнейшие жизненные темы:
живое и машинное («Соловей»),
любовь («Русалка», «Свинопас», «Снежная королева» и множество других несказок), мещанство (чуть не половина его «сказок»!).
Сказки его именно потому и любимы детьми — и уж на всю жизнь! — что сказки эти — кристальная поэзия, равно доступная детям и взрослым, сохранившим в душе ребёнка.
Дело не в темах, — они для всех, а в кристаллизации их силами поэзии. Наибольшая — окончательная! — кристаллизация требуется в вещах для детей. Самое ответственное в мире дело — искусство для детей.
Г. П. ГРОДЕНСКОМУ[45]
…Да, брат, Данькоша — это «класс» и клад. Елена Яковлевна — мыслитель. Великолепная голова и по эрудиции и — что всегда особенно ценно — по способностям. Кроме того, Е. Як. — художник. Комбинация, возносящая её на огромную высоту.
Я безмерно рад, что ты приобщился к работе этой прекрасной головы (и души тоже). Ты сам человек хороших способностей, и бывать в лабораториях первоклассных мастеров — как раз то, что тебе необходимо. От этого повысится, конечно, и твой педагогический класс, ты станешь «педагогом сверхмастером». Потому что творчество человеческое (по секрету скажу тебе) едино во всех его проявлениях, в сущности своей едино… Талант (=способность творить) един, а хирургия, литература, педагогика, живопись — лишь разные точки его опоры, приложения.
«С хорошей прямотой, без оскорбительного снисхождения» — вот что и необходимо. Ел. Як., А. Гавр., Бор. Степ. — все это вершины…
…Оптимизм мешает людям предъявлять к себе, к своей работе, к литературе настоящие строгие беспощадные требования и этим снижает работу, душу человека. Я бы так определил человека: это животное, которое может прыгать выше своих ушей. Человек может (и должен!) создавать большее, чем он сам из себя представляет. В этом его сущность и бессмертие…
Но — сознайся! — ведь то, что казалось тебе удовлетворительным в твоей статье до разбора Ел. Як., после него кажется тебе невыносимым, а то, что казалось блестящим, — кажется теперь только-только удовлетворительным.
Требования твои после одного только вечера «беседы» (односторонней несколько…) с Ел. Як. повысились на 40°. Следующую свою статью ты уже начнёшь на той ступени, которая была в разобранной статье наивысшей…
27/VIII-40 г. Михеево.Льёт ливмя дождь четвёртые сутки. Первый день я проходил под дождём с мокрыми ногами, кусты и деревья скисли, раздражённо брызгали в лицо и за шиворот. Не понравилось — и вот уже трое суток безвыходно сижу дома.
Моих нет. Один Малыга. Этому дождь нипочём, и днём его только за едой вижу, а в десять вечера он без разговоров — в постельку.
Радио чуть хрипит, — и всё не шлют из района новую батарею.
Холодно; сижу в валенках и тёплой куртке.
Кажется, довольно поводов для самой лиловой хандры?
А вот поди ж ты, пойми свою душу: прекрасное настроение у меня!
Конечно, это делает работа.
Завтра 1-ое; — сажусь — Господи благослови! — за «Сто радостей». А пока писал, что Бог на душу пошлёт. Сейчас кончил работу над летом набросанным рассказом, — помнишь? — тогда он назывался «Радость», — теперь, кажется, назову его «Мать». Рассказ без птиц и зверей — с одним жуком, да и то навозником, — про мнимого утопленника.
На днях получил письмо из московского комсомольского журнала «Смена» (помнишь, на какой чудной бумаге выходит?); пишут, что им очень понравился мой рассказ «Розовое и оливковое» в «Пионере», что они соревнуются с «Пионером»; что их читатель — 9-е и 10-е классы; — и очень просят прислать им соответственный рассказ. Вот я и вытащил «Радость», которая скорее «горе» или «недомыслие»…
30/IX-40 г. Михеево.Вот радио опять действует (был монтер из Мошенского, привёз батарею), изба полна музыки, а душа… мрака. Ты ведь в радио ничего не понимаешь? Так слушай.
В Ленинграде сунул вилку в выключатель — и запело. А тут у приёмника две батареи: анодная — это так называемое «питание» — и батарея накала. «Питание» у меня в порядке, а «накал» иссяк. Сегодня переменили батарею — и опять «пошла рвать».
Боюсь, что в связи с «Чижом» [ЦК Комсомола гарантировал В. Бианки хорошие условия работы в редколлегии «Чижа». — Ел. Б.] мне скоро придётся переехать в Ленинград. А это значит: анодная моя батарея — «батарея питания» — будет выключена. Останется одна «батарея накала». Природа — вот «батарея питания», вечная и неиссякаемая. В городе душе нечем питаться. Город — «батарея накала». Город очень быстро перекаливает душу.
I/X-40 г.Писатель связан с миллионами тысячью в обычное время неощутимых нитей. Даже если он месяцами сидит, запершись в своей комнате. В эпоху резких общенародных событий он внезапно ощущает, что эти нити привязаны к тончайшим концам его нервов и что ими опутано всё его сердце и весь его мозг. В такие времена никакая «башня из слоновой кости» не создаёт для него условий, в которых он мог бы писать. Можно писать вальс «Шепот цветов» под грохот орудий, но невозможно писать в тиши, прислушиваясь к отдалённой канонаде. Это дело безнадёжное. И надо спешить туда, где люди умирают, побеждая или терпя поражение. Нити, натянувшись, влекут писателя туда…
Михеево. 3/Х-41 г.…Последние три дня меня вдруг опять позвала работа — да так непреодолимо властно, что хоть вчера трахнуло так, что вся избёнка затряслась, — я не бросил пера. Третий день пишу такое, что никак не реализуешь ни на деньги, ни на продукты, — своего рода ответ на «Возмездие» (в прозе, конечно, но проза музыкальная). Трудно адски, — и я чувствую себя героем, написав пол-осьмушки за день (десятки, сотни вариантов!), но как это непреодолимо, когда требует «к священной лире Аполлон»!
Начинается так:
«Распахнулось окно во вселенную. Мы спали».
Уже по этому можешь судить о размахе вещи. Если удастся написать, — пошлю тебе — на далёкую твою звезду.
Идиотство, конечно, заниматься такими вещами в такое время, но — хоть небо упади на голову, — самое главное остаться самим собой.
Ещё одной мыслью влечёт меня поделиться с тобой.
Во Франции, как известно, есть «могила неизвестного солдата» (1914–18 гг.). Француз ли, англичанин ли, американец подойдёт, — все снимают перед ним шапку. Легенда утверждает, что похоронен там русский солдат.
Хочу писать: какую же священную могилу должны будут воздвигнуть оба полушария неизвестному русскому солдату после нынешней войны?..
12/XI-41 г. Михеево.С. Н. ПОРШНЯКОВУ[46]
Многоуважаемый Сергей Николаевич!
Необычайно растрогало меня Ваше письмо — и поздравление с Новым годом и, главное, то, что Вам захотелось поделиться со мной своими мыслями о понравившихся Вам моих рассказах.
Вы знаете: ведь все мы — «сочинители» — в глубине души хоть немного «артисты»: аплодисменты всё-таки нужны нам, они поднимают наш дух. Для меня лично нет другой награды за труд, кроме хороших отзывов о моих вещах людей, мнение которых я ценю. (Не считая, конечно, высшей «внутренней награды», которую даёт самый труд, удачи его, — но ведь это совсем другое дело.) Шумные аплодисменты «масс» (читателей, слушателей), которыми награждает нас — писателей — аудитория, когда читаешь свои вещи вслух (выступать мне приходится часто), оставляют меня совершенно равнодушным: я не честолюбив — и дело для меня совсем не в том, чтобы «угодить читателю». Но вот когда я вижу свою книжку, распухшую вдвое от многократного употребления читателями, или получаю деловитый положительный отзыв от серьёзного, вдумчивого читателя — да ещё природолюба и -веда, да ещё «ревнителя русской литературы», — о тех из моих вещей, которые мне самому представлялись удачей, — это для меня праздник, п[отому] ч[то] тогда думаешь: «значит, ты не просто тешишь себя мыслью о своём успехе, — значит, и со стороны твой труд получил признание, принёс кому-то удовольствие, сделал маленькую пользу, — и ты уж, выходит, не совсем зря топчешь землю и переводишь бумагу». Надо сказать, что печатными отзывами о моих работах меня не балуют: едва ли пяток статеек о моих вещах можно насчитать во всей нашей печати за все 23 года моей работы в детской литературе (при общем тираже моих книг, — не считая, конечно, напечатанного в журналах, — около семи миллионов). Правда, как раз о «Тайне ночного леса» был хвалебный отзыв перед войной в ж. «Литературный современник». Но мне было особенно приятно узнать, что Вам в этом рассказе понравился «выдержанный стиль рассказа современного юнната», — как раз то, что я лишь с боя отстоял у редакторов. (Они находили, что этот стиль слишком груб. Но ведь это правда. Если её исказит художник — получится фальшь.) Спасибо Вам.
…Мечта моя: всю весну прожить в деревне, всё лето, и всю осень. Ведь два года уже я ни разу даже с ружьишком не прошёлся по лесу! Такого ещё никогда не было у меня в жизни. Не могу я без леса.
Затеял большую и серьёзную работу: написать «Летнюю книгу» (для III–IV классов, но, конечно, так, чтобы и всем интересно было). Это вроде продолжения «Лесной газеты» или её пополнения для городских школьников, проводящих летние каникулы в деревне.
Компоную особую форму книги: соединение принципов «толстых» (статьи, очерки, рассказы солидные) и «тонких» журналов (отделы смеси, рассказов и очерков в картинках, анекдоты, заметки и проч.). Сюда должны войти летние занятия, наблюдения, игры, доступные ребятам: рыбная ловля (календарь рыболова, наблюдения на реке, озере — чисто практические советы: как сделать удочку, вятерь, отцепить застрявший под водой крючок и т. д. и т. п.), ловля птиц осенью, наблюдения за птицами (всюду проводятся идеи охраны природы), собирание насекомых, составление гербариев, собирание ягод, грибов, цветов (и букеты!), игры в индейцев, робинзонов, колумбов (исследование неизвестных мест, «необитаемых островов», истоков ручьёв и т. д.). Задача: пробуждать интерес ко всему окружающему (к «природе»), заинтриговать (всё тайны, всё надо исследовать самому) — и тут же вооружить «необходимыми техническими знаниями», как сделать сачок, расправилку — ведь ничего этого теперь у нас нет в продаже, ребятам надо всё самим уметь! (Сквозь всю книгу проходят лесные, полевые, речные человечки, сюжетно обрамляющие все разделы этого, в сущности, делового чтения, — позволяющие вводить лирику, юмор, — что так необходимо детям.)
Книга коллективная. Ботаник у меня уже есть: прекрасный писатель — Нина Мих. Павлова (дочь академика М. А. Павлова, металлурга). Художники у меня тоже есть свои — Чарушин, Курдов, Ризнич. По рыболовству, энтомологии и т. д. буду брать материал у специалистов.
Я так подробно об этому пишу Вам, п[отому] ч[то] в неё могла бы войти и «геология для маленьких». Да и по экскурсиям с ребятами общеприродоведческим у Вас огромный опыт.
Пожалуйста, напишите мне, как Вы смотрите на такую книгу и на своё участие в ней? Вплотную возьмусь за неё только летом (хотя она включена уже в план ЛенДетГиза на 47-ой год).
С нетерпением буду ждать Вашего ответа.
Ваш Вит. Бианки.
22/1–46 г. Ленинград.…Вы спрашиваете, как у меня обстоят дела с рассказами об «эвакодетях»? (Так их называли на жел. дороге…) Писал, но не довёл до конца, — перебила другая работа. Сырого материала (записок) много. Он тоже у меня на очереди; примусь за него, когда будет наконец у меня спокойная «келья под елью». Материал этот совсем не злободневный и мог бы иметь значение и через много лет после войны.
Основная тема: городские («уличные» и «комнатные») ребята, внезапным катаклизмом вырванные из привычной городской жизни и брошенные на «мать-сыру землю»; во время мировых катаклизмов человек всегда оказывается вновь лицом к лицу с природой («голый человек на голой Земле») — и узнаёт в ней забытую мать; детям это чувство родства с природой доступно больше — скорее и ярче, чем взрослым.
(Из письма к С. Н. Поршнякову. 10/VII-45 г.)А. И. ИВАНОВУ[47]
Сашун дорогой!
Прежде всего запиши мой адрес: п/о Речка Опоченского р-на Новгородской обл., дер. Узмень.
Попали мы нынче в местность необычайно интересную. Узмень расположена на берегу маленького лесного моря — оз. Пирос (7×8 км) у горла северного его залива. Вокруг — что хочешь: и песчаные холмы с сосновыми борами, и сырые луга и перелески, и высокие смешанные леса, и болота, и топи лесные и луговые. Фауна удивительно разнообразная. Еще почти не выходя (оч. слаб и «ревматис» мучает), не побывав от деревни дальше полутора км, я шутя отметил 75 видов птиц — пока больше болотных и водоплавающих. Уток, куликов, чаек тут масса и сейчас — в июне! — на Пиросе; среди них такие интересные, как малая чайка, чёрная крачка. А вчера мы с Верикой и Валькой ездили в челне (уже сняли на лето) в конец нашего заливчика и там — в Затопленном Архипелаге стоящих «по пояс» в воде кустов, между которыми бесконечные проливы, — в осоке подъехали к трём диким серым гусям на 50 шагов! Я не стрелял в них только потому, что убедил себя в том, что это, конечно, домашние. (Домашних-то гусей тут, оказалось, нигде не держат в окрестных деревнях!)
А они — на крыло — и до свидания! Впрочем, через полчаса опять появились — справиться, тут ли ещё мы? Дупеля токуют сразу у нас за околицей.
По всему этому ты поймёшь, как тут нам интересно. И я думаю, что очень бы неплохо тебе приехать сюда в августе, когда поспеют овощи (у нас большой огород) и можно будет промышлять охотой: поотъелись бы Вы с Ниной, отдохнули б хорошо, а ты бы поглядел наших русских, новгородских «пташек», — ты уж поди совсем их забыл в своей Азии?
Это — одно дело. Другое: хочу просить тебя в корреспонденты «Лесной газеты». Сейчас готовлю её VI-ое издание и ввожу в него отдел «Со всех концов страны», где помещу «корреспонденции» с мест из разных углов РСФСР и «братских республик».
Знаю, как ты занят, поэтому много просить не буду. В отделе этом мне нужны контрасты: у нас в Лен. области сейчас происходит то-то и то-то, у нас такие-то звери, птицы, гады, рыбы и насекомые, а вот там-то и там-то — в нашей же стране — сейчас происходит всё наоборот (напр., степной удав и пр. впадают в спячку среди лета: у нас пурга, а у вас тюльпаны цветут…), — а вот там-то такие звери (дикобраз, горный баран, тигр), такие-то птицы (райская мухоловка, бородач, синяя птица и пр.) и т. д. и т. д.
Сашун, ты бы дал мне коротенький такой обзорчик особенно интересного, яркого, контрастного в отношении ленинградской природы в годовом цикле Таджикистана и хоть отдельные эпизоды из твоих наблюдений (или сведений) на Дальнем Востоке, в Монголии, в Забайкалье, в Якутии — всюду, где ты был. Ты просто можешь давать сухой перечень, списочки интересных видов и эпизодов из их жизни: дальше я уж сам навру что надо, разведу турусы на колёсах. А если есть аппетит, то и полностью описывай, — совсем будет замечательно.
Кроме всего прочего, мне бы очень хотелось включить твоё имя в число «корреспондентов» «Л. газ.»: мы же с тобой старинные друзья-«орнитолухи» и соли много пудов съели вместе.
Включаю я «корреспондентом» и М. Дм. Зверева и других, — а вдруг тебя не будет?! Досадно. Ганса туда же посажу — командора. Вот и будем опять все в компании, как в юности. Кстати, не получил ли ещё чего от Ганса? Как бы хотелось повидать его, обнять!..
…Итак, очень жду ответа на все мои вопросы. Пиши скорей — и на всё отвечай «в положительном смысле». Обнимаю тебя и Нину. Верика целует обоих.
Твой Вит.
23/VI-46 г. Узмень.А. А. ЛИВЕРОВСКОМУ[48]
Дорогой Лёша.
Спасибо за карты. Мы тщательно изучаем их — и так вроде как уже путешествуем по замечательному озеру. В.[ера] Н.[николаевна] и Талюшка рвутся на разведку. Хорошо бы воспользоваться Вам наступающим бабьим летом и съездить на Городно.
Вчера катали меня на «Победе» по перешейку. Были и на оз[ере] Красавице, и на других озерах, и на Выборгском шоссе. Но самое сильное впечатление на меня произвёл один холм, где следы бывшей усадьбы и взорванный дзот. С этого холма в несколько горизонтов открывается огромный кругозор (или по древнерусски: «видимирь») чуть не на всю Похьёлу, на её холмы и леса.
И скажу: не по душе мне эта страна!
И потом долго думал: что мне тут не нравится, чего не хватает?
Наконец понял. В сухопарых здешних лесах нет кудрявых ольх и у озёр — ласковой лозы, ракит, ив. Озёра здешние — просто дырки в граните, а острова их — камни.
Нет, не по душе мне Похьёла и не желал бы я такой родины своим внукам! То ли дело милая Новгородчина с её обильной, а не как здесь будто по карточке отпущенной берёзой и осиной, с её зарослями весёлых ив (тальника — по-сибирски) вокруг мягкобережных озёр, с целыми рощами самого, казалось бы, никчемушнего на свете дерева — чёрной и белой ольхи по болотам! Сколько ласки и радости в том пейзаже, сколько интимной прелести в наших речушках, пробирающихся из смешанного леса, где седовласые, дремучие ели создают таинственную глубину, шуршит под ногами опавший лист ольхи, рдеет рябина, трепещет осина, рыжим огнём горят на закате мачтовые сосны по холмам, — строгий храм соснового бора, оттуда выбегают в луг с живописно разбросанными по нему куртинками остролистных ив, оттуда в белоствольную берёзовую рощу, а там бегут бесконечными полями ржи, пшеницы — и опять вбегают в разнопородный лес, где на радость зайчишкам и молодым медведям прячутся участки овсяных полей.
Нет! Хочу скорей на Городно, где в лесу лешаки, в озере — русалочки, а на прекрасных болотах — смешные разные шишиги и кикиморы. И пусть оно станет настоящей маленькой родиной моим внукам, какой было для нас когда-то Лебяжье, — и вырастут на берегу его избушки на курьих ножках в усадьбе под названием Внуково, или Дедо-Внуково, — чтобы было и мне где сложить свои усталые косточки в мать-сыру-землю новгородскую.
Давай строиться вместе: так удобнее, а понять — мы всегда поймём друг друга, поскольку характеры у нас не вредные, оба мы любим одно и оба из Лебяжьего. Черкни, когда повезёшь моих разведчиков?
Лучше всего, пожалуй, было бы Вам поехать в Октябрьские праздники: и ты и Талюшка были бы свободны. И устроить из этого настоящий выезд на охоту. Юра тоже, верно, может приехать туда в эти дни со своей гончей? Да ты бы с Чудиком. А Талюха мог бы на лодке по озеру ездить — пролётных уток пощупать… Эх, леший! Неужели я-то так уж больше не смогу побаловаться с ружьишком, хоть с лодочки?!
Этой же зимой и надо бы начинать строительство избушек на курьих ножках, отпустив на это некую толику денег: чего ждать-то?..
Привет от В. Н. Жму копыто. Твой Вит. Би.
15/ІХ-52 г. Комарово.М. Д. ЗВЕРЕВУ[49]
Дорогой Максим Дмитриевич!
Очень и очень порадовали Вы меня своим письмом. Откровенно говоря, вскрывая конверт, я думал: «Наверно, Максим Дмитриевич рассердился на мою критику и посылает меня к черту…» А Вы ещё и благодарите меня за моё письмо. Большую честь это делает Вам: кто может спокойно выслушать критику, тот может расти и совершенствоваться.
Итак, с вопросом об «антропоморфизме» в художественной литературе у нас пока, видимо, покончено. Теперь Вы пишете: «…Не вижу мусора в своих произведениях… Научите, как работать над своим языком, как научиться видеть больших и малых „блох“ и ошибки у себя». Вы понимаете, конечно, что я не могу написать для Вас учебника. Но, окрылённый мыслью, что мои указания что-то Вам дают, хочу попытаться сформулировать несколько практических изложений примерами, беря фразы, обороты, приёмы из Вашей новой книжки «По заповедным тропам» (спасибо за неё!).
Как работать над языком?
Вот Вы написали какую-то фразу, например: «В горах можно наткнуться на удивительную загадку, на первый взгляд мало понятную» (стр. 8). Отнеситесь критически к тому, что у Вас написалось, — и вы увидите, что Вы совершенно не сумели сказать то, что хотели, не выразили своей мысли.
Мысль у Вас была: рассказать читателю о факте, который, на первый взгляд, кажется совершенно необъяснимым, а затем объясняется очень просто и логично. Вы же говорите: «Можно наткнуться на загадку»…
«Наткнуться» можно на сурков, которые (почему-то) ещё не спят — и то лишь выражаясь фигурально, фактически ведь никакого «натыкания» не будет: сурки исчезнут, едва Вы появитесь. «Наткнуться на загадку» — корявое выражение. А что значит «наткнуться на удивительную загадку, на первый взгляд малопонятную»? Здесь эти слова надо писать вместе, всё равно как слово «непонятную», которое, собственно, Вам и надо было сказать; «малопонятная» загадка — ничего не значит. Загадка просто не понятна, пока не разгадана. Слово «удивительная» здесь у Вас лишнее. Тут удивительное явление, удивительный факт, представляющий загадку. Он тем и удивителен, что загадочен. Раз он «загадка», то этим уже сказано, что он «удивителен». Таким образом, это слово тем одним, что оно лишнее, затемняет мысль, а не проясняет, — и, значит, вредно, а не полезно здесь.
Дальше начинаешь разбираться в Вашей фразе и удивляешься: что же непонятного в Вашей загадке? Загадка понятна всякому: ниже в горах, где теплей, — сурки уже спят, а выше, где холод, «граница зимы», они ещё не спят. В этом и загадка. А Вы, вместо того, чтобы сказать «непонятный факт», сказали «непонятная загадка». Да и ещё не «непонятная», а «мало понятная», что совершенно уже бессмысленно. Дальше вот как излагаете Вы самую эту «мало понятную загадку»:
«На высоте 2500 метров н. у. м. начал встречаться снег и вдруг… — сурок».
Что «…сурок»? Тоже начал встречаться! Но один сурок не может — по законам русского языка и логики — «начать встречаться». Вы хотели сказать, что на высоте 2500 метров человек встретит неспящих сурков. Так и надо было сказать, простыми и ясными словами, правильной русской фразой со сказуемым, а не ставить три точки, тире и объявлять: «Сурок!» Вашу корявую фразу читатель может понять как угодно. И вернее всего, поймет так: «начал встречаться снег, и вдруг на снегу лежит сурок, очевидно, дохлый». Так читатель понял бы Вашу фразу, если бы здесь прервал чтение и задумался бы, что Вы этой фразой хотели сказать. Но дальше Вы объясняете: «Вот побежал (Где? Откуда? Куда? Откуда вдруг взялся и т. д.) один, а там целая семья расселась столбиками на задних лапках…» и т. д. И тут корявка: уж если «расселись», да ещё «столбиками», то уже ясно, что не на передних, а на задних ногах («лапках»).
«Но в природе чудес не бывает». Только «в природе»? Простите, а где же они бывают?..
Искусство писать состоит в том, чтобы уметь «рисовать» словами. Как график двумя, тремя штрихами, так писатель двумя, тремя словами должен нарисовать лица, действующие в его рассказе, очерке. Сказать: колхозник, агроном, инженер — значит ничего не сказать о человеке — даже хуже: родить какую-то бесплотную тень человека, заставить действовать таинственного невидимку.
Замечательный художник Пришвин М. М. сказал: «Я могу писать только о том, что сам увидел, своими глазами, чему удивился».
Поймите: настоящий художник (поэт) подобен малому ребёнку. Он заново для себя открывает мир, в котором для него нет ничего «хорошо известного», а всё загадочно, всё чудесно и удивительно…
Не случайно, конечно, — хотя, возможно, совершенно бессознательно, — Вы заговорили о «золотом детстве». Отбросим затасканный эпитет «золотое» (который только мертвит понятие) и получим: невылупившийся художник мечтает не «сохранить», конечно (опять как попало поставленное слово! Опять искажен смысл того, что Вы хотели сказать!), а сохранившееся в Вас до седых волос и «всё сильнее клокочущее „детство“». Дать ему, этому, скажем лучше не «детству», а ребёнку в Вас, перо, чтобы он — а не скучный «учёный», который «всё» знает, которому давно поэтому всё безразлично, всё неинтересно, который разучился удивляться — самое страшное для художника — смерть его! — чтобы «клокочущий в Вас ребёнок» писал бы Ваши рассказы, очерки, повести.
Вот чего Вы должны добиваться, чтобы совершенствоваться. Ибо всё знающему, ничему не удивляющемуся, мёртвому в Вас «учёному» человеку некуда совершенствоваться: он в тупике и слеп.
Вы изумитесь: «Это меня-то В. В. называет мёртвым учёным?! Ведь умею же я „видеть“ в природе то, мимо чего проходят другие?!»
Согласен: умеете. Но именно тогда видите, когда даёте волю ребёнку в себе — тому, скажем лучше, немноголетнему бузилке в Вас, который не признаёт решительно ничего открытого в мире другими, всё сам для себя заново открывает, всему удивляется — и клокочет, клокочет от восторга, от восхищения (или возмущения), от страстного желания разгадать на каждом шагу возникающие перед ним загадки. Такой бузилка в Вас действительно живёт и клокочет. Это я хорошо чувствую в Вас, а не чувствовал бы, — не стал бы зря тратить время и писать Вам многочисленные письма-диссертации на такие темы…
Прав мой бузилка, видящий тайну там, где слепому в своём учёном самомнении человеку простое «дважды два». Больше того, совершенно прав С. В. Образцов (создатель замечательного кукольного театра), утверждавший, что «дважды два — четыре» только в науке, а в искусстве может быть пять, десять, сто — чем больше, тем замечательнее и правдивее. В пример этой мысли он приводит сценку из, вероятно, известного Вам фильма «Чапаев». Вот Чапай, беседуя с кем-то, объясняет роль командира в сражении и перед ним. Говорит, в каких случаях где должен находиться командир, — для иллюстрации своих слов хватает лежащие на столе недоеденные печёные картошки. С точки зрения науки картошка есть картошка, и как её ни перекладывай на столе — она ничем другим не станет, хоть лопни! Но вот замечательный полководец Чапаев объясняет искусство командира. Вот ряд картошек впереди, а одна картошина позади. Но вот уже наоборот, куча картошин позади одной, выбежавшей вперёд. И это уже не одна картошина, а командир, ведущий в бой войско. Картошины уже не картошины, а войска — белые, красные — гражданская война, революция! И «дважды два» уже не четыре, даже не пять, а десять, сто, тысячи! Вот о чём говорит художник. (Чапаев — художник в военном деле.)
Такова была сила искусства. Творимое им чудо.
Люди чудовищно не знают, не понимают самих себя. Большинство людей, как только достигнут «сознательного» («всезнайского») возраста, начинают стыдиться, душить, уничтожать в себе ребёнка — того самого бузилку, который с такой жадностью смотрит на мир, задаёт тысячу дурацких, «бестактных» вопросов, всему удивляется, всем восхищается (или возмущается). И убив в себе этого бузилку, слепнут и умирают скучными трупами — враждебными всему на свете живому, весёлому, страстному.
Большинство людей забывают, что «ребёнок — отец взрослого» (французская поговорка), что это он в нас открывает для нас мир, он создаёт для нас все ценности в этом мире, он даёт нам всё, чем мы потом живы всю жизнь. Что мы родимся из ребят, как сыновья от отцов.
Только непониманием всего этого в себе, только недооценкой — ужасной недооценкой! — того, что жизнерадостный почемучка — бузилка «клокочет» (хорошее это попалось Вам слово!) в Вас до сих пор, несмотря на Ваши седые волосы и на всех педагогов в футлярах, которые оглушили Вас криками о страшном вреде «антропоморфизма» и прочими химерами, — только чудовищным непониманием судьбой подаренной Вам радости — ребячьими глазами видеть в природе то, чего не видят другие, мимо чего равнодушно проходят учёные «всезнайки», — только всем этим я могу объяснить себе, что Вы «не видите до сих пор мусора в своих произведениях» и спрашиваете меня, «что делать?» Только всем этим можно объяснить себе совершенно святотатственную Вашу жалобу в конце последнего письма:
«Собираюсь на бекасов за город со своим Вовой, но (!!), увы (!!!), он ещё всего 12-ти лет (!!!!!)». Кстати, по-русски надо бы сказать: «Ему ещё всего 12 лет»… «(а дочь и того меньше)!!!».
Вместо того чтобы благодарить и благословлять судьбу за то, что она дала Вам возможность под старость встретиться опять с самим собой — бузилкой 12-ти лет «и того меньше» — ведь в детях наших мы всегда узнаём частицы самих себя! — Вы святотатственно жалуетесь на это. Не только почти взрослого (уже 12-ти лет) Вовку, но дочь свою берите с собой на охоту, в природу — и смотрите, жадно смотрите, как они открывают для себя мир, помогайте им в этом, но не мёртвым всезнайством учёного, а тем, что полностью дадите волю своему собственному «клокочущему» бузилке в этой чудной компании (дочери и сына) и рассказывайте им о нем устами художника, устами поэта — т. е. устами творца этого мира (ибо творцом бывает поэт в своих произведениях, в искусстве).
И — вот мой завет Вам (не совет даже, а именно «завет», ибо осталось мне не долго быть с Вами, и это то, что хотелось бы мне завещать всем, кого люблю):
Учите Ваших ребят любить слово, учите бережно обращаться с ним, учите владеть им. Слово — могучая сила!
В заключение позволю высказать одну простую мысль.
Писатель должен обладать умом мужчины, сердцем женщины и темпераментом ребёнка.
Привет Вовке, дочери Вашей и жене.
Ваш Вит. Бианки
Вера Николаевна приветствует и ждёт Вас к нам.
13/VIII-53 г. Комарово.ВАН ЮАН[50]
Дорогая далёкая незнакомка — Ван Юан!
Как отрадно получить сердечный привет из другой части земного шара от человека другого народа!
Вам доставили радость мои книжки о природе. Это говорит о том, что любовь к природе (конечно, и к людям: люди ведь часть природы), любовь ко всему живому чудесным образом роднит всех людей на свете.
Какой богатый счастьем факт!
С детства любовь к природе сделала меня счастливым. Это счастье, как-то отразившееся в моих книжках, нашло отклик и в сердцах миллионов читателей. Какая радость жить в мире, где пробуждается сознание, что истинное счастье — только в любви и ощущении родства со всем живущим на Земле; что истинная красота — в любви. «Красота спасёт мир», — сказал один из величайших писателей моего народа. Содействовать пробуждению этого сознания в человечестве хоть в самой малой мере — кажется мне величайшим благом на свете.
Особенно радостно мне было получить привет из Вашей страны, — от дочери великого народа, создавшего изумительное искусство, в тысячелетиях бессмертное своим непостижимым проникновением в красоту природы. С давних пор моя мечта, чтобы хоть одну мою книжку иллюстрировал китайский художник…
Ваше письмо застало меня в гостях. Тут у меня ничего нет с собой. Но через несколько дней я вернусь домой — в Ленинград — и оттуда пошлю Вам свои книги и фотографическую карточку, — если это может доставить Вам удовольствие.
Со своей стороны, очень прошу Вас побольше рассказать мне о себе: — кто Вы? — чем занимаетесь? — как попали к Вам мои книжки? — читали Вы их на русском языке или в переводе на китайский? — откуда Вы знаете русский язык? Мне всё интересно знать о Вас!
Мои книжки, — как и вообще детскую литературу, — у нас достать трудно: каким бы тиражом она ни выходила, она сейчас же раскупается.
Попробуйте обратиться к министру культуры РСФСР тов. Михайлову, Государственное Издательство Детской Литературы в его ведении. Возможно, где-нибудь на складах министерства мои книжки и найдутся.
Благодарю, от всего сердца благодарю Вас за дружеский Ваш привет!
С любовью и уважением к Вам
Ваш Вит. Бианки.Дорогая, дорогая наша Юан!
Простите, простите, что так долго не отвечал Вам. Были на то серьёзные причины: болел.
И болезнь-то пустяковая — грипп. Но знаете, чтó такое «гриппозное состояние»? Ни писать, ни читать, ни думать… А гора писем на столе растёт; среди них деловые, срочные, спешные, очень спешные — аллюр + + +! Мы давно переехали из Комарова в город, я давно воюю с деловыми, неизбежными письмами, — а грипп всё ещё сидит где-то в голове и сердце. В таком состоянии разве можно писать Вам — дочери Улыбки, девушке, Приносящей счастье?! (Есть такой рассказ у замечательного русского писателя А. Грина: «Бит Бой, приносящий счастье».) Простили мне? Тогда слушайте.
Получил Ваше письмо, письмо Ван Вень, «Лесную газету», «Оранжевое горлышко» и «Синичкин календарь» в переводе на китайский язык…
Но спешу перейти к делам: ведь нас с Вами теперь связывают и настоящие деловые отношения — книжки!
Конечно, я с большим удовольствием напишу для Вас — любимой моей дочери! — маленькое предисловие к Вашим переводам. Прошу Вас только подождать несколько дней, — пока окончательно пройдёт грипп: хочется повеселей для Вас написать, а сейчас не могу всё ещё.
Мне бы очень хотелось, чтобы первым рассказиком в Вашем сборнике пошёл заново переведённый Вами рассказик «Поганки»: я всегда «строю» свои сборники, — и мне бы хотелось, чтобы Ваш сборник начинался бы с рассказа о том, как птицы дают нам радость. Это, конечно, не обязательно, просто желательно.
Скоро пошлю Вам ещё несколько моих новых рассказиков. Но и эти, и те, что Вы уже переводите, — на разные возрасты: для малых, больших и пожилых ребят! Вы уж сами там смотрите, — не сделать ли Вам две книжки на разные возрасты?
«Копалýха» — глухарка. Самка большого бородатого лесного петуха — глухаря (глухой тетерев, мошник; по-латински — Tetrao urogallus L).
«Сохатый» — лось (Alces alces L), старый самец. У стариков лосей очень широкие рога. Они похожи на две сохи: старинный (ныне вытесненный плугом) земледельческий инструмент для вспашки земли.
Теперь — Ваши вопросы обо мне. «Творческая анкета».
1. «Сколько Вы работаете каждый день (ежедневно)?»
Сколько только можно — с перерывами на сон и еду. Когда не работаю, не пишу, — очень плохо себя чувствую. Если не сплю (последние годы мне приходится и днём ложиться: очень устаю. Днём сплю до обеда — час), — значит, работаю. Стучу на машинке: писать не могу. После второго «удара» (по-научному — «инсульт», по-русски — «кондрашка») в 51-м году у меня наполовину парализована рука, мне трудно держать перо в руке, а на машинке я стучу одним пальцем левой руки и одним — правой. Для работы мне необходима берлога (как медведю), то есть кабинет или отдельная комната, — и чтобы никто мне не мешал. Не мешает мне, когда я работаю, один человек на свете. Это — Верика, Вера Николаевна — моя жена и самый близкий человек на всём свете.
1 а. — «Вы работаете, ходя в лесу, или дома у стола?»
Писать, а тем более на машинке работать в лесу, конечно, невозможно. «Пишу», конечно, дома. Но и в лесу у меня усиленная работа: работа моим глазам и ушам. Ведь всё время смотришь и слушаешь, — раз твои глаза и уши с детства включены на внимание к жизни леса (природы).
Во сне я тоже работаю: часто снятся мне целые сказки и рассказики. Встав, я записываю их. В детстве я долго не мог различать сны от действительности. Недавно я купил книжку: «Танские новеллы» — перевод с китайского. Изд-во Академии наук СССР. Москва. 1955. — и ужасно обрадовался, прочтя там у Бо Син-Цзяня в рассказе «Три сна»:
«Среди человеческих снов бывают и удивительные. Например, — одному снится, что он куда-то пошёл, а другой наяву встретит его в этом месте; или так: один что-нибудь делает, а другому снится это; или вот ещё: двое одновременно видят друг друга во сне».
1 б. — «Вы разговариваете и пишете вместе или нет?»
Мысленно я, конечно, произношу то, что пишу. И, написав фразу, часто произношу её вслух: как звучит? Отчасти для этого мне и необходима «берлога», когда пишу: услышат люди, что человек сам с собою разговаривает, — подумают: «С ума сошёл!»
К большому моему горю, последние годы я очень мало бываю в лесу: у меня облитерирующий эндоартрит (от одного названия заболеешь) — болезнь сердца, болезнь сосудов, — и я почти не могу ходить: несколько шагов пройдёшь — и судорога сводит ноги. (А ведь был я когда-то первоклассным футболистом, был охотником и бродягой, — всю жизнь меня, как волка, «ноги кормили»!) Всё мечтаю завести себе избушку на курьих ножках где-нибудь в лесу и у большой воды (у моря, у озера), да вот всё пока не удаётся…
1 в. — «Говорите ли Вы сам себе?» Это не совсем по-русски. Вы, вероятно, хотели спросить, разговариваю ли я сам с собой?
В лесу, когда бывал один, часто разговаривал тихонечко вслух — сам с собой. Когда работаю, тоже часто говорю про себя.
1 г. — «Когда Вы ложитесь спать? И сколько часов спите?»
С весны до весны стараюсь ложиться пораньше и вставать с рассветом: больше всего на свете люблю встречать солнце и слушать ранние голоса птиц. С осени до весны, — когда у нас совсем короткий день, — ложусь и встаю поздно.
1 д. — «Какой цвет Вы любите?»
Очень люблю зелёный — цвет леса! Изумрудный. Но разве не прекрасен и синий — цвет неба и воды, и алый (светло-красный), и палевый — золотисто-жёлтый, и золотой, и белый? Не люблю только тёмно-фиолетовый — чем-то он враждебен мне.
1 е. — «У Вас спокойный характер?»
Верика говорит: «Характер спокойный, но когда нервничает — вспыльчивый». Мать моя говорила, что с детства я был очень впечатлителен. А если так, — какое уж тут спокойствие! Но я не злой.
1 ж. — «Какая из Ваших сказок — самая Ваша любимая?»
Пожалуй, — первая из написанных мной (напечатанных): «Лесные домишки».
2. — «Курите ли Вы?»
Курил 50 лет, но бросил: нельзя при эндоартрите!
— «Любите ли Вы вино? Какое?»
Пил 40 лет. Бросил: нельзя.
«Любите ли Вы конфеты?»
Иногда, немножко. Вообще — к еде почти равнодушен. Вот народные игрушки (кустарные) обожаю! Недавно один знакомый привёз из Китая стеклянную с пером птичку. Я ещё не видел её. Говорят, её тихонечко толкнёшь — она клюёт воду носиком, пьет. И кланяется, и кланяется, и кланяется, — просто чудо! Нельзя ли через Вас достать такую? Очень был бы благодарен Вам!
А что Вы любите?..
Пишите же, пишите!
Ваши Вера и Виталий.
10/Х-55 г. Ленинград.Н. И. СЛАДКОВУ[51]
…Давай, наконец, поговорим серьёзно.
Ты — мой наследник. Ты будешь продолжать в жизни то дело, которое делал я: средствами словесного искусства призывать людей (равнодушных) стучаться «в природы замкнутую дверь».
Для этого я должен научить тебя своему мастерству. Мастерство начинается с элементарной грамоты (которую никак не перескочишь!), — с «навоза» точек и запятых, требует освоения чем дальше, тем более сложной техники (правила построения рассказа, законы выразительности выражений и т. д.) — и, в конце концов, завершается высоким полётом, с которого и Земли не видно. На обучение требуется время. А его у меня, — видит Бог! — не много. И прежде всего мне необходимо научить тебя работать над своими вещами, то есть находить удачные, выразительные слова и заменять ими неудачные, невыразительные, убирать из рассказов всё лишнее, добавлять необходимое, вычеркивать, сто раз переделывать написанное — так, однако, чтобы не терять к нему вкуса! — добиваясь совершенства…
25/III-52 г.Алла верды, джан Сладковян!
Поскольку твоё письмо, датированное 1/7 шло сюда 18 дён, пиши-ка, джан, мне на Питер. 31-го июля мы будем там, а в первых числах августа сиганём в Курортный район Ленинграда, Комарово, Дом творчества писателей… Там за столиком под сенью канадских елей мы ещё раз проштудируем все твои рассказы, а затем — вечером — подвергнем тебя публичному позорищу в гостиной перед всеми писателями и критиками, какие случатся в наличии в Доме творчества… Ага, спужался?
А хочешь, сделаем так: я устрою «Вечер новелл Н. Сладкова», буду читать твои рассказы, а ты будешь присутствовать хотя зримо, но инкогнито, и своими ушами услышишь, что будут говорить о тебе «прожжённые литературные собаки не нашего птичьего, а человечьего уклона»? Можно и так, — чтобы у тебя никаких сомнений в сделанном тобой и в оценке этого «спецами» — и в искренней оценке, поскольку им тут незачем будет врать, — никаких сомнений не оставалось.
Своё мнение о твоих вещах и твоих возможностях могу тебе сказать заранее. Вот оно — на обороте [страницы — Ел. Б.].
Думаю, что тебе можно не поступать в академию: твоё писательское дарование настолько велико, своеобразно и ярко, что ты скоро станешь известен «широкой публике» и своему высшему военному начальству, где бы ты ни был и кем бы ты ни был — пусть хоть простым лейтенантом. А это значит: 1 — что материально ты будешь более чем обеспечен, и 2 — что ты, оставаясь номинально военным топографом, фактически будешь делать, что тебе надо, и ездить, куда тебе надо, для твоей писательской работы, ибо будешь полноправным членом Союза писателей, который обеспечивал необходимой свободой своих членов даже во время войны (военнослужащих). Конечно, всё это — только если научишься по-настоящему работать над своими вещами.
Вот для этого я тебя, старого бандита, и мурыжу столько лет: писателем, брат, стать — это тебе не жук на палочке, это даст тебе в жизни крылья. (Правда, заплатишь ты за них большими муками, неизвестными простым смертным. К этому будь готов. Но ты их уже сейчас испытываешь, знаком с ними.)
Таланту научить нельзя, но технике писательской (без которой так и так не обойдешься) учиться надо всю жизнь. Тут я немного могу тебе помочь. И вот спешу, потому что — сам знаешь, как ни хитри, а дуба дашь в свой срок, а срок этот для меня близок… Надо успеть сделать тебе крылья, чтобы потом не вертеться в могиле каждый раз, как ты будешь меня клясть за то, что мало тебя бил.
Ладно уж, так и быть: «идя навстречу требованию публики», объявляю те десять рассказов, что подготовлены мною к печати. Кстати: некоторые из них я уже трижды читал здесь ребятам. Пронюхав, что я здесь, повалили сюда толпами читатели из пионерлагерей. Еле отбиваюсь. И вот, прочтя им для начала что-нибудь своё, я затем знакомлю их «с новым автором, ещё не выступавшим в печати, — одним бывшим юннатом, теперь военным топографом, охотником, который по таким местам лазает, где и нога человеческая не ступала».
Успех, брат, у тебя — сплошные громоплоды!.. Но вот тебе список твоих вещей с комментариями.
1 — В диких скалах. — Первая фраза: — «Куда не занесёт военного топографа! И надо прямо сказать: если б не служба, если б, не крайняя необходимость, — ни за что бы не полез я в эти скалы!» Дальше всё твоё: прямо как у Льва Толстого. И пар из пасти сипа вылетает… Этот рассказ надо чтобы пошёл первым: он знакомит читателей с автором (дескать кто такой автор: «Я охотник и не новичок в горах…»).
2 — Тетёрка. — Без всяких изменений. Куда там: и так лучше, чем у Вани Тургенева!
3 — Медвежья горка. — Без изменений. Читатели хохочут.
4 — Конь-великан. — Почти. Читатели восхищаются.
5 — В колее. — Тоже. Читатели ужасаются.
6 — Ночь огней. — Читатели замирают от восхищения волшебной ночью.
7 — Люсан. — Читатели смеются над разговором с Аршаком. (Идея вещи: на охоте человек человеку брат. Не важно, что ни бэ, ни мэ! С некоторыми изменениями.)
8 — Медведь и волки. — Без изменений. Читатели ахают от волнения.
9 — Рождение зверя (Гель). — Читатели глубоко задумываются и задают вопросы.
10 — Закурил (бывш. «Козёл на ремне») — Читатели лопаются от смеха и надрывают себе животики. (Идея рассказа: курить нехорошо, курить — грех. Закуришь — упустишь козла. С некоторыми изменениями.)
Сии десять новелл хоть сейчас куда хошь в печать.
Хоть вправо держи. Хоть влево держи. А не хошь, — куда хошь поворачивай!
Хошь в «Глобус», хошь в детские журналы, а не хошь, так и во взрослые, а потом — отдельной книжечкой.
11 — Рассказ старого погонщика мулов. — Читатели, а в особенности читательницы громко рыдают и тихо стонут от грусти, от любви, от жалости. Просят ещё раз прочесть, — и опять рыдают.
Но в том, что этот прекрасный, за душу хватающий рассказ так легко у нас напечатать, я не уверен. Скажут: на кой нам пережитки старых буржуазных любвей да ещё с гашишем! Боюсь, что этот рассказ придётся оставить для «внутреннего употребления»…
Спасибо за интересное письмо. Пойдёшь на барса, — ни пуха тебе, ни пера! Орнитологические твои сообщения все очень интересны. О «Сороках» не беспокойся: потерять я их не мог; мне просто лень было искать их в старых, но бережно мною сохраняемых твоих письмах. С нетерпением буду ждать твоих орнитологических статей. Ещё с большим нетерпением, прямо с трепетом жду твоих новых рассказов: «Серебряный хвост», «В степи» (это про что это?), «Лесные тайники» (?), «В ущелье Боз-Дага». В особенности меня интересует «В ущелье Боз-Дага». В каком это? Уж не в Огрудже ли? Или под Персеем? И про чего там? Не про «мою» ли гиену? (С 1915 года я её считаю своей. Описал бы ты, право, мою встречу с парой гиен, а? А то мне уж не собраться.)
21/VIII-52 г. Дубулты. Латвия.…Сейчас получил письмо от редактора журнала «Мурзилка» Л. С. Виноградской. Пишет: «„Хитроумный (то есть Хитрющий) зайчишка“ Н. Сладкова мне очень понравился. Большое Вам спасибо за то, что познакомили редакцию с таким хорошим автором… Будем рады, если Вы пришлёте ещё его рассказы».
«Мурзилка» — журнал для младшего школьного возраста… Гордись, брат, тем, что твои вещи идут дошколятам: во всём СССР вряд ли найдётся десяток авторов, имеющих право писать для маленьких людей. Для этого требуется предельная чёткость, ясность, простота письма.
Рад, что тебя занозила моя мысль написать «Охоту за жар-птицами». (Кстати: что ты думаешь о таком названии будущей нашей книжки?)
План твой очень хорош. Сдаётся мне, что если мы вдвоём с тобой подымем эту книгу, то у нас, действительно, сбегут в лес все школьники, — и Виталька первый, — захватив из дому 65 копеек медяками и ручку от патефона.
Кусочки этой книги уже написаны нами: моё «Письмо с пером жар-птицы» (иволги), твой «Серебряный хвост», «Лесные тайнички», «Царь птиц» и другие. Не правда ли? Теперь, — зная план книги, — пиши в неё специально. И я буду. А ежели чего не успею написать, — ты за меня допишешь. Чудесна мысль, что оставляю после себя наследника. Это не тебе меня, а мне тебя надо душевно благодарить за гигантские твои литуспехи. Все говорят, что ты прямо универмаг и волшебник!..
На сём кончаю. Живи как во сне — и пиши про синий-синий лес.
Твой ВитБи.
14/II-53 г. Ленинград.С. Н. ПОРШНЯКОВУ
Дорогой Сергей Николаевич.
Бывают же на свете чудеса!
Вчера только кончил три срочных работы: «Цирк — сказка» (Раздумье зрителя. — Статья о зверях Вл. Гр. Дурова, заказанная мне журналом «Сов. цирк»), «Три мира», или «Гоголёнок», рассказ в 4-х передачах для Всесоюзного радио (ежемесячные — каждый второй понедельник месяца в 11.00! — передачи нашей «могучей кучки» — Н. М. Павловой, А. А. Ливеровского, Н. И. Сладкова и Кр. В. Гарновского под моей редакцией — «Вести из леса») и несказку-сказку «Зимнее летечко». Закончив эти работы одну за другой, испытал обычную «радость освобождения» от «плена мысли» (в котором находишься, пока пишешь) — и сразу же впал в панику: надо приниматься за «Клуб колумбов» для отдельного издания (с рис. той же худ[ожницы] А. Н. Якобсон), а у меня в голове — пустота! Ведь не было ни одной статейки, ни одного письма с критикой «К. к.», что, где, как исправлять — неизвестно, а по условиям договора (с ЛенДетГИЗом) надо к тексту в «Лесной Газете» прибавить в книжку ещё целый авторский лист — 40 000 печ. знаков, 22 страницы на машинке. И вдруг сегодня с утра — Ваше письмо, с такой полнотой разбирающее мои ошибки и содержащее Ваши пожелания!! Не знаю, как и благодарить Вас!.. Один авторский лист сразу стал мал для теснящихся в голове мыслей!
Кончу писать Вам, — сразу сяду за работу.
Сплавин много у нас на оз. Боровно, и я перенёс одну из них на «Прорву-Ямное» — и попал впросак! Не знаю ещё, как из него выберусь… О сказочных «подводных хоромах» рассказывала мне почти столетняя бабка Фишка Клементьева, жившая при нас у сына Михаила в дер. Сивцево, а родившаяся в дер. Берег на оз. Ямном. Выдумать такое она не могла. Причину ухода воды из Прорвы переделаю, кон., по Вашим указаниям. Пусть колумбы, побывав на месте, опровергнут сведения старожила Ивана Пупыря, что всем делом «командует глыбкое озеро Карабожья». «Зловещая» воронка, в которую провалились колумбы, получилась потому, что карстовую расширили люди, искавшие клад. Я сам однажды провалился в такую — в яковищенской охоже… Придётся мне, пожалуй, оговорить участие людей в провале колумбов. На меня произвели большое впечатление страшные карстовые воронки — целые пещеры! — на Алтае, где собирались и звериные косточки… 40 % заготовок шкурок, падающее на ондатру, — из статьи в ж. «Природа». Кронилыча — болотного лешего — «полистаю» сейчас же — и что можно вставлю. Плиниев — ни Старшего, ни Младшего — я — увы и горе мне! — не читал.
Ещё раз — спасибо Вам грандиозное! Если можно, — пришлю Вам новый текст «Клуба». Сердечный привет Вам и Муре Фёдоровне от нас с В. Н.!
(Латв. ССР. п/о Майори. Дом творчества писателей)
Ваш Вит. Бианки.
30/V-58 г. Рижское взморье.Г. П. ГРОДЕНСКОМУ
Большой — и, надо сказать, неожиданный у меня успех: приняли «Переводчиков с бессловесного» (Рекомендации) целиком (полтора авторского!!) в ж. «Библиотекарь». Разговор со всеми библиотекарями очень для меня важен: ведь это — всё то же, к чему и тебя приглашаю: закладка преобразования образования — «План Обь». (Приедешь, — объясню тебе, почему его так называю.)
«Сов. цирк» тоже статью мою берёт, сшив голову и хвост. Тоже то же.
Придумалась еще одна придумка, куда тоже хочу пригласить тебя. Ты там подумай насчёт этого, — поищи девочку или мальчика, или целую группу, класс, а приедешь, — обсудим сюрприз им, сдействуем.
Ты там увидел: «Тебя (т. е. меня — ВитБи) тут, в Молдавии, весьма чтят». Писатель вроде как маленький «властелин умов» для ребят, а? Вот об этом надо всегда помнить и Кольке, и Шиму, и тебе, и всем нам — писателям: наше слово — зерно, брошенное в землю. По всей земле даёт всходы, даже там, где мы и не думаем. Ответственность колоссальная!
И вот оно как должно быть: получил зерно от писателя, — взрасти его.
Я очень люблю Грина. Я получил от него зерно. Это — «Алые паруса». Я хочу взрастить, воплотить его. Хочу организовать клуб «Алые паруса», члены которого (ты в том числе!) будут выискивать самых несчастных девчонок и мальчишек и тайно устраивать им светлые сюрпризы. Познакомишься там с кем-нибудь таким (детям может быть и 80 лет) — запиши адрес. Приедешь, — обсудим в клубе, что послать: книжку, немного денег, одёжки, обутки, корабль с красными парусами — как нечаянную радость. Детские писатели должны быть мастерами радости. Это дело трудное: вместо радости очень просто сотворить зло.
Ну — ты уже пишешь о возвращении! Завербуй Герасима Андр-ча в игру «Клуб „Алые паруса“» — и привет ему от сердца: ведь он нам всем пришёлся по сердцу. Пусть он побольше пишет!
В. Б.
16/IX-58 г. Ленинград.— Мне скучно, бес.
— Что делать, Фауст!
…………………………………
— Все утопить!
ПушкинА. А. ЛИВЕРОВСКОМУ
Мин херц!
Получил от тебя письмо с необычным вступлением: «Мне грустно…»
Вслед за письмом получил и рукопись.
Хороши «Наротовские храбрецы». Но ведь это — только нáкидыш.
Самый правильный взгляд на искусство, сдается мне, у Микеланджело: в любом куске мрамора (жизни!) заключена идея, мысль, сюжет; надо только отбить лишние куски — и она предстанет всем воочию.
От своего куска ты не все лишние куски отбил, — ты не показал душу, томящуюся в нём. «Храбрецы» твои одновременно и герои и трусы, — и это надо подать как на блюдечке с голубой каёмкой. Герои — потому что идут на страшилище с негодными средствами; трусы… раз бабка не пустила их в избу, велела прежде в бане помыться. Много у тебя лишнего и в предисловии («приди словие»!). А «душа» не достаточно обнажена и показана. Помяни, что это — древние новгородцы (ушкуйники!), ходившие на медведя с рогатиной (дух древних заставил стариков идти на зверя с ружьём, заряженным на рябчиков, а сверху — сечкой), но «устаревшие»: у них нет силы пристукнуть зверюгу топором, приходится утекать от него с позором! — и в маленьком рассказе обнаружится такая глубина, — зашатаисся! Из анекдота сразу станет психологическая новелла с глубоким содержанием.
Давай эту зиму много-много разговаривать об искусстве, писать и читать друг другу? Всё-таки — хороша наша кучка: ты, Микола, Шим, Святой Леший, Нина Михайловна, Водоплавающий Сахарнов (славненькую выпустил книжку сказок в ЛенДетГИЗЕ!) Я вытащил из Дома детск. книги свои «Рекомендации» и даю их в переработанном виде в серьёзный журнал «Библиотекарь». Теперь они у меня называются «Переводчики с бессловесного». Страничку о тебе хотелось бы иллюстрировать «Наротовскими храбрецами», превращенными в цветистую новгородскую новеллу.
Доделаем?
Приезжай. Жду с нетерпением. 8-го августа идёт твой «Окунёметр» и Борховская гесемолния. Текст уже весь набран. А ноябрьский номер «К-ра» готов у тебя? Уже звонят оттуда. Привези!
Нижайший привет всем твоим!! Привет от В. Н.
Твой Вит.
24/VIII-58 г. Ленинград.Г. X. ИОГАНСЕНУ[52]
Родной мой!
Ну и спасибо, ну и спасибище тебе за «Ди Фогель Еуропас»!!
Издана книжечка — пальчики оближешь!
Но здесь — весь упор на рисунки, главным образом, на цветные рисунки. Ну, а увидел человек птицу против солнца или в сумерки, вот она для него и черная…
Нет, браток, не понял ты всей гениальности моей выдумки! Конечно, каждую птицу может и ребёнок без всякого определителя или опознавателя в цветных таблицах отыскать… если он хорошо разглядел окраску её и форму. А я считаю, опознаватель живых птиц на воле должен основываться на динамических приметах, на различии в движениях, в поведении, повадке птиц. У Петерсона[53] справочник (прекрасный!), а у меня будет опознаватель. Чуешь разницу?
Мне кажется, что ты абсолютно неправ, утверждая, что «слишком громоздко и масса ненужных знаков для самых обыкновенных птиц, которых каждый мальчишка и так на глаз знает».
Во-первых, я делаю опознаватель как раз для тех девчонок и мальчишек, которые ни одной почти птицы «на глаз» не знают. Во-вторых, маслом каши не испортишь: лучше привести лишнюю примету, чем не указать ту, которую человек случайно заметил. Даже для самых приметных птиц. Вот тебе примеры.
Человек увидал птичку ростом со скворца, резко двуцветную снизу (белая грудка, тёмное пузечко); она тут же слетела и пропала с глаз. Как же он узнает оляпку, если она при нём не ныряла в прорубь? Только по моему опознавателю, а не по твоим дефективным признакам: «куцехвостая [а у нее порядочный, вечно вздернутый хвостик! — В. Б.] птичка, ныряет в прорубь» (!). А ворон у тебя: «чёрная ворона больших (?) размеров, голос — низкий „клок!“». А если и крика не слыхал и видел птицу против солнца, — когда все птицы черны! — как же я различу в ней «ворону», да ещё «чёрную»?
Нет, брат, не годишься ты живые существа описывать. Для составления Опознавателя птиц на воле требуется соединение в одном лице птичника — «пташечника», как ты меня назвал, — и художника, «мастера слова», который точным словом даст увидеть незнайке, как, скажем, трясогузочка качает (не «трясёт»!), сорокопут крутит, а соловей дёргает хвостиком.
Мой опознаватель действительно «громоздок» только для автора: необходимо все возможные приметы перечислить, и полные формулы их выписать, да ещё выделить в них главное (ворон — чёрен, оляпка — чернопуза), так, чтобы незнайке легко и просто было найти нужные ему приметы в общем списке. Вот над этим-то я и работаю сейчас.
А опознавать-то птицу будет по моей книжке, надеюсь, совсем просто, — вот увидишь. К тому ведь и стремлюсь.
А рисунки велю украсть художникам из Петерсона с Моунтфором: у них хороши, хотя многие птицы и навраны!..
Во, брат, как по-нашему!
И вода мне в «местах встреч» совершенно не нужна: она, как правило, закрыта у нас зимой льдом, как тебе небезызвестно. А исключения я оговорю: дескать, мало ли что уток кто видал зимой! Птица это летняя. И край!
Вот тебе и «веселая игра в прятки с цифрами»! «Всё-таки польза…» Ах ты, такой-сякой! Ещё вздумал издеваться надо мной. Погоди ж, я тебе покажу!..
Верика целует. Я тоже.
Твой Виталий.
22/XI-58 г. Ленинград.Э. Ю. ШИМУ[54]
…Слышали «ВизЛ»[55] 12-го? Как Вам?
«Кому как спится» решено отложить на февраль, а то и на март, когда потеплеет, уйдёт мороз. Ждём на днях ещё Вами «подслушанных в лесу разговоров». А ещё серьёзный заказ:
Мы решили дать Году 12 работников, вернее — управляющих. Первый был (если Вы слушали!) Дед Январь (он же — Дед Мороз). Делал я. Это было легко: традиционная, всем известная фигура.
Февраль поручен мне же. Это уже трудней: фольклорного февраля нет. Хочу взять Кащея и Бабу Ягу: пущай пляшут, метель поднимают, волчьи свадьбы правят. Март взялся делать А. А. Ливер[овский]: светлый витязь (пришв[инская] «весна света»).
Апрель Вас просим взять на себя. В моем представлении — это Водяной, просыпающийся и раз в год выходящий из берегов (половодье, заливающее пожни, напояющее землю; Водяник, выпускающий щук погулять по земле, лесных зверей и птиц загоняющий на деревья).
Вам намечают ещё Декабрь. Но берите, что хотите: все трусят, а Старый Леший[56] сразу в кусты!
А по мне так здорово интересная задача: создать 12 образов — дежурных хозяев леса, управляющих им. Народ их не создал, — вот и должны сделать мы.
Лето думаем передать женщинам: Май — Майя. Традиционная Весна-красна с песнями и плясками. Июнь — Юния — русалка на ветвях, на цветных коврах. Юлия — молодуха, Августа — «прибериха» (народное). Сентябрь — охотник (?), Леший; Октябрь — опять появляется Кащей Бессмертный, теперь — на пегой кобыле (народн.). Нет: это — Ноябрь, Октябрёв сын, Сентябрёв внук (народн.). Октябрь и Декабрь тоже Вам, сами и выдумывайте! Хорошо бы только, чтобы в декабре родилась Снегурочка. А то с кем же дед Мороз к ребятам на ёлку явится?..
Принимайте вызов! Захватывающе интересная задача! Потом наши образы месяцев будут переходить из календаря в календарь. Выдумывайте и присылайте, — чтобы время было обсудить!
Ждём рукописей, звонков, Вас живьём!
Что нового у Бор. Леон-ча?[57] А у Вас?
Ваш Вит. Бианки.
В. М. КОНАШЕВИЧУ[58]
Дорогой Владимир Михайлович!
Жена и дочь сердились на меня: «Почему не позвонил Владимиру Михайловичу, сразу не поблагодарил его за такой дар!»
А я нарочно не звонил: сперва надо как следует почувствовать, понять, чтó ты получил. Картину ли, книгу ли не сразу узнаешь, — если она — настоящее, большое произведение искусства. Толстого, Достоевского перечитываешь десятки раз — и каждый раз открываешь в них новое для себя. Так и с Вашей картиной.
Сначала она не очень понравилась мне: холодная северная река с порогами, до самой воды обросшая кустами ольхи и ивы, серый пейзаж Перешейка, нелюбимого мной. Но в том-то и сила художника, что в самом обыкновенном, в том, к чему давно примелькался глаз, — художник заново открывает тебе сокровенную красоту.
Чем больше я всматриваюсь в Вашу картину, тем сильнее она волнует меня.
Я повесил ее у себя в кабинете. Внук посмотрел — и уверенно сказал: — Дешка (так он произносит в своей скороречи слово «дедушка»), от этой картины у тебя в комнате стало светлее.
Я очень тоскую от полного почти отсутствия зимой солнца, от малости света. А Вы умудрились прибавить мне его. Великое спасибо Вам за это волшебство! Спасибо за прекрасный дар!
Крепко жму Вашу руку. Привет Евгении Петровне.
Ждём Вас к себе — побеседовать вечерок.
Ваш Вит. Бианки.
8/II-59 г. Ленинград.Краткая биография Виталия Валентиновича Бианки
На фотографии Университетская набережная у здания Академии наук (Петербург, 1894 г.).
В Ленинграде, на берегу Невы, рядом с Университетом, стоит красивое здание Академии наук. Во дворе его раньше находились «казённые квартиры», предназначенные для учёных. Одну из них в конце прошлого века занимала семья известного биолога Бианки. Здесь 30 января (12 февраля н. с.) 1894 года у Валентина Львовича и Клары Андреевны родился сын Виталий. К этому времени семья состояла из четырёх человек: родителей и двух сыновей — десятилетнего Лёвушки и маленького Толи.
Близкие по возрасту, но очень разные по характерам и склонностям, Витя и Толя играли вместе, но часто и ссорились. Старший брат Лев — уже гимназист — держался отдельно.
В семье был строгий распорядок дня, установленный отцом. Обед на столе на пять минут раньше или позже обычного часа вызывал замечание, так как мешал работе Валентина Львовича.
Детьми занималась мать, отца они видели мало. Он приходил со службы к обеду и до глубокой ночи работал за письменным столом — писал научные статьи, отвлекать его, конечно, не разрешалось.
День отец проводил в «своём» музее, где он занимал тогда должность штатного хранителя коллекций Зоологического музея. Музей в те годы пополнился большим количеством материалов, коллекциям не хватало места, поэтому он был переведён из Кунсткамеры в соседнее здание таможни, в котором, кстати, находится и сейчас.
Зоологический музей вошёл в жизнь семьи. Валентин Львович принимал горячее участие в организации и пополнении музея. События в музее были и семейными событиями. В 1901 году сенсацией в учёном мире стала находка на реке Березине, притоке Колымы, почти целого мамонта. События, связанные с доставкой мамонта, подготовкой его к экспонированию в музее, живо интересовали всю семью, а Виталий потом рассказывал, что он пробовал суп из мяса мамонта.
Валентин Львович, живя на даче, приносил из лесу птиц и целые кусты с гнёздами для будущих музейных групп. Принимал участие в далёких экспедициях (в 1908 году был на Камчатке).
В доме Бианки постоянно бывали известные путешественники и учёные: ученик и соратник Пржевальского П. К. Козлов, среднеазиатский путешественник М. М. Березовский, директор Русского Этнографического музея Д. А. Клеменц. Приходили к Валентину Львовичу за советами участники полярной экспедиции для поисков Э. В. Толля, пропавшего без вести в Арктике. Близким человеком в доме Бианки был Лев Семёнович Берг, позже ставший академиком и президентом Географического общества.
Братья Бианки учились в классической гимназии при Историко-филологическом институте. Лев закончил её с золотой медалью, Анатолий учился хорошо, а Виталий, с трудом дойдя до старших классов, совсем отказался учиться. Анатолий Валентинович вспоминает: «Обладая очень живым, неустойчивым характером, Виталий быстро, прямо на лету, схватывал новые знания, но если они не заинтересовывали его, не давал себе труда продумать их до конца и закрепить в памяти. Не удивительно, что в схоластической, с её мёртвыми языками Филологической гимназии он не находил для себя ничего интересного. Отец перевёл Витю в частную гимназию Столбцова. Там он увлёкся уроками литературы, но по-прежнему игнорировал математику». Можно добавить — предпочитал, сидя на задней парте, писать стихи.
Став писателем, Виталий Бианки неоднократно возвращался к воспоминаниям детства, стремился, как он говорил, силой живого воображения нарисовать словами главное из того, что сохранила о далёком прошлом память.
В городе для маленького Виталия «главным» был Зоологический музей. Он представлялся ему Храмом Науки, в котором отец его был одним из жрецов. В храме было очень интересно, но мертво, а мальчик рос фантазёром и мечтателем.
Другое дело — летняя жизнь за городом! Тут была полная свобода и всё увлекательно. Писатель вспоминал: «В детстве родители на всё лето увозили меня из города на берег моря. Оттого жизнь моя распалась надвое, как жизнь тех птиц, что дважды в год пролетают высоко над моим городом.
Кто вырос у моря, век его не забудет. И пусть потом вся жизнь его пройдёт в сухопутных скитаниях, — всё будут ему сниться морские дали, и плеск волны о берег, и корабли, и чайки.
Теперь, когда жизнь прошла, я вижу: море сделало меня мечтателем…» (Из неопубликованного.)
Семья Бианки выезжала на южный берег Финского залива. Родители снимали дачу в Лоцманском селении, затем под самым Ораниенбаумом (ныне г. Ломоносов) и целых 12 лет — в селе Лебяжьем. На песчаных берегах залива, на лодке, в лесу с отцом, с товарищами по охоте и футболу проходили счастливые дни в Лебяжьем.
Ещё совсем маленьким Виталий мучительно старался в стихах выразить открывшуюся ему разницу между огромным миром под голубым небом и городом, где он просыпается в комнате с толстыми — в метр толщиной — стенами и низким потолком. Два разных мира попеременно окружали его.
На всю жизнь Лебяжье осталось для Виталия Бианки «родным», «маленькой Родиной». Писал ли он потом «про одного мальчика», рассказывал ли о «морском чертёнке» или «чайках на взморье», говорил ли прямо о себе — «Отчего я пишу про лес» — всё это о детстве, проведённом в Лебяжьем.
Валентин Львович и Клара Андреевна с сыновьями: Анатолием, Львом и Виталием (Лебяжье, 1912 г.)
В мае 1915 года в Лебяжьем умерла Клара Андреевна. Лето этого года Валентин Львович с сыновьями провёл у знакомых на Кавказе в районе станции Евлах. Там отец с Виталием занимались птицами, Лев коллекционировал насекомых, Анатолий собирал гербарий и фотографировал.
Осенью 1915 года Виталий поступил на естественное отделение Петербургского университета; занятия шли плохо. Вся обстановка того времени никак не способствовала учению, и сам Виталий уделял ему мало внимания. Казалось, что сейчас это не главное, учиться можно будет и позже. Виталий увлекался новыми знакомствами и почти не бывал дома.
Совершенно неожиданным для близких было решение Виталия жениться. «На ком же? Давно ли знакомы?» — «Недавно. На Зине Захаревич». Просьбы родных хотя бы отложить свадьбу не изменили решения. Свадьба состоялась, молодые поселились на квартире отца.
Вскоре Виталия мобилизовали и, как студента, направили в юнкерское училище. В начале 1917 года Виталий был назначен в артиллерийскую часть, стоявшую в Царском Селе (ныне город Пушкин). Получив маленькую квартирку, он поселился там с женой и Сашенькой. Так звали служившую с 1908 года у отца горничную — Александру Ефимовну Кольцову, ставшую няней всех детей и даже внука Виталия Валентиновича и членом его семьи на всю свою долгую жизнь.
Батарея, в которой служил Виталий Бианки, была переведена на Волгу. Некоторое время родные не имели от него вестей.
В начале 1920 года, возвращаясь из Павловска, Валентин Львович простудился в поезде и заболел воспалением лёгких. Ослабленный недоеданием организм не справился с болезнью.
Вскоре после смерти отца Анатолий получил первое известие от младшего брата. Виталий писал, что он в Бийске, и звал родных к себе.
Приехав в Бийск, Анатолий Валентинович узнал от брата, что он на Алтае уже два года, считает себя демобилизованным из царской армии и принял фамилию Белянин, чтобы избежать мобилизации в белую армию Колчака, а при взятии Бийска Красной Армией объявил свою настоящую фамилию. (В паспорте до конца жизни осталась фамилия Бианки-Белянин.) Виталий рассказал, что он разошёлся с женой, что много и увлечённо работает в школе и краеведческом музее, и, между прочим, сказал, что начал печатать в местных изданиях свои стихи и заметки о природе.
Четыре года провёл Виталий Валентинович на Алтае. Эти годы не были лёгкими, но оставили самые лучшие воспоминания, а природа Алтая, особенно Горного Алтая, всегда казалась ему несравненной.
Полный сил и энтузиазма, появился Виталий Валентинович в тихом, провинциальном Бийске. Местный отдел народного образования охотно предоставил ему возможность работать в школе и в краеведческом музее. Отсутствие специального образования не служило помехой: учителей не хватало, а молодой петербуржец отличался общей культурой и разносторонними знаниями.
Тогда была принята лекционная система преподавания. Свои лекции по естествознанию Виталий Валентинович готовил и читал с большим увлечением, часто не укладывался в рамки отведённых часов. Ученики охотно оставались слушать и дольше, только уборщица напоминала, что пора и по домам.
Держался новый учитель с учениками как старший товарищ, просто и дружелюбно. Школьная жизнь заметно оживилась: ученики стали издавать свой журнал, в воскресные дни устраивали литературно-драматические вечера. Когда в помещении школы готовиться было неудобно, собирались у Бианки дома. Читали по очереди стихи и делали доклады на литературные темы. Виталий Валентинович любил стихи, знал их множество и охотно читал, чаще всего своего любимого поэта — Александра Блока. С помощью товарищей-педагогов и учеников он организовал большой вечер памяти А. Блока. Вечер так понравился бийчанам, что вскоре был повторен, а вспоминали о нём и через тридцать лет.
Окончание школьных занятий ученики и учителя отпраздновали прогулкой на Катунь с ночёвкой в лесу. Это было тоже необычно и запомнилось надолго. В летнее время несколько учениц стали работать практикантками в музее и ездили в экспедиции.
Работа в местном краеведческом музее занимала Виталия Валентиновича не меньше, чем работа в школе. Там был непочатый край дел, и он горячо за них взялся. Это было вполне естественно, так как в каждом краеведческом музее должен быть отдел природы; если его нет или он плох, то его надо организовать или наладить, а попутно продумать предложения о постановке музейного дела вообще и в данном музее в частности.
Виталий Валентинович считал краеведение очень важным делом. Он говорил, что краеведение есть, в сущности, «жизневедение» — приобретение знаний из окружающей жизни и передача их людям. И тогда, и все дальнейшие годы, где бы ему ни приходилось жить, он занимался краеведческой работой, привлекал к ней других, делал доклады и писал статьи о постановке дела и о необходимости для каждого уголка страны своего краеведческого музея.
К работе в Бийском музее[59], который был тогда в стадии организации, Виталий Валентинович привлёк не только своих учеников-школьников, но и зоолога Ганса Иогансена, в те годы студента Томского университета, позже ставшего известным учёным-орнитологом, и своего брата Анатолия Валентиновича (он через музей организовал метеостанцию и вёл на ней наблюдения).
В те годы условия жизни были нелёгкими, особенно они были трудны для Виталия Валентиновича, который ни тогда, ни позже не умел заботиться о себе.
По приезде брата Виталий Валентинович из музея, где он временно и не очень уютно устроился — спал на снятой с петель двери, — переехал к нему. Анатолий Валентинович жил далеко от центра города, на горе у метеостанции, куда вели двести деревянных ступенек. В темноте, после школьных вечеров, особенно в дождь и снег, подниматься по ним было трудно.
Холодно на улице, холодно дома. Дров не достать, а если удастся заготовить самим, то вывезти их не на чем. Из-за нехватки дров закрывались школы. Виталий Валентинович гордился, что его школа, благодаря усилиям учителей, продолжала работать.
Однако на жизненные трудности старались не обращать внимания. Летом Виталий Валентинович организовывал экспедиции в Горный Алтай для пополнения зоологических и ботанических коллекций Бийского музея и, главное, для сбора орнитологического материала в ещё никем не исследованной части Алтая. Первая экспедиция — с середины июля по конец сентября — была в долину реки Чарыш, на Коргонские белки и дальше 20 вёрст по реке Кумиру. На следующий год лето было использовано для изучения северо-восточной части Алтая. Экспедиция сделала около 700 вёрст: по Катуни через Березовку и Айю, дальше — в Уллалу (ныне — Горно-Алтайск), через Паспаул, Артыбаш и Яйлю на Телецком озере. Здесь пришлось остановиться, так как испортились все ружья, — это сделало невозможным сбор коллекций и затруднило питание. Анатолий Валентинович, который тоже был участником экспедиции, со своим неизменным фотоаппаратом проехал дальше: на лодке через Телецкое озеро до устья Чулышмана и по нему до Балыкчи.
Обратно в Бийск участники экспедиции вернулись на плоту по Бие.
Обрабатывать собранные на Алтае материалы по птицам Виталий Валентинович предполагал в Петрограде. И вообще мысль о возвращении в родной город, о продолжении образования не оставляла его. Он писал своему другу Г. X. Иогансену, к тому времени уже уехавшему из Бийска, что чувствует необходимость хотя бы в одной узкой области углубить свои познания, ещё весьма поверхностные. Этой областью он намерен избрать узко — орнитологию, широко — биологию. В зависимости от этого определится вся его жизнь. Весну и лето он стремится использовать для сбора материала на Алтае, а осенью думает перебраться в Петроград.
Сразу же по возвращении с Телецкого озера, в августе 1922 года, Виталий Валентинович начал готовиться к отъезду в Петроград. Единственной возможностью достать деньги на билеты было починить и продать — как это ни больно — своё ружье. Отъезд для Виталия Валентиновича осложнялся и тем, что он был уже не один; у него была новая семья — жена и шестимесячная дочь.
Ещё два года назад Виталий Валентинович познакомился в своей школе с молодой преподавательницей французского языка Верой Николаевной, дочерью врача Николая Семёновича Клюжева, приехавшего в Бийск из Самары несколько лет назад. Во время эпидемии Н. С. Клюжев взял на себя обследование бараков, заразился сыпным тифом и умер. Вера Николаевна жила с матерью и с нею вместе после свадьбы переехала в дом на горе, где жили братья Бианки.
Несходство характеров мужа и жены сделало, как это часто бывает, их брак устойчивым и счастливым. Порывистость, романтичность Виталия Валентиновича уравновешивались большой выдержкой, сильно развитым чувством долга у Веры Николаевны. Тридцать восемь лет их совместной жизни она ограждала мужа от житейских забот и стремилась предоставить ему наилучшие условия для работы, создала дом, где интересы Виталия Валентиновича всегда были на первом месте.
Братья Бианки в Саблине (1923 г.).
В свою очередь и Виталий Валентинович до последних лет жизни не стеснялся говорить о своей безграничной любви к жене. «Простая справедливость требует, — читаем мы в дневнике Виталия Валентиновича, — чтобы все посмертные издания моих книжек были посвящены Верике».
В сентябре 1922 года братья Бианки вернулись в Петроград. Надо было устраивать жизнь заново. Всё оказалось гораздо сложнее, чем представлялось из Бийска. Жить Виталию Валентиновичу с семьёй пришлось за городом, в Саблине, на Экскурсионной базе университета, которой заведовал тогда его брат Лев Валентинович. Найти постоянный заработок не удалось, были только случайные получки то тут, то там по мелочам за статейку или рассказец в журнале. Братья помогали материально, сколько могли, но это не меняло положения. При таких условиях вернуться к занятиям в университете Виталий Валентинович не мог и мечтать. «Приходится ставить крест на своей научной карьере», — жалуется он в письме к Иогансену.
Позже всё оказалось не так плохо, как казалось в то время. Обстоятельства помешали Виталию Бианки стать учёным. Возможно, преодолеть их не удалось ещё и потому, что всё больше тянуло к другому. Весной следующего года в письме к тому же другу-зоологу уже нет сожалений: «…Я, брат, далёк от науки. Искусство гораздо ближе мне. В скором времени выйдет моя первая книжка. Книжка для детей про птиц, про всякую лесную нечисть. Что поделаешь, брат: осознал, что всю долгую жизнь свою делал не то, к чему всегда чувствовал призвание… Люблю я птиц, люблю лес, но разве все мои „экспедиции“ и „музеи“ это наука, а не чистая поэзия?..»
Интерес к биологии остался на всю жизнь. И сосуществовали у Виталия Валентиновича одновременно два разных подхода к окружающему миру: стремление к точной, даже сухой регистрации факта и анализу, привитое всей атмосферой родительского дома, и поэтическое видение, образное восприятие, присущее ему самому с рождения и развитое любовью к литературе.
По возвращении в родной город определился у Виталия Валентиновича и выбор постоянного места жительства. Ещё недавно он колебался между желанием жить в лесной глуши и в большом городе. Выбрал город. Но всегда, до последних дней Виталий Валентинович стремился весной из городских стен под открытое небо, к воде, лесу, траве под ногами.
С 1923 года Виталий Валентинович целиком посвятил себя писательскому труду.
Возвратившись с Алтая, Бианки с первыми литературными опытами хотел обратиться к Корнею Ивановичу Чуковскому. Случайная встреча с товарищем по гимназии Ильёй Маршаком (в будущем — писатель М. Ильин) привела к знакомству с его братом — Самуилом Яковлевичем Маршаком.
Видимо, через С. Я. Маршака Виталий Валентинович попал в кружок (тогда называли — студия) детских писателей, собиравшихся в помещении Института дошкольного образования, у большого знатока детской литературы Ольги Иеронимовны Капицы. «В кружке была та необходимая для начинающих среда, — вспоминает В. В. Бианки, — в которой — на совершенно демократических началах! — воспитывались и оттачивались взгляды начинавших тогда писателей».
Этот кружок во многом определил принципы новой детской литературы. Многие члены кружка, в котором видную роль играл С. Я. Маршак, впоследствии стали известными писателями.
Уже в апреле 1923 года Виталий Валентинович читал кружковцам свои первые детские рассказы: «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт», а в июне — «Лесные домишки» — вещи, которые вот уже 50 лет переиздаются огромными тиражами и вошли, по общему признанию, в классику детской литературы.
Печатались первые книжки в частных издательствах «Синяя птица», «Радуга» и позднее в Ленгизе. В том же 1923 году Виталий Валентинович был приглашён в постоянные сотрудники детского журнала «Воробей» (в 1924 году переименован в «Новый Робинзон»). Там же начинали тогда печататься Б. С. Житков, М. Л. Слонимский; С. Я. Маршак, ставший вскоре одним из редакторов журнала, попросил Бианки организовать в «Новом Робинзоне» природоведческий отдел. Виталий Валентинович сразу же посоветовался со старшим братом: они продолжали жить вместе в Саблине, а суждения и советы Льва Валентиновича имели для него всегда большое значение. Лев Валентинович, биолог и филолог по образованию, всегда восхищал брата широтой и глубиной своих знаний. Мысль Виталия Валентиновича — взять за основу фенологические наблюдения и построить отдел как бы на ежемесячных репортажах из леса — брат одобрил и посоветовал назвать новый отдел «Лесной газетой». Тут же он предложил несколько тем для будущих заметок.
Этот отдел в журнале дал толчок к созданию книги под тем же названием. С 1926 года — год её первого издания — книга жила, увеличивалась в объёме, менялись темы её отдельных заметок, рассказов, репортажей, но она оставалась той же «Лесной газетой» и всегда имела своих читателей. Для Бианки она стала «главной книгой», работал он над ней почти постоянно.
Прошло около года, как Виталий Валентинович с семьёй вернулся в Петроград. Но жизнь все ещё была налажена плохо. Волновала судьба книг и коллекции птиц, собранных ими с Иогансеном на Алтае. При отъезде из Бийска багаж невозможно было взять с собой. Пришлось отправить с попутчиками. По дороге вещи где-то застряли, чтобы их найти и вернуть коллекцию, потребовались большие усилия, многое пропало.
Студия детских писателей при Институте дошкольного образования.
Сидят на полу (слева направо): И. В. Лепко, Н. Л. Дилакторская, А. Л. Слонимский. Сидят во втором ряду: М. М. Серова, М. Л. Толмачева с внучкой, С. Я. Маршак, О. И. Капица, А. А. Афанасьева, В. В. Бианки. Стоят: Е. И. Кольвайц, В. Н. Бианки, В. П. Абрамова-Калицкая, Н. А. Башмакова, Е. Н. Верейская, Е. П. Привалова и А. И. Лебедева.
(Ленинград, 20/V 1925 г.).
Летом из Бийска приехали молодые друзья-преподаватели и бывшие ученицы поступать в высшие учебные заведения. «Вы все должны приехать в Питер», — говорил им Виталий Валентинович в Бийске. У Анатолия Валентиновича к тому времени уже была большая квартира на 13-й линии. Вновь приехавшие поселились вместе с его семьёй. Образовавшаяся коммуна облегчала всем участникам продовольственный вопрос и делала жизнь веселее.
У Виталия Валентиновича появляются новые знакомые и друзья. Если с Иогансеном его накрепко соединила с алтайских лет страсть к изучению птиц, то писательский труд привёл к самым дружеским отношениям с некоторыми писателями, в первую очередь с Еленой Яковлевной Данько и Борисом Степановичем Житковым. Пожалуй, ближе Житкова не было. «У меня мало друзей, — писал Виталий Валентинович Иогансену, — хотя очень много людей, с которыми я в приятельских отношениях. Друг — это для меня тот, с кем я могу быть очень откровенен, кого я люблю так, что жизнь свою неизбежно связываю с его жизнью. Кровное родство — для меня ничто. Но связь духовная, внутренняя, душевная связь с людьми — всё для меня».
Своих новых приятелей-литераторов Виталий Валентинович познакомил с приехавшими из Бийска. Опять в доме были разговоры на литературные темы, опять читались стихи. Читали молодые поэты. Маршак читал свой только что написанный «Пожар». Бывал в «коммуне» и Б. С. Житков.
Городская жизнь утомляла Виталия Валентиновича, его неудержимо тянуло «от сих культурных мест в глушь, к простым людям и редкостным птахам». «Город губит меня, — пишет он другу, — живу исключительно нервами. Тысячи дел, миллионы забот. На старости лет поступил студентом в Институт истории искусств. Выпускаю книжку за книжкой. Мечтаю удрать из Питера, но жду тебя — чтобы вместе. Институт свой я брошу в любой момент, и нет вообще ничего, что бы помешало мне поехать с тобой в экспедицию». Но мечта о совместной поездке с Иогансеном в дальнюю экспедицию так и осталась мечтой.
Чтобы летом не быть в городе, Виталий Валентинович уехал с семьёй в район Валдая, жил на хуторе, много работал. Там были написаны четыре рассказа и большая повесть «Мурзук».
По возвращении в Ленинград удалось подыскать подходящую квартиру. Осенью 1924 года семья Бианки переехала на 3-ю линию Васильевского острова, где в доме № 58, на углу Малого проспекта были прожиты все дальнейшие годы.
Так и пошло из года в год: зима в городе, на 3-й линии, а «лето» (иногда оно начиналось в апреле, а кончалось поздней осенью или даже в январе) где-нибудь в деревне, у леса и воды. Правда, этот распорядок иногда нарушался…
С начала 1926 года Виталий Валентинович жил в Уральске, в одноэтажном домике у большой, летом очень пыльной, площади. На другом её конце стояла церковь, и иногда раздавался унылый колокольный звон. Мальчишки, несмотря на жару, играли в городки, бегали беспризорные голодные собаки, величественно и неторопливо шествовали верблюды — всё так непривычно для северного глаза. Леса нет. Чужие места!
Летом приехала жена с дочерью и недавно родившимся сыном, Таликом (Виталием), с ними, конечно, няня Саша. Зимой навестил брат Анатолий. После отъезда родных Виталий Валентинович особенно остро переживал одиночество. Помогли новые друзья, увлечение шахматами и работа. В Уральске были написаны «Мышонок Пик», «Одинец», «Аскыр», «Лесная газета» из небольшого журнального отдела была переделана в книгу. Но работа шла с трудом: творческая вспышка первых лет, по словам самого Виталия Валентиновича, в Уральске потухла. Сохранилась до наших дней большая переписка с издательствами, которые с нетерпением ждали обещанных рукописей, торопили, предлагали новые договоры. Шёл непрерывный обмен письмами с друзьями по литературной работе: с О. И. Капицей, Е. П. Приваловой, К. И. Чуковским. Чаще всего Виталий Валентинович писал Житкову, они даже пересылали друг другу на отзыв рукописи.
Весной 1928 года Виталий Валентинович переехал в Новгород, который ему очень понравился. А летом с семьёй жил в деревне Слутке, растянувшейся по берегу Волхова против Кречевиц на несколько километров. Лето выдалось дождливое, грязь на деревенской улице была непролазная, но всё-таки на дачное время из Ленинграда приехало много знакомых и родственников. Да и лес был вокруг свой, северный. И охота на пролёте хорошая. Только работа над повестью «Карабаш» напоминала об Уральске.
В начале следующего года Виталий Валентинович возвратился в Ленинград, к себе на 3-ю линию. Город, его «тысячи дел, миллионы забот» мешали сосредоточиться, с головой уйти в работу. Виталий Валентинович мечтал найти «избушку на курьих ножках» где-нибудь в лесу. Зимой поехал на поиски такого места снова на Волхов. Нашёл хутор «у самого синего леса». У хозяина хутора красавец конь, серый в яблоках. Запряженный в лёгкие санки, он без труда подвозил хозяина и его гостя-охотника по снежной целине к большим тяжёлым тетеревам, сидящим на голых ветках берёз. Место понравилось. С хозяином хутора Ксенофонтово договорились о лете.
По возвращении в город Виталию Валентиновичу неожиданно удалось купить прекрасную двустволку 20-го калибра фирмы Поля Шольберга. С тех пор «шольберг» — его самая любимая вещь, он с ним почти не расстаётся, ухаживает за ним и даже посвящает ему стихи, где говорит:
Строг охотничий обычай: Бито — взято в торока, Бито — не взято — никак Не считается добычей Дичи.«Шольберг» помогал ему «брать в торока» самую разную дичь: от бекаса до медведя и лося.
Летом 1930 года, оставив семью на хуторе Ксенофонтово, Виталий Валентинович уехал вместе с художником В. И. Курдовым на Тобольский север, чтобы познакомиться с Северо-Уральским охотничьим заповедником и встретиться с В. В. Васильевым, о котором слышал рассказы, похожие на легенды.
Отъезд в Кондо-Сосьвинский заповедник (На Оби у г. Березова. 1930 г.).
Выехали из Ленинграда 22 июля, Виталий Валентинович с первого дня вёл подробнейшие дневники путешествия и отдельно в блокноте записывал местные характерные слова и выражения, заинтересовавшие его факты, народные сказки.
Проездом остановились на день в Вятке (ныне г. Киров), Виталия Валентиновича и Валентина Ивановича Курдова приветствовали на своей родине художники Ю. А. Васнецов и Е. И. Чарушин. Тёплая, радостная встреча. Близкие, приятельские отношения были у Виталия Валентиновича со многими художниками. Они возникали естественно при совместной работе над анималистической книгой для детей, от одинакового неформального к ней отношения, подкреплялись общей для них любовью к природе. Кроме В. И. Курдова, Ю. А. Васнецова, Е. И. Чарушина можно назвать Н. А. Тырсу, В. М. Конашевича, А. А. Рылова и других художников, которые уже в более поздние годы вошли в жизнь писателя как иллюстраторы его книг, а потом стали друзьями.
Маршрут путешествия шёл через Свердловск, Тюмень, Тобольск, Берёзов, Обдорск, Ямал, стойбище Хэ на правом берегу Обской губы, снова Берёзов — оттуда в бобровый заповедник на Сосьву, на базу Госзаповедника в Юрты Шухтунгурские. Возвращались через Берёзов, Тобольск, Омск, Свердловск.
Путешествие в те годы длительное и нелёгкое. Оно в какой-то мере заменило ту дальнюю экспедицию, в которую Виталий Валентинович мечтал поехать с Иогансеном, встряхнуло его физически и духовно и дало почувствовать, как он написал с Оби в письме О. И. Капице, что «…самые лучшие вещи на земле — доброе ружье и непромокаемые, выше колен, сапоги. Я очень рад, — продолжал Виталий Валентинович, — что снова довелось испытать жизнь без всяких перегородок между человеком и стихией».
Вернулись из поездки поздней осенью. Впечатлений было много. Первым следствием была совместная с В. И. Курдовым книжка — художественно обработанный дневник — «Конец Земли». Из коротких записей в блокноте родились три северные сказки: «Люля», «Кузяр Бурундук и Инойка Медведь», «Глаза и уши». Начата была большая вещь — «По Северам, или Горностаева река». Она осталась незаконченной. Возможно, помешала работа над «Лесной газетой», которую надо было пересмотреть и дополнить для третьего издания. Лишь через много лет был написан Бианки очерк об истории открытия В. В. Васильевым нового района расселения бобров.
В начале тридцатых годов Виталий Валентинович пережил период длительной душевной подавленности, творческого спада. Писателю не удавалось заставить себя работать, настроение от этого ещё более ухудшалось. Хорошо — рядом жена-друг, всё понимающая, прощающая, терпеливая. И хорошо, всегда хорошо уехать из города — в лес, к птицам, в деревню, переменить обстановку. Как обновление, как чудо воспринял эту перемену Виталий Валентинович. «Несмотря на весь внутренний мрак, деревню ощутил — как к крынке густого, свежего, питательного ласкового молока припал», — записал он в дневнике.
Как-то летом на даче за Вырицей, где жили тогда Бианки, появился Г. X. Иогансен, да не один — с дочерью Люсей, девочкой лет двенадцати. Дочь алтайки и датчанина, она из глухого алтайского местечка впервые попала на железную дорогу и в большой город. Отец привёз её и оставил до следующего лета в семье друзей, а сам вернулся в Томск, где был тогда профессором университета. При встрече Иогансен много рассказывал Виталию Валентиновичу о Командорских островах, откуда недавно вернулся. Решено было использовать записи Иогансена и сделать совместную книжку для детей о морских бобрах и котиках, живущих на Командорах — в «Стране зверей».
Ещё летом Виталий Валентинович получил приглашение от приятеля-уральца приехать к нему в Челябинск. В сентябре он туда поехал. Радушный хозяин предоставил гостю все возможности познакомиться с новыми местами, даже спуститься в угольную шахту. Так же впервые в жизни, но уже в следующую поездку в Челябинск, Виталий Валентинович на маленьком самолёте поднялся в воздух. Вскоре об уральских впечатлениях было написано им несколько рассказов — среди них «Под землёй» и «Над землёй».
В эти же годы Виталий Валентинович работает над двумя большими вещами: о миграциях животных и о Командорах. Если для «Страны зверей» у него весь материал был под рукой — дневники Иогансена, то о миграциях и, в частности, о перелётах птиц, приходилось читать много научных работ и извлекать из них самые последние данные и гипотезы. К сожалению, первая книга, о миграциях, не была тогда напечатана.
С 1933 года Виталий Валентинович на лето снова, и теперь надолго, выбрал Новгородчину. Переезд в деревню для всей семьи очень радостное событие, для Виталия Валентиновича чуть ли не больше всех. Комфорта не требовалось ни от транспорта, ни от жилья.
Вот, например, 1934 год. Виталий Валентинович с семьёй (сам седьмой) и кучей вещей — в деревню возили не только одежду, но и продукты, и, конечно, необходимые книги — только что высадились из поезда на платформе станции Пестово. Вскоре наняты подводы, всё и все на них погружаются — и в путь! Куда? До места, которое приглянется. Таким оказалось село Устюцкое, в тридцати километрах от Пестова. И в километре от него — две избушки-развалюшки, брошенные хозяйкой за их непригодностью. Назывались они — хутор «Сосенка». В середине лета обнаружили, что в подполье полно воды, а за обшивкой избы живут летучие мыши. Ветхость жилья не помешала работе: за лето было написано много рассказов.
Со спаниелем Джимом (Хутор «Сосенка», 1934 г.).
Следующее лето няня Саша предложила провести у неё на родине — в Мошенском районе Новгородской области. Этот район — сначала деревня Яковищи, потом — Михеево — стал постоянным «дачным» местом на целых семь лет. Добирались туда поездом до станции Хвойной и 30 километров на лошадях в глубь района. Виталий Валентинович в письме рассказывает: «…живу здесь как в раю вот уже три недели с хвостиком… Встаю в 6–7 утра и сразу же за работу. За три недели сделал больше, чем за всю зиму…» И опять в Яковищи, где живёт Виталий Валентинович, и в соседние деревни приезжают друзья и родственники. А осенью, когда все разъехались, остаётся только жена и младший сын Валентин, он мечтает провести в деревне и октябрь… «Мы с Шольбергом [ружьё — Ел. Б.] по-прежнему всё в лесу да на озёрах. Эх, хорошо!»
В 1935 году в Москве при ЦК ВЛКСМ состоялось совещание по детской литературе. Среди других ленинградских писателей с докладами выступали Данько, Бианки, Житков. Бианки говорил о плохих книжках, выпускаемых областными издательствами, о том, чем и как можно им помочь.
В городских условиях Виталию Валентиновичу всегда работалось хуже. А зима 1935–1936 гг. была для него особенно тяжёлой. Даже много лет спустя отзывается душевной болью. «…Был у меня любимый брат, — пишет он другу, — он был на десять лет старше меня и для меня — вроде как второй отец. Он умер — Лёвушка — в 36-ом году… Так вот: я не успел поговорить с ним, как хотелось бы. О главном. И это всё время меня мучает».
Летом 1936 года в деревню Михеево Новгородской области, где жили в то лето Бианки, приехала экспедиция юннатов Зоологического института. Ещё зимой Виталий Валентинович познакомился с этим кружком, членами которого были и его дети, и пригласил кружковцев приехать. Ребята поселились в пяти километрах от Михеева. Они, естественно, часто приходили к Бианки, а он бывал у них. «Я учил их птицам», — говорил Виталий Валентинович. Три лета подряд приезжали юннаты, Виталий Валентинович ходил с ними в лес и в походы на карстовое озеро Ямное. Через двадцать лет о юннатском кружке и о походе на удивительное озеро Виталий Валентинович рассказал в «Клубе колумбов».
Перед выходом в лес (Михеево, 1940 г.).
Постоянно, из года в год, Виталий Валентинович очень тщательно вёл наблюдения за гнездованием птиц. В эти годы он осуществил ранее задуманный опыт, который назвал «кукид», то есть «кукушкина идея»: подкладывал яйца от одной птицы в гнездо другой и следил за поведением родителей и птенцов. Интересно, что только через десять лет подобные опыты стали проводить учёные.
Многие свои наблюдения за птицами Виталий Валентинович претворил в художественные рассказы, а научный материал, собранный за все годы жизни в этом районе, в 1942 году был передан Боровичскому краеведческому музею («Птицы Мошенского района»).
В те годы (1937–1938) Виталий Валентинович очень много работал: «Я почти не выхожу из дому: пишу, пишу, пишу. Ведь 20 печатных листов к 1-му сентября! Н. А. Зворыкин тоже здесь и тоже пишет не встаёт. Однако поспеть к сроку нет надежды…» Речь шла о большой книге «Охотнику о зверях», которую он писал сообща с Н. А. Зворыкиным и С. А. Бутурлиным — известными учёными-охотоведами.
Летом в деревне Михеево (1940 г.).
Тогда же в деревне был написан «роман из жизни серых куропаток и жаворонка» — «Оранжевое горлышко» — и целых семнадцать маленьких рассказов. Продумана была новая книжка-альбом «Наши птицы». Задумана книжка для дошкольников о четырёх временах года «Сто радостей, или Книга великих открытий». Виталий Валентинович с большим увлечением начал её писать, она всё разрасталась в объёме по сравнению с первоначальным планом. Когда в те годы ему приходилось выступать с чтением своих произведений, он неизменно с большим успехом читал первые главы из «Ста радостей». Война прервала работу над книгой. И хотя писатель несколько раз пытался к ней вернуться в послевоенные годы, «Сто радостей, или Книга великих открытий» осталась неоконченной. Но ведь можно смело сказать, что об этих «великих открытиях», ожидающих городских, оторванных от природы детей — да и не только детей! — в лесу, в поле, на берегу реки, ручья, озера, Виталий Валентинович Бианки писал во всех своих произведениях.
Непритязательная жизнь в деревне, летом со всей семьёй, осенью с женой и младшим сыном, частые выходы в лес, постоянное общение с живущим поблизости Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, с которым давно установились теплые дружеские отношения, — всё это создало в последние предвоенные годы самую располагающую к работе обстановку.
В 1941 году Виталий Валентинович хотел попасть в деревню пораньше. Выехал в апреле, но из-за бездорожья застрял на Хвойной на три недели: до Михеева 25 километров — ни на санях, ни на телеге было не проехать.
Однако и во временном пристанище работал: написал рассказ «Чёрный» — про росомаху.
С И. С. Соколовым-Микитовым (Михеево, 1941 г.).
В июне, как всегда, в Михееве собралась вся семья Бианки, а в Морозове, в одном километре от Михеева, жили Соколов-Микитов с женой и дочерью. Виталий Валентинович с Иваном Сергеевичем проводили много времени в совместных прогулках и разговорах.
В безоблачное спокойное утро ворвалось страшное известие: война!
Виталий Валентинович по состоянию здоровья — больное сердце, а Иван Сергеевич по возрасту, — не были военнообязанными.
Везти семьи из тихого Мошенского района в Ленинград было явно неразумно, тем более, что из Ленинграда началась эвакуация детей именно в этот район. Так и остались все в деревне.
Виталий Валентинович продолжал писать, хотя и никуда не отсылал написанное, справедливо считая, что сейчас не время для печатания детских книг, но без работы жить не мог. Жена и дети работали в колхозе, зарабатывая трудодни.
Бианки и Соколов-Микитов переписывались с Фадеевым, бывшим тогда секретарём президиума Союза писателей. В октябре получили от него телеграмму: «…предлагаю эвакуировать семьи Молотовскую область, где находятся дети ленинградских писателей. Самим выехать в Ленинград». Совет тогда трудновыполнимый. Но выехать из Новгородской области было необходимо: фронт приближался.
Готовясь к отъезду, Виталий Валентинович передал на хранение в краеведческий музей в Боровичах ценные книги, привезённые в Михеево для работы. Написал в Облоно города Молотова (Пермь): «…Оторванный от своего родного города — Ленинграда — и не имея возможности по состоянию здоровья принять непосредственное участие в войне с оккупантами, я хотел бы в это трудное для всей страны время наилучшим образом приложить свои силы и способности на пользу Родине… готов немедленно переехать туда, где могу быть использован шире и лучше».
Пока из Перми шёл ответ, неожиданно появилась возможность попасть в блокированный Ленинград. 24 марта 1942 года Виталий Валентинович на «Дугласе» вылетел в Ленинград. Разыскал друзей, знакомых, но мало чем мог помочь. Обратно выехал 4 апреля — на одной из последних машин по слабому уже льду Ладоги.
Тяжелейшее впечатление произвела на Виталия Валентиновича поездка в Ленинград. Он не рассказывал о виденном, неделю совсем молчал, уединялся, только приводил в порядок свои записки.
Вскоре — 15 мая — двинулись в путь. За подводами с вещами шли пешком до Хвойной семья Бианки с А. Е. Кольцовой, семья Соколовых-Микитовых и приехавший из Ленинграда писатель А. Г. Бармин. «Едем до города Молотова (Пермь). Туда меня Облоно приглашает и отделение нашего Союза там. А крыши нет. Но ведь теперь лето», — замечает Виталий Валентинович в письме с дороги.
7 июня не без приключений добрались до Перми.
А. Г. Бармин и И. С. Соколов-Микитов с семьёй остались там. А Бианки, по совету местного уроженца и давнего знакомого профессора В. А. Кондакова, поехал дальше: вниз по Каме в маленький городок Осу, поближе к лесу. «Здесь тихо, красиво, отрешённо… И думаешь: да есть ли на свете война?» — записывает Виталий Валентинович в первые дни в дневнике.
Получив возможность спокойно работать, Виталий Валентинович за два месяца написал пять рассказов.
Горячо, с энтузиазмом взялся он помогать местному краеведческому музею. Сделал доклад о «Проекте постановки краеведческого и музейного дела в г. Осе и Осинском районе». «Чтобы наша затея не показалась пустым донкихотством, — говорит Виталий Валентинович, — вспомните, товарищи: человек не может жить одними мыслями о войне и удовлетворении своих потребностей, — одним суровым настоящим. Человек жив мыслями о будущем… значит, нам необходима культура, необходимы знания, необходимо такое дело, которое даже сейчас — в самое трудное для нас время, — подготовляло бы это счастливое будущее».
В сельскохозяйственном Осинском районе было много детских домов с эвакуироваными детьми. Виталий Валентинович встречался с воспитателями, читал ребятам свои рассказы, записывал истории из их жизни. Он хотел «написать что-нибудь дельное о детях, вырванных из городских теплиц и пересаженных в суровую почву Урала».
В марте 1943 года Виталий Валентинович получил вызов в Москву. Путь из Осы зимой гораздо труднее летнего: Виталий Валентинович выехал в Пермь совсем как ездили в старину — на почтовых лошадях. Оттуда добирался до Москвы в поезде на багажной полке. В Москве пробыл больше месяца. Несмотря на военное время, получил от Наркомпроса предложение организовать и редактировать большую книгу для дошкольных работников — книгу о природе. По замыслу Виталия Валентиновича эта книга — особого рода хрестоматия. В ней «должен быть один „герой“ — любовь к природе. Только не „вообще любовь“ — безотчетная, бездеятельная, а любовь наблюдательная и размышляющая, пытливая любовь».
Работа над этой книгой заставила думать о переезде в Москву, так как в Осе невозможно было делать такую сложную, многих авторов книгу.
В дверях своего кабинета на 3-й линии (Ленинград, 1946 г.).
В феврале Виталий Валентинович, снова по вызову Наркомпроса, выехал в Москву. Но ещё много месяцев прошло, пока удалось найти хоть какое-то пристанище, послать вызов семье, сесть за работу. «Я совсем не приспособлен к такой жизни, — писал он в письме, — какую здесь приходится вести. Не могу без леса, всё время на людях и вся голова в каких-то мелких и мельчайших заботах. Не могу без того, чтобы посидеть „под манговым деревом“ и привести свои мысли в порядок. Не могу без своей работы».
Но были тогда в Москве интересные и важные для него встречи с людьми.
Как о чём-то очень значительном для себя рассказывал Виталий Валентинович о том, как был дома у Михаила Михайловича Пришвина, читал там всю ночь напролёт его новую вещь «Повесть нашего времени».
Интерес к творчеству Пришвина был у Бианки всегда.
Зима прошла в холодной летней даче Детгиза на станции Заветы Ильича Ярославской железной дороги.
В Заветах же отпраздновали день окончания войны, а к осени вся семья переехала в Ленинград. И встречи, встречи после четырёх таких лет!
Налаживалась жизнь, и возвращался принятый распорядок, опять год у Виталия Валентиновича распадался надвое, как в юности, как было до войны: зима — в городе, лето — в лесу, в деревне, в любимой Новгородчине.
В деревне часто приходили к писателю экскурсии школьников, учителей. Он читал им свои рассказы, водил учителей в лес, показывал им птиц, говорил с ними о том, как много могут сделать учителя-биологи, что необходимы пришкольные заповедники, так как одних живых уголков в школе мало, говорил о краеведении.
Директор Боровичского краеведческого музея, старый знакомый Бианки, Сергей Николаевич Поршняков приводил на озеро Боровно школьников-туристов. И Виталий Валентинович снова выступал, говорил о разнице знакомства с природой по книгам и когда «своими глазами и ногами», о первом — особенном — впечатлении, о записях в пути и дневниках. Показывал свои записи.
На берегу озера Боровно (1949 г.).
Зимой 1948 года у Виталия Валентиновича был инфаркт. Отлежав предписанный срок, он снова уехал на Боровно и жил там до октября. На другом берегу озера поселились на лето художники A. Н. Якобсон и М. И. Кукс. Они стали постоянными летними соседями и друзьями B. В. Бианки. С ними писатель сделал несколько совместных книг.
Приезжали, как всегда, и родственники. Появляются друзья среди учителей тамошней школы. С Н. К. Шенк и П. С. Ивановым дружеская переписка продолжалась и после того, как Бианки перестал приезжать на Боровно.
Однажды Виталий Валентинович получил приглашение на защиту докторской диссертации в Зоологическом институте. Он ходил с волнением по помещениям, где когда-то были кабинеты учёных, кабинет отца… Диссертацию защищал Александр Иванович Иванов — его бийский ученик, постоянный спутник в экспедициях по Алтаю, один из тех людей, в жизни которых он — как Виталий Валентинович полушутя говорил — сыграл скромную роль «судьбы»… И вот теперь — доктор! Займёт должность отца — Валентина Львовича Бианки.
Можно назвать многих людей, которым Виталий Валентинович помог в той или иной мере найти себя, определить свой жизненный путь. Сначала это были бийские ученики, которых он «подбил» приехать учиться в Петроград, потом — члены юннатского кружка, позже Виталий Валентинович взял на себя роль «тренера» начинающих писателей.
Шли к нему не только за профессиональными навыками, привлекала нравственная чистота, принципиальность, честность. Многие известные сейчас писатели считают себя его учениками. Ещё в тридцатые годы к Бианки пришла со своими литературными опытами ботаник Н. М. Павлова. Первой книжке рассказов Н. И. Сладкова Виталий Валентинович очень радовался и, наверное, гордился ею больше, чем своими удачами. И много, много ещё можно назвать имён начинавших, и не только начинавших писателей, чьи рукописи Виталий Валентинович внимательно читал, правил, опять читал, одобрял или не одобрял. Всё это занимало много времени, отнимало силы, а того и другого оставалось в обрез.
Школьники в гостях у писателя.
А письма? Сколько писем приходило ему в последние годы! От знакомых, малознакомых и совсем незнакомых людей. Он считал своим долгом отвечать всегда и без промедления. Иногда письма вызывали на разговор по интересующим самого Виталия Валентиновича вопросам. Тогда он писал пространные ответы и оставлял копии своих писем, как своеобразную записную книжку.
Бианки всегда среди друзей, новых и старых: «Я был счастлив в друзьях и крепко любил их», — говорил он. В его доме — вернее, в доме его и его жены, так как без радушия и гостеприимства Веры Николаевны не могло бы бывать столько людей — постоянно кто-то гостил. То это был москвич М. П. Малишевский, с которым Виталий Валентинович вместе писал про колорадского жука для «Юного натуралиста», то молодой поэт В. Гнеушев, который, став студентом Литинститута, приводил к нему своих товарищей: Р. Рождественского, В. Соколова. Конечно, часто бывал Г. П. Гроденский, редактор его произведений в Детгизе. Разумеется, бывали старые, испытанные друзья детства, лебяженцы: Е. Н. Фрейберг, братья Ю. А. и А. А. Ливеровские, Н. И. Гаген-Торн, братья Г. Е. и С. Е. Рахманины — каждый из них прошёл большой жизненный путь, много успел повидать и сделать. Разговоры были самые интересные.
Перед шестидесятилетием (Ленинград, 1954 г.).
В последние годы каждую субботу к Бианки можно было приходить без предупреждения — он ждал. И с радостью встречал, и расспрашивал обо всём. Его интересовал очень широкий круг вопросов. Среди друзей, конечно, были и биологи: А. С. Мальчевский, К. А. Юдин, Б. К. Штегман; были и музыканты — часто приходила пианистка профессор Консерватории Н. И. Голубовская. Хозяин читал ей свои новые рассказы, а она играла его любимые фортепианные вещи Шопена и Шуберта.
В пятидесятые годы здоровье Виталия Валентиновича ухудшилось. Сильно болели ноги. Летом на Боровно ходить далеко он не мог. Но выручала лодка — достаточно спуститься к воде и можно легко добраться до любого островка и к большому лесу за озером. При себе всегда бинокль и записная книжка, а в охотничье время — ружьё.
На Боровно среди гостей был Михаил Петрович Малишевский. О нём Виталий Валентинович говорил в письме: «…все уехали и мой светлый философ. После ухода Бориса Степановича [Житкова. — Ел. Б.] и Елены Яковлевны [Данько. — Ел. Б.] никто мне столько не дал, как Михаил Петрович. Удивительно светлая голова — и какой скромности человек!»
Работалось Виталию Валентиновичу плохо, зато однажды, когда, по его словам, «прорвалась плотина», он «испытал необычайную вспышку творческого веселья, когда всё даётся так просто и радостно». Это было последнее лето, проведённое в деревне. Зимой 1951 года болезнь (инсульт) снова уложила Виталия Валентиновича в постель, и надолго. Лето прошло в Доме отдыха, «где людей невпроворот, а охоты никакой». А осенью он опять тяжело болен, проболел всю зиму. Следующим летом в Дубултах Виталий Валентинович радовался и тому небольшому расстоянию, которое мог пройти сам. Гордясь, записал в дневник: «Садом прошёл до дюны и — впервые в жизни! — увидел Балтийское море. Тот же тяжёло-свинцовый наш Финский залив, но безбрежный, и это волнует».
Осенью в Зеленогорске (1956 г.).
А здоровье всё ухудшалось. Выезжать из города В. В. Бианки теперь мог только в пригородные дома творчества писателей или санатории, да и то лишь с разрешения врачей. Последнюю весну — 1959 года — встретил в Комарово под Ленинградом. 12 апреля вернулся в город, в мае почувствовал большую слабость и в конце месяца попал в больницу, где скончался от рака лёгкого 9 июня 1959 года на 66-м году жизни. На Богословском кладбище на его могиле стоит памятник — работа скульптора Жермен Меллуп, давнего друга семьи Бианки.
Работал последние годы Виталий Валентинович много и упорно. Может быть, даже более упорно, чем в прошлые годы — хотелось успеть как можно больше. «Всё больше тянет писать всё итоговое», — записывает он в дневнике. Начал две большие и давно задуманные им вещи. Темы совершенно разные, но и та и другая — обобщение опыта всей жизни. «Опознаватель птиц на воле» — поэтическое, художественное описание самих птиц и манеры их поведения как бы в противовес строгим научным справочникам. Вторая — «Рассказ о рассказах» — вобрала в себя опыт литературной работы, раздумья над своими и чужими рукописями. Закончить эти книги Бианки уже не успел.
После смерти автора — в конце 1960 года — вышла из печати небольшая книжечка рассказов «Птицы мира». Она была последней, которую Виталий Валентинович сам подготовил к печати.
С 1955 года Бианки делал регулярные передачи по радио о природе. Сначала это «Лесная радиогазета», потом «Лесные были и небылицы». Через два года — «Вести из леса». Эту оригинальную ежемесячную передачу готовила группа писателей (Н. И. Сладков, Н. М. Павлова, А. А. Ливеровский, Э. Ю. Шим, К. В. Гарновский, С. В. Сахарнов), которые считали себя литературными учениками Бианки. Вместе с ними увлечённо работали радиоредакторы Л. А. Флит, И. А. Русакова и актриса М. Г. Петрова. По каждой передаче все собирались несколько раз за большим столом на квартире Бианки. Сам Виталий Валентинович был не только одним из авторов, но и деятельным редактором передачи, душой её.
«Вести из леса» имели большой успех и популярность у слушателей, и не только у детей — у всех любящих природу. Передача получила первую премию на Всесоюзном конкурсе. Продолжались «Вести из леса» его соавторами и после смерти Виталия Валентиновича, а позже звучали в записях. «Вести из леса» вспомнили и передали в эфир в феврале 1974 года, в день, когда Виталию Валентиновичу Бианки исполнилось бы 80 лет.
Комментарии
В четвёртом томе собрания сочинений помещены две книги В. Бианки: «Конец земли» и «Страна зверей», а также очерк о предыстории заповедника, — все три вещи имеют географический характер.
Включён — почти полностью — сборник «Птицы мира».
Статьи В. Бианки и публикации неизданного при жизни автора взяты из сборника «Жизнь и творчество Виталия Бианки» (издательство «Детская литература», Ленинград, 1967 год).
В последний раздел отнесены выдержки из дневников писателя, подобранные по темам.
КОНЕЦ ЗЕМЛИ
Книга путевых впечатлений о поездке 1930 года написана в 1932 году. Выпущена была в издательстве «Молодая гвардия» в 1933 году с большим количеством путевых зарисовок участника поездки художника В. И. Курдова.
Для сборника «Повести и рассказы», изданного в 1956 году, писатель выбрал из VII главы эпизод с загадочной птицей и дал его отдельным рассказом под названием «Золотая чайка».
СТРАНА ЗВЕРЕЙ
Книга написана по дневниковым записям известного биолога, профессора Томского университета, ближайшего друга В. Бианки — Г. X. Иогансена. Три года (с 1928 по 1931) он работал на Командорских островах. На следующее лето приехал в Ленинград. Тогда писатель и предложил ему сделать совместно книгу. Начало этой работе, видимо, было положено сразу же, так как в январе Иогансен писал из Томска: «И правда, „Командоры“ надо нам кончать, пока они не стёрлись окончательно из памяти.».
В июне 1933 года В. Бианки занёс в дневник, что окончил сверять и править «Командоры», а в 1935 году книга вышла в Детгизе (Москва) с рисунками Г. Е. Никольского.
По выходе книги В. Бианки написал О. И. Капице, как всегда отдавая ей отчёт в работе: «„Страна зверей“, можно сказать, не моя книга: каждое слово контролировалось моим учёным другом — и развернуться не было никакой возможности».
ВАСЬКА-ОЙКА-СУД — КОЖАНЫЙ ЧУЛОК
Когда в 1930 году В. Бианки решил поехать на Обский север, одной из побудительных причин было желание познакомиться с В. Васильевым, узнать от него самого историю находки бобров и организации заповедника.
Собрался написать о В. Васильеве В. Бианки только через десять лет. Попытка связаться с В. Васильевым через почту, видимо, не удалась. В. Бианки писал об этом интересном человеке и о его деле по своим старым записям и воспоминаниям о поездке в заповедник.
Из письма: «8.V.41 г. Хвойная. Написал я про Ваську Шайтана в „Глобус“. Писал, — казалось, хорошо. Кончил, наступила реакция, — и кажется: плохо, бедно, сентиментально. Уж и не знаю, как на самом-то деле. Должно пройти какое-то время, чтобы мог объективно-то взглянуть».
Очерк был отослан в Ленинград из деревни Михеево за день до начала войны. Был принят в «Глобус», но альманах издан не был.
В ноябре 1958 года В. Бианки получил приглашение написать в «Литературу и жизнь» в новую рубрику «Из блокнота писателя» о встрече с каким-нибудь интересным человеком. «Сразу вспомнился Васька-Шайтан, — записывает в дневник писатель. — Утром вытащил рукопись. Мне нравится. Всколыхнулась старина!.. Может, теперь можно будет напечатать. Дельно написано… 13.X.58 г. Вчера прочёл. Васька-Шайтан явно не дюжит критики. Надо переписать наново, — сделать во весь рост образ хозяйственника первых лет после революции… 15.XI.58 г. — кончил и отослал „Кож. чулок“ в г. „Литература и жизнь“».
Очерк был опубликован в газете «Литература и жизнь» № 103 за 1958 год.
В феврале 1959 года В. Бианки получил приглашение писать для журнала «Вокруг света». Редакция заинтересовалась темой «Кожаного чулка» и предложила написать большой очерк для журнала. В апреле Бианки записал: «Всё обдумываю, вынашиваю „Ваську-Шайтана“… Надо сделать из него образцового борца за великое дело защиты планеты Земля. Накидал план… 16.IV.59 г. — Первая страница…»
С годами образ В. Васильева и дело, которому он себя посвятил, представлялись В. Бианки все более значимыми. Но писать было трудно. «Обнаружилось, — восклицает писатель, — что №№ 2, 3 и 5 моих дневников бесследно исчезли. Значит, дальше писать „Ваську“, как китайцы пишут картины: писать то, что когда-то вобрала в себя память».
Очерк подвигался медленно; писатель, преодолевая нездоровье, старался каждый день прибавлять хотя бы одну страницу. «Ничего, — надо только начать врабатываться, — а там дубинушка сама пойдёт». В журнал В. Бианки писал: «Убеждён, что кампания по защите природы не ограничится в Вашем журнале одним номером его. К ней надо возвращаться из номера в номер: слишком серьёзно, трагично дело. Поэтому и „Кожаный чулок“ мой, надеюсь, не опоздает».
Однако для журнала «Вокруг света» очерк не подошёл.
«Васька-Ойка-Суд — Кожаный чулок» был напечатан после смерти автора в журнале «Наука и жизнь» № 3 за 1964 год.
ПТИЦЫ МИРА
«Что такое этот сборник рассказов, как не разговор с читателем по душам?
Тут и раздумья мои за четверть века жизни (с 23 г.), и желания, и показавшиеся мне интересными случаи. Меня преследует мысль, высказанная неизвестным мне мудрецом: „Жизнь для того и существует, чтобы о ней рассказали“.
Написать такое предисловие к „Птицам мира“ — с указанием точного адреса читателя. Продолжить мысль неизвестного мудреца: — жизнь, о которой не рассказали, во тьму времён как камень канет, — раскапывай её через миллионолетия по случайно сохранившимся остаткам, как это делают геологи и археологи».
Такую запись В. Бианки сделал в дневнике 24 марта 1959 года, когда рассказы уже были подобраны для сборника. Тогда же в Доме творчества писателей в Комарове читал из «Птиц мира» собравшимся там Б. М. Эйхенбауму, А. Н. Якобсон, Л. В. Успенскому, Н. И. Голубовской… И записал дальше: «Сегодня мой судный день. Послушаем, что скажут старейшины. Сказали — добро. Наибольшее впечатление от „Нелюдей“ и „Волка и капкана“. Сделали ценные мелкие замечания».
В. Бианки начал составлять сборник в начале февраля 1959 года. Туда вошли рассказы, написанные им в последние годы и более ранние. Два рассказа из предложенных автором редакции в сборник не вошли («Нелюди» и «Чиль»).
«Птицы мира» вышли из печати в конце 1960 года (после смерти автора) в Лениздате. В данном издании последовательность рассказов и разбивка их на три отдела сохранены авторские.
ПТИЦЫ МИРА
Редакция газеты «Ленинградская правда» просила В. Бианки написать её читателям о «Пакте мира во всем мире». Писатель сразу же отозвался:
«Сдается мне, что не дело писателя набивать оскомину людям бесконечно повторяемыми словами всё на одну и ту же тему. Вряд ли от этого выиграет даже такое для всех очевидно благое дело, как дело мира во всём мире.
Мне кажется, что писатель может себе позволить несколько отойти от трафаретных писем в газетах, — может неожиданно улыбнуться читателю, поделиться с ним шуткой, предложить ему помечтать.
В таком духе захотелось мне выполнить Ваше поручение — написать читателям „Ленинградской правды“ о „Пакте мира во всём мире“.
Представляю текст точно в назначенный вами срок.
Если не подойдёт, прошу Вас черкнуть мне, чтобы я мог передать эту вещицу в детскую прессу, где она, вероятно, найдёт себе признание».
Написаны «Птицы мира» были 7 сентября 1951 года. Для газеты рассказ не подошёл.
Весной 1954 года В. Бианки решил предложить эту вещь журналу «В защиту мира», но предварительно посоветовался с К. А. Фединым. «Прочитал „Птицы мира“, — отвечал К. А. Федин. — Хорошо, конечно, любовно и по-своему. Но что делать с таким мечтательным стихотворением в прозе — ума не приложу. На газеты просто не надеюсь и не рассчитываю. В журнал „Мир“ давал как-то, по просьбе редакции, вещи куда более обычные, нежели Ваша, давал дважды, но оба раза Эренбург браковал мои статьи. Теперь я перестал писать на эту тему…»
Видимо не очень надеясь на опубликование в журнале «В защиту мира», В. Бианки послал своих «Птиц мира» в свердловский альманах «Боевые ребята». Летом 1957 года они были напечатаны в альманахе, а осенью того же года писатель записал в дневнике: «Пришёл журнал „В защиту мира“ с моими „Птицами мира“».
В 1959 году, уже полностью подготовив сборник с тем же названием, писатель взял «Птицы мира» как рассказ-вступление, но переписал его заново. В дневнике: «…Вечером начал вступление „Птицы мира“. Краснел — как плохо написано! Переделываю».
ПОЭТ И СОЛОВЕЙ
Три варианта этой лирической миниатюры были написаны ещё в 1940 году. На рукописи есть посвящение Е. Я. Данько. В тот год были написаны «Розовое и оливковое» и «Черноголовка» — рассказы, по содержанию и настроению очень близкие к «Поэту и соловью».
Человек делает зло природе часто от незнания. «…О природе знаем мы из учебников: это то, что надо побеждать, освоить, завоевать… Правда, там есть ещё соловьи и розы. Поэты всех времён и народов воспевают их…» — так говорил писатель на конференции библиотекарей в Москве (ноябрь 1944 года) и иллюстрировал свои слова этой миниатюрой. В 1953 году появился её новый вариант.
В 1958 году В. Бианки снова возвратился к «Поэту и соловью» и записал: «18 марта — окончательная редакция… 22 июня передал в журнал „Бярозка“ (Белоруссия)». На следующий год эту миниатюру автор взял для сборника и дал ее во главе раздела, выделив курсивом.
САМЫЕ-САМЫЕ
Ещё в 1939 году В. Бианки рассказывал в книжке-альбоме «Наши птицы» о «всех самых». Но там были только перечислены разные удивительные птицы, здесь же появился и вывод — все они «самые», каждая из них — маленькое совершенство.
Рассказ написан 17–18 июня 1954 года. Осенью следующего года он был передан автором в журнал «Нева». В марте 1958 года В. Бианки переделывал рассказ, а в 1959 году поместил его в сборник «Птицы мира».
ЗИМА ТАЁЖНАЯ
20 декабря 1957 года В. Бианки получил заказ написать о русской зиме для журнала «Советско-китайская дружба». Сразу же начал думать о будущем рассказе. 27 декабря нашёл название — «Зима таёжная», окончил рассказ 8 января. Через три дня писатель отметил: «Художник Е. Я. Захаров принёс 6 рисунков — и я отправил в ж. „Советско-китайскую дружбу“ „Зиму таёжную“. Рассказ был напечатан в этом журнале.
В 1959 году автор поместил „Зиму таёжную“ в свой сборник.
ВЕСНЫ ПРЕДТЕЧИ
Трудно сейчас установить — писал ли В. Бианки „Весны предтечи“ для очередной — февральской — радиопередачи „Вести из леса“ или сначала рассказ был написан (в январе 1958 года) для раздела „Лесная газета“ в журнале „Огонёк“, а потом уже в несколько переделанном виде отдан на радио.
„Весны предтечи“ печатались в сборнике „Птицы мира“ (1960 год) и в книге „Вести из леса“ (1961 год), где были собраны тексты радиопередач. В последней книге рассказ чуть сокращён.
ВЕСНОЙ РАЗДУМЬЕ
Рассказ задуман 11 февраля 1958 года. Писал его В. Бианки три дня — 13–15 февраля. В начале этого месяца писатель получил предложение дать что-либо из своих новых произведений для печати в Болгарии. 18 февраля „Весной раздумье“ было послано в Болгарию и в ленинградский альманах „Наша охота“ (напечатан в 1959 году). В начале 1959 года, ничего не изменяя, автор отбирает рассказ для сборника „Птицы мира“.
НА КРАЮ ЗЕМНОГО ШАРА, ИЛИ ЖИЗНЬ В ЗАПОЛЯРЬЕ
В 1955 году у В. Бианки завязалась переписка с двумя переводчицами, сёстрами-китаянками Ван Юань и Ван Вень. Писателя очень взволновало их сообщение, что его произведения знают и любят дети, живущие так далеко. Этот рассказ о северной русской зиме был написан в конце января 1957 года специально для ребят южного Китая. (Бао-бао и Сяо-ин — сыновья Ван Вень). В 1959 году рассказ помещён автором в сборник „Птицы мира“.
МОЯ КРОВИНКА
Автором ещё в 1945 году был сделан макет книжечки с названием: „Капля крови, или Как я породнился со свиньёй“. Когда написан окончательный текст» не известно. В 1959 году В. Бианки «Мою кровинку» поместил, набранную курсивом, в начало раздела сборника «Птицы мира».
ХОЗЯИН ЛЕСА, ИЛИ СТРАШНАЯ НОЧЬ
На рукописи стоят даты: 13.IX.57 г. — 22.VI.58 г. Однако в дневнике писателя сказано, что в июле того же года он снова вернулся к этому рассказу и переписал его перед отправкой в журнал «Бярозка». Позже отобрал его для сборника «Птицы мира».
КРАСНОГОН
Из дневника писателя: «14.VII.58 г. Переписал (переделав) „Красногон“ (бывшая „Дружба“) для белорусского журнала „Бярозка“». В 1959 году рассказ был включён в сборник «Птицы мира».
ВОЛК И КАПКАН
Рукопись датирована: «9.IX.49 г. — озеро Боровно. 8.VI.51 г. — Репино». В подзаголовке — «Подражание М. П. Малишевскому».
Из письма, написанного летом 1949 года: «…Мих. Петр. [Малишевский, друг В. Бианки, живший в то лето в гостях у него на озере Боровно в Новгородской области. — Ел. Б.] и вдохновил меня на целый ряд сказок… Есть ряд вещиц и для младшего возраста — опять-таки только переписать — и, как они ни малы в отдельности каждая, — вышла бы целая книжка».
М. П. Малишевский — автор коротких философских рассказов, которым он дал общее название — скирли.
«Волк и капкан» был выбран автором для начала третьего раздела сборника «Птицы мира» и также выделен курсивом.
ПИСЬМО С ПЕРОМ ЖАР-ПТИЦЫ
Рассказ был написан в мае 1940 года. Через год писатель к нему вернулся, внёс некоторые изменения. Посвящение было таким: «Евгению Шварцу — автору „Снежной королевы“ и „Тени“ — сказок с хорошим концом». Эти пьесы-сказки шли в те годы с большим успехом на сцене и очень нравились В. Бианки. В 1959 году, когда рассказ был включён в сборник, посвящение было изменено в связи с кончиной Е. Л. Шварца.
РОЖДЕНИЕ РАДОСТИ
Писатель коротко отметил в дневнике: «24.III.45 г. Заветы [станция Заветы Ильича под Москвой. — Ел. Б.]. С утра до вечера. Начало было положено в г. Осе осенью 1943 г.».
В Ленинграде в апреле 1946 года В. Бианки снова занимался этим рассказом. В начале 1956 года автор послал «Рождение радости» в журнал «Юный натуралист». Там он был напечатан в № 7 за 1956 год, но, к большому сожалению автора, с сокращениями.
В 1959 году В. Бианки подготовил рассказ для «Птиц мира».
СТАТЬИ
Вещи биографического характера помещены в начале раздела, остальные — по времени написания.
ИСТОРИЯ НАШЕГО РОДА
На рукописи автором поставлена дата: «Июнь 1940 г., д. Михеево».
ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИИ
В. Бианки неоднократно, особенно часто в последние годы, возвращался к воспоминаниям детства. Из большого количества начатых рукописей, планов будущих глав можно выбрать как наиболее законченное эти «Отрывки». Датируется эта рукопись автором 31 декабря 1951 года (Ленинград). В черновике автобиографических записок (1946 год) есть эпиграф из А. Блока — «С детских лет — видения и грёзы».
ОТЧЕГО Я ПИШУ ПРО ЛЕС
Эта небольшая вещь написана В. Бианки в октябре 1935 года в деревне Яковищи Новгородской области для журнала «Колхозные ребята», где и была напечатана в № 10–11 за 1936 год.
БОРИС СТЕПАНОВИЧ ЖИТКОВ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Летом 1939 года в деревне Михеево В. Бианки писал статью «Друг» для сборника памяти Б. С. Житкова. Предполагалось, что над этой статьёй совместно с В. Бианки будут работать друзья Житкова — писатели Б. А. Шатилов и А. Г. Бармин. Издание сборника было отложено; Шатилов и Бармин в Михеево к Бианки не приехали.
НАШ УГОЛОК ВСЕЛЕННОЙ
Так поэтически хотел назвать В. Бианки задуманную им книгу-хрестоматию. Здесь напечатано предисловие к ней.
В конце 1943 года писатель обратился в Наркомпрос РСФСР с предложением создать книгу о природе в 10 авторских листов для дошкольных работников. В. Бианки поручили эту работу. Он с большим увлечением разрабатывал план книги, подбирал людей, которые, по его мнению, могли бы в ней участвовать.
7 января 1944 года В. Бианки писал профессору В. А. Кондакову: «Посылаю Вам предисловие к нашей книге — декларацию — credo. Надеюсь объединить им всех сотрудников и дать единую форму для разнообразной их работы.
Итак, — „охотники“: за камнями, за птицами, за цветами, зверями, видами, погодой, звёздами; за чудесами природы, за тайнами её, за внутренним смыслом того, что видим вокруг себя, но — равнодушные — не осмысляем; за великими законами природы. Никаких руководств, учебников, циркуляров — одна „игра“…
План книги всё больше проясняется для меня:
0) Предисловие — зарядка.
Затем четыре времени года и в каждом:
Для детсадовниц:
1) Живой фенокалендарь-справочник.
2) Статьи, очерки о наблюдениях.
3) Рассказы о чудесах, тайнах, прелести.
Для ребят:
4) Фольклор-фено: загадки, песни.
5) Фено-рассказы.
6) Фено-сказки.
В фено-календаре сухой перечень названий и дат („средних чисел“) заменён живым описанием — „узнай сам!“
В статьях, очерках и рассказах для детсадовниц не столько говорить о том, что нам известно, сколько о том, что нам неизвестно в природе (проблемы, гипотезы — не факты).
Фольклор — народная душа. А мы все — „охотники“, „следопыты“, „разведчики“, разыскивающие „зверей“ по отпечаткам их ног, по „рони“[60], птиц — по их песням, родники — по их журчанию, звёзды — по их блеску, спектру и переливам красок, цветы — по их запахам.
Жду от Вас фено-календарь с огромным интересом и нетерпением. Чем больше романтики, глетчеров в малой льдинке, больших мыслей и чувства красоты, — тем замечательнее получится».
Издание книги в том виде, как её задумал В. Бианки, не состоялось. На основе её Учпедгиз в 1946 году выпустил хрестоматию «Четыре времени года».
СЛОВО О КРАЕВЕДЕНИИ
Это текст выступления В. Бианки на учительской конференции в Боровичах (Новгородская область), прочитанный им 28 июля 1946 года. Писатель выбрал эту тему для своего выступления, считая краеведение делом необходимым, но не пользующимся достаточным вниманием.
«Слово о краеведении» перекликается с предисловием к книге «Наш уголок вселенной», так как и то и другое направлено в адрес воспитателей нового поколения и выражает горячее желание писателя помочь в «преобразовании образования».
АНТРОПОМОРФИЗМ
Вопрос об уместности или неуместности антропоморфизма в книгах для детей возникал неоднократно. Еще в 1926 году В. Бианки говорили, что его вещи «грешат» антропоморфизмом. Этой небольшой статьёй, написанной 22 июня 1951 года в Репино (под Ленинградом), писатель чётко разъяснил свою позицию.
МЫСЛИ КОЕ-КАК
Статья написана не позже июля 1954 года. В письме от 18 января 1955 года В. Бианки сообщал: «Сдал в ж. „Звезду“ статью о языке: „Мысли кое-как“. И, кажется, придётся ещё написать ряд погромных статей специально о средненькой литературе для маленьких».
В журнале «Звезда» № 7 за 1955 год статья была опубликована в сокращённом виде под заголовком «Мысли вслух».
В МИРЕ СЛОВ
Над статьёй В. Бианки работал 12, 18, 26 и 29 декабря 1958 года. Напечатана статья была в газете «Пионерская правда» 20 января 1959 года.
ПЕРЕВОДЧИКИ С БЕССЛОВЕСНОГО
Эти короткие рекомендации («Рекомендациями» автор сначала и называл то, что потом стал называть «Волшебные переводчики», «Переводчики с бессловесных языков», просто «Переводчики») В. Бианки дал своим друзьям-писателям, с которыми готовил ежемесячные передачи по радио «Вести из леса». Знакомил с авторами читателей и слушателей.
Писать «Рекомендации» начал в 1957 году, сначала для радио. В феврале (18, 22 и 26) написал «Н. М. Павлова», «К. В. Гарновский», «С. В. Сахарнов». Через год решил предложить «Переводчиков» в журнал «Библиотекарь». Тогда в августе 1958 года написал «А. А. Ливеровский» и «Н. И. Сладков». В сентябре того же года делился с Г. Гроденским: «…Разговор со всеми библиотекарями для меня важен: ведь это всё то же, к чему и тебя приглашал: закладка преобразования образования…»
В середине мая В. Бианки послал «Переводчиков» в журнал «Что читать».
В сокращённом виде и под заголовком «Певцы природы» «Переводчики» были опубликованы в журнале «Что читать» № 8 за 1959 год.
РАССКАЗ О РАССКАЗАХ
Мысль написать «лирическое пособие» возникла у В. Бианки ещё в начале тридцатых годов. Но за осуществление её он взялся гораздо позже, в пятидесятые годы: «Тянет писать всё итоговое». В мае 1956 года в дневник записано: «Вплотную приступил к „Заметкам о…“ (не хочу „Заметок писателя“ — больно важно получается!)… Мне бы очень хотелось написать статью о работе писателя — в частности детского, о писательском мастерстве, но без высоких материй. Не „Золотую розу“, а чисто практические советы… чуть не руководство для начинающих. Разобрать, что такое ИСКУСНО СДЕЛАННАЯ ВЕЩЬ (возможно название всей вещи)… Это настолько уже просится на перо, что, кажется, я начну писать эту ВЕЩЬ сейчас — в промежутках „Лесной газеты“».
В 1957 году (из письма): «…А ещё пишу урывками — главное дело между делишками, — „Рассказ о рассказах“ (практическое руководство для игры в новеллино). Решил кончить до Нового года». Летом 1958 года: «Берусь за „Р. о р.“ Начал! Переделал „Вещь сделанную“. Теперь надо переписать „Приглашение“: нельзя мне, когда сзади не всё в порядке… Начал пятую редакцию „Р. о р.“ — „Приглашение“… Начал седьмую редакцию „Р. о р.“. Пора решать: это будет окончательная (…хотя бы до прочтения друзьям и обсуждения)».
Осенью 1958 года В. Бианки записал: «Парадокс: чем больше работаю над „Р. о р.“, тем я дальше от его конца. Сегодня примусь за десятое (!) начало его. А конец всё отдаляется: нарастает (в мыслях)».
«Рассказ о рассказах» В. Бианки полностью написать не успел. Судя по плану, составленному писателем, сделана была всё-таки большая часть.
Рассказ о рассказах
Лирическое пособие для игры в новеллино
ПЛАН
Приглашение к игре.
Цель игры.
Что такое «новеллино»?
Описание игры «Новеллино-экспромт».
Не боги горшки обжигают.
Обращение к писателям.
Часть I. Тема.
Вещь, сделанная из мыслей и чувств. Её измерения.
Всё живое из яйца.
Тема.
Название.
Вдохновение.
Шмат-разум.
Мотив.
Часть II. Сюжет.
Композиция.
Дебют, или гамбит.
Миттельшпиль.
Эндшпиль.
Графическое изображение сюжета.
Часть III. Стиль.
Художественная речь, или живопись словами.
Дремучий лес. Парк. Сад.
Построение фразы.
Выбор и место существительного.
Выбор и место глагола.
Выбор и место прилагательного.
Местоимения, наречия, предлоги.
Причастия и деепричастия.
Рифма в прозе. Аллитерация.
Музыка прозы.
Часть IV. Несколько слов о новеллино для детей.
Ребёнок — отец взрослого.
Сказка и мир поэзии.
Жар-птица.
1950–1958.Содержание
Конец земли. Путевые впечатления 1930 года … 5
Страна зверей … 99
Васька-Ойка-Суд — Кожаный Чулок. Предыстория одного заповедника … 147
Птицы мира … 163
Статьи … 203
Отрывки из дневника … 277
Письма … 344
Краткая биография Виталия Валентиновича Бианки. Ел. Бианки … 368
Комментарии. Ел. Бианки … 392
Примечания
1
Ненцы.
(обратно)2
Селькупы.
(обратно)3
Манси.
(обратно)4
В 1931 году село Самарово, расположенное близ впадения Иртыша в Обь, стало центром вновь образовавшегося Остяко-вогульского района.
(обратно)5
Валькирии — полубожественные девы-воительницы в германской мифологии.
(обратно)6
Гусь — верхняя одежда северян, сшитая как малица. Меховые гуси шьются волосом наружу.
(обратно)7
Важенка — самка северного оленя.
(обратно)8
Пешка — новорождённый оленёнок.
(обратно)9
Неплюй — подросший телёнок.
(обратно)10
Окатэтта в буквальном переводе с самоедского значит — многооленный. Здесь это слово употреблено именно в таком смысле. Кроме того, окатэтта — общеродовое имя многих ямальских самоедов, среди которых были и безоленные бедняки.
(обратно)11
Припай — ледяные закраины у берегов.
(обратно)12
Туфы — вулканические породы, образовавшиеся из грязевых потоков лавы; служат строительным материалом.
(обратно)13
Лайда — пологий песчаный или каменистый берег, заливаемый прибоем.
(обратно)14
Серая Сова. — См. книжку М. Пришвина «Серая Сова», «Детская литература», 1971.
(обратно)15
В Советском Союзе удалось восстановить многие исчезавшие прежде виды животных: соболя, сайгака, лося, зубра, бобра.
(обратно)16
Из стихотворения А. Блока «Тени на стене».
(обратно)17
Здесь и дальше в этом рассказе — стихи А. Блока.
(обратно)18
Фальконет — здесь памятник Петру Великому — «Медный всадник». Называют его так по имени скульптора. (Прим. автора).
(обратно)19
А. Хомяков.
(обратно)20
А. Блок.
(обратно)21
Здание Зоологического музея Академии наук помещается в Ленинграде на Васильевском острове против Дворцового моста. Теперь оно надстроено и кабинеты учёных перенесены в верхний — сухой и светлый — третий этаж. (Прим. автора.)
(обратно)22
«О значении поэта» (Прим. автора.)
(обратно)23
Оскар Уайльд. (Прим. автора.)
(обратно)24
С. Т. Аксаков. Записки об уженье рыбы. (Прим. автора.)
(обратно)25
Лермонтов. Демон (Прим. автора.)
(обратно)26
А. Блок. Друзьям.
(обратно)27
А. Блок. Художник.
(обратно)28
Эренбург И. О работе писателя. «Знамя», 1953, № 10. стр. 160.
(обратно)29
Гладков Ф. Культура речи. Собр. соч. в 8-ми т., т. 8, М., Гослитиздат, 1959, стр. 551.
(обратно)30
Казанский Б. В. В мире слов. Лениздат, 1958, 264 стр.
(обратно)31
Глав. ред. — проф. Б. М. Волин и проф. Д. Н. Ушаков. Москва, 1940. (Прим. автора.)
(обратно)32
А. Блок.
(обратно)33
«Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева. ГИХЛ, Москва, 1957, том 2-й, стр. 142. (Прим. автора.)
(обратно)34
Образцов С. Актёр с куклой. М.—Л., «Искусство», 1938.
(обратно)35
Судя по авторскому плану, публикуемый отрывок составляет примерно половину задуманного В. В. Бианки «Рассказа о рассказах».
(обратно)36
Лев Валентинович Бианки.
(обратно)37
Для себя. Буквально — для своего дома (лат.)
(обратно)38
Слово «детство», написанное наоборот.
(обратно)39
Н. А. Зворыкин — охотовед и писатель.
(обратно)40
Куропатка из рассказа «Оранжевое горлышко».
(обратно)41
Заячьих следов.
(обратно)42
Особого рода (лат.)
(обратно)43
Третьего не дано (лат.)
(обратно)44
Редактор «Лесной газеты», Григорий Павлович Гроденский.
(обратно)45
Григорий Павлович Гроденский — редактор Ленинградского отделения издательства «Детская литература».
(обратно)46
Сергей Николаевич Поршняков — директор Краеведческого музея в Боровичах.
(обратно)47
Иванов Александр Иванович — учёный-орнитолог.
(обратно)48
Ливеровский Алексей Алексеевич — учёный-химик и писатель.
(обратно)49
Зверев Максим Дмитриевич — писатель, зоолог.
(обратно)50
Ван Юан — китайская переводчица.
(обратно)51
Сладков Николай Иванович — писатель.
(обратно)52
Иогансен Ганс Христианович — ученый-орнитолог.
(обратно)53
R. Peterson, G. Mountfort — авторы определителя «Die Vögel Europas» («Птицы Европы»).
(обратно)54
Шим Эдуард Юрьевич — писатель.
(обратно)55
«ВизЛ» — «Вести из леса» — ежемесячная радиопередача.
(обратно)56
Старый Леший — так, шутя, В. Бианки называл К. В. Гарновского, автора стихотворения «Старый Леший».
(обратно)57
Б. Л. Пастернак.
(обратно)58
Конашевич Владимир Михайлович — художник-график, заслуженный деятель искусств РСФСР.
(обратно)59
Музей с 1967 года носит имя В. В. Бианки.
(обратно)60
То, что роняют с веток звери, передвигаясь по деревьям: снег, кусочки коры, лишайники, веточки.
(обратно)
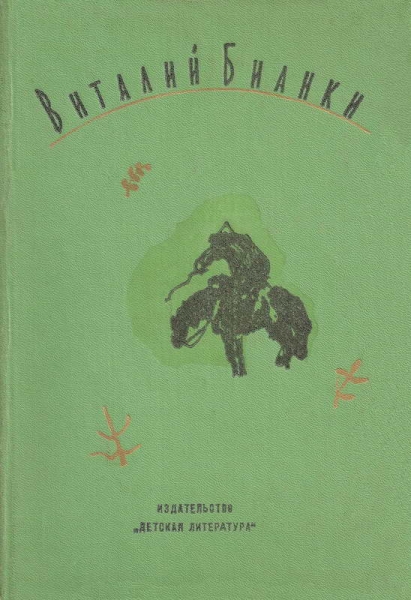


Комментарии к книге «Очерки, рассказы, статьи, дневники, письма», Виталий Валентинович Бианки
Всего 0 комментариев