Лягушка на стене
Автор книги «Лягушка на стене» Владимир Бабенко, профессиональный зоолог, долго проработавший в МГУ им. М. В. Ломоносова (ныне преподает в МПГУ). Во время своих дальних командировок ему приходилось наблюдать самых разных животных. Однако эта книга посвящена не только лягушкам, птицам и зверям. В экспедициях зоологи встречаются также и с людьми — лесниками, егерями, охотоведами, рыбаками, браконьерами и прочими скитальцами. Такие встречи, как правило, связаны с неординарными личностями, с интересными событиями, с неожиданными приключениями. Это, так сказать, побочный продукт экспедиционной работы, впечатления, имеющие косвенное отношение к зоологии. На их основе автор и написал книгу, показав работу людей редкой специальности — зоологов-полевиков и поведав, что с ними случается во время путешествий.
О научной работе зоологов говорят монографии, книги, статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывался и что остается «за кадром», известно немногим. И этому тоже посвящена книга «Лягушка на стене». Некоторые из рассказов веселые, другие грустные, третьи драматичные. В общем, так, как бывает в экспедициях, да и в обычной жизни тоже.
ВЛАДИМИР БАБЕНКО
ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ
АРМАДА
Москва
1998
УДК 82-311.8(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я5
Б 12
Иллюстрации
Н. Строгановой
© Бабенко В. Г., 1998
© Иллюстрации, Строганова Н., 1998
© Сост., художественное оформление, АРМАДА, 1998
ISBN 5-7632-0744-0
ЭНТУЗИАСТ ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ЖИЗНИ
Стать зоологом можно, но иногда мне кажется, что зоологом нужно родиться. И вправду зоология создавалась и создается в основном энтузиастами. И нередко они просто не могут держать в себе то, что узнали о животных, и начинают писать заметки, повести и целые книги, рассказывая о животном мире, о дальних экспедициях, о своих приключениях.
Среди авторов таких книг много известных фамилий — Александр Николаевич Формозов, Евгений Павлович Спангенберг, Бернгард Гржимек, Фарли Моуэт и Джеральд Даррелл. Все они по-разному описывают свои встречи с животными, наблюдения за ними. В этих книгах подчас можно найти такие интересные факты, которых не встретишь на страницах научных монографий.
У таких книг есть еще одна особенность. Как бы ни был увлечен автор животными, он заодно описывает различные стороны нелегкой, интересной, веселой, а подчас и очень трудной экспедиционной жизни, часто связанной с неординарными личностями, с удивительными событиями, с неожиданными приключениями.
В. Г. Бабенко следует этой традиции и в своей книге с довольно необычным названием «Лягушка на стене» описывает путешествия, связанные с работой зоолога.
Одно из несомненных достоинств этой книги — ее жизненная достоверность. Все, о чем автор пишет, он видел и пережил сам. В. Г. Бабенко путешествовал по многим районам бывшего Союза. Больше всего ему удалось поработать на Дальнем Востоке — от Камчатки до Южного Приморья. Однако автор также побывал и в тундре, и в горах, и на Ленкоранской низменности, прошел на корабле по Северному морскому пути, проводил свои исследования в Чернобыле.
Есть, правда, своего рода исключения. Например, автор не был во Вьетнаме, и все его повествование построено только на «опросных данных» — рассказах его коллег, приятелей и знакомых (все они работали в этой стране в различных зоологических экспедициях). Однако детали, почерпнутые автором из этих рассказов, общее биологическое образование, экспедиционный опыт позволили ему точно передать и реальную экспедиционную обстановку, и колорит тропического леса Индо-Малайской области.
Важное достоинство книги В. Г. Бабенко — ее научная достоверность. И это неудивительно: ведь автор — профессиональный зоолог (точнее — орнитолог). Но во многих книгах такого жанра биологический материал явно доминирует над сюжетом и иногда бывает несколько скучен и сух для рядового читателя. Дело в том, что зоологи — энтузиасты своего дела и могут целыми часами (или страницами) рассказывать о своих любимых лягушках, змеях, птицах, жуках или бабочках. Но в данном случае автор избежал соблазна и не пошел этим путем. Животные у него служат фоном общего повествования. И эти небольшие зоологические заметки, характерные черты распространения, биологии и поведения различных животных изложены профессионально и с научной точки зрения безукоризненно.
Мне кажется, что широкий круг читателей эта книга привлечет не только и не столько повествованием о животных. Самое главное, на мой взгляд, — это рассказы об экспедиционной жизни. Многие зоологи отправляются в экспедиции не только затем, чтобы собрать уникальный полевой материал, но и для того, чтобы увидеть новые чудесные места, почувствовать себя первооткрывателем, первопроходцем, насладиться непредсказуемостью и новизной полевой жизни.
Именно в экспедициях случаются совершенно невероятные происшествия, о которых и рассказано в этой книге. Любой зоолог-путешественник знает великое множество таких историй, но именно В. Г. Бабенко нашел время, чтобы поделиться с читателем этими впечатлениями.
Одна из характерных особенностей книги — это ее стилистика и язык. Иные рассказы целиком построены на сообщениях друзей и знакомых и как бы «сшиты» из различных кусков. Однако создается полная иллюзия, что все, о чем пишет автор, было в одно время и в одном месте.
Автору удалось найти свой оригинальный стиль изложения. Главное, что можно отметить в нем, — легкая ирония и самоирония, необычные сравнения и метафоры. Поэтому даже самые обыденные события, рассказанные автором, выглядят увлекательными и забавными.
В. Г. Бабенко не пытался лишь развлечь читателя. Хотя большинство его рассказов полны мягкого юмора, но среди них есть и лиричные, и грустные, и даже драматические. Ведь в любой экспедиции бывает много труда и лишений, немало комичных ситуаций. Эта книга, несомненно, будет интересна и многим зоологам, так как в героях рассказов они узнают и себя, и своих коллег.
Я уверен, что любому, прочитавшему «Лягушку на стене», захочется поехать куда-нибудь, для того чтобы увидеть, почувствовать и пережить то, что переживал автор. Хотя в некоторые места, описанные в книге, в наше время уже так просто не съездишь. Кроме того, такие экзотические промыслы, как, например, охота на китов, уже навсегда запрещены, да и орнитолога с ружьем все больше и больше вытесняет орнитолог с видеокамерой. Так что в этом смысле книгу В. Г. Бабенко в какой-то степени можно считать уже исторической.
В заключение хочется поздравить читателя с выходом очередной книги В. Г. Бабенко и выразить надежду на продолжение. И прежде всего — о новых зоологических путешествиях и приключениях автора.
Николай ДРОЗДОВ
ЛЯГУШКА НА СТЕНЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У меня очень плохой почерк. Просто отвратительный. В самом начале своей орнитологической деятельности я ленился вечером переписывать информацию, добытую за день, из полевого блокнота в общую тетрадь-дневник. А потом никак не мог разобрать не только отдельные слова, но и целые фразы. Поэтому сейчас, будучи в экспедиции, я нахожу время и место, чтобы почерком, доступным в дальнейшем для моего же прочтения, написать своеобразный обобщающий отчет за день. У меня в рабочем столе хранится более тридцати таких тетрадей — по числу дальних командировок. В них записаны довольно скучные для непрофессионала данные: места обитания и даты, где был встречен тот или иной вид, размеры гнезд, содержание желудков добытых птиц, численность различных видов и прочее.
Но там есть и другие записи. Они стоят не в основном тексте, а располагаются сбоку, на полях. Чаще всего это только одно слово типа «таймень», «старатели», «катер «Язь», но за ними — неординарные личности, интересные события и приключения. Это, так сказать, побочный продукт экспедиционной работы, отсев, журналистика на общественных началах, впечатления, не относящиеся непосредственно к орнитологии, — короче, записки на полях дневника, из которых я и попытался сделать книгу, показав «кухню» работы зоологов-полевиков, поведать, что случается с ними во время путешествий. О научной работе зоологов сами за себя говорят монографии, книги (в том числе и Красные), статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывается и что остается «за кадром», известно немногим.
Компонуя свои заметки, я практически не привнес в них ничего от себя. Здесь уместно вспомнить Марксов термин «профессиональный кретинизм», означающий зашоренность любого узкого специалиста. Именно она и не позволила мне поступиться достоверностью, к которой долгие годы приучала меня деятельность научного работника.
Все истории, описанные в этой книге, подлинные, все они случились со мной или моими друзьями. Мне оставалось только «сшить» разрозненные эпизоды в единое повествование, изменив в некоторых местах названия кораблей, населенных пунктов, имена и фамилии.
Должен заранее извиниться за некоторые повторы. Это произошло потому, что в любой экспедиции есть начало, середина и конец, от этого никуда не денешься. Во-вторых, интересы зоолога-полевика, как только он покидает крупный город, почему-то сужаются и вращаются вокруг нескольких житейских, часто сугубо физиологических сфер. В-третьих, «в поле» зоологи и все, кто с ними встречается, одеты удивительно убого и однообразно.
Отдельно приношу извинения за крайне ограниченный выбор спиртных напитков (что связано с дефицитом застойного периода) и особенно за вездесущую на Дальнем Востоке брагу, которая еще десяток лет назад могла по праву считаться подпольным народным пойлом.
И еще об одной детали я хотел упомянуть. О ружье. По специальности я — орнитолог-фаунист и во время экспедиций собираю коллекции птиц. А рабочим инструментом мне служит двустволка Ижевского оружейного завода, которую я не снимал с плеча по нескольку месяцев в году. Для орнитолога ружье — это то же, что сачок для энтомолога или сеть для ихтиолога.
Я отчасти понимаю, почему даже коллеги-зоологи относятся с некоторой антипатией к стрелкам в птиц (хотя, к примеру, энтомологи переводят насекомых тысячами). Я не говорю о простых гражданах, которые не колеблясь прихлопнут таракана, зарядят мышеловку куском сала или вытащат на удочку карася, но надерут уши мальчишке (и правильно!), охотящемуся с рогаткой на воробьев.
Птицелюбие — это древнее, глубокое религиозно-этическое чувство, ведь и ангелы пернаты, и Святой Дух изображается в виде голубя. Но тем не менее я не стал в рассказах искусственно заменять свое ружье на гербарную сетку ботаника или сачок энтомолога (хотя технически это было бы нетрудно и ни один сюжет не пострадал бы). Каюсь, но мне до сих пор нравится трехкилограммовая тяжесть на правом плече и кисловатый запах пироксилина.
И последнее. События, которые описаны в этой книге, происходили давно. Сейчас не поедешь из Москвы на студенческую практику в Ленкоранский заповедник Азербайджана, на китов у нас в стране почти не охотятся, а голод во Вьетнаме в основном преодолен. Все это уже относится к истории. Это еще одна причина, побудившая меня сесть за пишущую машинку.
ГНЕЗДО СТЕНОЛАЗА
Стену московской квартиры украшал вьетнамский охотничий арбалет. Маленький колчан, сделанный из отрезка бамбукового ствола, с небольшими, как карандаш, стрелами лежал на полке серванта рядом с китайской бронзовой курильницей XII века, статуэткой Будды из Монголии и полинезийской, инкрустированной перламутром маской из черного дерева. Но больше всего в этой комнате меня привлекали книги по орнитологии: старинные, в кожаных тисненых переплетах, с золотыми готическими буквами раритеты, скромные отечественные тома и роскошные, в глянцевых суперобложках современные зарубежные издания.
Хозяин квартиры, Леонид Степанович, доктор биологических наук, отличался изысканностью манер, легким артистизмом, ровным характером и правильной речью с оттенком старомодного русского академизма. Он прекрасно сознавал уникальность своей библиотеки и, видимо, улавливал тот трепет, с которым я взирал на это богатство. Сизый дымок «Золотого руна» медленно тянулся вверх из английской вересковой трубки Леонида Степановича. Он встал с кресла и взял с полки книгу о птицах Юго-Восточной Азии.
— Посмотрите, — сказал он, — какая полиграфия! Качество печати начала века во многом превосходит современный уровень. Ведь кажется, что контуры рисунков выполнены тончайшей кисточкой. А между тем это отпечатано на типографской машине. И каждая иллюстрация всего тиража, — правда, он очень небольшой — каждый контур птицы раскрашен вручную. Но это... — В трубке досадливо затрещали волокна табака.
Холеные ладони закрыли фолиант. Палец, украшенный изящным серебряным перстнем с черным камнем, слегка коснулся обложки, на которой золотом был оттиснут человечек — торговый знак издательства. В груди у человечка была аккуратная дырочка — след от пули.
— Когда мне первый раз показали книгу, — продолжал Леонид Степанович, — именно из-за этого дефекта я и не хотел ее брать, хотя издание очень редкое. А ведь кто-то не пожалел такую книгу испортить. Но стрелок, вероятно, неплохой был, и оружие мощное. Так что эта библиографическая редкость с небольшой изюминкой.
Под серым пеплом в трубке засветился малиновый огонек, и вверх, как кобра из корзины факира, медленно пополз извитой тяж серебристого, медом пахнущего дыма. Я пододвинул к себе том и стал медленно листать тяжелые плотные страницы, рассматривая прекрасные старинные рисунки тропических птиц.
— Да, кстати, а вы бы не хотели взглянуть на некоторые, так сказать, оригиналы этих рисунков? Ведь вы, по-моему, еще не видели мои сборы из этого региона.
Отошла в сторону темно-зеленая портьера, прикрывающая нишу в стене. На стеллажах от пола до потолка стояли большие черные картонные коробки. Леонид Степанович расставлял их на столе торжественно и неторопливо. Крышки открылись. Содержимое коробок составило бы предмет гордости многих зоологических музеев мира. Сборы Леонида Степановича славились не только наличием редкостей, но и качеством препаровки. Тушки птиц располагались ровно, как солдаты прусской армии на плацу. Хвосты были тщательно расправлены, крылышки уложены, клювики однообразно вытянуты. Не думаю, что при жизни хоть одна птица была столь тщательно причесана.
В коробке с попугаями у бледно-розового какаду на груди расплылось какое-то серое пятно. Оно никак не вязалось с известной аккуратностью Леонида Степановича.
— Я его специально оставил таким, — пояснил он, видя мое недоумение. — Попугай ел плоды манго и весь испачкался соком.
Отдельно лежали кладки птиц. Из каждого яйца через небольшое отверстие было извлечено содержимое. Пустые скорлупы были легкими, как шарики от пинг-понга.
— Здесь довольно обычные виды, — рассказывал Леонид Степанович, — утки, кулики, чайки. А в этой коробке у меня хранятся редкости. Вот, к примеру, эта птичка довольно часто встречается в горах, но гнездо ее добыть очень трудно — она селится в нишах и трещинах скал, в недоступных местах. Это гнездо стенолаза.
В коробочке, на подстилке из мха, сухой травы и шерсти, лежало четыре маленьких белых яичка с бледными лиловыми пятнышками.
— Так ты у него видел гнездо стенолаза и он говорил, что его трудно было достать? — Миша улыбнулся. — Действительно, ему было трудно. А ведь это мы с товарищем держали веревку, по которой он спускался.
Миша — мой хороший знакомый. Он уже давно ведет биологический кружок в Доме пионеров, где с его помощью была собрана большая коллекция певчих птиц, аквариумных рыб, змей, ящериц и лягушек. Вот что я узнал от него о гнезде стенолаза.
Давно, когда Миша был совсем юным, его и еще двух студентов-биологов, Володю и Леночку, Леонид Степанович взял на полевую практику на Кавказ. Там он отстреливал и обрабатывал птиц, писал дневники. Студенты выполняли работу по своей теме, добывая в окрестностях лагеря мышей и полевок.
Однажды в долине горной речки Леонид Степанович обнаружил в скальном обрыве узкую щель, куда пара стенолазов таскала строительный материал — мох и овечью шерсть. Он позвал студентов, и они все вместе стали наблюдать, как небольшие птички с длинными тонкими изогнутыми клювами скользят по каменным отвесным глыбам, опираясь на полураскрытые крылья. Полет их, медленный и неровный, напоминал полет бабочек. Сходство усиливалось тем, что были хорошо заметны ярко-красные пятна на крыльях. Птицы переговаривались тонкими звенящими трелями.
Как-то вечером, сидя у костра, Леонид Степанович объявил, что экспедиции предстоят альпинистские работы. Он послал Мишу в ближайшее селение. Через час тот вернулся с тридцатью метрами толстой веревки, которой обычно горцы привязывали коров.
Мужская половина экспедиции подошла к обрыву. Леонид Степанович несколько раз обмотал веревку вокруг своего тела и велел студентам медленно спускать его вниз до уровня гнезда. Где находится этот уровень, должна была указать Леночка, стоявшая на другом берегу реки и следившая за ходом операции.
Светило весеннее горное солнце, шумела вода, медленно уходила вниз веревка. Раздались беспокойные крики стенолазов, тревожащихся у гнезда. Студенты внимательно смотрели на Леночку, которая изящно шевелила ручкой. Через несколько секунд горное эхо повторило два звука — испуганный визг студентки и горестный вопль Леонида Степановича. Ребята стали судорожно выбирать коровью привязь. Через несколько секунд «альпинист» показался на краю обрыва. Живой, без гнезда и насквозь мокрый. Леночкины сигналы были неправильно истолкованы, и студенты опустили орнитолога на всю длину веревки — до реки.
Операция «Стенолаз» откладывалась, и все ее участники устремились в лагерь. Там Леонид Степанович переоделся, подсел поближе к костру и выпил сто граммов спирта, предназначенного для фиксации амфибий. Однако даже позаимствованная у науки жидкость не помогла — начальник экспедиции простудился. Сердобольная Леночка, чувствуя свою вину, ухаживала за кашляющим и чихающим Леонидом Степановичем и самолично наклеила на его грудь перцовый пластырь.
Среди ночи из спальника орнитолога послышались стоны. Студенты проснулись. Леонид Степанович с горестной гримасой срывал со своей груди пластырь. Такое выражение лица было, вероятно, у Геракла, отравленного пропитанной ядом одеждой, которая, как известно, намертво приклеилась к телу героя. Леночка и тут пришла на помощь и стала отдирать пластырь. Но этим она лишь усугубляла страдания несчастного Леонида Степановича. Миша и Володя с трепетом наблюдали, как Леночка ковыряет ножницами в груди начальника. Студентка напоминала полевого хирурга, делающего операцию на сердце без наркоза. По ее окончании Леночка продемонстрировала результат своего портновско-хирургического творчества — кусок лейкопластыря, густо обросшего черными волосами. Начальник же после операции целомудренно закутался в простыню и тщательно застегнул пуговицы на рубашке до самого ворота.
Утром Леночка, Володя и Миша, позавтракав и оставив выздоравливающего орнитолога в палатке, пошли к альплагерю — договариваться со спортсменами помочь достать злосчастное гнездо. Через три часа студенты вернулись.
У костра спиной к ним сидел Леонид Степанович. Он обернулся, и молодые люди остолбенели. Лицо начальника было закутано шарфом, под которым угадывался огромный флюс — результат купания в ледяной воде. Леонид Степанович медленно размотал шарф. Над ущельем грянул хохот трех молодых глоток. Леночка очень мило повизгивала, Миша, пятясь задом, хрюкал, а Володя заливисто икал. Леонид Степанович печально улыбался, ожидая, когда его юные коллеги успокоятся и вновь придут на помощь. На щеке у Леонида Степановича висела механическая бритва. Начальник в отсутствие студентов решил первый раз с начала полевой жизни побриться. Для этого он воспользовался подарком, сделанным ему перед отъездом, — бритвой «Спутник». Но растительность на его лиц была столь же обильна, как и на груди, и косить ее маломощным аппаратом было все равно что стричь газонокосилкой куст малины. Волосы попали в механизм, бритву заело, и она намертво приросла к лицу Леонида Степановича. Спасли его опять ножницы и ловкие пальчики Леночки. Через четверть часа освобожденный Леонид Степанович подошел к обрыву и, размахнувшись, забросил московский подарок в гремящий поток. Стенолазы сопровождали его полет веселым щебетом
Наутро пришли альпинисты, потолковали с Леонидом Степановичем и через десять минут достали ему гнездо.
История со стенолазом не была бы полной, если бы не разговор в поезде «Симферополь — Москва». Я возвращался в Москву из командировки. В Крыму была ранняя весна, холодные пыльные ветры носились между корявых стволов виноградных лоз, распятых на проволоках. Перед самым отходом поезда в купе вошел уже немолодой человек с огромным рюкзаком. Состав тронулся. Мы, как положено путешественникам, разговорились. Как только мой попутчик узнал, что в горах я никогда не был, он стал рассказывать всякие ужасы про трещины в ледниках, перебитые камнепадом веревки, коварные снежные лавины и слепые горные туманы. Наконец он немного подустал от таких страстей и замолчал. Я, завладев инициативой, сообщил ему о своей профессии. Реакция альпиниста была неожиданной. Он насупился, с трудом выдавил из себя: «Орнитологов не люблю» — и замолчал.
Проводница принесла нам еще по стакану чаю, и альпинист, потеплев, поведал причину своей ненависти к представителям этой в общем-то безобидной профессии.
— Было это лет двадцать назад в горах Тянь-Шаня, недалеко от Алма-Аты, в спортивном лагере «Чимбулак», — начал он. — Я, тогда молодой инструктор по альпинизму, вел группу по одному из самых трудных скальных маршрутов — по «Иглам Туюксу». Дорога вдоль берега Малой Алмаатинки была плохая, машины по ней тогда не ходили, подобраться к «Иглам» было не на чем, и поэтому весь путь приходилось преодолевать пешком. Это ведь только недавно альпинисты вооружились легкими титановыми ледорубами, нейлоновыми веревками и капроновыми рюкзаками. Тогда же все вещи были тяжелее: ледорубы были железные с буковыми ручками, рюкзаки — брезентовые, веревки — сизалевые. Так что идти вверх было тяжко.
Мы вышли с рассветом и только к полудню начали восхождение. Миновав морену и ледник, мы оказались у скал, а там началась настоящая работа — веревки, страховки, крючья. Прошли три «Иглы» — три вершины, и перед четвертой остановились передохнуть. Вдруг слышим, кто-то за уступом разговаривает. Продвинулись еще немного и видим, что на небольшом скальном карнизе сидит какой-то субъект в телогрейке и кирзовых сапогах, рядом с ним примус, на примусе кипит чайничек, а у субъекта на коленях клеточка, в ней пищит общипанный птенчик. Любитель птиц сюсюкает с ним и кормит из баночки червячками.
Орнитолог оказался общительным и гостеприимным и предложил нам чаю. Пока мы отдыхали, он рассказал, что уже три дня лазает по горам, ищет гнездо редкой птицы (названия я не помню), и вот радость-то — сегодня нашел и взял птенчика в надежде его выкормить и воспитать. Потом энтузиаст сложил свое барахло в рюкзачишко, клеточку заботливо засунул за пазуху и с нами попрощался. Говорил, что очень торопится, что ему сегодня вечером обязательно нужно быть в Алма-Ате, птенчика пристроить. Это, мол, большая научная ценность. И посоветовал нам держаться все время правой стороны, там, мол, скалы полегче. Собрался и, как был в телогрейке и кирзовых сапогах, полез вверх и исчез за уступом. А мы перекусили, отдохнули, навьючились и пошли дальше с испорченным настроением, вбивая крючья и страхуясь.
Не люблю я после этого орнитологов. Еще раз я с ними встречался на Кавказе. Там какой-то профессор из Москвы нашел в скальной трещине гнездо птицы. Он сам его хотел достать, да не сумел. Ну, я ему и помог. А название этой птички я запомнил. Наше, альпинистское. Скалолаз.
ФЛИНТ
Стих грохот мотора, и громадная, окрашенная в буро-зеленый цвет машина замерла над бруствером. С траков гусениц на дно окопа медленно осыпалась земля и желтые березовые листья. Дверь железной коробки вездехода открылась, и геологи, возвращающиеся в поселок с дальнего маршрута, тупо уставились на многорядную систему траншей и окопов, вырытых здесь вокруг охотничьей избушки на Западной Камчатке, вдалеке от населенных пунктов, на границе березового леса и тундры. Разведчики земных недр почувствовали, что обитатели зимовья всерьез приготовились к затяжным военным действиям.
На крыльцо вышел Юрик — лаборант нашей экспедиции. Он дымил трубкой, набитой махоркой. На плече у Юры сидела сова и смотрела на гостей единственным желтым глазом.
Нас троих забросил в эту глухомань случайный вертолет. Летчики твердо пообещали прилететь за нами через две недели. Но вертолет вместе с бравыми авиаторами так и не появился. Судьба сжалилась над нами, послав через полтора месяца геологический вездеход, тем самым сняв вопрос о нашей зимовке, тем более что все сроки командировки давно истекли.
Наша сова была найдена в первый же день недалеко от избушки. У нее дробью был выбит один глаз. Птица называлась ястребиной совой за длинный хвост и поперечно-полосатый рисунок на груди. «Тельняшка» и отсутствие одного глаза дали нам повод, недолго фантазируя, окрестить ее Флинтом. Но конечно же не в честь известного советского орнитолога, а в честь его тезки — знаменитого пирата.
У совы из-за контузии возник новый, философский взгляд на мир. Она перестала бояться людей и могла часами сидеть на плече у кого-нибудь, а чаще всего у Юрика. У птицы было свое место в углу избушки, куда ее помещали только под вечер. Флинт сидел там тихо, лишь светящийся желтый глаз выдавал его присутствие.
Беспомощную птицу решено было везти в Москву. Тут же возник естественный вопрос о кормежке Флинта. Первые дни эта проблема не стояла остро, поскольку к самому порогу зимовья подошел заяц. Мы не лицемерили и не сетовали на его неосторожность, так как и Флинту и нам понравилась зайчатина. Сова сдержанно брала кусочек сырого мяса мохнатой лапой, вооруженной когтями, похожими на рыболовные крючки четырнадцатого номера, и начинала есть, зажмуриваясь от удовольствия. Когда заяц кончился, появилась забота — добывать пищу Флинту.
Нашему пленнику повезло. На Камчатке в тот год было очень много полевок. Такой резкий подъем интенсивности размножения отмечается раз в четыре — шесть лет. Численность полевок в этот период резко возрастает, они теряют осторожность и становятся более заметными. В окрестностях нашего зимовья стебли борщевика — огромной, до трех метров высотой травы — были обгрызены полевками, словно здесь трудилось множество мини-бобров. Мы знали, что ястребиные совы питаются в основном мелкими грызунами. Но мышеловок у нас не было, а добыть без ловушек вездесущих, но неуловимых быстрых полевок мы не могли.
В лесу слышался шорох — сотни лапок шелестели опавшей березовой листвой. Иногда можно было увидеть и самих зверьков — они серыми пыжами проносились через поляны. Раз такую неосторожно перебегавшую через дорогу полевку мне удалось застрелить полузарядом мелкой дроби. Обнаружив, что пахнущего порохом зверька Флинт поедает с удовольствием, я стал специально на них охотиться. Грызуны посещали помойку у избушки: они искали, чем там поживиться. Вот здесь-то я и устроил засаду, затаившись неподалеку с ружьем наготове. Ожидание было напряженным, так как зверек всегда появлялся внезапно. Он выскакивал из зарослей и молниеносно с голодным писком исчезал в недрах помойки. Насытившись, полевка так же стремительно скрывалась под ближайшим кустом. Требовалась хорошая реакция, чтобы удачно выполнить стрелково-стендовое упражнение «бегущая мышь». Сидя в засаде, я пришел к выводу, что охотничий азарт вовсе не зависит от размеров добычи. Важно лишь, чтобы трофей действительно был нужен стрелку, а сам успех целиком зависел от выдержки и реакции охотника. А так все равно, кого выслеживать — слона, волка или мышь.
Обещанный вертолет все не появлялся, патроны кончались, и их оставили только для охоты на крупную дичь, вот почему ружейный промысел полевок пришлось прекратить. Мы вспомнили, каким способом ловят мелких грызунов в научных целях. В земле вырывают канавки глубиной и шириной тридцать — сорок сантиметров и длиной несколько десятков метров. В концах земляного желоба вкапывают ведро или металлический цилиндр, из которого зверьки не могут выбраться. Наш лаборант Юра немного напутал с размерами, и у него получились окопы полного профиля, соединенные ходами сообщений. Но полевки и в них ловились исправно. Теперь-то Флинт был сыт.
Хуже дело обстояло с нами. Вертолет все не летел. Продукты кончались. Мы съели привезенный с собой хлеб и начали подбираться к запасам, которые хранились в зимовье с незапамятных времен — нескольким твердым, как бетон, громадным буханкам, превращенным мышами в настоящие хлебные дома с холлами, извилистыми коридорами, спальнями и прочими удобствами. Мы расчленяли мышиные жилища на отдельные блоки, выбирая из них самые съедобные, остальные прятали, надеясь (как впоследствии выяснилось, тщетно), что до них очередь не дойдет и нас вывезут раньше.
Юра при возведении фортификационных сооружений наткнулся на культурный слой, образованный несколькими поколениями местных охотников. В этой археологической свалке была масса полезных вещей, и среди прочего — трехметровый кусок капроновой рыболовной сети. Мы привязали ее на палку, полученный таким образом флаг опустили в реку, и с этого момента угроза голодной смерти миновала.
Дежурный каждый день проверял сетку и вынимал из нее улов — пару трехкилограммовых рыбин лососевой породы под названием кижуч. Больше этой суточной прожиточной нормы река нам, к сожалению, не отпускала. Кижуч — проходная рыба, которая живет в море, а икру мечет в реках недалеко от устья. Этой рыбе не нужно больших жировых запасов — своеобразного топлива для подъема на большие расстояния вверх по течению реки, как, например, кете или горбуше. Поэтому кижуч очень постная рыба, и уже через час после еды нас снова посещали мысли об обещанном, но не прилетевшем вертолете. Один Флинт, скоро ставший полноправным членом нашей экспедиции, не участвовал в послеобеденных разговорах о том, как бы нам отсюда выбраться. Сова была всегда сыта, так как запас полевок в тундре, а следовательно, и в Юриных окопах был неисчерпаем.
Но голод голодом, а работа прежде всего. В экспедиции каждый занимался своим делом. Володя изучал осенний пролет птиц на Западной Камчатке. Он оплел, как паук, все окрестные березы тонкими, почти невидимыми капроновыми сетями, а затем терпеливо выпутывал из них птиц, чтобы потом, промерив, взвесив и окольцевав, отпустить их на свободу.
Юрик был по штатному расписанию лаборантом и помогал нам в работе. Он оказался страшным домоседом. В первый же день, едва переступив порог избушки, он обрезал ножом задники своих прекрасных новых туфель, превратив их таким нехитрым способом в домашние шлепанцы, а также отодрал рукава у своей куртки, сделав из нее удобную душегрейку. После этого он затопил печку и стал готовить рагу из того самого излишне любопытного зайца. Всю экспедицию он занимался кулинарными экспериментами, редко выходя из избушки. В свободное время он сидел на крыльце, читая «Письма Плиния Младшего», или же смотрел на далекие сопки, на падающие березовые листья, дымя трубкой, которую он сначала набивал «Нептуном», а потом, когда табак кончился, махоркой. Мы старались не отвлекать Юрика научной работой, считая, что в экспедиции приготовление пищи — самая ответственная и важная задача.
Я облазил все окрестности, собирая птиц для зоологического музея, стараясь добыть что-нибудь покрупнее, так как для научных целей требовалась только шкурка, мясо же доставалось нам. Куропаток было мало, к тому же у меня был более опытный конкурент — лисица. Она жила неподалеку и каждое утро делала трехкилометровый обход по охотничьей тропе, которая проходила под проводами линии телефонной связи, тянущейся над тундрой. Спозаранку куропатки летели с мест ночевок на ягодники и одна-две разбивались о провода. Несколько раз я пытался опередить лисицу, но она всегда успевала раньше, на что указывали свежие перья найденных и съеденных ею птиц.
Мы сидели в избушке уже ровно месяц. Продукты почти полностью кончились, и мы доедали остатки мышиных хлебных домов. Лишь Флинт растолстел. Он весь день дремал в углу избушки, а под вечер, когда мы укладывались спать, разевал розовую пасть, мигал желтым глазом и слабым верещанием требовал полевок. Их-то у нас было пока в изобилии.
Наш зоопарк постепенно пополнялся. Однажды мы совершили далекую вылазку на берег Охотского моря и сеткой поймали шесть камнешарок — пестрых короткоклювых коренастых куличков, похожих на миниатюрных уточек. Птицы названы так за одну интересную особенность поведения. В поисках пищи — мелких рачков, моллюсков, насекомых, пауков — они переворачивают прибрежные камешки, поддевая их клювом и отбрасывая в сторону.
Мы развесили на шестах у самой воды сетку-паутинку и не торопясь пошли к стайке камнешарок. Как и все представители куличиного племени, они не отличались особым интеллектом. Глупые птицы, не взлетая, уходили от нас пешком, по пути отшвыривая камешки, как команда футболистов в пестрых майках, разыгрывающая сложную комбинацию. Когда они очутились недалеко от ворот — нашей сетки, мы вмешались в игру, спугнув стаю. Птицы повисли в ячейках ловчей снасти. Камнешаркам подвязали крылья, чтобы они не могли летать. В избушке мы отгородили им угол, а для развлечения положили несколько камешков. Кулики, казалось, были помешаны на футболе — целый день из угла слышались тихий топот лапок и шуршание по полу камешков — птицы отрабатывали сложные пасы.
Зато третий наш экспонат тихим нравом не отличался. Раз в сетку, погнавшись за синицей, влетел сокол-чеглок. Его мы держали взаперти, в ящике с полотняными стенками, чтобы он не видел людей. Дело в том, что, как только в поле зрения сокола попадал человек, он разражался пронзительными криками, возмущаясь своим пленением. После непродолжительной паузы птица орала уже в другой тональности, требуя есть. Он, как и Флинт, ежедневно получал порцию полевок.
Близкая зима припорошила далекие сопки снегом. Солнце расстилало на полянах золотые ковры, а в тени деревьев лежали серебряные покрывала из сухой заиндевелой травы. Светило каждый вечер умирало у ребристого горизонта, пылая немыслимыми красками. Однажды Юрик, самый поэтичный из нас, не выдержал и, выпросив у Володи два карандаша — синий и красный — и тетрадный листок в клеточку, полез на крышу избушки рисовать закат.
Мы покормили наших спасителей-геологов жареным кижучем, а Юрик отдал им остатки махорки. В вездеход были погружены все вещи, коллекции, клетки с камнешарками и чеглоком. Лишь Флинт как равноправный член экспедиции сидел на рюкзаке и смотрел единственным глазом вперед на дорогу, на хлюпающие под гусеницами болота, на темные озерки, на глупых, уже белеющих на зиму куропаток, вылетающих из-под тупого рыла машины, на улицы поселка, до которого мы наконец-то добрались.
Вездеход с ревом несся по главному проспекту. Поселок выглядел празднично — на стенах домов, на подоконниках, на бельевых веревках висели кумачовыми флагами распластанные подвяливающиеся тушки рыбы. Гуляющие пацаны ели фантастические бутерброды с красной икрой, намазанной на хлеб двухсантиметровым слоем, не компенсирующей, впрочем, хроническую нехватку здесь фруктов. Парни равнодушно смотрели на текущую через поселок речку, где на перекатах теснились блестящие рыбьи спины, или лениво бросали камни, стараясь попасть в плывущего у берега страшного зубаря — самца горбуши.
В тот же день мы самолетом местной линии добрались до Петропавловска-Камчатского. После утрамбованных спальников, прокопченного потолка, соседства самодельного зоопарка и проблематичности питания гостиница «Авача» была для нас земным раем. Мы ввалились в светлый холл пиратской толпой. Флинт, как и положено, был впереди: он сидел на плече у Юры. Пока мы заполняли документы, сова неподвижно сидела на безрукавке нашего лаборанта, которую он непринужденно бросил на полированный стол. Изредка какой-нибудь спешащий человек ловил желтый взгляд Флинта, останавливался, встряхивался, как будто отгоняя от себя наваждение, и, углубившись в свои деловые мысли, шел дальше. Устроившись в номере, помывшись в ванне и разместив птиц, мы поехали в аэропорт за билетами.
Тем временем горничная, посетившая наши апартаменты, начала свое знакомство с орнитофауной Камчатки. В ванне резвилась стайка камнешарок, гоняя по эмалированной поверхности пробку. В комнате излишне любопытная сотрудница гостиницы неосмотрительно открыла створки тумбочек. Из первой на нее осуждающе посмотрел сонный Флинт, из второй на бедную женщину закричал, жалуясь на свою неволю, чеглок.
К моменту нашего возвращения вся гостиница знала, что мы в номере содержим уток, а также филинов и орлов, бросающихся на людей. Но гнев администрации нам был уже не страшен — мы взяли билеты на утренний московский рейс.
НАУМ
«Запорожец» остановился в тени навеса, увитого виноградной лозой, на которой уже начинали буреть гроздья. Лай разорвал жару, висевшую над частным домом на окраине Симферополя. За сетчатыми стенками просторных вольеров запрыгали собаки. Особо радовался Шериф, любимый фокстерьер Юрия Ивановича — хозяина псарни. Наум проснулся.
«Сейчас начнется, — подумал он. — И так каждый день. Хоть бы выходные давал».
Наум был красивым матерым лисом. Даже сейчас, летом, шерсть на нем была длинная, шелковистая, рыжеватая на спине и белая на брюхе. А к зиме, полиняв, он становился настоящим франтом.
Еще лисенком он был поселен Юрием Ивановичем в вольер, где жил в сытости. За содержание Наума Юрий Иванович получал от собачьего клуба червонец в месяц. Лис отрабатывал эти деньги своей шкурой — на нем притравливали норных собак.
Наум походил по цементному полу, приятно прохладному в эту проклятую крымскую жару, к которой он, северянин по рождению, никак не мог привыкнуть. Лис зевнул, показав розовый язык и крепкие несточенные зубы, ткнул носом в пустую миску — час вечерней кормежки еще не настал — и неторопливо забегал по клетке. Он был солидным зверем, не любил резких движений и слегка презирал своего несдержанного приятеля Шерифа, который в соседнем вольере прыгал до потолка, заходясь от лая.
Юрий Иванович осмотрел свое собачье хозяйство и пришел в ужас: в вольере с гончими (из самой тульской волкогонной стаи) он обнаружил трубчатую кость куриной ноги. Юрий Иванович стал причитать на весь двор неожиданно тонким бабьим голосом.
За кормежку собак отвечала его мать. Услышав стенания сына, она вышла из дома. Огромный, плотный Юрий Иванович, грозно вращая жгучими карими глазами, бросился к ней, размахивая костью.
— Ты же знаешь, что значит для собаки такая кость — это болезнь, гибель и смерть! Ты посмотри, посмотри, какие здесь края — как сверло. Бедное животное съест его и тут же желудок пропорет! Безобразие! Учу, учу, а все без толку!
Маленькая сухонькая старушка слушала своего любимого сына, вытирая руки о фартук, и робко оправдывалась, говоря, что это соседские мальчишки приходили и кормили собачек.
Услышав о мальчишках, Юрий Иванович еще больше рассвирепел:
— Как, моих лучших в городе собак, да что там в городе — во всем Крыму, кормят какие-то мальчишки! Это же элитные животные! Русские пегие гончие! Их предки из самой Англии! Я против детей ничего не имею, пусть по двору ходят, пусть по саду лазят — яблоки, персики и груши кушают, пусть, наконец, на собачек и Наума смотрят, но уж корми животных, пожалуйста, сама. И чтобы такая вот гадость, — и он помахал перед лицом матери злополучной куриной ногой, — в вольеры больше не попадала.
«Да, — подумал Наум, — хозяин сегодня не в духе, придется поработать как следует».
Юрий Иванович тем временем расположился в прохладной летней кухне и, успокаиваясь, стал поедать огромную тарелку борща, периодически отрываясь от нее, чтобы, правда уже без прежнего подъема, поворчать на свою мать.
Юрий Иванович всю жизнь проработал на железной дороге инженером-электротехником. Служба ему нравилась, он был квалифицированным специалистом, уважаемым начальством и подчиненными. Но настоящее дело, которому он отдавался всей душой и которое поглощало все его нерабочее время, была охота. Ему бы родиться и жить где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, в Приполярном Урале или в архангельской тайге, там, где еще остались нетронутые леса, реки, озера, дичь и рыба. Но судьба распорядилась иначе, забросив его в курортный крымский город, где было очень много праздных людей и очень мало мест для охоты.
Юрий Иванович обожал собак, конечно же — охотничьих собак. Но особую страсть он питал к фокстерьерам. Юрию Ивановичу — мастеру по натаске этих собак на лис и барсуков — правление клуба доверило содержать Наума, которого специально еще лисенком отловили на далекой вологодской земле. Наум подрос, окреп и стал зарабатывать себе на жизнь борьбой с фокстерьерами в искусственной норе. А чтобы лис всегда был в форме, Юрий Иванович устраивал ежедневные дружеские встречи между ним и Шерифом — своим любимым псом.
Был Юрий Иванович еще и заядлым рыбаком, но рыбаком криминальным. Он не любил следить за лениво плавающим на мутной воде жалких крымских прудов поплавком. Не любил и морскую ловлю с лодки, когда надо было опустить на дно наживку и дергать в ожидании поклевки, а потом наконец выбирать десятки метров лески, поднимая бычка с выпученными глазами.
Однажды его приятель, капитан небольшого сейнера, взял Юрия Ивановича с собой в рейс. И Юрий Иванович вместе с рыбаками выбирал сеть. Но и это ему не понравилось: не было элемента охотничьей удачи, везения, случайности. Массовая заготовка пищевого продукта его тоже не привлекала.
Юрий Иванович после долгих поисков нашел наконец место и способ подходящей для него рыбалки. Ездил он туда всегда в одиночку, не беря даже лучших друзей, чтобы наиболее полно насладиться процессом ловли. Он выезжал ночью. Проехав около двух десятков километров по Симферопольскому шоссе, он сворачивал на проселок и там, выключив фары, крался на малом газу около пяти километров по балке до ставка — большого искусственного пруда, в котором местный колхоз разводил карпа.
Юрий Иванович вылезал из машины, тихо прикрывал дверь, вдыхал настоянный на душистой полыни воздух и доставал из багажника несколько пакетов. Железнодорожник был обстоятельный мужик, к тому же инженер по профессии, и все у него было сделано на высшем уровне.
Из первого мешка появлялся кусок маскировочной сети, выпрошенной у знакомого старшины. И даже в безлунные ночи, когда стояла такая темнота, хоть глаз выколи, и «Запорожец» темно-серого цвета не был виден с двух шагов, машина все равно маскировалась. Во втором пакете была надувная резиновая лодка, раньше оранжевая, но впоследствии заботливо перекрашенная Юрием Ивановичем в малозаметный, особенно ночью, цвет хаки. Рыбак открывал вентиль небольшого баллончика, и через минуту надутая лодка была готова к плаванию. В третьем пакете находилась фирменная японская сеть — предмет гордости Юрия Ивановича, привезенная ему с Дальнего Востока знакомым охотником. Сеть имела плавающую верхнюю подбору и утяжеленную нижнюю и никогда не путалась, но любивший во всем порядок Юрий Иванович всякий раз тщательно перебирал и складывал ее.
Юрий Иванович садился в лодку и отплывал туда, где с колхозной лодки ежедневно рассыпали рыбам корм. Это место он выявил, проведя несколько дней на ближайшем бугре с армейским биноклем. Браконьер ставил сеть и греб назад к «Запорожцу». Там он садился на теплую землю и курил, спрятав сигарету в рукав, слушая, как плещется в ставке рыба, кричат древесные лягушки и трещат сверчки.
Через полчаса Юрий Иванович снимал сеть и выпутывал дрожащими от азарта руками десяток трепещущих карпов. Потом быстро сворачивал лодку, убирал маскировку с машины, грузил все в багажник и покидал заповедный водоем. Фары он включал только на шоссе Москва — Симферополь.
Председатель колхоза, в ведении которого находился ставок, был хорошим приятелем Юрия Ивановича, заядлым охотником и прекрасно знал о его ночных рейдах. Несколько раз он увещевал своего друга прекратить добывать рыбу нечестным путем и предлагал приехать днем и взять карпов в колхозе по себестоимости.
— А если денег нет, то возьми бесплатно мою долю, — добавлял председатель. — Только не крадись ночью, как тать. Перед людями стыдно.
Но Юрий Иванович на увещевания не поддавался.
— Да не нужна мне твоя рыба, — говорил он. — Если потребуется, капитан сейнера хоть грузовик пришлет. Мне охота нужна, понимаешь, охота.
— Ну, если охота, тогда конечно, — соглашался председатель, — только тогда карпов отдавай.
— Какая же охота без трофеев? — удивлялся Юрий Иванович и не отдавал. Рыбу он, кстати, не ел ни в каком виде, просто на дух не переносил.
Вред от набегов железнодорожника был невелик, местные колхозные браконьеры — мальчишки — ловили удочками больше. Честный председатель отказывался от своей доли рыбы в пользу Юрия Ивановича и приказал сторожам не трогать человека в «Запорожце», покрытом маскировочной сетью. Сам он, как настоящий охотник, об этом распоряжении Юрию Ивановичу, конечно, не сказал.
Наум видел, как подобревший после борща хозяин вышел из летней кухни. У входа его встретил Шериф. Пес радостно запрыгал, отталкиваясь от земли всеми четырьмя лапами, подлетая вверх до лица Юрия Ивановича.
«Вон как веселится, — с завистью подумал лис— А я так не могу, отяжелел, а ведь мы с ним ровесники».
— Ну как, Наум, готов? — спросил Юрий Иванович, открыл вольер лиса и впустил туда фокстерьера.
«Хоть и росли мы вместе со щенячьего возраста, а сейчас вроде как враги», — подумал Наум, забившись в угол клетки и утробно урча. Уши его были прижаты, шерсть вздыбилась, глаза горели, словно у кровожадного хищника. Сегодня надо показать образцовый бой и хоть этим развеселить хозяина.
«А Шериф-то с возрастом ничуть не изменился», — философски размышлял лис, делая из угла первый выпад и следя, как пес с грацией боксера пружинисто ушел в сторону.
Простоватый Шериф тоже чувствовал, что куриная кость испортила хозяину настроение, и хорошо подыгрывал Науму. Два раза он вцеплялся ему в бок, но не больно, не так, как невоспитанная молодежь в искусственных норах, которую Науму приходилось учить. Фокстерьер выволакивал Наума на середину вольера, ослаблял хватку, давал лису вырваться и обороняться в более выгодной позиции — в углу. На третий раз Наум сам подставил под горячую пасть Шерифа загривок, там, где шерсть была плотнее и уже образовалась привычная к собачьим челюстям мозоль. После этого Наум обмяк и позволил себя потрясти. Уж это — победную тряску жертвы — Шериф делал всегда с большим азартом и очень натурально. Так же ему удавалась и «мертвая хватка», когда Юрий Иванович хватал их руками и долго отрывал пса от лиса.
После травли Юрий Иванович хвалил фокстерьера и жалел Наума. Лис не был самолюбивым и спокойно принимал хозяйские соболезнования. Фокстерьер же был горд, будто действительно победил в честном бою сильного противника. Он иногда даже вырывался из рук хозяина, как будто снова хотел вцепиться в Наума. Когда лиса посадили в вольер, он стал деловито чистить шкурку на загривке, замусоленную неаккуратным Шерифом. Веселый пес скакал возле сидящего под жесткими виноградными листьями Юрия Ивановича, разомлевшего от вкусного обеда и от охоты на лис.
Фокстерьер на секунду подбежал к вольеру с Наумом посмотреть, не помял ли его ненароком. Лис и пес беззлобно обнюхали друг друга через решетку.
Солнце ушло со двора. Наум закончил свой туалет и начал стайерский бег трусцой из угла в угол, негромко задевая когтями бетонный пол.
К Юрию Ивановичу пришли его приятели, и начались ежевечерние рассказы про собак, про ружья, про удачные и неудачные выстрелы — в общем, те обычные разговоры, от которых не устают только охотники. Пришел и председатель колхоза, на пруду которого браконьерил Юрий Иванович. Он принес во влажной мешковине трех карпов.
— На, — сказал он, — чтобы тебе не ездить, бензин не жечь.
Юрий Иванович обиженно хмыкнул, но рыбу взял. В псарне Юрия Ивановича наступил час вечерней кормежки. Мать хозяина разлила в корытца вкусную похлебку. Наум ел степенно, помня свой возраст, боевой стаж и брезгливо прислушиваясь к поросячьему чавканью, исходившему из вольера Шерифа. Лис вылизал корытце, сладко потянулся и пошел спать.
Громкие прощания расходившихся гостей разбудили Наума. Он приоткрыл глаза, увидел, что темнеет, что зажглась лампа, освещающая двор.
Юрий Иванович проводил оставшегося ночевать председателя колхоза в отведенную ему комнату, посидел на крыльце, покурил, дождался, пока тот захрапит, и пошел к машине.
Наум проснулся еще раз под утро от негромкого звука захлопнувшейся дверцы автомобиля.
Серел восток. Во дворе стоял «Запорожец», пахнущий ночной полынью, бензином, водой и рыбой. Юрий Иванович стоял рядом и прислушивался к храпу председателя. Потом он осторожно открыл вольер лиса и положил в корытце небольшого карпа. Юрий Иванович протянул руку и осторожно погладил лиса. Наум притворился спящим. Хозяин улыбнулся и пошел в дом — соснуть часок перед рабочим днем.
ОДИН ДЕНЬ ВО ВЬЕТНАМЕ
Генеалогия Леонида Степановича была связана с Левантом. Поэтому он, как и всякий восточный человек, был мудр и нетороплив, а вследствие этого просыпался долго. Лежа в утренних сумерках под пологом противомоскитной сетки, он слушал, как тоскливо перекликаются в джунглях, за околицей лесной деревни, здешние совы, курил трубку, наблюдая, как клубы ароматного дыма в сереющем рассвете тропического утра сгоняют с наружной стороны защитной ткани, комаров.
Летучая мышь, стремительно вспорхнувшая в открытую форточку и так же быстро растворившаяся за окном, заставила его вспомнить недавний спектакль.
В Ханое вьетнамские зоологи обещали сводить советских коллег на классическую постановку о героической борьбе вьетов с захватчиками Срединной империи. Однако то ли гиды не уточнили репертуар, то ли произошла непредвиденная замена, но когда в столичном театре поднялся занавес, на сцене вместо изысканного интерьера средневекового дворца Сына Неба, полного наложниц, сановников и стражников, оказалась грубая декорация цеха по производству бетонных плит, а актеры изображали директора, рабочих, инженеров и секретарш. Единственным настоящим предметом был огромный стальной крюк подъемного крана, подвешенный тросами к потолку.
Актеры суетились на сцене и что-то лопотали на непонятном для Леонида Степановича языке, — вероятно, по сюжету, на завод приехало высокое начальство.
«Все как у нас в институте», — подумал Леонид Степанович и заскучал. А так как до прохода было далеко и покинуть зал не было никакой возможности, он целый час в течение первого акта развлекался тем, что наблюдал совершенно необычное для отечественных театров явление — мелких летучих мышей, стайкой вьющихся над актерами и над зрителями. Три более крупных рукокрылых ловили мошек под самым потолком, кружась у висящего крюка.
Леонид Степанович вместе с другими советскими зоологами сбежал во время антракта. Они пошли к гостинице через городской парк. Днем он казался безжизненным, сейчас же был полон звуков. Кто-то передвигался в кронах деревьев, царапал когтями кору, шуршал в кустах, хрюкал, чавкал, повизгивал и что-то грыз. Днем животные этого осколка тропического леса отсиживались в укрытиях — дуплах, норах и древесных расщелинах, зато ночью жизнь здесь била ключом: одни гибли, другие отъедались.
Многочисленные влюбленные парочки, у которых тоже проявилась ночная активность, занимались только друг другом, абсолютно не обращая внимания ни на таких же соседей, ни на проходящих мимо советских специалистов.
Вечером улицы города были относительно тихими. Леонид Степанович вспомнил, что, когда вьетнамцы вели его к театру, днем здесь было многолюдно и стоял невообразимый грохот: жестянщики, мастерские которых располагались прямо на улице, гнули железо, медь и латунь и клепали какие-то тазы, корыта и кувшины. Рядом невозмутимый водитель сломавшегося грузовика, вероятно утомившись чинить свою машину, подвесил под ней гамак и решил соснуть часок в теньке. В белоснежных блузках, юбках и брючках, легких туфельках, изящно, будто они и родились в седле, проезжали на мотороллерах юные вьетнамки. Вся их женственность пропадала, когда они, покинув свои транспортные средства, ковыляли ужасной гиббонообразной походкой к какому-нибудь торговцу. Проехал велосипед, со всех сторон плотно завешанный бамбуковыми клетками с крякающими утками и невидимым развозчиком живого товара внутри.
В мясном ряду орнитолог обратил внимание на редкий для советских рынков товар: опаленных, начисто лишенных шерсти, копченых и натертых желтовато-оранжевыми специями с оскалившимися белозубыми пастями тушек собак.
Леонид Степанович задержался в ряду, где торговали дикими животными. Большинство из них предлагалось для внутреннего употребления. Исключение, пожалуй, составляли полуобезьяны лори, попугаи, говорящие скворцы и ткачики. Других, не столь способных и красивых животных, ожидала та же участь, что уток, кур и собак.
В качестве лекарственных снадобий продавались змеи и ящерицы. Леонид Степанович неосторожно попросил одну очень пожилую вьетнамку, сидящую на корточках, показать, что шевелится в лежащем рядом с ней мешке. Старушка развязала его и стала шарить внутри рукой, да так долго, что Леониду Степановичу даже захотелось помочь ей. Наконец торговка вывернула мешок, и на землю вывалилась довольно приличная змея, которая оказалась рассерженной коброй, тут же принявшей боевую стойку. Леонид Степанович, его гиды и соседи старушки по «Охотному ряду» разом подались в стороны.
На прощанье покидавший рынок советский натуралист в полнокровной сточной канаве обнаружил никем не продаваемых роскошных тропических рыбок макроподов, по окраске, по стати и по размерам выгодно отличавшихся от аквариумных выродков, которыми под тем же названием торговали на Птичьем рынке в Москве.
Трубка прогорела, и орнитолог, откинув полог, встал, оделся и, спугнув с подоконника двух розовато-серых юрких гекконов, быстро пробежавших по стене, вытряхнул третьего из чашки. Леонид Степанович взял полотенце, полиэтиленовый мешочек с мылом, зубной пастой и щеткой и вышел во двор биологического стационара советской Академии наук, расположенного в тропической деревне Индо-Малайской области.
Несмотря на ранний утренний час, у родника местная красавица соседка уже совершала омовение. Леонид Степанович с удовольствием наблюдал за этим до того момента, пока та не начала чистить зубы. В стране, где все было в дефиците, зубная паста считалась необоснованной роскошью. Поэтому красотка, взяв большой кусок зеленого хозяйственного мыла, густо намылила им зубную щетку и, пуская пузыри, приступила к утренней гигиенической процедуре. Сердце орнитолога дрогнуло. Он подошел к вьетнамке, приветствовавшей его ослепительной пенной улыбкой, и протянул ей свой тюбик с зубной пастой.
Вскоре после этой встречи у источника Леонид Степанович позавтракал. Процесс еды для орнитолога являл собою большее, чем просто прием пищи, — он был почти культовым действом. В этом, как и в науке, Леонид Степанович был очень разборчив, требователен и щепетилен. Это касалось и сервировки стола, и происхождения и качества продуктов. Леонид Степанович был настолько корректен, что даже хлеб брал вилкой.
Позавтракав, Леонид Степанович облачился в костюм, наиболее подходящий для тропических лесов: кеды, майку-безрукавку и хлопчатобумажные тренировочные штаны, взял свое любимое охотничье ружье — ржавую одностволку двадцатого калибра — и неторопливо побрел в джунгли.
Мужчины этой деревушки, расположенной недалеко от камбоджийской границы, провожали Леонида Степановича насмешливыми взглядами: в этой деревне даже у десятилетнего пацана была китайская или французская винтовка. В хижинах же уважающих себя охотников висели американские М-16 или советские АК-47.
Леонид Степанович специально покинул лагерь пораньше, планируя провести в лесу целый день. Ходили слухи, что как раз сегодня стационар должен был посетить курсировавший где-то по Вьетнаму один из руководителей института зоологии, по совместительству — заядлый охотник. А приезд начальства, как помнил из недавнего спектакля Леонид Степанович, всегда связан с суетой, которую он, как восточный человек, очень не любил.
На краю леса в зеленых неподвижных сумерках он увидел какое-то движение и направился туда. Шел лет термитов. Касты рабочих насекомых и солдат всю свою жизнь проводили под землей, в темноте, строя там галереи, добывая корм, ухаживая за царицей и защищая семью от врагов. Раз в году молодые крылатые самцы и самки в массе появлялись на поверхности и устремлялись в брачный полет. Это и посчастливилось увидеть Леониду Степановичу. В утреннем тропическом лесу на несколько минут выросла колеблющаяся мерцающая желтоватая колонна полутора метров шириной и в десяток метров высотой, «построенная» из тел роящихся термитов.
Медленный прямолинейный полет, огромная концентрация насекомых и их полная беззащитность (крылатые самцы и самки, в отличие от солдат, не имели мощных челюстей) вызывали судорожное оживление среди пернатых. В сумерках вокруг дарового угощения носились еще не спрятавшиеся ночные козодои и уже проснувшиеся стрижи, широкороты, дронго и черные длиннохвостые кукушки. Все они, ловко порхая, хватали термитов.
Обильный корм привлек и птиц, совершенно не приспособленных к ловле насекомых налету. Появилась пара крупных птиц-носорогов. Каждой удалось схватить лишь по одному насекомому. После этого птица начинала долго и трудно маневрировать, с явным усилием разворачивая свое массивное тело, стараясь одновременно и не врезаться в дерево, и побыстрее вернуться к рою. Сквозь шелестящий полупрозрачный столб взлетевших насекомых проносились быстрые, но такие же маломаневренные черные скворцы — священные майны, привыкшие собирать корм на земле или на ветвях деревьев. Им, как и птицам-носорогам, удавалось схватить всего несколько термитов, прежде чем шевелящаяся колонна осела. Оставшиеся в живых насекомые навечно скрывались в своих подземных жилищах.
Леонид Степанович рассмотрел птиц, крутящихся возле членистоногих, не нашел для себя ничего интересного, поэтому стрелять не стал и ушел с поляны раньше, чем стали разлетаться пернатые.
Орнитолог брел по лесной дороге, периодически останавливаясь и вспоминая родное Подмосковье, где птиц можно было не только слышать, но и видеть. Здесь же птицы были почти полностью скрыты непроницаемой тропической растительностью. Леониду Степановичу удалось добыть у ручья мелкого блестяще-голубого зимородка да крошечную, размером с колибри, нектарницу с оранжевым брюшком. А еще он нашел метровое перо аргуса, очень редкого тропического фазана, и тоже взял его с собой. У орнитолога оставалось еще целых три патрона с мелкой дробью, и он продолжил свое путешествие.
Стоило Леониду Степановичу хоть ненадолго остановиться в сыром месте (ну, например, затем, чтобы выкурить трубку), как к нему отовсюду по земле торопливыми шагами, складываясь пополам, словно гусеницы бабочки-пяденицы, устремлялись серовато-бурые сухопутные пиявки, а с кустов пытались напасть их зеленые коллеги.
Учуявшие теплокровный организм кровопийцы были разных размеров: от мелких, с булавку, до почти в палец длиной. Леонид Степанович знал, что если они доберутся до него, то просочатся под одежду и, напившись крови, растолстеют и отвалятся, а красные ручейки будут около суток течь из ранок, нанесенных зубами пиявок.
Спокойный Леонид Степанович оставался на месте до тех пор, пока авангард кровососов не приближался вплотную, после чего неторопливо уходил в сторону, покидая голодных, скорбно кивающих ему вслед вампирчиков из типа кольчатых червей.
Для долговременного отдыха Леонид Степанович выкосил ножом траву в круге диаметром около трех метров, сам сел в центре, достал из сумки пакетик с бутербродами и вилку и при помощи этого инструмента, поочередно накалывая сандвичи, закусил, наблюдая, как со всех сторон к нему спешат пиявки. На границе скошенной травы беспозвоночные упыри останавливались, приподнимали передние части тел вверх и раскачивались, словно ощупывая невидимую преграду, но дальше не двигались, как если бы орнитолог был обведен магической чертой.
На стволе поваленного через лесную тропу дерева цепкий взгляд натуралиста различил в окраске зеленой лианы определенную закономерность идущего по ней рисунка. Только по нему он опознал контуры огромной изумрудной куфии — страшно ядовитой змеи, которая на языке местного охотничьего племени называлась в приблизительном переводе «три шага». Ровно столько, согласно молве, мог пройти укушенный этой рептилией человек. Леонид Степанович во время своих экспедиций дважды наблюдал, как оливковые вьетнамцы, сопровождающие его в тропическом лесу, при виде куфии становились пепельно-серыми от страха.
К полудню стало жарко. Цикады разгоняли сонную дневную тишину джунглей разнообразными телефонными звонками, трелями будильников и милицейскими пересвистами. Насекомых было столь много, и музицировали они так громко, что приходилось напрягать слух, чтобы услышать голоса пернатых. Цикады, сидевшие на стволах деревьев, были совершенно незаметны, так как бурый рисунок на полупрозрачных, сложенных «домиком» крыльях прекрасно маскировал их. Иногда то одно, то другое насекомое срывалось с насиженного места и перелетало на другое, соседнее, и там, приникнув к стволу, на глазах исчезало.
В зеленых кронах деревьев изредка мелькали силуэты птиц, глухо верещали увидевшие Леонида Степановича местные белки. Они были разные: мелкие и полосатые, как бурундуки, побольше — с красным брюхом и огромные — черные.
По провисшей лиане, грациозно балансируя длинным хвостом, ловко пробежала крупная непальская куница.
В середине дня Леонид Степанович набрел на ошалевшую от жары птицу-носорога, слетевшую в поисках прохлады вниз. Птица сидела на ветке в метре от земли, приспустив крылья и раскрыв клюв, и с завистью глядела на выносливого исследователя, который умудрялся двигаться в такой жаре. Леонид Степанович, засмотревшись на пернатого носорога, случайно ружьем задел висевший на дереве плотный шар, свернутый из зеленых листьев. Тотчас из него выбежали мелкие светло-рыжие муравьи и резвым ручейком заструились по стволу ржавой «тулки». Леонид Степанович быстро отставил ружье в сторону, но все-таки два или три муравья добрались до орнитолога и пребольно его ужалили.
Неожиданно со стороны камбоджийской границы послышался далекий шум мотора: оттуда шла машина. Леонид Степанович остановился и задумался. Отношения с соседней страной у Вьетнама были двусмысленно-напряженными. Граница не охранялась ни с одной стороны, поэтому этническая и социальная принадлежность, а также эмоциональный настрой сидевших в приближающемся автомобиле людей были непредсказуемыми.
Сначала Леонид Степанович хотел спрятаться. В условиях тропического леса это не представляло большого труда: надо было просто сойти с дороги, углубиться в джунгли на несколько шагов и оставаться неподвижным. Однако он скрываться не стал, памятуя о том, что местные жители могут ориентироваться в стоящих стеной зарослях каким-то шестым, неведомым европейцу чувством. Кроме того, Леонид Степанович был восточным человеком, а следовательно, фаталистом, и он просто продолжал идти по дороге.
Из-за поворота, ныряя по ухабам красной земли, медленно выполз джип Ульяновского автозавода. Отечественная техника не обрадовала Леонида Степановича, так как внутри могло оказаться все что угодно: от камбоджийских диверсантов до местных сепаратистов или простых вьетнамских бандитов.
«Уазик» приближался. Леониду Степановичу пришло на ум, что он отдаленно походил на ежа: такой же плотно-приземистый, серый и пыхтящий. Лобовое и боковые стекла машины были сняты, и стволы разнообразных ружей, винтовок и автоматов, во множестве торчащих изнутри машины, удачно имитировали ежиные иголки.
«Камбоджийцы», — с тоской подумал Леонид Степанович, вглядываясь внутрь машины, плотно набитой мелкими, жизнерадостно улыбающимися монголоидами. Орнитолог почему-то вспомнил, что обедал давно, и уже приготовился к тому, что ему, голодному, придется обрабатывать добытых сегодня птичек в бамбуковой камере заграничной тюрьмы. Машина тем временем подъехала вплотную, и разнокалиберные стволы легкого стрелкового оружия угрожающе зашевелились, как пушки броненосца «Князь Потемкин Таврический», проходящего сквозь строй царской эскадры.
Леонид Степанович присмотрелся и увидел, что фигура на переднем сиденье, располагавшаяся рядом с водителем, вооруженная крупнокалиберным карабином «Манлихер», по габаритам вдвое превосходила низкорослых азиатов.
«Вот не повезло, среди них и западный инструктор», — содрогнулся Леонид Степанович, безуспешно вспоминая английские слова, поправляя свою легкомысленную маечку и пробуя щеки, покрытые хорошей горской щетиной (увлекшись утром вьетнамкой, он забыл побриться).
Машина остановилась рядом с исследователем фауны птиц Юго-Восточной Азии. В европеоидном резиденте орнитолог с облегчением узнал собственного начальника — профессора Рычева, как раз сегодня пробирающегося тайными тропами вьетнамских джунглей на собственный стационар. Встреча с подчиненным в индокитайских дебрях, казалось, сильно обескуражила Рычева. Он вылез из машины и, не выпуская из рук «Манлихер», сдержанно поздоровался. Рычев внимательно осмотрел Леонида Степановича, его возмутительную экипировку, включая майку, убогую одностволку и перо аргуса, которое орнитолог воткнул в головную повязку. Он даже заглянул в полевую сумку орнитолога, где лежали три неизрасходованных патрона с бекасинником, микроскопические зимородок и нектарница, кисет с табаком, трубка, вилка, пачка сигарет и спички. Профессор был явно чем-то сильно разочарован. Наконец, после недолгого разговора о каких-то пустяках, он обронил фразу, которая многое прояснила.
— А как здесь насчет леопардов? — будто невзначай спросил Рычев.
— Каких леопардов? — не понял Леонид Степанович.
— Да вот вьетнамские коллеги, — начальник обернулся к «уазику», откуда вьетнамские коллеги радостно заулыбались и замахали автоматами, — вьетнамские коллеги сказали, что в приграничной местности очень много леопардов. Вот мы и решили поехать сюда, определить их численность. А заодно и поохотиться. Но я вижу, что леопардов здесь маловато будет.
Он с досадой посмотрел на несъеденного Леонида Степановича и пошел к машине.
— Жду вас вечером на стационаре, — сказал он на прощанье.
Машина тронулась. Леонид Степанович посмотрел ей вслед и увидел, как ружейные стволы втягиваются внутрь: «ежик» лысел прямо на глазах.
Леонид Степанович побродил по лесу еще пару часов, больше никого не добыл и повернул назад.
В джунглях, окружающих деревню, птицы по-прежнему пели редко, зато постоянно слышались выстрелы: то сухие — американских винтовок, то гулкие ружейные, а то и автоматные очереди. Пальба шла повсюду: казалось, невидимые части ведут изнурительные позиционные бои. Объяснялась эта лесная канонада просто: за 30 лет практически не прекращающихся войн на вьетнамской земле скопилась масса разноплеменного огнестрельного оружия, начиная с французского и кончая китайским. Привычным элементом ландшафта было множество армейского металлолома, и в частности блестящих, не ржавеющих алюминиевых обломков сбитых американских самолетов.
Практически каждый житель деревни имел свой «ствол», при помощи которого он промышлял в джунглях. А так как в этой стране не было никаких правил и запретов на добычу дефицитного протеина, то стрельба велась круглосуточно и круглогодично.
Вдоль стен домов удачливых охотников на веревках гирляндами висели черепа добытых животных. Коллеги-териологи[1] пытались выпросить некоторые образцы для музея, но вьетнамцы, для которых эти кости служили талисманами, ни за какие блага (даже за новые туристские ботинки) не отдавали их.
Ценный белок промышляли не только мужчины, но и женщины. Утром, идя на прополку рисового поля, вьетнамки вешали за спиной небольшую глубокую корзину и по дороге или во время работы собирали туда мелкую живность: лягушек, улиток, рыбок, обитающих на мелководных рисовых чеках. А вечером из этого готовился ужин.
По мере приближения к деревне выстрелы стали чаще и громче: мальчишки, которым родители запрещали ходить далеко в джунгли, стреляли прямо у околицы.
Дорога спускалась прямо в ложбинку, на дне которой тек ручей. Автомобильная колея проехавшего «уазика» с профессором-звероловом пересекла водную преграду вброд, а для пешеходов был построен легкий мостик из трех стволов бамбука. На мостике, над заводью, стоял одинокий седеющий вьетнамец в шляпе-зонтике из рисовой соломы и с деревянным полированным изящным, как скрипка, арбалетом за спиной и задумчиво смотрел в воду.
Леонид Степанович, подходя к переправе, невольно залюбовался этой картиной, словно сошедшей с древней китайской гравюры: возвращающийся домой охотник на миг остановился в бамбуковой роще у прозрачного ручья. Некоторую дисгармонию в эту средневековую идиллию вносил потертый «Калашников», который вьетнамец держал в руках, но Леонид Степанович старался не обращать внимания на этот анахронизм.
Орнитолог подошел и поздоровался, сказав одно из двух ему известных вьетнамских слов — то, которое, как он надеялся, означало приветствие. Азиатский мечтатель оглянулся на Леонида Степановича, удивленным взглядом скользнул по его оружию и по перу аргуса и, видимо обрадовавшись появлению собеседника, хотя и белого, произнес на птичьем языке длинную, не лишенную ритма фразу, которую московский ученый принял за стихи. Вьетнамец при декламации воодушевленно жестикулировал, простирая руки над ручьем. Леонид Степанович, естественно, ничего не понял, но по достоинству оценил мелодический строй, правильный размер и сложную рифму современного Хюйена Куанга[2] и угостил его сигаретой из пачки, которую специально носил для таких случаев. Пиит закурил, но не успокоился. Он энергично произнес короткую хайку, все время кивая в сторону заводи, как будто приглашая Леонида Степановича купаться.
Орнитолог отрицательно замотал головой и отпрянул назад. Но упорный вьетнамец потянул его за руку и стал тыкать пальцем в прозрачную воду, указывая на дно омутка. Леонид Степанович ничего там не видел. Тогда раздосадованный слепотой европейского натуралиста вьетнамец с родного языка перешел на китайский (Леонид Степанович пожал плечами), потом на французский (этот вьетнамцу давался с трудом, чувствовалось, что французская колонизация закончилась давно) и завершил свою тираду этот полиглот джунглей на довольно приличном английском. Только тут Леонид Степанович разобрал единственно знакомое слово «фиш» — «рыба».
Наконец охотник, раздосадованный полной неграмотностью старшего научного сотрудника Академии наук, поднял потертый автомат, клацнул предохранителем и выпустил длинную очередь в воду, внеся свое стаккато в общую перекличку выстрелов. Вода в омутке вскипела, а когда успокоилась, на поверхность всплыла маленькая рыбка, изящными движениями которой и любовался возвращающийся домой путешественник.
— Фиш, — сердито сказал он Леониду Степановичу. — Литл фиш. — И, бережно повесив автомат на плечо, побрел к деревне.
Вскоре и Леонид Степанович добрался до стационара. Там ходил хмурый Рычев, не застреливший леопарда. За ним стайкой бегали успокаивающие профессора младшие научные сотрудники.
Садилось солнце. Вьетнамские коллеги-зоологи готовились к ужину: рубили дрова, носили воду, разводили костры, чистили котлы и автоматы. В седьмом часу стемнело, и сумерки наступили так быстро, словно в театре торопливый электрик поспешно дернул ручку реостата. Наступила ночь.
Умолкли дневные цикады, им на смену заголосили квакши, сверчки и кузнечики. Из-под бамбукового, крытого пальмовыми листьями навеса, сооруженного над обеденным столом, запел до отвращения знакомый всем сотрудникам стационара и ненавидимый ими ночной певец — геккон-токо. Каждую ночь с вечера до утра геккон тысячи раз произносил свое имя. Первый слог «то» проговаривался им сдавленно, как будто у животного возникали рвотные спазмы (именно за этот звук, плохо сочетавшийся со столовой, геккона и не любили). Зато вторую часть своего имени рептилия, словно облегчившись, произносила четко, по-американски оптимистично — «о'кей». В итоге у него и получалось его собственное имя: «то-кей».
В лесу замерцали светлячки. Засветились и ослепительные, голубого цвета, и тонкие, как лезвия шпаги, лучи фонариков, прикрепленных к пробковым шлемам вьетнамцев-охотников, которые двинулись в джунгли. Прямые, жесткие линии электрического света скользили во тьме, прерываясь стволами, ветвями и широкими листьями деревьев. Вскоре из леса послышалась стрельба: охота началась.
Серьезный промысел во Вьетнаме велся ночью. Это только мальчишки, эстеты-мечтатели да советские орнитологи палили днем. Настоящий же охотник шел по ночному лесу, светя из стороны в сторону мощным фонарем. И как только джунгли отвечали сдвоенным отблеском — красноватым, желтоватым, голубым или зеленоватым, охотник посылал туда пулю, целясь по глазам неведомого животного. Неведомого потому, что и сам стрелок подчас не знал, кто упадет с дерева или останется лежать на лесной тропе. Это мог быть и олень, и леопард, и вивера, и крыса, и домашняя кошка, и буйвол соседа: даже у опытных охотников случались такие казусы.
Но при тогдашнем дефиците протеина все считалось съедобным. «Не едят только тень от луны», — говорили в те времена вьетнамцы.
Леонида Степановича позвали ужинать, когда он при свете керосиновой лампы зашивал тушку нектарницы.
Стоявшее на столе угощение было довольно незамысловатым. Русская водка, вьетнамская самогонка-маниоковка, вареный рис и мясо.
Экспедиция интенсивно пила и закусывала. Лишь брезгливый Леонид Степанович, морщась от воплей геккона, ел своей вилкой только рис. Перед ужином орнитолог неосмотрительно подошел к котлу, в котором варилась дичина. Там из родниковой кипящей воды периодически всплывали и приветливо махали проголодавшемуся натуралисту совсем человеческие ручки: сегодня ночью охотники настреляли обезьян.
КАНИКУЛЫ НА ЮГЕ
— Вася, переодевайся, — сказал Трофим Данилович, мужчина в самом расцвете сил, с выдающимся носом и роскошной шевелюрой седеющих волос. — Скоро приедем.
С Трофимом Даниловичем ехали трое студентов биологического факультета. Молодые люди проявили себя на занятиях по зоологии и за это были награждены командировкой во время зимних каникул в один из заповедников Азербайджана.
И студенты, и их педагог за двухдневный путь в плацкартном вагоне успели прийти в себя после рутины педагогического процесса самого тяжелого осеннего семестра, от монотонных лекций, тяжеловесных семинаров, нудных в своей бесконечности лабораторных работ и, в конце сессии, от нелепых вопросов и идиотских ответов на экзаменах и зачетах.
Но все это было позади, и сейчас экспедиция готовилась к встрече со столицей республики. Сам преподаватель был изначально одет в практичный и невзрачный костюм, который одинаково плохо смотрелся и в поле и в городе. Женя, невысокий, слегка кучерявый студент с постоянно отведенными и сторону глазами и несомненными художественными способностями, вытащил из рюкзака чистые, вполне цивильные, но сильно жеванные брюки и такую же рубашку и переоделся, сменив потертый хлопчатобумажный тренировочный костюм.
Облаченная в яркий спортивный костюм Нинка, живая и непосредственная фаворитка Трофима Даниловича, тоже привела себя в порядок, сняв с поясницы кусок белого полиуретана — нехитрое приспособление, крепившееся на поясе бельевой резинкой и называемое на туристском жаргоне сидушкой. Приспособление позволяло его владельцу в походных условиях приземляться в любом месте. Для этого оно просто сдвигалось ниже поясницы. Нетерпеливая Нинка напялила сидушку уже в поезде. Однако перед Баку она вняла призыву своего руководителя. Перебирая и растягивая резинку, студентка опустила турнюр до пола и, переступив, освободилась от него.
Хотя она так и оставалась в тренировочном костюме, но все ее движения в момент снятия сидушки были настолько отработанно-интимными, что и Трофим Данилович, и попутчики-кавказцы жадно посмотрели на Нинку.
Лишь последний участник экспедиции, Вася Белкин, полноватый, близорукий и чуть заторможенный четверокурсник, уже успевший удивить орнитологическую общественность своими смелыми теориями о механизмах долбежки дятлов, смущенно засопел и сделал вид, что не расслышал доцента.
— Вася, переодевайся, — повторил Белкину начальник экспедиции. — Через час Баку.
Наступило тягостное молчание. Наконец Белкин произнес:
— А у меня больше ничего нет.
— Как нет ? — оторопел Трофим Данилович. — Я же в Москве тебе сколько раз говорил: два дня будем жить в городе, поэтому возьми с собой что-нибудь поприличней. Ну, раз у тебя ничего нет, — и Трофим Данилович с плохо скрываемой брезгливостью посмотрел на Белкина, — придется тебе в Баку все время дома сидеть. До самого отъезда в заповедник. Я тебя в таком виде в город не выпущу.
Наряд у Васи, что и говорить, явно не соответствовал столице солнечного Азербайджана. На ногах студента были старые резиновые сапоги. То, что они оказались дырявыми, Вася обнаружил только вдень отъезда и заклеил их клеем собственного изобретения, который, как выяснилось, свободно пропускал воду, но зато не сох, а по внешнему виду напоминал свежепролитый кефир. Дальше шли брюки военного образца. Судя по их состоянию, Васю демобилизовали прямо от бетономешалки (Белкин служил в стройбате). Еще выше наблюдался тонкий драный свитерок вишневого цвета. А вот что было под ним, не знал никто, так как Вася почти никогда не снимал одежду и только в крайнем случае — верхнюю. Последняя состояла из древней телогрейки, застегивающейся на единственную сохранившуюся под самым горлом пуговицу. Из других элементов Васиного наряда следует упомянуть захватанный треух, который в связи с отсутствием тесемок придавал хроническому трезвеннику Васе вид профессионального алкоголика.
Из Васиной амуниции заслуживала внимание полевая сумка, которую дятловед носил под телогрейкой на коротком ремешке под мышкой, на манер кобуры оперативных работников. Сумка была довольно упитанной: в ней хранился справочник по дятлам мира и восьмикратный бинокль. Поэтому казалось, что Вася стал обладателем уникальной боковой беременности.
Азербайджанский орнитолог Нусрат, старый друг Трофима Даниловича, хорошо принял московских гостей в своей квартире, несмотря на внешний вид Васи, который больше подходил к архангельской зоне, чем к субтропическому городу.
Нусрат, энергичный и кареглазый, отличался чрезвычайно маленьким ростом и связанной с этим гвардейско-петушиной выправкой. Жена у Нусрата была русская, но по-восточному неслышно-заботливая, появляющаяся именно тогда, когда это было нужно хозяину.
Вечером, по традиции кавказского гостеприимства, хозяева устроили праздничный ужин в честь московских коллег.
На пиру Вася берег свое здоровье и поэтому ничего не пил, хотя Нусрат, несомненно, знал толк в винах и коньяках. Дятловед тем не менее вредил своему организму тем, что слишком усердно налегал на еду. Он пододвинул к себе блюдо с малосольной каспийской сельдью-заломом и в один присест съел половину. Трофим Данилович, заметив это, галантно улыбнулся хозяйке дома и отодвинул блюдо на недосягаемое для Белкина расстояние. Однако Васе рыба так понравилась, что он, в то время как другие сотрапезники произносили тосты и чокались за советских и азербайджанских птичек, тоже приподнимался, но лишь затем, чтобы через весь стол вилкой дотянуться до заветного залома.
Но под вечер Трофим Данилович настолько расслабился, что не заметил, как Вася подкрался к селедке, после чего тарелка быстро покрылась горкой рыбных костей.
После выпитого коньяка Нусрата стала беспокоить сухость во рту. Он, вежливо прервав рассуждения Трофима Даниловича об уникальности ленкоранских зимовок водоплавающих птиц, потянулся было к полке, где у него для такого случая была припасена трехлитровая банка ткемалевого сока.
— А вот что хорошо утоляет жажду, — произнес Нусрат и взял банку. Но сосуд был пуст. Рядом в кресле сидел Вася и, сыто блестя маленькими глазами, читал «Вышку» — газету нефтяников.
Утром москвичи стали собираться на прогулку — посмотреть Баку. Вася, как всегда, надел через голову свою «боковую беременность», поверх — телогрейку, а на голову натянул треух. Нусрат и его жена молча следили за этими манипуляциями. И только когда Белкин потянулся к сапогам, азербайджанский коллега спросил:
— Вася, вы в этом хотите в город пойти?
Вася виновато взглянул на Трофима Даниловича и утвердительно хрюкнул.
— Вася, — мягко сказал Нусрат, — у нас в таком виде по городу гулять не принято. У вас есть еще что-нибудь?
Вася насупился и молча стал разглядывать носок своего сапога, обильно политого удивительным клеем.
— Я ему вчера то же самое говорил, — злорадно поддержал хозяина Трофим Данилович. — И мы условились, что он в этой своей телогрейке, сапогах и шапке будет дома сидеть.
— Ну зачем же так строго, — примирительно сказал Нусрат. — Мы ему что-нибудь сейчас подыщем. Юноше ведь тоже хочется посмотреть наш замечательный город.
В гардеробе у Нусрата оказался светло-бежевый костюм покойного дяди. Вася примерил его. Костюм фасона пятидесятых годов сидел хорошо. Вот только брюки были коротковаты: почти по колено. Но в шкафу не нашлось ни головного убора (от широченной кепки Вася наотрез отказался), ни, самое главное, обуви. Хозяин перерыл всю кладовку, но ничего подходящего там обнаружить не смог. Вася уже потянулся к своим заплеванным сапогам. Но Нусрат, видимо представив его в них на улицах любимого города, содрогнулся и достал с верхней полки последнюю картонную коробку. В ней оказались черные лыжные ботинки с широченными рантами.
Вся компания вышла из дома. Впереди в ботинках на высоченных каблуках, в белой гипюровой рубашке и строгом черном костюме гордо шествовал Нусрат. За ним следовала Нинка в броском тренировочном костюме и в усиленном варианте макияжа, далее шел незаметный в своем полевом наряде Трофим Данилович, Женя в уже отвисевшихся брюках и Вася Белкин в бежевой тройке. На углу в сувенирной лавочке Вася купил себе тюбетейку, но ни на узбека, ни тем более на азербайджанца походить не стал, зато неожиданно приобрел вид аккуратного еврейского мальчика. Гуляющая по бакинским бульварам публика, по всей видимости, так и воспринимала Васю, пока, не опустив очи долу, не усматривала коротенькие брюки, красные и чрезвычайно грязные носки и ластоподобные лыжные ботинки.
Вася же ни на кого не обращал внимания. Он периодически запускал руку к себе под мышку, извлекал оттуда бинокль и рассматривал бегающих по газонам черных дроздов.
Через два дня у Васи отобрали бежевый костюм, оставив на память о Баку лишь лыжные ботинки. А вечером того же дня студенты с преподавателем выехали на юг республики, на морское побережье Ленкоранской низменности, в заповедник.
Поезд туда ходил местный, а поэтому вагон был жесткий, грязный и холодный. В разбитое окно дул студеный ветер с Каспия. Нинка ежилась под его порывами и под взглядами полуночных джигитов, которые, проходя, улыбались (маслено — глазами и плотоядно — золотыми зубами) блондинке — редкому товару на границе с Ираном. Поэтому Трофим Данилович положил ее в самый дальний угол и прикрыл собственным телом. На периферии же начальник разместил малопривлекательных для любопытствующих вагонных экскурсантов Васю и Женю. Но через некоторое время обнаружилось, что дятловед пропал. Оказывается, замерзший Белкин подкупил проводника, и тот за злато пустил иноверца в свое теплое купе. Оставшиеся участники экспедиции, прижавшись друг к другу, дремали на жестких скамейках.
Разбудили их пограничники, проверяющие пропуска. Старший наряда взял паспорта и командировки со штампами, разрешающими въезд в погранзону, и улыбнулся заспанной Нинке. В коридоре за спиной лейтенанта, просматривающего документы, два солдата с автоматами прогоняли по вагону ночной улов — нищих, цыган, бродяг, у которых не было никаких бумаг.
Трофим Данилович похолодел от ужаса, когда увидел, что замыкает колонну военнопленных «беременный» Вася в шапке и в телогрейке. Белкин засопел и жалостно оглянулся на начальника экспедиции. Но солдат ткнул стволом автомата в мягкую спину путешественика, и дятловед покорно пошел вперед, вслед за толпой цыганок. Сна как не бывало — Трофим Данилович, отодвинув теплую студентку, помчался по вагону с криком:
— Отдайте его, это мой студент!
Молодой офицер был по-прежнему любезен, но тверд.
— Я этого гражданина из купе проводника вытащил. Он там прятался, неудачно маскируясь под туркмена, — разъяснил пограничник оперативную обстановку Трофиму Даниловичу, предъявляя отобранную у Васи тюбетейку. — Очень подозрительная личность! Паспорта нет, командировки тоже нет. — Вася забыл документы в Москве вместе с цивильной одеждой. — Говорит, что знает всех сексотов не только по именам, но даже называл их иностранные клички. А потом ходит в лыжных ботинках (а здесь снега сроду не бывает!) и в ермолке. — Лейтенант потряс тюбетейкой. — И называется Белкиным! Нет, его обязательно надо арестовать!
— Да это же мой студент, — заступился за Васю Трофим Данилович. — Он только немножко того. — И руководитель выразительно покрутил пальцем у виска. — На почве птиц. Дятлов.
— А я думал, это он мне о стукачах толкует, — сообразил лейтенант.
— Нет, нет, это он о птичках, — успокоил пограничника Трофим Данилович. — Он все время о них думает. Поэтому и такой рассеянный. Забывает и одеться и умыться. Вот и документы дома забыл. А тюбетейку эту он при мне в Баку купил, и ботинки эти ему там дали, — продолжал увещевать лейтенанта Трофим Данилович. — Но он мирный, мухи не обидит. Я за него ручаюсь.
— Допустим, это ваш студент, — продолжал расследование дотошный лейтенант. — Но фамилия! Я бы, конечно, отпустил, будь он, к примеру, Иванов или Петренко! Но ведь он называет себя Белкиным!
— Ну и что? — не понял педагог. — Белкин. Русская фамилия. От слова «белка». Еще Пушкин написал «Повести Белкина».
— Да он вовсе не Белкин, — настаивал пограничник. — Посмотрите на него, особенно когда он в тюбетейке!
— Ну даже если это так, что же тут плохого? — улыбнулся доцент офицеру, пораженному вирусом национализма. — Границу он здесь все равно переходить не будет. Не в Иран же ему бежать, к мусульманам!
— Эти люди везде хорошо устраиваются — и у христиан и у мусульман. Так что придется его задержать. Ничем не могу помочь.
Но недаром Трофим Данилович слыл златоустом на кафедре зоологии (правда, в основном в женских аудиториях). Но, вероятно, в чем-то психология военных сходна с психологией студенток, потому что через полчаса монолога доцента о пользе Васи Белкина, будущего академика и гордости советского дятловедения, лейтенант сдался, махнул рукой и, заставив Трофима Даниловича написать ручательство о том, что Вася не сбежит в Иран, крикнул в темный коридор:
— Константинов, привести задержанного Белкина!
Освобожденный сопящий Вася, успевший набраться у одного калеки вшей и от этого почесывающийся, направился было в теплое купе проводника, но Трофим Данилович загнал его на верхнюю полку, где тот, скребясь и ворочаясь, провел ночь. Сам же Трофим Данилович с чувством выполненного долга прижался к теплой Нинке.
Утром экспедиция прибыла в небольшой городок. Сквозь безлистые привокзальные тополя светило солнце и сияло небо. До автобуса, идущего в заповедник, было около часа, и преподаватель со студентами решили пройтись по поселку.
В благословенные времена застоя никто из студентов не предполагал, что в Советском Союзе могут быть такие уголки. В центре этого чудесного закавказского местечка студенты услышали стрельбу: молодой человек лет десяти от роду из огромной двустволки деловито расстреливал у каменного забора дюжину пустых бутылок. По улицам городка бродили знакомые только по картинам Пиросманишвили лоточники, которые поштучно торговали сигаретами. На многочисленных базарчиках пестрели вязанные из ковровой шерсти носки — джурабы, на прилавках лежали большущие, размером с дыню-колхозницу, скорее декоративные, чем пищевые, чрезвычайно толстокожие бугристые лимоны, ароматные талышские мандарины да электрические лампочки, продающиеся, как и куриные яйца, прямо из тазов. А еще на базарчиках продавались восточные сладости местного производства. Вася купил себе вишневой карамели. Конфеты были почти как настоящие: хрустящие, сладкие и пахнущие фруктовой эссенцией. Однако ленкоранским кустарям были недоступны пищевые красители, и губы у Белкина от акварели, щедро добавленной в конфеты, стали кровавыми, как у вампира, только что оторвавшегося от своей жертвы.
Восточный колорит чувствовался даже в таком сугубо утилитарном сооружении, как местный туалет. Крыша этого в общем-то совершенно прикладного сооружения была выведена высоким куполом в стиле средневековой восточной архитектуры.
Экспедиция, разобравшись по половому составу, вошла внутрь. Каково же было всеобщее удивление и замешательство, когда путешественники обнаружили, что зодчий, стараясь сохранить целостность восприятия купольного интерьера, установил лишь невысокую перегородку, разделяющую мужскую и женскую половины. Неизвестный мастер добился этим потрясающей акустики: сводчатый потолок многократно усиливал все, даже самые тихие звуки.
В городке была азиатская экзотика с криминальным оттенком. На улице к быстрее всех освободившемуся Трофиму Даниловичу подошел пацан возраста расстрельщика бутылок и отнюдь не конспиративным шепотом предложил морфию.
— Чего-чего? — не понял законопослушный преподаватель.
Малолетний торговец наркотиками достал из кармана крохотную ампулу, бережно сжал ее длинный носик двумя пальцами с очень длинными и чрезвычайно грязными ногтями и слегка постучал по герметическому сосуду. Внутри ампулы в прозрачной жидкости забегали пузырьки, преламывая красную надпись «Morphium».
— Нет, — нашелся оторопевший было Трофим Данилович. — Мне бы что полегче, попроще и подешевле. Анаши нет? — закончил он, напустив на себя вид бывалого наркомана, временно оказавшегося на финансовой мели.
— Анаша? — деловито переспросил продавец. — С собой нет. Через пять минут принесу. Стой здесь, никуда не ходи. — И коммивояжер со всех ног бросился на базу.
В это время из дверей средневекового купольного туалета вышли старательно отводящие взгляды Нинка и Женя и рассеянно застегивающий ширинку Вася. Трофим Данилович, оглядываясь, быстро увел студентов к автобусной остановке.
Через час они были в маленьком приморском поселке, на краю которого располагалась контора заповедника. Трофим Данилович, оставив студентов с рюкзаками во дворе, полчаса скрывался за дверью с надписью «Директор». Доцент вышел оттуда заметно повеселевшим и порозовевшим, держа в руках ключ от комнаты маленького общежития заповедника, располагавшегося тут же, при конторе, в соседнем здании. Экспедиция направилась туда. В апартаментах находились стол, стулья и всего три кровати. Трофим Данилович одну выделил даме, другую отдал Жене, а последнюю занял сам. Белкина же, в наказание за ужасный костюм, забытые документы и теплое купе проводника, положили на полу.
Оказалось, что они не являются единственными обитателями этого общежития. Соседняя комната была занята двумя очень тихими и робкими студентами Тимирязевской академии, тут же получившими кличку «мичуринцы».
На следующий день зоологи решили сходить на первую рекогносцировочную экскурсию все вместе. Хотя с утра над равниной висели низкие облака и иногда моросил мелкий дождь, но и преподаватель и студенты, радуясь тому, что педагогический процесс остался в далекой Москве, резво и радостно зашагали по заповеднику.
Едва зоологи отошли от конторы, как увидели кормящуюся на равнине стайку редчайших птиц — краснозобых казарок. Натуралисты решили подойти к ним поближе, но путь преграждали два ручья. Через первый был переброшен корявый ствол ивы с грубо обрубленными сучьями. Нинка, Женя и доцент безо всяких затруднений перебрались на другой берег и стали там ждать Васю. Тот, страдающий нарушениями вестибулярного аппарата, преодолел преграду своим способом. Дятловед сел верхом на ствол и, опираясь в него руками, стал, тяжело и неуклюже подпрыгивая, медленно продвигаться вперед.
Студентка опускала глаза, когда на Васином пути встречались торчащие вверх сучья, а Трофим Данилович наблюдал за Васиными эволюциями с восхищением, дивясь и завидуя высокому болевому порогу Белкина. Вася наконец перелез через ручей, почесался и, как ни в чем не бывало, пошел дальше.
Мост через второй ручей был нормальный — из трех бревен. Но без перил. Боящийся высоты Вася преодолел его другим способом: он встал перед ним, как перед святыней, на колени и, опираясь на руки и не поднимая глаз, быстро пополз вперед, торопясь присоединиться к уже наблюдающим в бинокли краснозобых казарок Трофиму Даниловичу, Нинке и Жене.
Москвичи целый день бродили по заповеднику. Ленкоранская низменность недаром издавна была выбрана профессорами университетов и пединститутов для проведения зимних студенческих полевых практик по зоологии. Приморский заповедник Азербайджана был настоящим Цаво и Серенгети союзного значения. Заливы Каспия были испещрены пятнами утиных стай, среди которых белыми и серыми облаками плавали лебеди и пеликаны. Заросшие тростниками каналы были буквально набиты лысухами, камышницами, пастушками, султанскими курицами, выпями и кваквами. На обширных, покрытых пожухлой буроватой растительностью приморских равнинах темнели табуны кормящихся гусей. С сизой от полыней и солянок невзрачной полупустыни иногда, вспугнутая сапсаном, лунем или орланом-белохвостом, снежной пургой взвивалась стая белокрылых стрепетов. В зарослях ежевики бродили шакалы, лисы, кабаны и фазаны, вечером из нор вылезали барсуки. У самого поселка паслись вполне домашние, но совершенно дикие на вид буйволы, на мелководьях плавали нутрии, сбежавшие с соседней зверофермы, медлительные водные черепахи и заблудшие сазаны, а у тайных браконьерских становищ лежали плохо спрятанные туши каспийских нерп. Так что зимняя зоологическая практика у студентов была то, что надо.
К середине дня погода не улучшилась, а Белкин стал уставать: особенности строения его нижних конечностей не позволяли дятловеду совершать длительные экскурсии. Поэтому Трофим Данилович отправил Васю в сопровождении Нинки и Жени домой, а сам решил сходить на дальний участок заповедника, на побережье, где зимой часто держались фламинго. Но на знакомом мелководье розовокрылые длинноногие птицы отсутствовали, зато там бродили длинноносые пегие кулички-шилоклювки. Трофим Данилович посмотрел на них и повернул назад.
Доцент решил вернуться более короткой дорогой, но слегка заплутал на ровных пасмурных пространствах Ленкоранской низменности.
К счастью, невдалеке маячил одинокий всадник, пасший десяток баранов. К нему-то и обратился за помощью Трофим Данилович, рассказав о том, кто он и куда ему нужно попасть.
Всадник покосился на бинокль, болтающийся на груди орнитолога, и на плохом русском языке растолковал, где находится поселок. Доцент поблагодарил азербайджанца и уверенно пошел в указанном направлении. Его путь вскоре преградил большой, около полукилометра в диаметре, тростниковый островок, расположенный в сырой низине.
Трофим Данилович решил не огибать препятствие, а пройти его насквозь.
Пробиваться сквозь частокол высоких сухих стеблей было нелегко, еще труднее было сохранять в шуршащих зарослях прямолинейное движение, но зато дорога, по мысли Трофима Даниловича, заметно укорачивалась.
Но вот преподаватель наконец миновал тростники и вышел на открытое место. Поблизости другой пастух пас своих баранов. Трофим Данилович, чтобы еще раз уточнить направление, подошел к нему, почти слово в слово повторил рассказ о своих скитаниях и наконец спросил, куда ему теперь идти.
По мере повествования доцента глаза пастуха округлялись, а рот открывался. Этот чабан был менее общительным субъектом, чем предыдущий. Вместо подробного объяснения он молча ткнул кнутовищем туда, куда следовало двигаться зоологу, и, пришпорив лошадь, ускакал, поминутно оглядываясь.
Трофим Данилович, раздумывая над странным поведением пастуха и досадуя на чрезмерную лаконичность его ответа, стал озирать окрестности.
Перед ним лежал еще один тростниковый островок, очень похожий на тот, из которого он только что выбрался. Точно такой же. Трофим Данилович еще раз присмотрелся к тростникам, а потом к своему удаляющемуся гиду. Наконец доцент понял, что и заросли, и всадник, и даже бараны были те же самые: Трофим Данилович все-таки потерял ориентацию в тростниках и, описав там полную окружность, вышел на того же самого пастуха, сильно озадачив его повторным вопросом.
Через полтора часа Трофим Данилович был у поселка. На околице маячили две фигуры. Трофим Данилович узнал «мичуринцев».
Студенты сельскохозяйственной академии уже издали стали кланяться, а при приближении Трофима Даниловича отошли в сторону и сняли шапки, как будто они были крестьянами, а доцент — скачущим на тройке боярином.
Из такого поведения ботаников Трофим Данилович сделал два вывода: «мичуринцам» очень не хотелось идти в общежитие, хотя и начинало темнеть. Кроме того, излишнее уважение, распространявшееся на педагога, явно исходило от его студентов. Нехорошее подозрение шевельнулось в душе Трофима Даниловича: в его отсутствие в общежитие пробрались местные джигиты и из-за девушки возник инцидент, от последствий которого и скрывались «мичуринцы». Преподаватель ускорил шаги. Так и есть: из окна их комнаты доносились какая-то возня, нестройные мужские крики и повизгивания Нинки — студенты и местные жители выясняли отношения: Уже взявшись за ручку двери, начальник экспедиции услышал почему-то музыку, диссонирующую с шумом драки. Он принял боевую стойку и ворвался в комнату.
За столом, заваленным дарами садов, огородов и виноградников Ленкоранской низменности, сидела раскрасневшаяся Нинка. Рядом с ней располагался источник музыки — молодой азербайджанец с таром. Он-то и выводил на четырех струнах национального инструмента балалаечные переборы, под которые Женя и еще один джигит, взявшись за руки, ритмично двигались. Действо, ими производимое, удивительным образом сочетало в себе раскованность полинезийских плясок и суровую сдержанность танцев черногорцев. По полу громыхали ботинки, слышалось залихватское уханье Жени, так напугавшее живших за стенкой робких «мичуринцев», и вскрики восторженной Нинки. Лишь Белкин не принимал участия в общем веселье. Он лежал на полу и листал свое пособие по дятлам мира. Под глазом у Васи наливался свежий синяк.
— А! — обрадовалась Нинка доценту, — идите к нам, Трофим Данилович! У нас весело! К нам вот гости пришли.
Музыкант отложил в сторону тар и вежливо встал перед доцентом. Второй остановился и отпустил руки продолжающего прыгать Жени.
— Гости-то гости, — произнес, постепенно успокаиваясь, Трофим Данилович, — а откуда у Белкина фонарь под глазом?
— А это он после ужина не вовремя лег спать, — жизнерадостно объяснила Нинка. — А потом проснулся, когда ребята решили сплясать, и приподнялся — посмотреть, что за шум. Вот его кто-то и задел. Ногой.
Празднества, орошаемые ленкоранским красным вином, продолжались несколько дней. Каждый вечер приходили знакомые пастухи-азербайджанцы, приносили бутыль «Изабеллы», свежий чурек, фрукты, а на десерт — варенье, и каждый вечер звучали тягучие восточные мелодии. «Мичуринцы» уходили за поселок, ученый Белкин забивался в угол, и веселье продолжалось допоздна.
Уже на вторую ночь Трофим Данилович сквозь тяжелый изабелловый сон услышал рычащих во тьме львов, ревущих медведей и воющих волков. Такое пригрезилось ему и на следующую ночь. Трофим Данилович встревожился: сновидения отражали и читаемый им курс зоогеографии, и приближение белой горячки. Поэтому педагог утром осторожно попытался выяснить, не слышали ли студенты ночью чего подозрительного.
— Слышала, — подтвердила Нинка.
— Рев и вой? — насторожился Трофим Данилович.
— Да нет, храп. Белкин храпит, спать не дает.
Но Трофим Данилович был опытным зоологом-полевиком и запросто отличал храп студентов от звуков, издаваемых хищниками.
— А мне волчий вой приснился, — тихо сказал педагогу Женя. — И вчера тоже снился. Я думаю, это от ихнего вина. Опасно его много пить, хоть и легким кажется, — подтвердил худшие опасения Трофима Даниловича студент.
Вечером доцент основательно уменьшил дозу. Но алкогольные фантомы по-прежнему преследовали его: во сне ему по-прежнему грезился далекий звериный рев.
Лишь на третий день Трофим Данилович успокоился, сходив в поселковый магазинчик за сигаретами. Поблизости от торговой точки он увидел несколько клеток с бесхвостым павлином, облезлым медведем-попрошайкой, сонным львом и скучающим волком: поселок осчастливил своим посещением передвижной зверинец.
А вечером пастухи в перерывах между танцами слушали, зачем сюда, в заповедник, приехали из самой Москвы эти симпатичные, но странноватые студенты с таким же преподавателем.
Успокоившийся и снявший ограничение на «Изабеллу», доцент так увлеченно рассказывал пастухам об уникальной реликтовой ленкоранской фауне, редких и охраняемых видах животных, что даже заворожил их.
На рассвете мотоцикл этих случайных слушателей факультативного курса по охране природы затормозил у общежития. Пастух, сидевший на заднем сиденье, перебросил через забор большой пакет из плотной бумаги.
— Наблюдайте, пожалуйста, — вежливо сказал музыкант, — только больше ничего нету, улетели все куда-то, — виновато добавил он.
«Урал» развернулся и умчал пастухов к стаду. Трофим Данилович распаковал сверток. Там лежал почти весь набор птиц, упоминавшихся во вчерашней лекции: пара малых бакланов, мраморный чирок и султанка.
— Хорошо, что я им не успел рассказать про стрепетов, дроф, сапсанов и краснозобых казарок, — мрачно пробурчал доцент, начиная обрабатывать драгоценный материал.
В маленькой гостинице при конторе заповедника благодаря стараниям практикантов медленно формировался комнатный зоопарк. Студенты тащили домой всякую найденную живность. Но больше всего там было птиц.
В паутинные сетки, развешанные доцентом в кустах у общежития, попадались скворцы, зарянки, овсянки и синицы, а иногда и более крупная добыча — соседские собаки и буйволы. Собаки оставляли после себя огромные дыры, а буйволы просто выдирали сеть и долго гуляли с нею на рогах. Часть плененной пернатой мелочи окольцовывалась и отпускалась на волю. Зарянок и синиц Трофим Данилович, известный птицелюб, рассаживал по маленьким клеточкам с намерением довезти живыми до Москвы.
На гигантских зимовках пернатых, согласно правилам статистики, закону больших чисел и теории вероятности, всегда попадались птицы, утратившие способность летать: ослабевшие, больные, истощенные или замерзающие утки, гуси, лысухи и чайки. Они становились добычей не только луней, орланов, лис и шакалов, но также и орнитологов.
Большим специалистом по добыче таких нелетных птиц был шустрый Женя. Однажды Нинка стала выспрашивать охотника, почему ему так везет и как он ловит птиц.
— Руками, — отвечал Женя.
— Врешь, ты, наверное, их сеткой ловишь, как Трофим Данилович, — не верила пытливая студентка.
— Да нет, не сеткой, а просто руками, — упирался Женя. — Но при помощи особой методы. Вот, хочешь — заказывай, завтра любого кулика принесу.
— Ну, тогда, — и Нинка задумалась, перебирая в уме встречающихся здесь зимой куликов, — принеси турухтана!
У Жени екнуло сердце: конечно же у него не было ни сетки, ни заветного способа. Он почувствовал, что попался. Но вскоре успокоился, решив, что утро вечера мудренее. Вдруг завтра погода испортится, и ненастье спишет все неудачи. А может, Нинка, как всегда, чем-нибудь увлечется и забудет о своем заказе. Но у него есть целые сутки, чтобы придумать отговорку.
Однако на следующий день погода была отличной. По-апрельски синело небо, дул слабый ветерок, а солнечные лучи вызолотили сухие тростники, оживили темную зелень ежевики и заплясали на невысоких волнах залива.
Женя вернулся под вечер. Дежурившая в тот день Нинка поставила перед ним миску с супом, положила ложку и хлеб. Студентка села рядом и стала нетерпеливо ерзать, показывая этим, что не забыла о вчерашнем уговоре. Женя выждал паузу, отхлебнул из миски и только потом, будто вспомнив, небрежно произнес:
— Ты, кажется, вчера турухтана просила. — И он вытащил из рюкзака полотняный мешочек, в котором что-то трепыхалось. — Я двух штук принес. Больше ловить не стал: это довольно утомительное занятие.
Жене в этот день чрезвычайно повезло. На границе заповедника резвились охотники, которые и оставили после себя множество подранков, в том числе и куликов, бегающих по берегу Каспия. Была среди прочих и пара турухтанов, которых и принес Женя.
— Ну давай, выкладывай, в чем твоя метода, — поверила наконец Нинка.
— Так и быть, тебе откроюсь. Только ты никому не говори!
— Хорошо, хорошо, — успокоила его Нинка.
— Все на самом деле очень просто, — начал Женя. — Некоторые куличные стаи летят сюда, в Азербайджан, с другого берега Каспия, из Казахстана и Туркмении. Ну и, конечно, очень устают во время перелета. На этом и основан мой метод. Ты затаиваешься на берегу и дожидаешься прилета вот такой стаи. И когда кулики попытаются сесть на землю, надо подбежать и вспугнуть птиц, не дать им приземлиться. Большая часть из них конечно же улетит, но самые утомленные так и посыплются на землю. Останется выбрать птиц нужного вида. Но, конечно, придется побегать: ноги-то у них во время перелета не устают! Можешь попробовать сама, только никому не говори!
Нинка была хорошей девушкой, доброй, хозяйственной и в меру умной. Она имела всего один недостаток (он же — достоинство): безотчетно верила мужчинам. Так поступила она и на этот раз, забыв, что уже сдала экзамен по зоологии позвоночных.
Поэтому наутро хорошо замаскировавшийся Женя с удовольствием наблюдал, как грациозная тогда еще Нинка прыгала, словно косуля, сверкая белым полиуретановым турнюром, по пляжу и на манер голубятников палкой пугала подлетающие стаи куликов. Птицы с недоумением смотрели на нее и, озадаченные таким приемом на азербайджанском берегу, перелетали метров на сто в сторону. Но неугомонная Нинка сгоняла их и там.
Студентке удивлялись не только кулики. На берегу появился доцент. Увидя его, охотница вошла в еще больший раж.
— Трофим Данилович! — заорала она любимому педагогу. — Сейчас мы с вами куликов наловим. Мне Женька методу открыл. — Она с палкой металась по пляжу. — Помогайте! Не давайте им садиться! Гоните их! Только не давайте им садиться!
Трофим Данилович еле успокоил возбужденную студентку. Сдвинув ей сидушку на положенное место, он усадил раскрасневшуюся Нинку на сухую кочку и напомнил ей экзамен по зоологии, на котором она отвечала ему, что кулики совершают почти беспосадочные перелеты из Евразии до Африки и Австралии. А это расстояние больше, чем ширина Каспийского моря.
Нинка дулась на всех, особенно на любимого доцента, полдня, потом решила отомстить. Естественно, с помощью того же Жени.
На следующий день после обеда, когда насытившийся Трофим Данилович и Женя легли на раскладушки, а Белкин устроился на полу, студентка, отлучившись во двор, быстро вернулась, чем-то взволнованная.
— Трофим Данилович! — воскликнула Нинка. — Там какая-то неизвестная птица сидит!
Трофим Данилович, который в этот заповедник ездил более десяти лет, на этот возглас отреагировал спокойно: все птицы ему здесь были хорошо знакомы.
— Нина, — произнес преподаватель, глядя сытыми глазами на студентку, — ты ведь почти квалифицированный орнитолог, если, правда, не считать твое недавнее пугание куликов. (Нинка прикусила губу.) И ты должна всех здешних птичек уже выучить, — настоятельно продолжал педагог. — Ну, что ты там видела? Давай описывай, сейчас определим. — И Трофим Данилович прикрыл глаза.
— Сверху она синяя, — точно на экзамене, начала перечислять полевые признаки Нинка. — Клюв большой.
— Зимородок, — сказал погружающийся в послеобеденную дремоту Трофим Данилович. — Сколько раз я тебе их показывал, а ты опять забыла. Зимуют они здесь. Обычные птицы.
— Я сама знаю, что зимородок, — прервала его Нинка. — Только размером он с голубя.
— Что?! — встрепенулся Трофим Данилович, открыл глаза и привстал.
— Да! — продолжала Нинка. — И голова и брюхо коричневые!
— Где?! — закричал Трофим Данилович, хватая ружье, бинокль, патронташ и сапоги.
— И хвост длинный! Голубой сверху, бурый снизу, — как по написанному шпарила Нинка.
— Где?! — Педагог, забыв про сапоги, бросился к двери, на ходу заталкивая патроны в стволы.
— И на груди белое пятно! — торжествовала студентка.
— Где?! — уже со двора раздался крик доцента.
— Сразу же за сараем! Вы его увидите! Он на кусте сидит! И клюв красный! — крикнула она в окно вслед убегающему преподавателю. — Пошли, Женя, посмотрим, как он охотиться будет, — уже спокойно обратилась она к своему приятелю.
Трофим Данилович тем временем достиг домика и осматривал куст в бинокль. Мельком взглянув на сидевшую там птицу, он опустился на четвереньки и стал к ней подкрадываться.
Нинка злорадно следила, как Трофим Данилович передвигается между кучами сухого буйволиного помета.
А преподаватель не отрываясь смотрел на желанную добычу. Он сразу же по описанию студентки узнал птицу. Это был красношейный зимородок — редчайший вид, прилетающий сюда с юга. Их добывали на территории Азербайджана дважды: в конце прошлого и в начале этого века. Трофиму Даниловичу очень хотелось, чтобы кафедральная орнитологическая коллекция пополнилась этим третьим экземпляром. Доцент наконец подполз на подходящее расстояние, поднял ружье, тщательно прицелился и выстрелил. В правом стволе патрон оказался дефектным — птицу «обнесло» дробью. Трофим Данилович торопливо выстрелил из другого ствола. Из-за спешки он промахнулся. Но, к счастью, птица и на этот раз не улетела. Трофим Данилович лежа быстро перезарядил ружье и выстрелил дуплетом. Зимородок все так же неподвижно сидел на ветке. Недоумевающий преподаватель снова потянулся к патронташу. Но тут подул ветерок, и четырехкратно расстрелянный Трофимом Даниловичем, тщательно перерисованный Женей и аккуратно вырезанный Нинкой из бумаги контур птицы согнулся пополам. Трофим Данилович кряхтя поднялся, обернулся и погрозил кулаком хохочущим студентам.
После нескольких совместных экскурсий участники экспедиции распределили между собой роли: Женя вольным охотником бродил по заповеднику, Трофим Данилович с Нинкой углубились в изучение птиц тростниковых зарослей, а Белкин дни напролет наблюдал за куликами. Вася, не найдя в прилегающей к Каспию полупустыне ни одного полноценного дерева, а в связи с этим — ни одного дятла, слегка приуныл, но воодушевился, когда ему показали куличков-чернозобиков.
Длинноклювые птички напомнили ему любимых дятлов, и он с удовольствием стал наблюдать за этим орнитологическим суррогатом. Белкин выходил на илистое побережье Каспийского моря, садился на раскладной алюминиевый стульчик и смотрел в стоящую перед ним на треноге сорокакратную зрительную трубу на чернозобиков. Исследователь тщательно хронометрировал, кто из них сколько бегает, спит, дерется с соседом, кормится или, наоборот, занимается противоположным процессом.
А студенты с доцентом, в свою очередь, иногда приходили на берег Каспия — понаблюдать за Белкиным.
Плотная фигура восседала на хилом стульчике. Его тонкие алюминиевые ножки медленно погружались в ил, и субтильное седалище кренилось под тяжестью Васи. Исследователь при этом, по-черепашьи вытягивая шею, пытался дотянуться до окуляра зрительной трубы.
Наконец наклон становился совершенно невыносимым. Вася еще несколько минут чудом, как Пизанская башня, сохранял равновесие. Наконец физика брала свое, и он боком с глухим всплеском падал в сметанообразный ил.
Чернозобики после этого некоторое время находились в замешательстве. Кормежка и сон этих занимательных птичек прекращались. Но кулички, привыкнув к методам наблюдения безобидного дятловеда, быстро успокаивались и снова принимались за свое.
А Вася, полежав немного, со вздохами и сопениями поднимался, переставлял стульчик и треногу на метр в сторону и снова прилипал к окуляру. От такой манеры вести исследование весь берег был покрыт бесформенными неглубокими ямами и множеством маленьких круглых отверстий, как будто здесь проскакало стадо газелей, а потом вывалялся в грязи косячок кабанов.
— Вот пример научного подвига, — наставительно говорил доцент, и все расходились по своим делам.
Некоторые наблюдения Белкина за птицами заканчивались не столь благополучно. Прошлой зимой Вася в одиночку подался в Карпаты, чтобы изучить, как тамошние дятлы расправляются с еловыми шишками, раздалбливая их в так называемых «кузницах» — трещинах в стволах или развилках деревьев. И Белкин в хороший февральский морозец ежедневно простаивал несколько часов под такой «кузницей», подсчитывая число ударов, которые совершает объект исследования, добывая из шишки семена.
На кордон лесничества, куда его поселили доброхоты, орнитолог возвращался поздно и, наскоро попив чаю и откусив от круга карпатской колбасы, ложился спать, как всегда для экономии времени не раздеваясь.
Через две недели он, досконально изучив детали препаровки карпатскими дятлами еловых шишек и исписав по этому поводу целую кипу бумаги, стал выбираться в Москву.
В Ужгороде он купил билет на поезд, отходящий следующим днем, а на ночлег остановился в привокзальной гостинице. Вася расположился в номере, пожевал колбасы и залез под душ. Там его слегка удивило одно обстоятельство. Когда он мыл ноги, большой палец на правой ступне стал отваливаться. Размышляя о странном поведении своей конечности, Вася покинул душевую, оделся и пошел в ближайшую больницу. Там он поделился своими наблюдениями с местным хирургом.
Молодой врач осмотрел его удивительный палец и в изумлении присвистнул:
— Так ты же его начисто отморозил. Дней десять назад! Как же ты это не заметил? Ты что, все это время сапоги не снимал?
— Снимал, — стал оправдываться Вася.
— Ну тогда носки уж точно не снимал!
— Носки не снимал, — согласился дятловед.
— Но ведь палец-то должен был сильно болеть!
— Вроде не болел, — отвечал Вася.
— Ну, парень, ты даешь. Ты ведь просто уникум! О тебе статью напечатать можно! У тебя не только очень высокий болевой порог, но еще и потрясающая иммунная система! Позавидовать можно. У другого давно бы гангрена началась, а тебе хоть бы хны! Как будто это вовсе и не твой палец. Прямо не человек, а робот! Терминатор! Операцию придется делать, палец ампутировать, — деловито добавил местечковый эскулап.
— А у меня завтра поезд. В три часа.
— Успеешь на свой поезд. Мы его быстро отрежем. Чик-чик — и готово! Я думаю, и наркоз делать не надо, раз ты и не заметил, как его отморозил, — пошутил хирург.
— Давайте режьте без наркоза, — не понял шутки Вася. — Мне самое главное — на поезд не опоздать.
В Москву дятловед прибыл уже без пальца.
Белкин с детства был увлечен дятлами. Когда он встречал их, то забывал обо всем. Увидев в лесу длинноклювую пеструю птицу, стремглав бежал за ней, торопливо на ходу записывая в блокнот все ее действия. Он внимательно расследовал, куда и зачем полетел дятел, как долбит дупло, какую добычу выковыривает из-под коры. Дятлами Вася продолжал заниматься в институте. Именно здесь во время летней полевой практики случилось событие, повлиявшее на Васину физиологию.
Студенческая группа шла по лесу. Преподавательница была пожилой женщиной, поэтому путешествие начиналось не рано, а когда солнце разгоняло утренний туман, столь вредный для застарелого ревматизма. По этой же причине преподавательница двигалась медленно.
Порхали бабочки, пели птички, начинала краснеть земляника. Девушки были в легких сарафанчиках и купальниках, чему радовались Вася Белкин — единственный мужчина в группе — и комары. Так неторопливо они шли до одного пенька, на котором грелась гадюка. Зоологи ее заметили и решили взять с собой. Сначала рептилию согнали с насиженного места на зеленый мох, а потом Вася наступил на нее сапогом. Прижатая змея бросалась на сапог, и на голенище появлялись влажные следы ядовитых зубов.
Вася прижал голову гадюки к земле палочкой, а потом взял змею за шею. Девушки испуганно и восхищенно охали. Далее следовал важный момент упаковки животного. Васе дал и банку с крышкой. Он запихал туда змею грамотно: начиная с хвоста. Одна из студенток решила помочь Белкину и стала придерживать голову рептилии длинным пинцетом. Но помогала она плохо, все время отвлекаясь на комаров. Поэтому змея выскользнула и тяпнула Васю за палец.
На этом зоологическая экскурсия по лесу закончилась, и началась борьба за жизнь студента. Ему перетянули укушенный палец веревочкой, но Белкин все равно стал бледнеть. Не нужная никому теперь змея, сделавшая свое дело, уползла в траву.
Студентки и причитающая преподавательница, которой уже мерещилась свежая могила Васи и скорый суд над ней самой, довели отключающегося змеелова до ближайшей автомобильной дороги. Бедный Вася к тому времени покрылся обильной испариной, совсем ослаб и сел на обочину. Студентки стали «голосовать» машинам. Остановился огромный самосвал. Симпатичные полураздетые девушки объяснили водителю ситуацию, и он с готовностью согласился помочь человеку. Вася и одна из студенток погрузились в кабину. Самосвал тронулся, и только тогда Васина спутница заметила (сам потерпевший от гадюки уже ничего не замечал и только постанывал с закрытыми глазами), что водитель был навеселе. Из монолога шофера выяснилось, что до пожизненного изъятия прав у него остался всего один прокол. Но шофер клялся, что на это обстоятельство он внимания обращать не будет, раз речь идет о жизни человека, и постарается сделать все возможное, чтобы побыстрее доставить пострадавшего в больницу.
Слово свое водитель держал: тяжелый самосвал на огромной скорости несся по осевой линии, а все встречные машины испуганно жались к обочинам. Так они быстро докатили до районного центра.
Специального отделения для покусанных змеями в небольшой больнице не было, и бессознательного Васю за неимением другого свободного помещения положили туда, где были свободные койки, — в предродовое отделение. Там ему, окруженному женщинами, старающимися стать матерями, ввели противозмеиную сыворотку и что-то еще, и Вася заснул. А для того чтобы гадючий яд побыстрее удалялся из организма, Белкину поставили капельницу.
Наутро Васе стало лучше. Он быстро освоился, стал крутить головой, бесцеремонно рассматривая беременных женщин и этим затягивая роды.
Главврач, заметив дурное влияние поправляющегося студента, изолировал его, переведя в освободившееся реанимационное отделение.
Вася много спал. А так как сон его от близкого соседства женщин стал беспокойным, Белкин упросил медсестер, чтобы они его на время привязывали к кровати, дабы игла случайно не выскочила из вены и капельница беспрерывно могла освежать отравленную кровь.
Тем временем прекрасная половина Васиной группы решила его навестить. Все переживали за Белкина, особенно совесть мучила виновницу происшествия.
Через три дня после инцидента в районную больницу явилась делегация. Медсестра повела студенток в палату, на дверях была надпись «Реанимация». Там в большой белой комнате на кровати лежал одинокий Вася с запрокинутой головой и закрытыми глазами. Два жгута из скрученных простынь удерживали его тело на койке. Картина была мрачная, как в покойницкой. Лишь солнечный лучик играл в капельнице, из которой живительная влага поступала по резиновой трубке в локтевую вену Васиной левой руки. Сокурсницы от этой картины впали в тоску, одна даже перекрестилась. Но тут медсестра бесцеремонно растолкала Васю, развязала простыни и вытащила иголку.
Подруги Белкина увидели, что он жив и почти здоров. Больше всех радовалась девушка, натравившая змею на Васю. Она виновато, но с легким кокетством поинтересовалась, какая ее ожидает кара за оплошность.
— Изнасилую, — пообещал потягивающийся Вася обрадованной девушке.
Именно после этого Вася полностью сосредоточился на дятлах и стал писать о них обширные статьи. У него также испортилось зрение, начались сбои в вестибулярном аппарате, он перестал ориентироваться на местности и стал бояться спать один и без света.
Зная об этих физиологических дефектах Белкина, добрый Трофим Данилович каждое утро назначал ему поводыря из студентов, который после завтрака должен был отвести Васю до чернозобиков, а в урочный час к обеду и ужину пригонять его домой.
Однажды вечером нерадивый Женя, ответственный за Васин привод, забыв о своих обязанностях, сбежал куда-то в окрестную полупустыню понаблюдать за стрепетами.
Как обычно, пришли пастухи, принесли вина и свежего овечьего сыра. Нинка стала накрывать на стол. Темнело, и доцент отправился за Васей сам. На окраине поселка он увидел азербайджанку, которая вышла из дома и направилась к сараю, стоящему на другой стороне дороги. В это время из-за поворота на нее стала надвигаться человеческая фигура. Руки у фигуры были подняты, как лапы у насекомого, называемого богомолом, в глазах поблескивали голодные огоньки. Ночной тать, раскачиваясь, медленно брел по дороге. Женщина, испуганно взвизгнув, бросилась в дом. Не обращая внимания на близкую жертву, монстр продолжал двигаться к конторе заповедника.
Любопытство натуралиста пересилило природную осторожность Трофима Даниловича, и доцент выглянул из-за сарая, куда он благоразумно укрылся. Преподаватель несколько секунд всматривался в раскачивающуюся фигуру, а потом смело шагнул навстречу чудовищу. Это был Вася. При вечернем освещении у него совсем отказали колбочки — элементы сетчатки, обеспечивающие сумеречное зрение, и изголодавшийся дятловед, посапывая, покачиваясь и раскинув руки, чтобы ни во что не врезаться, брел на запах экспедиционного ужина.
С его носорожьей телогрейки с шорохом отваливались куски высохшего ила.
Трофим Данилович довел Белкина до ворот конторы. Разглядев знакомое освещенное окно общежития и услышав шум голосов и звуки тара, Вася наконец сориентировался, всхрапнул и резвой рысью бросился к двери. А Трофим Данилович остановился, достал папиросы, закурил и огляделся.
Солнце село. Над горизонтом тянулись неровные нити летящих бакланьих стай. Несуразный, как птеродактиль, пролетел одинокий пеликан. Из тростников хрипло закричала султанская курица, а из окна общежития послышался смех Нинки, увидевшей вошедшего Васю.
Трофим Данилович вздохнул: до начала занятий в институте оставалась неделя.
БЛОХА
Утром Вова вылез из палатки — полупрозрачного эфемерного сооружения, сшитого из парашютного шелка, имевшего нежнейший салатовый оттенок женской комбинации и украшенного редким крапом раздавленных комаров. На Вове были меховые носки из оленьей шкуры (память об экспедиции на Чукотку) да алые трусы. В таком виде он добрел до потухшего костра, сгреб в кучу несгоревшие корявые ивовые ветки, набросал щепочек и чиркнул спичкой. Белый дым сначала поднялся вверх, потом снизился и поплыл над соседним озерком, провоцируя рождение тумана. На холмике на фоне голубого просвета в облаках чернел неподвижный силуэт облезшего летнего песца, наблюдавшего за Вовой.
Вова умылся, оделся, сварил в котелках сладкую рисовую кашу на сухом молоке и чай, позавтракал и пошел на работу. На островке соседнего озера гнездились утки-морянки. Вова взял коробку из-под сухого финского молока, отвернул голенища болотников и побрел на островок за добычей — пополнять коллекцию зоологического музея.
Колонию морянок охранял объект его давней дипломной работы, которую Вова выполнял на Чукотке: с мыска навстречу орнитологу с гнусавым криком поднялся поморник. Чем ближе подходил коллекционер к островку, тем яростнее налетала птица. Ступив на твердую землю, Вова обнаружил и причину его агрессии: у кочки сидели два пушистых серых птенца. Когда Вова кольцевал их, атаки родителей достигли апогея: птицы, с шумом рассекая крыльями воздух и громко щелкая клювами, проносились прямо над его головой. Вова положил птенцов на место и пошел дальше.
Страсть к птичьим гнездам, яйцам и птенцам Вове привили участники давней советско-голландской орнитологической экспедиции на Чукотку.
Саша, начальник маленькой международной экспедиции по северо-востоку СССР, со вздохом отколупал от огромного монолита сладкой рисовой каши еще одну ложку и, морщась от отвращения, стал медленно жевать, для смазки запивая еду сладким чаем. Причиной отсутствия аппетита у Саши был его студент, Вова, который клинически любил сахар. Сначала он съел весь конфитюр голландца (на упаковках лакомства заморская фирма с гордостью сообщала, что в ее продукте содержится сахара на 12% меньше, чем у конкурентов). Но даже это не остановило прожорливого Вову, и он с присущей ему бестактностью ежедневно, пугая иностранного гостя своим английским языком, заставлял доставать заветную баночку, которую и пожирал один. Вова был очень строптивым подчиненным. Он вплотную занялся своей дипломной работой, посвященной поморникам, и целые дни проводил в тундре, оставляя Сашу, начальника экспедиции, со странноватым голландцем и залежами сладкой каши, которую Саша терпеть не мог. На все прозрачные намеки начальника, что хорошо бы было открыть банку тушенки из непочатого еще ящика и сварить кашу с мясом, Вова неизменно отвечал:
— Ты любишь кашу с тушенкой — ты и вари сам, а я люблю, — и Вова делал акцент на последнем слове, — сладкое и кашу буду варить на сгущенном молоке.
Именно поэтому у Саши уже на вторую неделю полевой жизни развился диатез, грозящий перерасти в диабет. Сам же начальник готовить просто физически не успевал, а голландец не умел. Саша одновременно должен был ублажать иностранца, потому что тот был спонсором экспедиции, и руководить дипломной работой строптивого студента. Кроме того, Саша вел тщательные наблюдения за куликами — объектом своей кандидатской диссертации. И наконец, он собирал материал в зоомузей, помня о директрисе, которая, как финикийский Ваал, требовала все новых жертв в качестве тушек или, по крайней мере, яиц представителей пернатого царства.
Саша стрелял будущие экспонаты зоологического музея и собирал кладки птиц подальше от лагеря. Там же, в тундре, он их препарировал. Разрешение на отстрел у него было, однако их спонсор был просто помешан на охране природы.
Это обнаружилось в первый день их экспедиционной жизни. Тогда Саша застрелил кулика-песочника прямо у балка[3]. Голландец мгновенно помрачнел, но ничего не сказал, видимо решив не портить скандалом первый день полевых работ. А на следующую ночь к ним из тундры пришел молодой глупый волк и хулиганства ради стал обгрызать растяжки палатки, в которой хранилось не уместившееся в балке барахло, и подкапывать дощатый нужник. Саша, услышав хруст волчьих челюстей, схватил одностволку и выбежал наружу с намерением проучить вредителя казенного имущества. Орнитолог уже поднял ружье, но вдруг перед ним на мушке оказался не волк, а голландец в нижнем, естественно голландском, белье. Он встал между Сашей и испугавшимся, поджавшим хвост волчонком, грудью прикрыл хищника, крича:
— Ред бук, ред бук!!!
На родине энтузиаста охраны природы эти животные были давно внесены в Красную книгу.
Истребитель волков опустил ружье, со злостью посмотрел на спонсора, поднял с земли бутылку, брошенную здесь предыдущими жильцами, запустил ею в хищника и пошел в балок досыпать.
Скоро Саша еще раз рассердил представителя этой маленькой, но цивилизованной страны.
В этот день студент, готовящийся в балке к походу в тундру, услышал восклицания находящегося снаружи голландца. Вова ничего не понял из иностранных криков, но в них был такой неподдельный восторг футбольного болельщика, восхищающегося превосходным проходом любимого форварда, что дипломник, отложив на время поиски штангенциркуля, быстро покинул балок.
Голландец орал не зря. Было на что посмотреть. Метрах в пятидесяти от жилища, на гравийном берегу небольшой речушки, с эксцентричным номером выступал Саша. Он был в своей обычной тундровой одежде: брезентовых штанах, шлеме танкиста и резиновых сапогах. В руках он держал большой энтомологический сачок. Его сольный номер можно было принять за импровизацию — пантомиму на тему «Коррида» либо за современную авангардную балетную композицию «Большой теннис». Саша то плавно поводил сачком-мулетой, стремительно вращался на одном месте, делая правильную «веронику», то, мгновенно сменив сюжет, не без изящества прыгал и сторону и сачком, который уже превращался в ракетку, брал у самой земли трудный мяч.
Наконец Саша, припав на одно колено, взмахнул рампеткой[4], опустил дугу сачка на землю и замер, стоя на коленях в картинной позе. Пантомима закончилась. Видно было, как Саша, отдуваясь, встает и, сжимая что-то в полотнище сачка, корявой, отнюдь не балетной походкой бредет к зрителям.
Голландец и Вова с интересом посмотрели на Сашу, у которого после выступления еще блестели глаза, а потом заглянули в сачок. Спонсор насупился: там сидел маленький пушистый птенец куличка-галстучника. Птенец был настолько удачно окрашен под цвет гравия, что его невозможно было рассмотреть даже вблизи. Вот почему ловля Сашей резвого куличонка издали представлялась набором сложных танцевальных па.
Насупленный голландец ревниво проследил, как Саша, промерив, взвесив и окольцевав птенца, отнес его обратно на пляж. Но по всему было видно, что иностранец не одобряет такие методы биологических исследований.
После этого случая даже Саша уразумел, что с коллекционированием птиц у него возникнут трудности. Он старался стрелять их подальше от лагеря. А у стационара орнитолог проводил только наблюдения за своими куликами. Он измерял их яйца, а если находил птенцов, то кольцевал их. Для кольцевания взрослых птиц приходилось применять специальные ловушки — лучки. Однако голландцу, зорко следившему за Сашей, иногда удавалось найти его лучки. Тогда спонсор ломал орудия советского орнитолога. Все это угнетало Сашу. А беззаботный студент никак не хотел вникать в сложности его жизни. Он вольно гулял по тундре, наблюдая за поморниками, и полнел на сладких кашах.
Саша ходил грустный еще и потому, что недавно произошла трагедия, виновником которой стал он сам. Третьего дня Саша ушел в дальний, за двадцать километров, поход к морскому побережью. Там на песке у самых волн он увидел кормящуюся стайку берингийских песочников. У лагеря гнездилась единственная пара этих редких куличков. Саша вел за ней скрупулезные наблюдения и, несмотря на слежку голландца, умудрился поймать и окольцевать их. Эта пара была неприкосновенна даже для Саши. В зоомузее же берингийских песочников не было. Поэтому здесь, на морском побережье, орнитолог, наслаждаясь полной независимостью от голландца, с удовольствием выстрелил по стае. На песке осталась лежать всего одна птица, остальные с писком улетели. Каково же было горе Саши, когда он, подобрав песочника, обнаружил на его худосочной цевке кольцо, которое сам же надел ему несколько дней назад. Полмесяца наблюдений за гнездом малоизученного вида пошли насмарку.
— Ну что же, — сказал бесчувственный студент, доедая миску гречневой каши, обильно политой сгущенкой, когда Саша вечером, придя из похода, поведал Вове о своем несчастье, — теперь ты можешь в своей статье напечатать, что берингийские песочники летают на кормежку за двадцать километров от гнезда. — И тут же, забыв о начальнике, обратился к голландцу с единственным словом, которое он знал по-английски: — Джем! Джем!
Но природа, видимо, решила компенсировать Саше орнитологические утраты, моральный ущерб, наносимый голландцем, и однообразность питания. Погода, по мнению орнитолога, налаживалась. С севера подул резкий, пронизывающий ветер, с облачного неба посыпался редкий снег. Голландец забился в теплый балок, а Вова ушел в тундру, к своим поморникам. Никто не мог помешать Саше кольцевать куличат. Он взял связку колец и пошел в обход своих владений.
В такой холод птицы грели малышей, и, обнаружив самку, можно было с уверенностью сказать, что все четыре пуховичка находятся под теплым брюхом матери, а не бегают по всей тундре, как это случалось в погожие дни. В непогоду легко можно было поймать и куличиху, поместив в центр настороженного лучка птенца. К пищащему от холода отпрыску тотчас же подлетала мать, и дуга самолова набрасывала на нее сетку. Так что в такую мерзкую погоду орнитологу удавалось убивать сразу двух зайцев, легко кольцуя и птенцов, и их родителей.
Саша, найдя куличиху, отгонял ее в сторону, быстро хватал всех птенцов и сажал их на свою голову под шапку, в тепло. Самка отлетала в сторону, жалобно кричала, волочила крыло и всячески притворялась раненой, пытаясь спровоцировать Сашу увлечься ею. Но стойкий Саша не бежал за самкой, а доставал из-под шапки первого куличонка, надевал на его неокрепшую лапку кольцо и отпускал пушистого пленника на землю.
Птенец тут же начинал пищать от холода. Самка присаживалась рядом, распушала оперение и начинала греть отпрыска. А дальше Саша просто подкладывал под нее других окольцованных куличат.
В очередной раз все сначала разыгрывалось по отработанному сценарию: куличиха побежала на крик пуховичка, но неожиданно она испуганно шарахнулась в сторону и улетела. Саша оглянулся. Сзади к нему подходил голландец.
Конечно, он знал, что советский орнитолог (в отличие от студента-вегетарианца) был браконьером, но не предполагал, что он к тому же и такой садист. Надо же было выбрать самый холодный и ветреный день, для того чтобы искать гнезда. Не мог это сделать вчера или позавчера, когда погода была теплой и солнечной. Вместо этого зачем-то пошел к морю. Наверно, там кого-нибудь застрелил. А вот теперь, в такой мороз, поймал птенца. Он же замерзнет — вон как кричит, и самочка беспокоится, вокруг так и бегает.
И голландец, забыв о дипломатических приличиях, подошел к Саше и высказал ему все, что он о нем думает, плавно переехав с первой не очень удачной русской фразы на английский язык, а потом и вовсе стал шпарить по-голландски. Саша различал лишь единственное знакомое, периодически произносимое спонсором слово — «фашист».
Саша не стал возражать безумному голландцу, а просто снял шапку, обнажив свою лысину, обильно запачканную испуганными птенцами (отчего орнитолог стал похож на известного генсека), и выпустил остальных пленников к обрадованной матери. Все куличье семейство радостным писком благодарило доброго иностранного избавителя. Саша надел шапку и, обиженно втянув голову в плечи, пошел к балку.
А голландец спрятался от ледяного ветра за сортиром. Там он в бинокль стал вести наблюдение за куликами, сопереживая воссоединению семьи. Саша в балке отогрелся, попил чаю и загрузил желудок очередной порцией противной сладкой каши, сваренной утром студентом. Он посидел, погрустил еще немного и почувствовал определенный позыв. Орнитолог не стал противиться природе и вышел до ветру, вернее, до дощатого туалета.
Результаты Сашиного облегчения были трагичными: дверь, открытая повеселевшим орнитологом, подхватил порыв ветра, и она с размаху ударила иностранного наблюдателя, да так крепко, что у него потемнело в глазах.
«Это он мне мстит за то, что я сказал ему правду, — подумал теряющий сознание голландец. — Не любит он правды! А кто ее любит?»
Он пролежал за сортиром минут двадцать и был найден и приведен в чувство и балок возвращающимся от своих поморников Вовой.
С этого дня голландец присмирел и перестал делать замечания Саше, видимо решив, что уж лучше пусть живым останется он, чем кулики. И вообще спонсор обходил и Сашу и сортир стороной. А в тех случаях, когда ему приходилось пользоваться этим заведением, ревнитель природы опасливо
приближался к домику и еще издали вопрошал на плохом русском языке:
— Александр, вы здесь?
И вот теперь Вова, один из участников той давней советско-голландской экспедиции на Чукотку, брел где-то в Большеземельской тундре, окрикиваемый хорошо знакомым еще со студенческих лет поморником.
Некоторые морянки, за гнездами которых охотился Вова, затаивались и улетали, предварительно обгадив кладки, когда орнитолог подходил к ним вплотную. Другие незаметно сходили с гнезда заранее, замаскировав яйца серым пухом, служащим выстилкой для гнезда. Вова взял свежую кладку, запаковал ее в коробку, переложив каждое яйцо мхом, и вернулся в лагерь. Там, поглядывая на далекий скалистый кряж, над которым кружилась пара сапсанов, Вова обработал кладки. Содержимое каждого яйца он выдул через тоненькую дырочку, просверленную в скорлупе специальным голландским сверлом — подарком, который Вова вынудил сделать спонсора на далекой Чукотке.
Вова развел сухое молоко, разболтал в нем утиные яйца, раздул тлеющий костер и приготовил омлет. Он пообедал, собрал палатку и рюкзак, взгромоздил поклажу себе на спину и направился к стационару. Очередная двухнедельная вылазка в тундру кончилась.
Облака разошлись, и выглянуло солнце. Над ивовыми кустами взлетела, мелькнув охристым хвостом, варакушка. Тихонько верещали потревоженные тяжелой поступью орнитолога белохвостые песочники, сдержанно и глуховато покрякивали взлетающие турухтанихи. Как заводящийся мотоцикл, заорала самка белой куропатки и, распластавшись и чертя крыльями по земле, неспешно побежала прочь. Вова пошел медленнее и вскоре обнаружил несколько затаившихся цыплят — причину ее шумного поведения.
За десять лет полевых работ Вова знал эти места гораздо лучше геологов, лучше ненцев, большая часть которых проводила жизнь на участке тундры площадью десять на десять километров, и, конечно, лучше шахтеров, которые на мотоциклах и самодельных вездеходах — «каракатицах» — выбирались в субботу из поселка к ближайшей речке, где пили, мерзли, так как не умели разводить костры из сушняка карликовой ивы, ловили рыбу хариус и, таким образом отдохнув, в воскресенье вечером возвращались домой, чтобы в понедельник с утра снова погрузиться под землю.
Далеко, у самого горизонта, виднелась вертикальная черточка, около которой чернело облако: единственная труба шахтерского городка служила хорошим маяком.
Безлюдность нескончаемых северных просторов была кажущейся. Вова с помощью бинокля насчитал около двадцати белых пирамидок — чумов, стоявших у озер и по долинам рек. У ближайшего чума пульсировало серое пятно: олени, сбившись плотной кучей, ходили вокруг известной только им одним невидимой оси, спасаясь таким образом от гнуса. Искусанные олени погружались в глубь круга, а им на смену отдать кровавую дань из плотного стада выталкивались другие животные.
Самыми древними признаками человека были вековые ворги — оленегонные тропы, по которым дважды в год, весной — на север, осенью — на юг, оленеводы прогоняли свои стада. В речных долинах это были ровные, прорубленные среди кустов дороги, поддерживаемые оленьими стадами, вытаптывающими ивовый подрост. Там, где ивовых зарослей не было, воргу можно было угадывать по ровному сплошному белому ковру пушицы, в изобилии растущей на разрыхленной оленями тропе.
В долине ручья орнитолог обнаружил следы старинной ненецкой стоянки. Вова нашел там отпиленный рог оленя, костяную пуговицу да сломанный полоз нарты. Стойбище находилось здесь уже несколько десятков лет: большие темно-зеленые бутылки из-под вермута уже наполовину поглотила чахлая растительность тундры. Среди этого бутылочного кладбища цветами барвинка синели осколки фарфоровой чашки. Раскрас фарфора был такой, что хоть сейчас в музей: по тонкому ободку голубели прекрасно проработанные венчики.
С высокого увала слетел зимняк — большая пегая хищная птица. Охотник за кладками в предчувствии очередной поживы направился туда. В массивном, построенном из толстых сухих ивовых веток гнезде лежали четыре белых с рыжими крапинами яйца. Вова и их запаковал в оставшуюся коробку из-под сухого молока, а чтобы они не разбились, переложил их выстилкой из гнезда — сухой травой и пошел дальше, решив обработать очередной трофей на стационаре.
Облака уползли на юг, солнце близилось к зениту. Стало жарко. Вова кроме сластолюбия страдал и гелиоманией (которая, впрочем, легко объяснялась почти всегда пасмурной погодой в тундре). Поэтому, едва почувствовав солнечные лучи, он тут же разделся почти догола, оставшись лишь в красных шелковых трусах. Орнитолог оросился «Детой» (мошки стаей вились над ним) и зашагал дальше. Через час он был у неширокой реки. На перекате бурлила зеленоватая прозрачная вода. На песчаной косе противоположного берега стоял вертолет, под легким ветром лениво шевеля прогибающимися вниз лопастями.
Вова отвернул голенища болотников и побрел через реку по перекату. Кроме вертолета на противоположном берегу стояла «каракатица» — один из бесчисленных вариантов самодельных тундровых вездеходов. Обязательным элементом этих машин являлись огромные резиновые камеры от колес грузовиков или тракторов, которые и позволяли конструкции легко передвигаться по болотистой тундре. В простейшем случае на три таких колеса (одно спереди, два сзади) «сажали» мотоцикл, более сложные модели имели четыре колеса, довольно мощный мотор и даже небольшой кузов. А так как каждый мастер клепал свою «каракатицу» соответственно собственным вкусам, возможностям и интересам, то по тундре, мягко покачивая седоков, колесили самые разнообразные, как правило топорно, но крепко сляпанные механизмы.
Человек, стоявший у «каракатицы», оторвался от созерцания мотора и посмотрел на путешественника.
Контраст двух гуманоидов был поразительным: механик в промасленном ватнике, изорванных штанах, кирзовых сапогах и шапке-ушанке и выходящий из реки, сверкающий алыми трусами Вова.
— Здорово, — произнес мужик, удивленный этим нудистским миражем среди бескрайней тундры. — Ты чего разделся?
— А ты чего так оделся? — в свою очередь, спросил Вова. — Жарко ведь!
И действительно было градусов 25.
Мужик подумал, поглядел на свою телогрейку, потрогал треух и ответил:
— Север все-таки, Заполярье... и комары едят. А тебя что, комары не жрут?
— Нет, — ответил Вова, вспоминая, что действие мази скоро кончится и придется мазаться заново. — У меня пот такой вонючий, что всех комаров распугивает.
— Везет же человеку, — с завистью поверил механик и повернулся к своей «каракатице».
Дверь вертолета открылась, и из него вылез летчик. Он уставился на красные Вовины трусы.
— Ты куда такой нарядный двигаешься? — поинтересовался авиатор. — А штаны что — в болоте потерял?
— Направляюсь я в город, а штаны у меня в рюкзаке, — отвечал орнитолог. — Может, подбросите научного работника?
— Чего-чего? — насторожился летчик. — Может, ты еще и биолог? Мышей небось изучаешь?
— Нет, — возразил Вова. — Я больше по птичьей части. А откуда вы мышатников знаете? — Орнитолог помнил, что его коллеги по стационару, специалисты по леммингам, две недели назад забрасывались в тундру на вертолете.
— Да вот полмесяца назад завозили мы двоих. Тоже биологов. Мышатников. Мы с ними чуть не упали.
Александр Николаевич с лаборантом, который из-за ужасной прожорливости имел кличку Тотоша, арендовали вертолет и полетели в труднодоступный район, расположенный, кстати, по соседству с Вовиным орнитологическим полигоном.
Вертолет долетел до точки и, снизившись, стал кружить над болотистой тундрой: командир искал место для посадки. Но почва везде была зыбкая, и бортмеханик, разглядывавший через открытую дверь колыхавшуюся под воздушными вихрями осоку, отрицательно качал головой: под ними простиралась нескончаемая трясина.
Наконец машина зависла там, где, как показалось пилоту, было посуше. Но командир медлил садиться, опасаясь скрытой топи. Неожиданно для всех Тотоша с лихим криком: «Я сейчас сам посмотрю» — сиганул через дверь вертолета и, пролетев с трехметровой высоты, с явственным хлюпаньем, слышным даже сквозь грохот двигателя, ушел в болото по пояс.
Из висящей машины на него озадаченно смотрели летчики, механик и Александр Николаевич. Бортмеханик после такого акробатического трюка Тотоши торопливо прикрыл дверь, опасаясь, что и второй член этой странной экспедиции тоже захочет выпрыгнуть из летящего вертолета. Командир поднял машину метров на двадцать, сделал километровый круг над тундрой и наконец нашел сухое место. Только после этого вертолет возвратился к Тотоше. Тот плотно сидел в болоте, как молодой подосиновик в лесной подстилке. Лаборант безуспешно пытался повернуться и, выворачивая шею, следил за маневрами, как пишут в газетах, винтокрылой птицы. Машина зависла над ним, и бортмеханик стал медленно опускать через открытую дверь толстый фал, заканчивающийся устрашающего вида петлей. Смекалистый исследователь болот не стал совать в нее голову, а пропустил веревку под мышками и махнул рукой вертолету.
Начало операции по извлечению Тотоши из болота было успешным, и ничто не предвещало, что и лаборант, и Александр Николаевич, и весь экипаж вертолета были на волосок от гибели. Вертолет легко выдернул дородного Тотошу, как огородник — редиску из хорошо ухоженной грядки. Тут командир и совершил ошибку, едва не погубившую всех: он посмотрел вниз. После этого он странно забился, бросил рукоятку управления со сложным названием «шаг-газ» и стал сползать с сиденья, как при сердечном приступе. Неуправляемая машина накренилась, но нерастерявшийся второй пилот стабилизировал полет.
Потерявший было сознание командир открыл глаза и разразился жутким, прерывающимся икотой смехом. Слезы лились из глаз обычно сдержанного летчика. Второй пилот испугался. Такое он видел впервые: человек, только что переживший сердечный приступ, тут же сошел с ума.
Наконец у командира икота сменилась более естественными звуками, и он взялся за рукоятки управления. Но второй пилот был начеку. Уже почти успокоившийся и только нервно вздрагивающий командир кивнул ему: мол, посмотри вниз сам. Его напарник так и сделал. Под брюхом «восьмерки» на длинном фале висел Тотоша. Хотя болото крепко держало лаборанта, машина оказалась сильнее и спасла человека. Правда, в трясине осталось то, что было надето на Тотоше ниже пояса: резиновые сапоги, портянки, брезентовые штаны и трусы. И теперь под фюзеляжем на веревке болтался лаборант, суча волосатыми толстыми ножками и сверкая на всю тундру розовой задницей.
Вертолет завис над разведанной сухой гривкой. Сначала освободили из петли Тотошу, потом приземлилась машина. Из нее выпрыгнул Александр Николаевич, а бортмеханик стал подавать биологам их экспедиционное барахло.
Через минуту вертолет, освободившийся от неординарных пассажиров, поднялся вверх. Как только воздушные вихри стихли, полуголый Тотоша лихорадочно запрыгал: на его незащищенные телеса налетела туча комаров и мошек. Тотоша, пританцовывая и крутя толстым задом, лихорадочно распаковывал рюкзак в поисках запасных штанов и оставшейся у него единственной пары обуви — туристских ботинок.
Вертолет сделал прощальный круг. Когда он проходил над склоненным над рюкзаком лаборантом, машина угрожающе качнулась: командир снова на мгновение потерял контроль над собой.
Ни вертолетчики, ни владелец «каракатицы» не согласились подвезти Вову, и ему пришлось идти пешком до ближайшей железнодорожной станции. Чем ближе он подходил к населенному пункту, тем чаще ему встречались следы человека. Самые безобразные отметины оставляли геологи. Привыкшие жить на широкую ногу, они не утруждали себя демонтажем своих временных становищ, лагерей и полевых баз. Вова миновал свалки из труб, буров, покореженных вышек и куч каменного угля, которым когда-то обогревались теплолюбивые разведчики земных недр. В нескольких местах виднелись «бочки» — огромные цилиндрические дома, спроектированные специально для тундры. В каждом таком высоко поднятом над землей железном «пенале» было три отсека: тамбур с туалетом, кухня и комната на четырех человек. Была там и печь, топящаяся соляром, одним словом — все условия для автономного существования. Но тундровые бродяги по своему скудоумию поджигали эти оставленные геологами бесплатные гостиницы. Обгоревшие, покрытые ржавчиной цилиндры становились годными только для гнездования чечеток и каменок, да еще для ориентирования на открытой местности.
У самого горизонта маячили какие-то темные прямоугольники, а между ними что-то блестело. Путь Вовы проходил мимо, но он знал, что там находятся многометровые, сваренные из толстых железных листов кубы и старый самолет. Вове было также известно, что если подойти поближе, то и в стальных листах можно увидеть дыры различных размеров и очертаний, а фюзеляж самолета, кроме того, развален надвое. Все это были следы регулярных визитов на свой полигон штурмовой авиации.
На милитаризацию тундры указывали и другие объекты. Вова, миновав два пригорка, вышел к военно-морской базе, состоявшей из нескольких домов. База располагалась в сотнях километров от ближайшего моря и в семи — от ближайшей реки. Это была станция слежения за тем, куда упадет учебная ракета, пускаемая с далекой подводной лодки.
Экономные моряки пытались вести в тундре натуральное хозяйство. Об этом можно было судить по двум матросам, пасшим трех свиней прямо у ворот объекта. О том, что это были матросы, орнитолог сразу догадался по зебровой раскраске их маек. Кроме того, на свинопасах были черные (наверное, тоже форменные) трусы до колен.
Пять членов военно-морской базы посмотрели на промаршировавшего в красных трусах Вову и продолжили прерванное занятие: трое — хрюкнув, копаться в помойке, а двое — гонять дымом папирос комаров и обсуждать последний поход в ближайший поселок.
Из-под ног путешественника слетел охраняющий гнездо куличок-галстучник. Птица бежала впереди Вовы, иногда останавливаясь и поднимая крыло, как будто указывая орнитологу правильный путь.
Дорога стала взбираться вверх, и зоолог увидел городок. Расстояние пока затушевывало ужасную нищету всякого советского тундрового поселка, и даже кирпично-красные терриконы и вовсю дымящая труба казались украшением этого богом забытого шахтерского поселка.
Вове предстояло пересечь еще одну реку. Моста не было, но ее перегораживала плотина. Орнитолог знал, что путь поверху закрыт, зато внутри, в теле плотины, имеется ход. Он оделся и открыл железную дверь стоявшего на берегу сарайчика. Перед ним оказалась идущая вниз, на глубину нескольких этажей, лестница. Ступени, переходы и площадки были грубо сварены из толстой рубчатой арматуры. Освещение почти полностью отсутствовало, лишь сзади из полуприкрытой двери сочился дневной свет да еще далеко внизу тускло светилась электрическая лампочка.
Вова стал медленно двигаться по направлению к возрастающему шуму текущей воды. На последних ступенях к нему пришла мысль, что голливудские режиссеры среди этого полумрака и грубо обрезанной автогеном, оплавленной и уже проржавевшей арматуры лестничных пролетов, в этом туманном воздухе и рокоте текущей над головой реки сняли бы, по крайней мере, пять фильмов ужасов, столько же — мистических и пару — про мафию. С этими мыслями Вова открыл дверь в тоннель. Там декорация была похлеще — для самого крутого триллера. Световая гамма была просто изумительной. В подземелье царило великолепие тончайших оттенков серого цвета. Серый цементный пол, серый сводчатый потолок, длинный коридор, теряющийся где-то у другого берега в серебристом туманном полумраке. Огромные тусклые лампы, горевшие вполнакала, были заключены в округлые, с редкой ячеей клетки из толстой проволоки, что уже рождало массу ассоциаций на тему «плененное солнце». На полу поблескивали мелкие лужи, в которых с сырого потолка слетали редкие капли. Вдоль стен змеились три черных, неимоверно толстых кабеля.
Неведомый, но, несомненно, талантливый режиссер не забыл и о статистах. Их было двое, и они хорошо подчеркивали общую атмосферу преисподней. Оба были в серых мятых робах и огромных разбитых «зоновских» ботинках. Один из них медленно шел по коридору, и его тень ритмично удлинялась и укорачивалась под лампам и. Второй просто сидел, прижавшись к бетонной стене, безучастно глядя перед собой. В руках он держал невероятных размеров гаечный ключ. Подняв глаза и встретившись с Вовой взглядом, этот одаренный исполнитель эпизодической роли подземного упыря грустно-просяще улыбнулся забредшему путнику, обнажив единственный зуб.
Через час Вова, все еще чувствуя на себе этот взгляд, достиг поселка. Он сразу направился на вокзал. Поезд еще не приходил, и Вова, скинув рюкзак, присел на ступенях.
Здание вокзала было посмертным памятником товарищу Сталину. На его фасаде под крышей виднелись цифры, показывающие год окончания строительства, — 1954. По инерции вокзал еще целый год строили так же добротно, как это делалось при жизни лучшего друга шахтеров и железнодорожников. Строение до сих пор имело приличный вид и было явно великовато для этого городка.
К главному входу, поднятому высоко над землей (север все-таки, зимние заносы), шел широкий пандус. Створки высоченной, до самой крыши, двери уже в послесталинские времена были намертво заколочены, и в них были сделаны двери поменьше — то есть обычных размеров. Но городок, а вместе с ним и вокзал медленно хирели, и пришел срок, когда и эти двери были закрыты навсегда, но в одной из них был прорублен узкий лаз, в который человек мог протиснуться разве что боком. Но и эта последняя дверь, вероятно уже в современный период, была перекрещена засовами с амбарными замками. На площадке перед этими дверями лежали поленья и валялся топор, а рядом на стене висел рукомойник. Вокзал умер. Сбоку к нему прилепилось бесформенное низенькое сооружение с трубой, из которой валил тонкий дымок. Там жили сторожа.
Вова направился туда, постучал и приоткрыл дверь. В тесноватом помещении у топящейся печки сидели двое: помятый мужик, вероятно сам сторож, и такая же ненка, вероятно — его гостья.
— Кипяточку не дадите? — спросил Вова.
Ему не только налили во фляжку кипятку, но и пригласили к столу. Обнаружив на нем открытую банку повидла, сахар и хлеб, Вова согласился.
— Ты тоже мышей давишь? — спросил сторож, наблюдая, как гость, насыпав пятую ложку сахара в кружку с чаем, стал накладывать на кусок хлеба горку повидла.
— Нет, я птиц изучаю, — второй раз за сегодняшний день поправил Вова. — А что, мышатники и здесь побывали?
Ненка согласно кивнула головой.
— Оба бородатые, один толстый, другой в очках? — уточнял детали Вова, догадываясь, что речь снова идет о его коллегах.
— Да, — подтвердил страж.
— Толстый был в туристских ботинках?
— Да. А ты что, от них отстал?
— Да нет, у меня свой маршрут. И давно они здесь были?
— Вчера вечерним поездом в Воркуту уехали. Поужинали в столовой и уехали. Ох и порадовали они нас. Весь поселок смотрел. Ну и здоровые вы ребята — биологи!
Ненка кивнула. И Вова, хлебая чай и жуя булку с повидлом, прослушал еще одну зоологическую историю.
Шахтерский поселок был небольшой, удивлявший вновь прибывших лишь чрезвычайной убогостью домов, полным отсутствием древесной растительности, небывалыми кучами мусора, набором в промтоварном магазине редчайших книг, а в продовольственном — марочных вин и столовой, всегда пустой, так как местные жители предпочитали питаться дома.
Еще одна деталь выделяла его среди прочих тундровых поселений: наличие большого числа женщин самого цветущего возраста. Первый контакт у добравшихся до поселка Александра Николаевича и Тотоши был кратким. Окно покосившегося черного дома ненецкой слободы, мимо которого проходили путешественники, открылось. В проеме показалась молодая нетрезвая представительница малых народов Севера.
— Эй, борода! Геолог! — закричала представительница обросшему Тотоше. — Я тебя люблю! Заходи!
Очевидно, люди этой мужественной профессии пользовались здесь особой симпатией.
— Мы не геологи, — торопливо ответствовал Тотоша.
— Ну тогда и проходите.
И окно захлопнулось.
Они прошли ненецкое гетто и двинулись в европейский квартал. Не стоит говорить, что лужа в зоне тундры получается гораздо безбрежней и непроходимей, чем даже в урожайной на эти водоемы Центральной России. Александр Николаевич, на котором сохранились болотные сапоги, шел как вездеход, поднимая волны по центру главной улицы, Тотоша передвигался по берегам. На сухих местах дорогу им перебегали кулички и нарядные женщины. В поселке располагался небольшой военный гарнизон. Офицеры несли службу, а их молодые нетрудоустроенные жены сидели дома. Иногда они появлялись на улице, пробегали под вечным тундровым ветром и моросящим дождиком в магазин за покупкой или к приятельнице — почесать языком. Оформлены офицерские жены были все как на подбор: в разноцветных сильно открытых, почти бальных платьях, точеных французских и итальянских туфельках и в чрезмерном слое косметики. Так они скрашивали свою тоскливую бездеятельную жизнь в этой дыре. Барышни не форсировали лужи таким же способом, как это делал Александр Николаевич. Они двигались по мосткам, которые были в чем-то сродни петербургским. По крайней мере, и те и другие были чугунными. Только вот эти, заполярные, были составлены из радиаторов батарей центрального отопления.
Из двери промтоварного магазина выпорхнула стайка нарядных офицерских жен. На мгновение они, словно звездочки салюта, оживили унылый пейзаж поселка и рассыпались по соседним домам. Путешественники тоже решили посетить магазин. Там в углу, в слесарном отделе, среди напильников, наковален, тисков, клещей и колунов сидела девушка в черном бархатном платье, с прозрачными рукавами, глубочайшим декольте и причудливой серебряной вышивкой на груди. Ее-то, вероятно, и обсуждали слетевшиеся из окрестных домов девушки.
Тотоша купил у нарядной продавщицы огромный замок, а более эстетичный Александр Николаевич — блестящий штангенциркуль. Лаборант равнодушно наблюдал, как девушка кончиками пальцев с карминными[5] от маникюра ногтями заворачивала покрытые густой смазкой покупки в грубую серую бумагу, а Александр Николаевич упоенно следил за упругими движениями серебряной вышивки.
Наконец мышатники добрались до главной цели — столовой. Посетителей там не было. Три тетки в белых халатах — весь штат общепита — сидели за столами и смотрели на моросящий за окном дождь.
Зоологи пообедали и, пообещав прийти к ужину, отправились в тундру в последний раз собрать давилки. Повар, раздатчица и кассирша с восхищением смотрели сквозь оконное стекло вслед уходящему Тотоше.
Вечером териологи снова были в столовой. На этот раз она была полна народу. Тотоша пошел к кассе, а более наблюдательный Александр Николаевич, почему-то почувствовав себя неуютно, осмотрелся. Все места были заняты. Лишь в самом центре оставался свободный столик с двумя стульями. За остальными сидела разношерстная публика: младшие офицеры со своими нарядными женами, какие-то мужики, объяснявшаяся в любви ненка, продавщица магазина в черном платье. Ждали именно их, но агрессивности не ощущалось. Александр Николаевич обратил внимание на то, что большинство посетителей ничего не ели, лишь перед некоторыми лежала символическая булочка или стоял стакан чаю. И тут догадливый Александр Николаевич понял, почему единственный свободный столик стоит именно посредине зала: все собрались ради чудесного Тотоши. Александр Николаевич подумал, что если он сядет рядом с лаборантом, то будет претендовать на чужую славу или исполнять жалкую роль ассистента. Поэтому он подошел к ничего не подозревавшему Тотоше, стоявшему у кассы, и сказал:
— У меня тут срочное дело появилось, так что начинай без меня. Я скоро вернусь.
Александр Николаевич нашел у самого выхода, на «галерке», чудом сохранившийся свободный стул, присел на него и стал наблюдать.
А Тотоша в это время уже переносил от раздачи на свой столик ужин: десяток вареных яиц, пять салатов из капусты, три первых, пять вторых и восемь стаканов компота. Зал оживился. Тотоша не обратил на это внимания, зато Александр Николаевич с удовольствием наблюдал за происходящим, в основном — за зрителями.
Наконец маэстро занял свое место. Наступила полная тишина.
«Не хватает только барабанной дроби», — подумал Александр Николаевич.
Лаборант пододвинул к себе тарелку с яйцами — закусить он решил ими. Каждое яйцо он съедал в три приема. При полном безмолвии оторопевшей публики он разбил первое яйцо о свой лоб. Потом послышался треск: Тотоша во время второй технологической операции прокатал яйцо между ладонями и ссыпал на стол отвалившуюся скорлупу. На счет «три» он отправил яйцо в рот и, несколько раз клацнув челюстями, проглотил его. Через секунду раздался очередной удар: процесс повторялся.
Зачарованные, изголодавшиеся по настоящим талантам зрители по-прежнему сидели молча, смотря на Тотошу как бандерлоги на Каа. Он же не обращал на них никакого внимания и только иногда оглядывался — не идет ли Александр Николаевич.
После яиц лаборант продемонстрировал присутствующим полную программу, так порадовавшую сегодня днем работников общепита: ужасный капустный хруст пяти салатов, громкое чавканье и стук ложки о дно последней тарелки при пожирании трех порций первого, окунание котлеты в жидкое картофельное пюре и облизывание последнего, прежде чем целиком заглотить ее при насыщении пятью вторыми, и, наконец, громкое бульканье семью стаканами компота. После седьмого, предпоследнего стакана Тотоша довольно откинулся на фанерную спинку стула и стал икать. Часть зрителей поднялась, как после фильма, когда идут неинтересные титры. Другие же смотрели на оставшийся стакан с компотом. Это были настоящие ценители, смакующие грандиозное зрелище.
Тотоша с явным удовольствием допил последний стакан и встал. В углу послышались аплодисменты: хлопала раздатчица. Тотоша недоуменно посмотрел на нее, и аплодисменты смолкли. Сытый лаборант двинулся к выходу. За ним дружно, гремя стульями, потянулась и публика. Цирк закончился.
Подошел поезд. Вова покинул гостеприимного и словоохотливого сторожа и, напрягаясь под тяжестью рюкзака, влез по крутым ступенькам в вагон. Сняв сапоги, орнитолог залез на верхнюю полку. Поезд до Воркуты шел часа два, и можно было подремать. Но подремать не дали. Под ним расположилась шахтерская чета. Первые десять минут они ехали молча, хотя и не беззвучно. Снизу раздавалось смачное чавканье и аппетитное бульканье. Наконец пара насытилась. Безмолвие длилось десять минут — ровно столько, чтобы алкоголь затуманил мозги нижесидящих. Первым, как водится, поглупел мужчина, но он осоловел и молчал.
Женщина посмотрела в окно. Погода испортилась: небо затянуло низкими облаками. Шел мелкий дождь, и водяная пыль ровным слоем, как из баллончика аэрографа, ложилась на окно медленно идущего поезда. В полусотне метров от полотна железной дороги в унылой всхолмленной тундре стояла снегозащита — специфическое сооружение: высоченный пятиметровый, бесконечно длинный деревянный забор, у которого, казалось, кто-то старательно выбил каждую четную доску.
Снегозащита была древняя, вся черная от дождей. Она тянулась вдоль железнодорожного полотна нескончаемыми бесчисленными ребрами скелета чудовищной рыбы, что подчеркивало однообразную плоскость тундры и общую безрадостность пейзажа. Иногда попадались обогреватели железнодорожных обходчиков: уродливые будочки, построенные из шпал, бревен или бетонных блоков. Над ними торчали высокие металлические печные трубы, а рядом чернели кучи угля.
От центральной одноколейной магистрали уходили в стороны старые ветки к бывшим лагерям, где, по слухам, находили еще лопаты и кирки, воткнутые в грунт. Шанцевый инструмент был оставлен в таком виде политзаключенными в момент объявления амнистии в далеком 1953 году. Виднелись и более современные подъезды к военным городкам, которые были совсем недавно расселены в связи с объявлением россиянам о внезапном миролюбии американцев, после чего охранять Воркуту от вражеских ракет, нацеленных через Северный Ледовитый океан, стало неприлично. Попадались и заброшенные придорожные поселения, и железнодорожные станции. Они в тундре умирали долго и мучительно, мрачно агонизируя.
Одним словом, картина за окном была претоскливая. Но молекулы спирта совершили свое маленькое и полезное дело. И женщина заговорила:
— Ваня, я, считай, десятый год в Хальмер-Ю, на Севере, а уже полюбила его, свыклась с неяркой природой тундры.
От такого немного книжного вступления Вова открыл глаза и осторожно посмотрел вниз. Крашеная шахтерская спутница взяла могучего проходчика земных недр за рукав и страстно продолжала:
— И мне сейчас больше нравятся скромные цветы тундры, а не какие-нибудь там георгины или астры. — Тут она кивнула на развалины очередного проплывающего за окном покинутого поселка, на окраине которого на бывшей помойке неожиданно рано в этом году буйно краснел иван-чай.
Поезд тем временем оставил за кормой развалины населенного пункта и поравнялся с озерком, в котором полузатопленным дредноутом ржавел трактор.
— А озера тундры! — не унималась женщина. — Они такие чистые и прозрачные, как весеннее небо.
Вова со всевозрастающим интересом посмотрел сначала на попутчицу, а потом и на лужу с трактором, до сих пор затянутую бензиновой пленкой.
— Какие они красивые! — с чувством продолжила она. — А их формы! Ну посмотри, ведь по форме оно похоже... — Мысль, подхлестнутая алкоголем, судорожно билась среди мозговых извилин. Наконец нужное сравнение было найдено. — Вот у нас в квартире на потолке штукатурка отколупалась, и там пятно осталось. Помнишь? Вот это озеро точно таких же очертаний.
Вова сверху одобрительно засопел удачной метафоре. А женщина продолжала:
— Иногда так и хочется уехать из города и поселиться где-нибудь в тундре у такого вот живописного водоема.
— А кто тебе мешает? — спросил ее спутник, который, как всякий шахтер, не был столь лиричным. — Ставь фазенду и паши. Картошку посадишь, редиску, смородину. Только ведь сожрут, — равнодушно зевнул он.
Вова еще раз с любопытством взглянул вниз — теперь уже на любителя садоводства и огородничества на вечной мерзлоте.
— Что сожрут, редиску? А я ее купоросом опрыскаю, и не сожрут, — нашлась шахтерская подруга.
— Да не редиску, а тебя. Днем — мошка, ночью — комары. А при такой погоде, как сейчас, когда тепло и пасмурно, и те и другие!
Вова понял, что шахтер бывал не только в забое, добывая уголь из круто падающих хальмер-юйских пластов, но даже за околицей поселка, в тундре.
Поезд застучал по бетонному мосту, переброшенному через небольшую речку. За мостом стоял домик обходчика. Шахтер при виде его оживился:
— Вот сюда я на рыбалку ездил. У дяди Васи останавливался, обходчика. Он такой заядлый рыбак — пока всех хариусов из ямы не выдергает, ни за что не уйдет. А лет десять назад его приятель ненца убил. Отравил, случайно. Но насмерть. Он, когда подопьет, всегда эту историю рассказывает, так что я ее почти наизусть знаю.
И лежащий на верхней полке Вова услышал следующее.
Петр и его более молодой напарник Вася, оба железнодорожники, залетели в этот поселок с совершенно определенной целью — согреться. В двадцати километрах выше по реке они ловили сига и проделали нелегкий путь по перекатам и порогам только для того, чтобы купить выпивки.
В то время в поселке было всего два магазина: продуктовый и промтоварный. Но в продуктовом магазине спиртное полностью отсутствовало. Алчущая парочка переместилась в соседний магазин. Там выбор был широким: три сорта стеклоочистителя, тормозная жидкость, раствор для мытья сантехники, морилка для дерева, клей БФ-2 (сразу отвергнутый по причине длительной предварительной обработки) и еще около пяти подобных напитков. Васе, тогда еще молодому, начинающему алкоголику, вся эта выставка моющих средств для стекол, раковин и унитазов не внушала особого доверия, а вот его старший коллега воодушевился таким изобилием. Он, как тонкий знаток вин, гладящий в винном погребе пыльные бутылки, перебирал покрытые ржавчиной железные флаконы, посеребренные инеем окиси алюминиевые пузырьки и стеклянные банки в масленых натеках. Петр внимательно рассматривал косо наклеенные, сбитые упаковкой этикетки, на которых пытливо выискивал единственный показатель — содержание спирта.
Увы, зная советских потребителей, хитрые производители нигде не писали этой важной гастрономической характеристики москательных товаров. Но это препятствие не могло остановить упрямого Петра. Он отошел в сторону и путем сложных логических построений пришел к выводу, что только в железных банках, в которых находилась жидкость для опрыскивания завязей плодовых растений, находится желанный компонент.
Он подошел к прилавку, бросил продавцу лососевого цвета десятку и сказал:
— Упаковку!
Продавец не удивился тому, что рыбаки осенью в тундре будут опрыскивать цветущие яблоневые сады, и придвинул им картонный ящик, сильно пострадавший от времени, мышей и воды, текущей с потолка дырявого склада.
В ящике было десять металлических сосудов.
Алчущие рыбаки покинули гостеприимный магазин. Оставалось немного: найти уединенное место, достать закуску и снять последние сомнения насчет пищевой годности покупки. Оказалось, что все это можно сделать на берегу реки. Там было почти безлюдно, лишь одинокий ненец смолил перевернутую лодку. Петр подошел к своей «Казанке», достал две эмалированные кружки, хлеба и рыбные консервы (все местные рыбаки, купающиеся в деликатесной рыбе, почему-то предпочитали закусывать бычками в томате). Петр ножом открыл банку с приобретенным напитком и налил в свою кружку приятно голубоватой, легкотекучей, чуть пузырящейся жидкости. Он понюхал ее и, почуяв, как ему показалось, нужные молекулы, поднес кружку ко рту. Но тут его взгляд упал на ненца. Чтобы снять некоторые сомнения, Петр встал и подошел к аборигену, занятому мирным трудом.
— Выпить хочешь? — спросил он у туземца.
— Хочу, — последовал естественный ответ.
— Пей! — сказал Петр и протянул ему кружку.
Абориген выпил. Глаза его заискрились.
— Хорошо! — сказал он. — Тепло. — И показал рукой на живот. — Налей еще.
— Хватит с тебя, — ответил довольный своими умозаключениями Петр. Он вернулся к «Казанке», налил себе полную кружку, взял кусок хлеба и подцепил вилкой бычка в томате. Рыбаки чокнулись, и Петр потянул губами голубую жидкость. Но тут Вася толкнул его под локоть.
— Ты чего? — поперхнувшись и сплюнув средство против садовых насекомых, сердито сказал Петр.
— Смотри! — глядя через плечо, сказал Вася, и Петр обернулся.
Ненец медленно сползал на землю, цепляясь руками за днище лодки. Петр зачерпнул воды из реки, прополоскал рот и вновь пошел к испытуемому. Вася опасливо двигался следом. Вдвоем они склонились над лежащим ненцем. Тот не шевелился. Петр взял его сухую ручку. Пульс не прощупывался. Петр приподнял узкое веко ненца. Просвет зрачка не уменьшился. Петр осторожно положил руку ненца на землю и зашагал к своей лодке. Вася поспешил за ним.
— Ну-ка, подсоби, — сказал Петр, и они, упершись в борт «Казанки», столкнули ее в воду.
— Что-то мы здесь загостились, — сказал Петр, оглядывая теперь уже по-настоящему безлюдный берег. — Не пить же мы, в самом деле, сюда приехали!
Через минуту лодка обогнула излучину реки, и поселок скрылся из виду. Рыбаки молчали. Километра через два Петр приглушил мотор и выбросил в реку всю упаковку опрыскивателя. За ней последовала и початая банка.
Шахтер закончил свой мрачный рассказ, когда замелькали унылые, перевитые трубами теплоцентралей пригороды Воркуты. Вдали показались терриконы и странные башни. Поезд остановился, и Вовины попутчики потянулись к выходу. А через час Вова подходил к стационару.
Это был необычный научный стационар. Как правило, полевая база зоологов — несколько домиков, расположенных в глухой тайге, безжизненной пустыне, бескрайней степи, В недоступных горах или на морском побережье. В одном из домиков научные сотрудники живут, в другом едят, в третьем работают. Ну, есть и еще кое-какие совершенно необходимые сооружения. Когда же полевая база принадлежит уж очень нищим организациям, все равно и там есть хотя бы одно капитальное сооружение. Ну конечно же то, в котором научные сотрудники едят. Работать и спать можно в палатках, а для других надобностей вокруг степь, пустыня, тайга или высокогорье, в зависимости от географической зоны.
А вот стационар, к которому подходил Вова, располагался в небольшом современном городе, спутнике Воркуты. Если точно переводить название городка с ненецкого, то получалось «Оленегонная тропа через ручей». Там на заасфальтированной улице стоял пятиэтажный жилой дом, в котором в трехкомнатной квартире со всеми удобствами и располагался полевой стационар важного биологического института.
Другая особенность этого учреждения заключалась в том, что сотрудники, пользующиеся его услугами, почти никогда не собирались вместе: одни отбывали на многодневные полевые работы в тундру, другие возвращались с «полей», обрабатывали материал, мылись, отдыхали, закупали продукты и снова исчезали в Большеземельской тундре.
И сейчас в квартире было малолюдно: единственный субтильный юноша сидел за столом и смотрел в бинокуляр, под объективом которого лежал паук. Научный сотрудник пристально вглядывался в его гениталии, пытаясь таким образом определить его пол, возраст и вид. Кроме своеобразных интересов молодого человека, следует добавить, что сидел он на стуле в позе «лотоса», а также и то, что он периодически отрывал взгляд от бинокуляра, смотрел на снующих за окном пешеходов и иногда восклицал утробным голосом:
— Какая женщина!
Причем было непонятно, к кому относится его возглас: то ли к зафиксированному, лежащему на предметном столике пауку, пол которого наконец был определен, то ли к промелькнувшей за окном горожанке.
Во время очередного крика в замочной скважине заскрипел ключ, и в комнату вошел орнитолог. Он принес с собой гору научного материала, массу впечатлений и еще кучу грязи. Поэтому он первым делом разделся и залез в ванну.
Через час Вова с мокрыми, взъерошенными волосами цвета сырой соломы и голодным огнем в серо-голубых глазах появился в коридоре. Он медленно прошел на кухню, налил из чайника теплого чая, открыл холодильник, достал бумажный пакет с купленными по дороге эклерами и откусил от первого пирожного. Его обед так и проходил в молчании, прерываемом лишь неясным бормотанием всегда включенного, стоящего в комнате телевизора «Темп» и периодическими выкриками «пауколога». Ни на то, ни на другое Вова не обращал внимания, пока не доел последний эклер.
Насытившись, он встал, сполоснул чашку, стряхнул крошки со стола и прошелся по квартире. Сначала он поздоровался с «паукологом», поморщился от его очередного крика, а выглянув в окно — и от дурного вкуса. Он без любопытства посмотрел на увеличенную, лежащую под бинокуляром паучиху, потом на мутный экран телевизора, побродил по комнатам, где обнаружил рюкзаки и спальные мешки прибывших днем раньше и гуляющих где-то «мышеведов». Орнитолог вытащил из своего рюкзака коробку из-под финского молока, подошел к столу и выложил на него кладку зимняка. Из гнездовой подстилки, в которую были упакованы яйца, во все стороны полезли блохи. Вова понес гнездо на лестничную клетку, чтобы там вытряхнуть паразитов. Но было поздно: самая огромная блоха с хорошо слышимым целлулоидным щелчком отделилась от стола и исчезла в недрах лежащего на кровати овчинного спальника.
Через четверть часа после того, как Вова, обработав кладку зимняка, промыл и тщательно протер голландское сверло, в дверь постучали. Из рейда по магазинам вернулись Александр Николаевич и Тотоша. У начальника в руках была стопка книг, у лаборанта — новые резиновые сапоги. А еще через час пришли двое грязных и усталых, вернувшихся с маршрута ботаников с гербарными папками, напоминающими панцирные сетки железных кроватей.
Почти все сотрудники стационара были в сборе. Вечером Тотоша, насытившийся большой сковородкой традиционно незамысловатого стационарного ужина (вареные, а после обжаренные в масле макароны, обильно залитые яйцами), готовился отойти ко сну.
В экспедициях лаборант болтался давно, и у него выработался весьма необычный стереотип этого приятного времяпрепровождения. Тотоша не изменял ему ни в палатке, ни в охотничьей избушке, ни в бараке, ни в рыбацкой тоне, ни в комфортабельных условиях стационара. А знающие люди утверждали, что он так спит и у себя дома, в московской квартире. Оригинальность ночного отдыха лаборанта заключалась в том, что для этого он всегда употреблял спальные мешки, и именно во множественном числе. Тотоша забирался сначала в один, а потом упаковывался в другой таким образом, что голова у него оказывалась в «слепом» конце второго спальника, куда все нормальные люди помещают свои нижние конечности. Как объемный Тотоша не задыхался внутри этого двойного кокона, оставалось загадкой еще и потому, что он при этом застегивал все молнии и пуговицы.
На этот раз лаборант использовал для окукливания свой ватный спальник и казенный меховой.
Поздно вечером обитатели стационара затихли, разместившись кто на диване, кто на кровати, а кто на полу — на резиновом надувном матрасе.
Среди ночи научные сотрудники были разбужены Тотошей. Из его спального сооружения слышались вздохи, стоны, сопение и кряхтенье, приглушенные звукоизолирующими оболочками.
Проснувшись, народ смотрел, как на полу шевелится огромный ватно-меховой кокон. Он пульсировал, сокращался, изгибался, замирая и снова оживая. Казалось, что там, внутри, как в огромной куколке насекомого, шел мучительный процесс рождения чего-то нового, того, что, преодолевая преграды, рвалось наружу. Все в волнении, а некоторые даже с испугом ждали, что же оттуда вылупится.
Лишь Александр Николаевич равнодушно наблюдал за этими неистовыми родовыми схватками. Наконец внутри спальников раздался крик, сильно приглушенный ватным и шерстяным слоями. Потом послышался треск рвущейся ткани. Под напором пробивающегося наружу существа с хрустом отлетали пуговицы. Кокон распался по длинному шву, и оттуда появилась отнюдь не элегантная стрекоза и не яркая бабочка. Нет, оттуда вылез склонный к полноте, потный, взъерошенный, красный и сопящий Тотоша, который мигом вскочил на ноги и, шлепая по холодному полу линолеума не очень чистыми ступнями, побежал к туалету. Метаморфоз закончился.
— И так каждую ночь, — прокомментировал эти мучительные роды Александр Николаевич. — Сейчас он вернется. Обратите внимание на его одежду.
Многие задумались, так как одежда Тотоши состояла лишь из обширных трусов.
Вскоре появился хозяин спальников. Все, помня совет Александра Николаевича, разглядывали единственную деталь его дезабилье. Трусы Тотоши были разорваны пополам и держались лишь на резинке, хлопая своего обладателя по рубенсовским бедрам. Не смущаясь этим, Тотоша полез в свой кокон — досыпать.
— И что, с трусами тоже так каждый раз бывает? — с зевотой спросил кто-то, когда лаборант вновь окуклился.
— Именно так, — подтвердил Александр Николаевич.
— Сколько же их у него? — не то удивляясь, не то спрашивая, произнес, затихая, тот же голос.
Но ему никто не ответил. Стационар снова спал.
Утро на стационаре наступало долго. Это в тундре при хорошей погоде уже в пять часов солнце начинало припекать палатку, и приходилось вылезать из нее и приступать к работе. А на базе люди душевно откисали от утомительных переходов с тяжелыми рюкзаками, копченых котелков, мошки, которая могла бы посоперничать с самыми первоклассными мастерами по части татуировки. На стационаре всего этого не было, и научные работники просыпались долго.
Оживший народ задвигался по основным магистралям: комната — туалет, ванная — кухня. Все так или иначе натыкались на проснувшегося последним полувылупившегося из спальника Тотошу, зашивающего грубой сапожной иглой свои трусы. Периодически он оставлял инструмент и энергично чесался: по всему телу лаборанта виднелись подозрительные красные пятна, судя по отчаянным движениям Тотоши, сильно зудевшие.
Народ на стационаре был сплошь мужского пола, грубоватый и не отличавшийся чрезмерной фантазией. По поводу происхождения этих пятен проходящие мимо делали всего два предположения.
Первое: «Это у тебя гормональное, давно с женщинами не встречался». Второе: «Наоборот, слишком часто встречался с разными женщинами, и вследствие этого пятна — симптом второй стадии сифилиса».
Истинную причину Тотошиной чесотки знал только орнитолог. Но он сначала лицемерно молчал, а потом еще более лицемерно присоединился к сторонникам венерологической теории.
После завтрака стационар опустел. Все сотрудники, даже домосед-«пауколог», захватив сетки, сумки, авоськи и рюкзаки, отправились в окрестные магазины за продуктами. Исследователи готовились к следующей вылазке в тундру.
А Вова на автобусе поехал в Воркуту, в краеведческий музей, где его давно просили определить виды птиц местной коллекции.
Вова провозился в музее до самого вечера. Он вышел на улицу, купил в кафетерии пирожных и бутылку ситро и сел перекусить в маленьком, засаженном невысокими ивами сквере перед фонтаном.
Подошел небритый «бич», достал из урны бутылку с отбитым горлышком, зачерпнул ею воды из декоративного водоема, с явным удовольствием утолил жажду, положил сосуд на место и пошел своей дорогой. Вскоре и насытившийся Вова покинул уютный скверик. Он остановился на мосту, переброшенном через огромный, заросший иван-чаем городской овраг. На склонах, ловя драгоценные в Заполярье фотоны ультрафиолета, лежали воркутинки в купальниках. Они пользовались долгим летним днем, хорошей погодой и тем, что так далеко в город комары из тундры не залетали. Вова подумал, что он, загорелый и в красных трусах, неплохо бы смотрелся среди цветущего иван-чая и девушек. Но орнитолог сел в автобус и поехал на стационар.
Стационар был пуст — все ушли на полевые работы. В коридоре на бечевке, привязанной к лампочке, висел запечатанный пенициллиновый пузырек. К нему, в свою очередь, был прикреплен лист бумаги. Вова развернул его. Это было послание от Тотоши. Первые два слова были невинными: «Вова — ты...» Дальнейший текст был написан с полным использованием лингвистических последствий татарского завоевания Руси. В записке, между прочим, говорилось: «Кроме этого, сообщаю тебе, что у меня не сифилис, не гонорея и даже не гормональное расстройство, это ты (тут снова следовал рефрен вступления) напустил на меня своих блох. Доказательство прилагается. Я ее поймал в своем спальнике».
Вова открыл пакет с эклерами, купленными им по пути к «Оленегонной тропе через ручей», надкусил первый и стал рассматривать пузырек, в котором сидело растолстевшее насекомое.
ДОРОГА НА СЕВЕР
Каждый на собственном житейском опыте узнает о существовании компенсации — чередовании полос удач и неудач. С ним, несомненно, связана примета уезжать в дождь — в неосознанной надежде, что после этого надолго установится ведро. Я с подозрением отношусь к хорошему началу экспедиции, когда есть билеты на дефицитный рейс, на месте нас радушно встречают, а во время отъезда из Москвы стоит хорошая погода. В таких экспедициях каждый день ожидаешь (и, как правило, не напрасно) каких-либо подвохов. Иное дело, когда вьючные ящики и рюкзаки в первый же день «поля» со случайного грузовика (клятвенно обещанная машина почему-то не пришла) падают в грязь, а ты вечером или под проливным дождем в незнакомом поселке бегаешь в надежде устроиться на ночь, стуча во все двери запертых (потому что суббота) советских, партийных и административных учреждений. Такое начало всегда бодрит, но ты твердо знаешь, что именно эта поездка пройдет замечательно — в нужный момент обязательно появится лодка, вертолет, грузовик, избушка или просто хороший человек.
Полное подтверждение закона компенсации — две мои экспедиции на Таймыр. И я очень рад обеим. Единственное, о чем я жалею, что сначала плыл на корабле, а потом на лодке. Ведь тяжелый труд, лишения и страдания должны предшествовать награде, а не наоборот.
КОРАБЛЬ
«Академик» лег в дрейф в проливе Вилькицкого. Был день высадки на берег. Пришлось подняться пораньше, принять душ (рассчитанные на двоих каюты были небольшие, но в каждой было это чрезвычайно полезное устройство), пройтись по мокрой от тумана палубе и, ежась от холодного ветра, устремиться к трюму. Моим напарником в этой комплексной биологической российско-шведской экспедиции по Северному морскому пути был долговязый, худой и вечно голодный студент одного биологического вуза, однако уже зарекомендовавший себя как хороший специалист-орнитолог.
Мы с ним прошли мимо спасательных шлюпок, плотов, катеров и даже небольшой баржи, стоящих на разных палубах, между двух огромных, в два человеческих роста, намертво прихваченных к стальной станине, покрытых темным антикоррозионным слоем запасных винтов «Академика», стоящих рядом друг с другом как авангардистский памятник верным супругам, мимо наваленных кучей оленьих рогов, на каждом из которых, впрочем, была привязана аккуратная бирочка с именем их шведского владельца (россияне этот хлам не собирали), мимо небольшого сада, разбитого в пластмассовых ведерочках ботаниками, натаскавшими образцы наиболее интересных растений тундры, и наконец добрались до двери, ведущей в трюм, в котором располагался склад экспедиции.
Там уже было несколько человек, и конечно же завхоз Юха (он был финн, но не типичный — низкорослый, лысоватый, носящий маленькие «бериевские» очки). Юха выдавал каждому огромный, прямо-таки новогодний полиэтиленовый пакет, в котором был сухой паек на сутки — срок высадки. В пакете было несколько неярких упаковок быстрого приготовления супов и огромный белый тюбик без всякой надписи и обычной рекламной раскраски (и супы и тюбики были из НЗ шведской армии и поэтому не нуждались в рекламе). В «подарочном наборе» также были какие-то вафли, сухое печенье, чай, кофе, леденцы, шоколадные батончики с орехами. В этот день экспедиционное начальство расщедрилось и выдавало на выбор литровый пакет какао с молоком (на мой взгляд, чересчур сладкое, но я взял одну пачку) или же пакет ананасового сока. Ее взял студент. Когда же Юха отвлекся (некий российский участник международной экспедиции вместо одного рулона туалетной бумаги взял сразу целую дюжину, чем и вызвал громкое недовольство завхоза), я сумел незаметно стащить еще один пакет ананасового сока — сверх нормы. Мы со студентом еще побродили по складу — покопались в лотках, где были выставлены для всеобщего разбора печеночный паштет, различные концентраты шведских армейских супов (студент набрал грибных) и апельсиновое повидло в белых тюбиках (я взял три), прихватили еще какие-то совершенно ненужные, но зато бесплатные вещи и, нагруженные сверх меры, покинули гостеприимный склад.
Нашу группу забрасывали самой последней, и у нас со студентом было много времени.
Сначала мы поспешили в кают-компанию — туда, где нас кормили. У столов с закусками была суета. Я вспомнил, как в первый день пребывания на корабле мы по неопытности пропустили ананасы (они были лимитированы, то есть, конечно, не лимитированы, а рассчитаны на каждого человека, но российская часть экспедиции тащила все в несметных количествах, и нам со студентом досталось по жалкому ломтику), и ринулся к дальнему столу, минуя огромные стеклянные миски, в которых лежала селедка (каждый день восемь — десять сортов), маринованные мидии и прочая морская дребедень, на которую мы кидались только в первые дни экспедиции. На дальнем, фруктовом столе желтели порезанные аккуратными дольками дыни — редкие фрукты высоких широт Арктики. Вот тут-то мы со студентом и отыгрались за ананасы.
Мы отнесли деликатесы за наш стол и, взяв подносы, встали в хвост небольшой очереди — за завтраком. Сутки предстояло жить на шведских военно-полевых супах, и поэтому следовало подкрепиться. Я взял три огромные копченые сосиски, картошки, а для знакомства с экзотикой — жареный бамбук и спаржу, которых я никогда не пробовал. В углу стоял автомат, который выдавал шесть сортов кофе (мы их конечно же перепробовали в первый день пребывания на корабле), но я пошел ко второму автомату — он был заправлен различными соками. Я нашел методом «тыка» смесь ананасового и апельсинового и нацедил себе стаканчик. Только мы со студентом приступили к завтраку, как обнаружили новое оживление у стола с закусками. Повар поставил туда несколько огромных картонных коробок. Рядом им же были расставлены разнокалиберные разноцветные пластиковые бутылки. Мы были на судне новичками, жили здесь всего третий день, а вот знатоки, плывущие уже месяц, резво заспешили к столу десерта, на ходу прихватывая глубокие тарелки и большие ложки. Взяв инструменты, мы устремились за ними и с конца очереди наблюдали за действиями бывалых людей. Они ложками отколупывали огромные куски сливочного мороженого (которое и оказалось в коробках), заливали их фруктовым сиропом из бутылок и разносили по своим столам.
Завтрак оказался более плотный, чем всегда. Я с тревогой наблюдал, как прямо на глазах у меня округляется животик, и твердо решил почаще посещать сауну. Мы со студентом добрели до нашей каюты, сложили несъеденный запас дынь на тарелку, растянулись на койках и задремали под уютный шум принудительной вентиляции.
Меня разбудил голос начальника экспедиции, объявлявшего по корабельному радио подготовку к нашему вылету. Мы собрали рюкзаки, оделись и вышли на палубу. Чайки вились вокруг «Академика». Те птицы, что летали вдали, были белыми, а что летали поближе к бортам, все сплошь были розовыми, отсвет красных бортов нашего судна падал на белоснежное оперение птиц, вызывая эти чудесные рефлексы.
Со склада, который располагался на верхней палубе у вертолетной площадки, мы вытащили нашу пластмассовую бочку — тоже шведское изобретение. В ней хранилось лагерное оборудование на двоих: палатка, спальные мешки, миниатюрная полевая печка и топливо к ней (банальный, но красиво упакованный шведский денатурат). Бочка закрывалась герметически, и поэтому барахло, хранящееся в ней, оставалось сухим даже в самые жестокие дожди. Народ из нашей группы, все шесть человек, уже суетился около вертолета и затаскивал внутрь свои вещи — рюкзаки, бочки — и общественный груз — рацию, лодку, огромный ящик с неприкосновенным запасом, ящик с инструментами и прочее барахло. Одетые в аккуратные, очень практичные костюмы, специально разработанные для работ в Арктике, шведы выделялись на фоне разномастно одетых русских. Многие из российской части экспедиции подумывали купить у Юхи этот сравнительно недорогой костюм. Но никто не купил. Из-за ярко-голубого цвета полярного одеяния.
Последней вещью, которая была внесена в вертолет, был карабин — защита от медведей. Я сел у открытого иллюминатора рядом с Питером — шведским орнитологом, внешне — настоящим арийцем (как позже выяснилось, и характер у него был нордический). Руководитель полетов пересчитал нас по головам, механики сняли цепи с колес, машина загромыхала двигателем и резво поднялась в воздух. Летчики сразу взяли курс на берег, и поэтому, только высунувшись в иллюминатор под обжигающе-холодный поток арктического воздуха, можно было рассмотреть сверху оранжевую коробку нашего корабля, стоящего посреди бескрайнего белого поля.
Вскоре показался берег. Вертолет, снижаясь, понесся над длинной косой, у которой нежно синели огромные неподвижные льдины. Стали появляться вездеходные дороги и старые ржавые железные бочки. Они концентрировались у нескольких домов, расположенных на самом берегу, прямо у кромки льдов. С вертолета был виден и стоящий у сарая трактор, и странный механизм, похожий на сенокосилку. «Восьмерка» села прямо на помойке, раскидав при этом кучу старых ржавых консервных банок. Через несколько минут машина улетела, оставив нас с нашим экспедиционным барахлом среди пустых ржавых бочек, консервных банок и досок.
Дверь полярной станции открылась, и оттуда вышел плотный, стриженный наголо, бородатый, довольно молодой мужчина в тяжелом бушлате. Мы двинулись навстречу — знакомиться. Меня восхитило то чувство собственного достоинства, с которым нас встречал этот отшельник. Он смотрел на нас абсолютно равнодушно, с таким выражением лица, будто вертолеты к нему прилетают несколько раз в день, а не в год, а иностранцы гостят каждую неделю. Хозяин ни о чем не спросил нас, а, подставив широкую спину дующему с севера ветру и прикрыв свою стриженную «под ноль» голову капюшоном своего арктического бушлата, повел нас в дом.
У крыльца нас молча встретили три огромных черных ньюфаундленда, дружелюбно вилявших хвостами. Хозяин открыл дверь и пригласил нас внутрь. В доме было очень жарко и пахло соляркой — топилась печка, работающая на этом топливе. У самого входа висел карабин с оттянутым затвором и пустой обоймой. Из глубины строения с нами с купеческой чинностью поздоровались еще два сотрудника станции — пожилые мужчина и женщина и пригласили нас в кают-компанию. Там стоял огромный стол, все стены были заняты стеллажами с книгами. В комнате было сумрачно — подоконник был сплошь заставлен банками, горшками и ящичками, в которых произрастали южные растения — огурцы, помидоры, перец, арбузная плеть и метелка проса.
Мы, изнывая от немыслимой жары, посидели, немного побеседовали о нашей экспедиции и покинули дом — надо было разбивать лагерь.
На берегу Ледовитого океана за несколько минут были поставлены четыре палатки. С кем мы ни говорили в Москве об экспедиционном снаряжении, все восторгались только тремя вещами — шведским столом, шведскими спальниками и шведскими палатками. В заграничном тканевом доме все было продумано до мелочей. Один человек при некотором опыте мог поставить ее в любом месте — на камнях, песке, на лугу или в лесу минут за пять, двое — за три. Палатка состояла из двух частей. Внутренняя — прямоугольная, ярко-красного цвета, она удерживала тепло, вместе с тем пропускала воздух и не пропускала комаров, и наружная — тент, имеющий форму полусферы и сделанный из тонкой, но очень прочной водостойкой ткани, окрашенной в благородный серебристо-зеленый цвет. Тент, благодаря согнутым в дуги трем эластичным разборным шестам, которые и поддерживали всю конструкцию, а также особому крою, плотно не прилегал к внутренней части, и поэтому в палатке не было душно. Наружные вентиляционные окна имели плотный козырек, который препятствовал попаданию даже косого дождя внутрь палатки. Прорезиненный пол позволял ставить ее на любом болоте. Кроме того, этот чудесный домик имел две двери — всегда можно было воспользоваться той, которая находилась с подветренной стороны. Полусферическая форма тента прекрасно выдерживала ураганный ветер. В общем, палатки были замечательные.
Сразу же после высадки из вертолета каждая пара (палатка была рассчитана на троих жильцов, но мы в них жили по двое) прежде всего ставила свой дом. Поэтому лагерь на несколько минут сначала приобретал празднично-советский, кумачовый вид, а затем, когда на матерчатые пологи натягивали серебристо-зеленые тенты, он удивительным образом напоминал красивый чайный сервиз, в котором все чашки были перевернуты вверх дном.
После разбивки лагеря, постановки палаток, установки мачты, на которой развевались два флага — России и Швеции, выхода в эфир с сообщением, что у нас все нормально, каждый занимался чем хотел.
Замерзшие члены экспедиции пошли греться в помещение «полярки». Проголодавшийся студент достал шведскую походную печку, залил в спиртовку денатурат и, сидя прямо в палатке, за четверть часа сварил из концентрата грибной супчик. Питер и я пошли бродить в окрестностях полярной станции. Под какой-то доской я совершенно неожиданно для себя обнаружил небольшой клык мамонта. К сожалению, он долго лежал не в вечной мерзлоте, а на поверхности и поэтому был покрыт глубокими трещинами, в которых рос ярко-зеленый мох. Так что из всего бивня можно было выпилить лишь небольшой неповрежденный кусок. Чем я и занялся, попросив у хозяина метеостанции ножовку. Запахло так, как будто сверлили зуб. Ветер, дующий с Ледовитого океана, сдувал белую стружку.
Из-за угла «полярки» неспешно вышел Питер.
— Polar bear comes[6], — с нордическим спокойствием произнес он, обращаясь к нам, и неспешно вошел в дом. Ни студент, ни я не поняли, что он имел в виду (у меня последняя практика в живом английском языке была несколько лет назад, студент языка не знал вообще). Мы на всякий случай улыбнулись Питеру и продолжили свои дела — студент хлебал трофейный суп, а я пилил мамонтовую кость. Зато в доме, куда зашел Питер, его поняли. Двери распахнулись, и оттуда высыпали все члены международной экспедиции, начальник полярной станции и собаки. Все они (кроме собак, естественно) были вооружены гладкоствольным и нарезным оружием, ракетницами и фальшфейерами, фотоаппаратами и видеокамерами и лихорадочно застегивали наспех надетые пуховки и бушлаты. Толпа резво полезла по приставной лестнице на крышу дома. Собаки смотрели им вслед. Начальник нашего отряда, забиравшийся последним, оглянулся и, увидев двух своих подчиненных, один из которых хлебал что-то из миски, а другой работал пилой, пришел в страшное волнение и закричал:
— Вам же Питер сказал, что белый медведь идет! Вы что, не расслышали? Вот он, совсем рядом! Марш на крышу!
И действительно, из-за дальнего угла дома неторопливой походкой вышел огромный зверь. Студент бросил свою миску, я — пилу и кость мамонта, и мы опрометью, схватив фотоаппараты и бинокли, вскарабкались по лестнице. Три ньюфаундленда наконец тоже увидели зверя и с лаем побежали ему навстречу.
С крыши полярной станции хорошо просматривались и бесконечные белые льды в проливе Вилькицкого, и кружева перевернутых льдин, вытесненных на берег, и бурая тундра, и далекие хребты плато Бырранга. Особенно же хорошо была видна сплошная помойка вокруг «полярки» — вечная мерзлота не поглощала мусор, и все выброшенные вещи десятилетиями украшали местность. Общий цвет помойки был темно-кирпичным от ржавого металла, и в частности от множества ненужных механизмов и пустых железных бочек. Среди этого бурого безобразия голубыми искрами светились фаянсовые осколки каких-то больших сосудов. Некоторые из них были разбиты вдребезги, другие сохраняли часть своих исходных очертаний и напоминали мне что-то до боли знакомое. Я обратился за разъяснением к хозяину «полярки».
— А это дурь наших снабженцев, — пояснил он.
Я еще раз посмотрел в бинокль, чтобы еще раз полюбоваться прекрасным голубым цветом «дури».
— Они в прошлом году, — продолжал полярник, — на нашу станцию целых двадцать голубых унитазов прислали. Забыли, наверное, что нас всего трое и у нас канализации отродясь не было. Вот я по ним карабин и пристреливал. Красиво бьются! А еще нам этим же рейсом сенокосилку прислали. А у нас, кроме лишайников, ничего не растет. Вон она стоит. — И полярник показал на странный механизм у сарая, замеченный мной с вертолета. — Как разгрузили, так и стоит.
Тем временем народ на крыше резво щелкал затворами фотоаппаратов, а внизу началась легкая потасовка между белым медведем и тремя собаками. Медведь, жадно принюхиваясь, брел к полярной станции, псы с лаем кружили вокруг него. Когда ньюфаундленды уж очень ему досаждали, зверюга незло рявкал на псов и продвигался вперед. Наконец вся эта шумная компания оказалась у стены дома, прямо под нами. Медведь, обнаружив в деревянном ящике куски тухлой нерпы (странным образом поставленном на такой высоте, чтобы мясо было доступно медведю, но недоступно собакам), стал жадно пожирать несвежего тюленя. Собаки завыли и с удвоенной энергией ринулись на медведя. Обнаружив в собаках пищевых конкурентов, зверь прижал уши и огрызнулся по-настоящему. Один из ньюфаундлендов в момент атаки поскользнулся и, проехав спиной по льду, оказался прямо между передними лапами зверя. Медведь инстинктивно отдернул одну лапу и с брезгливым любопытством обнюхал лежащую собаку. Та вскочила, отпрыгнула в сторону и присоединилась к двум другим басовито лающим псам, а медведь вернулся к более привлекательной нерпе.
Сидящие на крыше сверху наблюдали эту корриду, снимая ее во всех деталях, дойдя наконец до того, что стали фотографироваться на фоне медведя и собак, представляющих собой живописную, контрастную черно-белую группу. Один хозяин полярной станции, держа в руках изящный, легкий, как малокалиберная винтовка, карабин «Барс», курил и довольно равнодушно смотрел и на российско-шведскую экспедицию, и на своих собак, атакующих огромного зверя.
Наконец медведь съел всю нерпу, отошел метров на сто в сторону, улегся в самую грязь и задремал. Собаки замолчали и расселись кружком неподалеку, как бы охраняя покой заснувшего зверя. Угомонившиеся научные сотрудники стали спускаться с крыши. Наконец вспомнили про ракетницы и фальшфейеры — по инструкции именно они должны были помогать путешествующим в Арктике в борьбе с этими опасными хищниками.
— А давайте мы его напугаем, — предложил кто-то. — А то он еще долго будет бродить вокруг станции.
— Не надо его пугать, пусть себе спит, — ласково отвечал хозяин. — Вот вы завтра улетите, а мы с ним сами разберемся. — И приветливо взглянул на псов, караулящих медведя.
Опытный полярник уверил нас, что медведь вряд ли скоро подойдет к полярной станции. И все успокоились и занялись работой. Специалисты по почвенной фауне начали копаться в земле тут же у палатки, складывая образцы в полиэтиленовые пакетики. Тяжело груженные ихтиологи (в их хозяйстве были надувные лодки, моторы, бачки с бензином и сотни метров сетей) двинулись к устью небольшой речки. Ботаники собирали гербарии или же выкапывали самые ценные растения, чтобы пополнить судовой ботанический сад. Маммологи[7] взяли ловушки и пошли искать тропы леммингов, чтобы расставить живоловки на путях этих грызунов.
И мы втроем с Питером и студентом, наполнив рюкзаки патронами, провизией, термосами с горячим чаем, увешанные биноклями, двустволками и фотоаппаратами, ушли на свой маршрут.
Сразу за «поляркой», вернее, за расположенной около нее помойкой, располагался участок арктической пустыни, внешне очень напоминающий оттаявшую после зимы подмосковную апрельскую пашню — такая же непролазная бурая грязь и редкие, в метре друг от друга, какие-то крохотные зеленые листики и стебельки. Но если в Подмосковье к началу лета эти маленькие росточки поднимались и полностью покрывали всю землю, то здесь был уже конец лета, и эти почти незаметные растения (среди них были и чудесные лилипутские незабудки сантиметра в три высотой с голубыми цветками размером со спичечную головку) держались здесь на пределе выживания. Кроме незабудок встречались и более типичные растения тундры — лишайники. Их было множество — различных форм и окрасок, но мне почему-то запомнился один вид, удивительным образом напоминающий и удлиненной неветвящейся формой, и беловатым цветом, и даже влажным после утреннего тумана блеском разбросанных по всей тундре аскарид.
Вообще-то тундра в конце лета на севере Таймыра не поражала обилием жизни. Насекомые (и, к нашей радости, даже комары) не встречались вообще. Из млекопитающих мы видели только несколько леммингов, одинокого молодого песца в летнем, коротком, буровато-сером неопрятном меху — зверь, как шакал, грустно трусил по каменистому берегу ручья, — старый рог оленя да подозрительные кости, удивительным образом похожие на остатки акклиматизированных на Таймыре мускусных быков.
Для фаунистических наблюдений за птицами было не самое лучшее время. У большинства птиц тундры размножение закончилось, некоторые уже улетели, а большинство кочевало по территории стаями. Пролетали небольшие стаи гусей-гуменников, в устьях речек кормились стаи белощеких казарок, молодые, а поэтому глупые кулички-песочники бегали на грязевых отмелях у самых наших ног, а кулички-плавунчики кружились на поверхности небольших озер, словно пары в дансинге с зеркальными полами. Турухтаны почему-то летали стаями, ровно по восемь штук в каждой, ни больше, ни меньше. У полярных сов да еще у некоторых уток, гусей и гагар были птенцы, а у сизых чаек мы нашли безнадежные кладки, из яиц которых либо никто не вылупится вообще, либо птенцы точно не успеют вырасти и погибнут. Юные полярные совы, одетые еще в темный детский наряд, хотя и были по-юношески беззаботными и подпускали на несколько шагов, но в руки не давались.
Мы совершили хороший, километров на десять, переход, перекусили на высоком берегу очень живописного, но абсолютно безжизненного озера и двинулись назад, к «полярке». Хотя было пасмурно, и висели низкие облака, и ни берега моря, ни строений станции из-за всхолмленного рельефа видно не было, в ориентации у нас не было никаких затруднений — ведь еще на корабле нам выдали очень подробные карты нашего участка и компасы, а у Питера, кроме того, был аппарат спутниковой ориентации, который показывал не только направление и расстояние (в метрах) до наших палаток, но и до Стокгольма и Москвы.
Вечером на «полярке» нас угощали ужином, состоящим из ужасных щей, сваренных из древних баночных полуфабрикатов, и оладий, испеченных на подозрительном масле (запасы продуктов на станции давно не пополнялись). Мы, давясь, ели отвратительные щи и оладьи, сулившие поголовно всем хроническую изжогу (я посмотрел на Питера — на его нордическом лице не дрогнул ни один мускул, когда он хлебал варево).
За ужином разговор, естественно, зашел о белых медведях.
— Конечно же их на полярных станциях стреляют, — разоткровенничался начальник. — Вы же сами видите, как мы живем. Вот все витамины. — Он показал рукой на подоконник. — Борщ, — и он с отвращением посмотрел в свою миску, — десятилетней давности — все сроки хранения истекли. Свежего мяса никогда не привозят — хорошо, если тушенки подкинут. И зарплату почти год не платят. А тут приходит прямо к «полярке» полтонны мяса, упакованных в шкуру стоимостью несколько тысяч баксов. Вот после этого и появляются в вахтенном журнале записи: «Приходил белый медведь. Ушел на север». Если бы нас кормили так же, как на вашем корабле, — и он кивнул в угол, куда мы в качестве презента обитателям полярной станции сложили все сухие пайки, включая упаковки ананасового сока и какао с молоком, — тогда зачем они бы нам были нужны, эти белые медведи?
Мы, опасаясь спящего где-то в окрестностях медведя, решили не ночевать в палатках. Экспедиция за несколько минут убрала серебристо-зеленые купола. Хозяин «полярки» отвел нам пустую комнату, на полу которой мы расстелили спальные мешки и переночевали.
На следующий день ровно в пол-одиннадцатого утра, как и было обещано, раздувая пустые консервные банки на помойке, в двух метрах от нас, удерживающих рюкзаки и экспедиционные бочки, сел вертолет. Мы быстро погрузились, и машина пошла вверх. В иллюминатор было видно, как провожавший нас полярник медленно побрел к дому.
Летчики ловко посадили вертолет на верхнюю палубу «Академика». Заглохли двигатели, механики стали пристегивать цепями колеса вертолета к палубе. Мы со студентом взяли рюкзаки и пошли в каюту. На столе лежало несколько слегка подвядших ломтиков дыни, и мы быстро с ними покончили. До обеда оставалось около полутора часов. Поэтому я быстро переоделся в цивильную форму и поспешил на четвертую палубу — в сауну. Из соседней двери, за которой располагался тренажерный зал, слышались музыка и топот — там плотные, как ломовые лошади, шведки занимались аэробикой. Я с удовольствием растянулся на досках. Через полчаса пришел Питер и еще один мужик — ихтиолог. И мы втроем досидели в финской бане до самого обеда.
После обеда я сначала пытался переписать дневник, но задремал. Разбудил меня голос помощника капитана, раздававшийся из динамика. Оказывается, сегодня на корабле был праздник. Я плохо разбирался в корабельном режиме и никак не мог понять, каким образом начальство выбирает выходные дни. Вот и сегодня оказалось, что на корме, там, где не было ветра, вечером был организован праздник под названием барбекю[8]. Я растолкал спящего студента, и мы пошли веселиться. Праздник заключался в том, что на корму была принесена жаровня, на углях которой повар жарил огромные куски говядины, свинины и специально для этого предназначенные колбаски. Звучала музыка, и завхоз Юха отплясывал с симпатичной шведкой. Юха развеселился от того, что всем желающим выдавали баночное пиво. То есть каждый подходил и брал жестянки из коробки. Пива я не люблю, но взял верх азарт охотника. Я сходил в каюту, надел пуховку (которая, кроме того что имела прекрасные теплозащитные качества, обладала множеством карманов) и пошел есть барбекю, иногда возвращаясь в каюту и разгружая из карманов добычу.
Студент тем временем отбил у Юхи шведку и танцевал с ней. Когда он ее наконец бросил, я подошел и сделал ему замечание по поводу полного отсутствия у него охотничьего инстинкта — порока, недопустимого для орнитолога. Он надулся и предложил мне пройтись в каюту. Я следовал за ним, постоянно напоминая, что я, старый, больной человек, ненавидящий пиво, стараюсь для него, юнца, который, вместо того чтобы использовать, может быть, единственный вечер для заготовок, легкомысленно увлекся иностранкой, хотя и симпатичной.
Мы наконец добрались до каюты. Я гордо показал на стол, где стояло семь баночек пива. Студент молча открыл наш шкафчик и показал мне свой улов — около дюжины жестянок. Молодежь так быстро учится! Я попросил у него извинения и отпустил к шведке. Потом я потрогал свой живот и подумал, что сегодня еще раз стоит сходить в сауну. Так я и сделал, а через полтора часа, одевшись потеплее, снова вышел на корму. Вся свинина была съедена, пиво выпито, а железный ящик с углями и решеткой унесен в кладовку.
Из-под низко сидящей кормы «Академика» раздавался мощный гул, била кипенная струя воды и всплывали огромные, белые сверху и голубые, источенные снизу, все в пещерках и кавернах, льдины. Среди льдин крутилась мелкая рыбешка. На нее охотились серебристые чайки, висевшие за кормой. То одна, то другая птица пикировала в полосу свободной ото льда воды, остававшейся за ледоколом. Счастливчики, поймавшие рыбешку, старались побыстрее проглотить ее. Но это им почти никогда не удавалось. Чаек отовсюду подстерегали темные, острокрылые и длиннохвостые поморники. Они нападали на чайку, та бросала рыбу, поморники, уже соревнуясь между собой, торопливо летели к добыче.
После сауны хотелось пить. Я достал из кармана пуховки украденную банку с пивом, открыл ее и стал медленно потягивать нагревшийся за пазухой напиток, наблюдая, как ровно ложится за кормой в безграничном белом поле темный водный след.
Из динамика, висевшего на стене, раздался голос помощника капитана:
— Прямо по курсу белый медведь. Всем, кто хочет его посмотреть, подняться на нос.
Мне захотелось взглянуть на зверя не на помойке, а в естественной обстановке, и я пошел на нос. Там уже стояла небольшая толпа шведов (среди которых я, однако, не нашел ни одного, кто сидел рядом со мной на крыше полярки), рассматривавших далекое, чуть желтоватое пятно, двигавшееся от корабля.
Перед носом идущего «Академика», виляя из стороны в сторону, струились трещины, извилистые, как швы черепа, и переворачивались огромные льдины.
Корабль подошел ближе к зверю. Медведь, испуганно озираясь, поскальзываясь на льдинах и поднимая тучи брызг, тяжелым галопом уходил в сторону, оглядываясь на красную громадину, со скрежетом продвигающуюся сквозь льды. Судно прошло рядом с огромным кровавым пятном на льду — там у медведя была удачная охота на живую нерпу. Шведы увлеченно фотографировали.
Почему-то вспомнился наш новый приятель — хозяин полярной станции. Думалось, что он именно сейчас устало писал в станционном журнале: «Экспедиция улетела на корабль в 10.30. Приходил белый медведь. Ушел на север».
ЛОДКА
Вторая экспедиция на Таймыр была не такая многочисленная, да и корабль был поменьше. Целью нашей экспедиции на юго-восточном Таймыре было выяснить, живет ли там маленький и редкий гусь-пискулька, а если он живет — то сколько. Под эту тему мне выделили деньги (только-только их хватило на пролет и на продукты), надувную лодку и средства на лаборанта. Все это случилось довольно неожиданно в середине лета. Поэтому у меня возникли проблемы со спутниками — все мои знакомые давно разъехались по экспедициям. Я совсем было отчаялся, но тут позвонила моя любимая студентка и сообщила, что нашла мне спутника — своего жениха Юру. Я обрадовался, так как знал его — очень плотного, коренастого, коротко стриженного молодого человека, отслужившего на флоте и работающего в пункте по обмену валюты.
По убогой московской карте с неизвестным масштабом, напечатанной на плохом принтере (невидимая река на этом сером оттиске была, чтобы не промахнуться, обведена красным фломастером), определиться, где мы находимся, не было никакой возможности. В Хатанге, откуда нас забросил вертолет, нам по знакомству дали хорошие карты — километровки, на которых стоял гриф «Секретно». Одна беда — не хватало одного листа, и однажды несколько десятков километров нам пришлось плыть «вслепую». Конечно, река нас должна была вынести к цели — поселку Сопочное («Смотрите не проплывите мимо Сопочного, — мрачно пошутил давший нам карты работник заповедника в Хатанге. — Дальше до самого моря Лаптевых населенных пунктов не будет, да и в море Лаптевых их тоже нет»).
Поэтому в тот день нам через несколько километров приходилось, подыскав берег покруче, высаживаться и, расстелив на вершине какого-нибудь холма карту, пытаться угадать, где мы все-таки находимся. По моим расчетам, лодка, побив все рекорды, прошла сегодня около сорока километров и давно должна была выйти из «слепой» зоны. Но окружающие нас изгибы реки, озера, окрестные холмы и далекие сопки полностью отсутствовали на карте.
Под вечер, когда солнце слегка опустилось к горизонту, мы наконец обнаружили прямой длинный участок реки, идущий ровно в меридиональном направлении. И точно такой же был на карте. И холм слева тоже был обозначен, и небольшой лесок! Мы были так измотаны изнурительной греблей, что единогласно тут же решили остановиться и заночевать.
За полмесяца плавания нам ежедневно приходилось ставить лагерь, и это воспринималось как необходимое зло. Лодка приближалась к берегу, мы выставляли вперед весла, чтобы смягчить толчок и этим самым уберечь нашу лодку — нежнейшее резиновое изделие ВПК[9] — от ненужных соприкосновений с торчащими у берега обломанными ивовыми кустами или острыми камнями. Наступал черед разгрузочных работ. Каждая вещь в нашей лодке, начиная от рюкзаков и заканчивая ружьем, была привязана, дабы при оверкиле[10] или пробоине ничего не потерялось. Кроме того, все мягкие вещи (палатка, одежда, спальники), патроны, продукты и прочее были тщательно запакованы в полиэтиленовые пакеты на случай дождя (которые, как правило, случались по нескольку раз за переход).
Поэтому ежедневная распаковка и запаковка кучи вещей в лодку была очень нудным, ненавидимым нами занятием.
Наконец все перетащено на высокий берег (мы помнили первый день, когда ночью вода в реке поднялась и затопила лагерь, который мы разбили прямо у реки) и укрыто полиэтиленом.
Потом мы вытаскивали и крепили к деревьям или к огромным валунам самое дорогое, что у нас было, — лодку, потеря которой дорого бы нам обошлась — ведь до ближайшего (и единственного) жилья было несколько сот километров — пешком вдоль берега реки. На первой стоянке свирепствовал такой сильный ветер, что поднял вверх наш ЛАС[11], и он болтался в воздухе, как цеппелин, хорошо, что якорная веревка выдержала. После этого мы привязывали лодку так, что ее не мог оторвать никакой тайфун.
Мыс Юрой ставили палатку, совсем не похожую на шведскую: наша палатка была плохая, маленькая и дырявая. Чаще всего мы разбивали лагерь на галечных косах, в фунт которых невозможно было вбить колья. Поэтому мы использовали крупные камни, к которым привязывали растяжки палатки.
Строительная площадка и место залежей камней часто не совпадали, и поэтому нам приходилось делать с камнями приличные прогулки по берегу, что после дневного перехода на веслах не казалось утренней разминкой. Когда должное число камней наконец было собрано, шла мучительная установка центральных колонн палатки, вырубленных Юрой из стволов лиственницы, и долгая фиксация всех растяжек. На случай дождя мы накрывали палатку полиэтиленовой пленкой, которую прижимали все теми же камнями (это, однако, не спасало нас от косого дождя). Короче, наша палатка очень напоминала жилье подмосковных бомжей, гнездящихся в лесах у железнодорожных станций. На матерчатый пол нашего дома мы сначала клали весла, на которые стелили помост из досок, до этого выполнявших роль пола в лодке. На них помещали полиуретановые коврики, а сверху — спальные мешки. Помост по идее должен был предохранить нас от сырости. Но сколько раз случалось, когда, после обильного дождя или при чересчур влажном фунте, оказывалось, что и весла и доски находятся в воде.
Хотя мы палатку ставили каждый день и ежедневно ее перетряхивали, в ней с завидным постоянством встречались различные квартиранты из членистоногих. Комары легко просачивались внутрь нашего дома. Юра нещадно с ними боролся. Самым эффективным средством оказался специальный спрей против насекомых. Однажды мой напарник (к счастью, без меня) побрызгал из баллончика внутри палатки, и уже через секунду с треском расстегнулась молния входа, и вся компания — немилосердно кашляющий, пахнущий детским мылом Юра (спрей был ароматизирован) и хорошая стая комаров — вылетела наружу.
Другим химическим средством борьбы с этими кровососами была китайская зеленая спираль. При ее поджигании в палатке распространялся запах тлеющего кизяка, мы кашляли меньше, а комары не стремились покинуть палатку и не дохли, а просто впадали в оцепенение, забивались в разные щели и давали нам заснуть. Однако дурь у насекомых быстро выветривалась, они пробуждались и, естественно, завтракали гораздо раньше нас, а наутро висели на потолке спелыми гроздьями. Юра эмпирически пришел к наиболее рациональному средству борьбы — прямому физическому воздействию. Поэтому к концу экспедиции палатка изнутри стала пятнистой от раздавленных комаров.
Кроме комаров и людей в палатке селились и другие существа. К нам в поисках поживы часто заползали пауки. Они не плели тенет, а бегали под крышей, суетливо махая четырьмя передними лапками вслед пролетающим комарикам. Иногда такое махание приносило удачу: комар попадал в паучьи объятия, и восьминогий охотник радостно и расторопно пеленал жертву паутиной и впивался в нее. Через четверть часа из-под потолка, легко кружась, как снежинки, падали комариные крылышки.
В начале нашего путешествия, лишь только вода в реке начала спадать, случился лёт веснянок. Насекомые отдаленно напоминали серых удлиненных тараканов.
Веснянки не приносили нам ни вреда, ни пользы: они просто посещали палатку, используя ее как дом свиданий. Обычно по потолку неторопливо прохаживалась прибывшая первой солидная, длиннокрылая, словно одетая в вечернее платье самка, а через несколько минут в неплотно закрытую дверь палатки врывался и бежал по ее пахучему следу мелкий, верткий и суетливый самец с короткими крыльями — словно одетый в кургузый пиджачок. В углу, там, где самец настигал свою подругу, происходила короткая свалка, пугавшая пауков и комаров, а после совокупляющаяся пара неподвижно повисала где-нибудь на потолке.
Однако больше всего в палатке досаждали не насекомые, не сырость и не теснота, а ветер. Ветер в тундре не стихал никогда. Полиэтиленовая пленка, которой сверху была укрыта наша палатка, при слабом ветре приподнималась и опускалась, как бока тяжело дышащего зверя. При свежем ветре пленка звенела, как кусок жести, а при штормовом громыхала так, будто рядом кто-то палил из пистолета Макарова.
Кроме того, палатка имела еще один недостаток — в ней можно было спать только ночью, а днем — только в очень пасмурную погоду. Атак как мы вынуждены были плыть только при попутном или, в крайнем случае, при боковом ветре, то нередко случалось, что переходы мы делали ночью, а отдыхали днем.
На солнце наше жилье моментально нагревалось до состояния сауны. Снаружи нас ждали комары. Поэтому после ночного перехода мы вынуждены были все свои вещи, включая пуховки, свитера, плащи и даже спальники, набрасывать на крышу палатки, создавать таким образом тень, а потом, обильно намазавшись репеллентом[12], в жаре и комарином зуде устраивать себе недолгий дневной отдых.
Но вот все вещи разгружены и спрятаны от дождя, лодка намертво закреплена, палатка поставлена (на все это уходило около двух часов). Наступало время еды.
Вопрос с едой был для меня самым мучительным. Сколько раз в течение месяца я вспоминал первый день нашего одиночного плавания!
Вертолет, доставивший нас сюда — в верховья Фомича, скрылся за сопкой, и мы побрели к реке, по которой предстояло плыть около двухсот километров и еще столько же — по реке Попигай. Фомич от таящих снегов и дождей разлился, и мы увидели водовороты тугих мутных струй, в которых крутился различный древесный мусор и дрожащие от бешеного течения ветки полузатопленных ивовых кустов. Я представил себе, что нам предстоит плыть по этой реке около месяца на нашем резиновом изделии, и мне стало не по себе. Судя по всему, у Юры вид паводка на реке тоже не вызвал приступа оптимизма. Я вспомнил, что только работа способна если не поднять настроение, то, по крайней мере, отвлечь от грустных мыслей.
— Давай ставить лагерь, — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно бодрее. — Но сначала надо спрятать все жиры в тень. Или лучше вот туда, там снег еще не растаял. А то видишь, как припекает. — Действительно, на солнце было градусов двенадцать, и ветерок едва перебирал ветки еще не распустившихся лиственниц, но такая погода была только в день высадки, потом целую неделю гудел ураганный ветер и шел дождь, а иногда и снег.
Юра пошел к куче вещей, выгруженных нами из вертолета, — искать заветную сумку с жирами. Я остался на берегу.
— Володя! — окликнул меня Юра. — Ты выгружал жиры?
— Нет, по-моему, ты их вытаскивал.
— И я их не брал. Нет сумочки. В вертолете забыли. — И Юра посмотрел в небо, туда, где полчаса назад скрылся вертолет. Я тоже посмотрел туда, куда улетел холщовый мешочек с пятью килограммами сливочного масла, пятью килограммами настоящего украинского сала, с большой банкой великолепного домашнего смальца, хорошим куском бекона и большой упаковкой твердого жира для жарки.
— И что же у нас осталось из жиров? — в надежде на чудо спросил я Юру. Но чуда не случилось.
— А ничего, — ответил Юра.
Я посмотрел на наши осиротевшие без жиров продукты и почти сразу же почувствовал голодное подсасывание под ложечкой, которое не проходило в течение целого месяца. Запасы тушенки не были рассчитаны на каждодневное поедание этого продукта, так как мы рассчитывали половину срока питаться кашами с маслом.
Поэтому я ждал каждого четного (то есть мясного, когда мы открывали банку тушенки) дня нашего путешествия с плохо скрываемым нетерпением, и особенно того момента, когда совершенно постную кашу или макароны торжественно облагораживали тушеной говядиной, поверх которой вместе с одиночным лавровым листом находился белый, с легкой желтизной слой жира.
Я пытался компенсировать недостаток жиров сухим молоком, которое сверх всякой меры сыпал по нечетным дням в каши, но это не приносило должного результата. Ведь даже в мясные дни голодные позывы чувствовались через час после еды, и, возвращаясь с маршрута к лагерю, я последний километр буквально бежал, стараясь побыстрее развести костер и чем-нибудь загрузить желудок (чаще всего порцией постной каши или куском вареной рыбы, которые, увы, давали ощущение сытости только на час). Из-за отсутствия «топлива» приходилось несколько раз и во время лодочного перехода останавливаться, разводить костер и перекусывать все той же кашей или вареной рыбой.
Мы с Юрой уже через несколько дней интенсивной гребли и многокилометровых маршрутов по тундре при полностью обезжиренной диете стали стремительно терять в весе. Очень плотный Юра, который, как оказалось, и поехал в эту экспедицию в надежде сбросить лишние килограммы, каждое утро, одеваясь, выражал бурную радость.
— Я худею! — восклицал он. — В Москве я застегивался на десятую дырочку! — И он показывал мне широкий офицерский ремень. — А сейчас уже на седьмую, а если выдохну — то и на шестую! У меня и талия появилась! Честное слово!
Я тоже худел. Но так как талия у меня была всегда, то к концу нашей экспедиции, несмотря на то что я всячески налегал на каши, у меня вместо живота образовалась огромная яма, на дне которой при известной ловкости удавалось прощупывать позвоночник.
К сожалению, у нас не было замечательных шведских печек, на которых можно было готовить прямо в палатке. Однако, на наше счастье, с дровами проблем не было — на берегу всегда можно было найти плавник. Лишь однажды у нас возникли сложности с костром. Почти сутки шел проливной дождь при очень сильном ветре. Мы отсиживались в палатке. Плотный Юра, как всегда, легко переносил голод, а вот я не выдержал и, запаковавшись в плащ, вылез из палатки наружу — разводить костер. И хотя мы загодя набрали много дров, они были насквозь мокрые. Сухой спирт никак не удавалось зажечь даже с подветренной стороны палатки. Мне пришлось дважды, нарушая покой спящего Юры, залезать внутрь, разжигать белую таблетку в своей кружке (один раз ветер загасил ее) и только потом с большим трудом зажечь мелкие щепочки. Зато потом у меня получился настоящий шедевр: бревна, раздуваемые ураганным ветром, горели так жарко, что их не мог залить вовсю хлещущий дождь, а под костром плескалась лужа, так как в тундре сухого места в тот день не было вообще.
Нашим основным средством передвижения была десантная или спасательная надувная лодка ЛАС-3. В ней при полной загрузке практически не оставалось места для нас — ведь в лодке лежали два рюкзака, ящик с продуктами, ружье, патроны, посуда, сети, инструменты и другое совершенно необходимое барахло.
Я сидел на переднем «капитанском» сиденье — на деревянном ящике, на который для большей комфортности (а проще — для того, чтобы не отсиживать зад) я стелил в зависимости от погоды плащ, пуховку или свитер. Прямо передо мной в полиэтиленовом пакете лежали компас и карты, бинокль, а на борту привязанное к лодке ружье. Сидевший сзади Юра жил более комфортно — он размещался на одном рюкзаке и спиной упирался во второй.
Естественно, при такой тесноте не могло быть и речи о том, чтобы грести веслами как положено — с использованием уключин. И мы гребли как индейцы в каноэ. Гребля на ЛАСе была непростым делом. Особенность гидродинамики нашей лодки заключалась в том, что для того, чтобы увеличить скорость этого резинового изделия в два раза, надо было приложить усилий на весла вчетверо больше, чем на шлюпке или байдарке.
Мы сначала никак не могли взять в толк, что просто должны были помогать реке нести нас и что весла — это скорее декоративные украшения лодки, чем средства передвижения, особенно на стремнине, и первые дни нервничали, видя, что все усилия попасть в тот или иной рукав ни к чему не приводят и река быстро, но равнодушно затаскивает нас вместе с другим плывущим сором в нужное ей, а не нам русло.
В первый, стартовый день нашего путешествия, выходя из спокойного затона (где мы обкатывали лодку и подбирали такелаж) и подплывая к основному руслу Фомича, мы начали нервничать метров за двести — именно с этого расстояния с реки слышался ровный гул несущейся мимо нашего залива вздувшейся от весенних дождей и таяния снега реки. Мы сделали несколько последних гребков по спокойной воде и вытолкнули лодку на течение. Мутная река подхватила ЛАС, ударила в днище невидимыми бурунами и понесла лодку если не со скоростью автомобиля, то, по крайней мере, велосипеда. Осознав свое полное бессилие перед рекой, мы перестали судорожно махать веслами и только держали лодку носом по течению, не позволяя реке нести нас рядом с берегами — там, где могли быть коряги, скрытые водой ивовые кусты или камни. Если не обращать внимания на мелькание берегов, то скорости не чувствовалось — прошлогодние листья, щепки, ветки, куски торфа двигались вниз по течению реки в том же темпе, что и наша лодка. Через полчаса страх перед рекой прошел, и мы с удовольствием начали рассматривать мелькающие берега, а я достал записную книжку и стал вести орнитологические наблюдения.
Только через неделю, когда паводок на Фомиче спал, мы поняли, какое было для нас благо половодье. Река обмелела на несколько метров, и в некоторых местах мы плыли словно в глубоком каньоне и обозревали уже не прекрасные пейзажи весеннего лиственничника, а грязевые отмели, галечниковые косы, подмытые торфяные обрывы, а где-то далеко вверху виднелись уже хорошо озелененные лиственничные леса. Исчезли водовороты и буруны, вода стала прозрачной настолько, что даже на трехметровой глубине можно было разглядеть каменистое дно. Однако выхолощенная река потеряла свою резвость и скорость. И теперь мы вынуждены были даже при попутном ветре безостановочно махать веслами. А если налетал встречный ветер, то приходилось так упираться, что уже через полчаса начинало тянуть связки на левой руке и ломить в пояснице. Однако на некоторых участках встречались какие-то заколдованные, «мертвые» места, где лодка словно прилипала к воде, и мы двигались так медленно, словно гребли в киселе.
На Фомиче, небольшой горной реке, прикрытой сопками, мы еще могли грести и при встречном ветре (проходя при этом, правда, не более десяти километров в день). А вот когда мы вышли на Попигай, ширина которого в некоторых местах достигала полкилометра, там, где ровные берега были заняты безлесной тундрой, мы вынуждены были ловить попутный ветер и полностью подчинить наш режим ему, двигаясь, когда ветер дул в корму, и отдыхая, когда он бил в нос.
В лодке, после того как наступило лето, комары присутствовали всегда. Насекомые «работали» в противофазе с ветром. Когда он был встречным и нам приходилось затрачивать неимоверные усилия, чтобы проталкивать лодку вперед, наши маленькие серые длинноногие спутники тихо сидели с подветренной стороны судна. Лишь то один, то другой кровопийца взлетал в надежде полакомиться и тут же уносился встречным воздушным потоком. Когда же дул попутный ветер (а попутным для нас, стремившихся к Ледовитому океану, был теплый южный ветер, приносивший солнечную погоду), с подветренной стороны, то есть перед лицом каждого из нас, висела хорошая тучка комаров, которые все время липли к коже, проверяя, не выдохся ли репеллент и не наступило ли время подкрепиться. Насекомые, мельтешившие над нами, тянули бесконечную заунывную песню.
Ярко светило солнце, размеренно работали весла, всхлипывала вода у носа нашего судна, желтели пески далеких берегов, и лодка, казалось, замерла на каком-нибудь нудном пятикилометровом прогоне, далекие берега навечно остались неподвижными, а я в который раз читал жизнерадостные надписи на внутренней части носового баллона нашей десантной лодки: «Ванты вязать только шлюпочным узлом» и «В случае прострела оболочки лодки пробоины затыкать аварийными пробками». На этом фоне комариный писк превращался в далекую ритмическую (весло проходило сквозь их стаю), со сложными импровизациями (порывы ветра) бесконечную песню рабов на галерах. За недели гребли при попутном ветре я настолько свыкся с этими восточными комариными мелодиями, что не мог слушать без раздражения хаотичный писк их сухопутных собратьев.
Кроме комаров на реке встречались и другие животные. Чаще всего это были рыбы, вернее, плавники сигов и хариусов, резвящихся у самой поверхности. С песчаных берегов кричали невидимые из-за своей маскирующей окраски кулички-галстучники, помахивая хвостиками, бегали белые трясогузки, над рекой раздавались ослиные крики гагар, пролетали полярные крачки и серебристые чайки, долину пересекали стройные дербники, на крутых скалах темнели кучи «хвороста» — гнезда зимняков, с затонов изредка поднимались гуменники и морянки. С заболоченных берегов нас окликали ржанки, а над ветреными вершинами сопок неподвижными крестами висели черные силуэты поморников. Однажды по далекому берегу по песчаной косе бежал олененок, рассматривая странный баллон, сносимый течением, да на крутом берегу мы спугнули зайца, и он, сверкая белыми, не вылинявшими с зимы штанишками, резво ускакал вверх по, казалось бы, отвесному склону сопки.
На всем маршруте мы так ни разу и не встретили пискульку — небольшого гуся, благодаря которому и оказались на этой реке, хотя честно осматривали все заводи и прилегающие к реке озера. Зато на одном из таких озер мы нашли еще более редкого гуся — краснозобую казарку, сделав, таким образом, маленькое орнитологическое открытие.
По горному Фомичу плыть было одно удовольствие даже в непогоду, даже в снег, даже при встречном ветре. Сопки плавными террасами спускались к берегам, и, двигаясь посередине реки, мы могли наблюдать жизнь не только ее берегов, но и горных склонов и лиственничного редколесья. Мы были еще в зоне лесотундры, и поэтому вдоль реки постоянно встречались небольшие — около полукилометра в длину и метров двести в ширину — лиственничные рощицы. В них росли невысокие, метров до семи в высоту, деревья, отстоящие друг от друга на пять — десять метров.
Мы высаживались и бродили по болотам, долинам рек, по берегам озер и проток и, конечно, по лесам, проводя орнитологические наблюдения и помня, что вряд ли в ближайшие лет пятьдесят еще какие-нибудь идиоты орнитологи забредут сюда. Однако ни горная тундра, ни побережье, ни болота, ни лиственничники не радовали нас обилием птиц. Казалось, что все птицы жались к берегу реки. И в болотистой тундре, и на каменистых вершинах сопок, и в редком, невысоком, разреженном лиственничнике в разгар гнездового периода на километр маршрута встречалось всего несколько птиц.
Полная оторванность от всякой цивилизации и ближайшего жилья ощущалась особенно сильно, когда мы забирались на вершину сопки. Чувство, которое подспудно жило в нас, плывущих по реке, что где-то там, за гребнями сопок или за небольшим леском, находится поселок или хотя бы чум оленеводов, рассеивалось, когда мы достигали вершины: вокруг до самого горизонта вздымались пологие и совершенно безлесные сопки, среди которых наблюдались редкие бледные вытянутые озера и полное отсутствие каких-либо следов человека. После таких вылазок мы с особым удовольствием возвращались домой — к нашей эфемерной лодке и хлопающей полиэтиленом палатке.
В свое время я много поболтался по разным экспедициям, но в первый раз был в такой глуши. На берегах Фомича на стокилометровом маршруте мы не встретили ни одной бутылки, обрывка ткани, полиэтилена или бумаги, веревок или бочек — ничего, что свидетельствовало бы о присутствии человека. Только спустя неделю после нашего старта я в одном месте обнаружил древний след топора на стволе лиственницы и насквозь проржавевшую консервную банку. Никогда в жизни жестянка, почти полностью уничтоженная коррозией, не вызывала у меня столько положительных эмоций.
Гораздо позднее, в том месте, где река текла уже по равнине, я из лагеря увидел какие-то вертикальные шесты и, приняв их за остовы палаток лагеря геологов, оставил Юру в нашей палатке и пошел туда. На высоком сухом песчаном холме возвышалось шесть или семь деревянных коробов, рубленных из толстых плах. Над каждым коробом стоял огромный деревянный крест. Я пришел на долганское кладбище. Крест на одной могиле был украшен резными голубями, на другой — пятиконечными звездами, а в основании третьего большими ржавыми разнокалиберными гвоздями был приколочен огромный нательный серебряный крест с синей эмалью. Вокруг могил были положены различные вещи — подарки покинувшим тундру людям, чтобы они продолжали охотиться, рыбачить, есть и молиться и на небесах. Вокруг могил лежали лески с крючками, новые капканы, полозья нарт, тазы и кастрюли, старые иконы, с которых сошла краска и остались одни позеленевшие медные оклады. Над крестами летала и истошно вопила пара полярных крачек. Вероятно, у них поблизости было гнездо. Я положил у одной из могил патрон с картечью и пошел к реке.
Примерно так проходила моя вторая экспедиция на Таймыр. Я не буду рассказывать, как мы на перекате продрали лодку, как нам пришлось аварийно выбрасываться на берег, так как полное безветрие в течение минуты сменилось ураганом, как наконец достигли обитаемой земли и нам стали попадаться по берегам сначала пирамиды из стволов деревьев — запасы, сделанные оленеводами и охотниками во время паводка на зиму, а потом и полностью оборудованные балки (в них были кроме продуктов, посуды и спальных мешков даже ружья с запасами патронов), как мы добрались до конечной цели нашего путешествия — Сопочного, крохотного поселка, полностью отрезанного от мира, где не было чужих, и поэтому его жители жили не только в домах, но и на улицах — на манер огромного цыганского табора, а самой выдающейся постройкой был сортир, стоящий на пересечении двух «улиц» (его дощатые кабины были на деревянных сваях вознесены на трехметровую высоту, к ним вели крутые лестницы, а под ними стояли двухсотлитровые бочки; при входе в каждую кабинку почему-то лежала куча оленьих рогов, и от этого общественные туалеты напоминали языческое капище); как охотник из этого поселка, сварив для нас уху, положил туда самое ценное, что у него было, — четыре картофелины, добытые из единственного росшего у него на подоконнике куста картошки, как неожиданно для нас повысили тарифы на авиацию, и мы вынуждены были продать нашу лодку, чтобы купить билеты, и как радостно (мы все-таки не утонули и не унесли с собой на дно Фомича секретные карты) встретили нас в Хатанге. Мы прошли реку, мы собрали материал и увидели Таймыр вблизи. И мы были довольны, хотя не нашли пискульки. Ведь отрицательный результат — для науки все равно результат.
Вспоминая две экспедиции на Таймыр, я думаю, какая же мне запомнилась и понравилась больше. И сейчас, по прошествии нескольких лет, могу твердо сказать себе: конечно, приятно объедаться дынями в районе самого северного в Евразии поселка, в проливе Вилькицкого сходить в сауну, а между этими событиями слетать на рейсовом вертолете в тундру — отведать очень калорийных шведских супов и пожить в комфортабельной палатке. Однако, будь моя воля, я снова бы на голодный желудок и под комариное пение помахал веслом на реке Фомич.
СЕЛЬДЯНОЙ ПОЛОСАТИК
Железная дверь каюты задрожала под мощными ударами.
— Наверное, боцман стучит, — спросонья догадался Костя Михайлов.
И действительно, из-за двери послышался крик:
— Эй, студент, все проспишь! Только что «бабу» затащили. Иди скорее в... Твой начальник уже там и велел тебя позвать! Вставай!
Ах, если бы вы только знали, куда и каким страшным голосом посылал Михайлова в этот утренний час далеко не женственный боцман. Михайлов открыл глаза. Перед ним висело ослепительно голубое блюдо иллюминатора.
— Иду, — сказал он прогибающейся под кулаками боцмана двери.
До Кости Михайлова, невысокого, довольно плотного, стриженного бобриком, с уже начинающим оформляться двойным подбородком молодого человека, только сейчас начинало доходить, где он находится. Измотанный полуторанедельной дорогой из Москвы в Приморск, неделей ожидания в этом городе и тремя сутками пути на танкере, Костя Михайлов, студент четвертого курса педагогического института, вздумавший писать дипломную работу по китам, в конце мая 1959 года прибыл на китобазу «Командор», где его ждал научный руководитель, доктор биологических наук Думский.
Вчера вечером, когда в сером тумане танкер подходил к китобазе, Михайлов впервые в своей жизни увидел китов. Два огромных мертвых зверя, связанные, плавали у борта базы. Их тела служили кранцами, амортизировавшими толчок пришвартовавшегося судна. Перебиравшийся на китобазу Михайлов с перекинутого трапа успел рассмотреть глубокие продольные борозды на китовых брюхах, заросших морскими желудями. Долго заниматься натуралистическими наблюдениями студенту не дал напирающий сзади народ. А с китобазы торопил его научный руководитель, профессор Думский, сухой холерический старичок с седеющей бородкой, закрученной вправо (результат постоянного вращения ее по часовой стрелке).
На Михайлова большое впечатление произвел громадный, весь в ржавых подтеках борт корабля, а также аромат несвежих китов — многократно усиленное благоухание прогорклого сала.
Профессор Думский, встретивший Михайлова со свойственной ему энергией, не давая студенту опомниться, пристроил куда-то рюкзак гостя и потащил прибывшего дипломника на часовую экскурсию по «Командору». Студент, измотанный дорогой, в тот день не запомнил ничего, кроме огромной дощатой скользкой разделочной палубы, сложнейшего трехмерного лабиринта, составленного из коридора и лестниц, да еще, пожалуй, циклопических цистерн и танков в трюмах, готовых принять очередные порции китового жира, мяса и костной муки. Михайлов в тот день не запомнил ни одного человека, с которым его знакомил профессор. Единственным, кто остался в его памяти, был боцман, да и то, вероятно, потому, что он не имел привычных книжных аксессуаров: татуировок, шкиперской бороды и тельняшки. Это был пожилой невысокий мужик с серьезными глазами и чудовищной ширины запястьями.
Профессор, заметив наконец, что у Михайлова неприлично слипаются глаза, повел студента в каюту — устраиваться. Они шли по длинному, слабо освещенному коридору со множеством боковых дверей. Одна из них была открыта, и Михайлов увидел во мраке двух спящих мужчин. Один, гигантского роста, удобно расположился так, что его голова и ноги касались пола, а все остальное лежало на сиденье стула. Второй растянулся под столом, мертво обхватив ладонями его ножки.
— Ага, — буднично произнес всезнающий профессор, вглядываясь в эту живописную живую картину, которой можно было дать название «Утро после битвы» или «Утро после свадьбы». — Танкер и почту привез.
Неопытный Михайлов никак не мог связать приход открытки или письма с таким странным способом спать.
— Уже почту раздали, — развивал свою мысль профессор, поднаторевший на китобойном промысле. — А жены им посылки прислали. В каждом ящике по две бутылки, больше не влезает. Ребята и отдохнули. Ну вот и ваша каюта, осваивайтесь. Душ в кормовой бане, помните, мы ее проходили на второй палубе? (Михайлов, естественно, не помнил.) Гальюн — прямо по коридору, ужин, — Думский посмотрел на часы, — через час в кают-компании на первой палубе. (Михайлов и этого не помнил.) В случае чего спросите, как туда добраться. Осваивайтесь. А я пошел, у меня срочное дело есть. — И профессор, взмахнув длинным мясницким ножом, который он ловко выхватил из висевших у него на боку потертых кожаных ножен, исчез в полутемном коридоре.
Михайлов успешно нашел гальюн, до душа и столовой не добрался, а достал из рюкзака кусок хлеба, пожевал и заснул.
А утром его разбудил боцман. Он-то и послал Михайлова туда, ну сами знаете куда, и, как только потом понял Костя, не в переносном смысле, а в прямом значении этого слова.
Буксировщик только что подтащил к борту китобазы самку сельдяного полосатика, и наступило время работы не только бригады раздельщиков, но и научных работников — профессора и студента.
Дипломная работа Михайлова была посвящена размножению китов и изучению спектров питания этих млекопитающих (неплохая тема для москвича, никогда не видевшего моря). Пищевые пробы, по методике Думского, следовало брать непосредственно из кишечника, а вот для того, чтобы выявить, сколько раз китиха рожала и не беременна ли она, надо было обследовать ее половую систему. Именно туда в этот утренний час и приглашал Михайлова из-за двери боцман.
Костя умылся, оделся и вышел на палубу. Погода была отличной: голубело небо, светило солнце, по морю катились невысокие зелено-серые валы, в воздухе и на волнах белели чайки и серели глупыши.
На разделочной палубе Михайлова ошеломил запах протухшего мяса и рыбы. Но студент тотчас забыл о нем: несколько толстых металлических тросов, дрожа, как струны огромной гитары, медленно, под визг лебедок наматываясь на барабан, тащили за хвост по слипу — наклонной палубе — огромного, как подводная лодка, кита. Корма «Командора» оседала под его многотонной тяжестью.
Доктор наук в длинном черном кожаном фартуке и с уже знакомым мясницким ножом на поясе нетерпеливо расхаживал между курящими раздельщиками и смотрел на подтягиваемого сейвала, или сельдяного полосатика. На палубе показалась голова зверя; из закрытой пасти потоками лилась морская вода.
Рабочие курили, опираясь на широкие фленширные ножи, возникшие, вероятно, с самого зарождения китобойного промысла. Они отдаленно напоминали клюшки русского хоккея, но были в рост человека, а та часть инструмента, которая у настоящей клюшки скользила по льду, у фленширного ножа была стальная и к тому же имела бритвенно острую заточку.
Стих визг лебедок, и китиха замерла на палубе. «Хоккеисты» побросали окурки за борт и двинулись к огромной туше.
— Мужики, — громко сказал боцман, — дайте студенту попробовать, как достается зарплата раздельщика, — и вытолкнул Михайлова вперед.
Бригадир протянул ему свой нож.
— Бей сильнее и резче, — негромко сказал он дипломнику. Михайлов взял округлое древко и изо всей силы ударил по китовому брюху. С хрустом брызнули скорлупки морских желудей, облепивших кожу зверя, и поползли похожие на крабиков китовые вши. Блестящее лезвие ножа отскочило назад, словно кит был резиновый, не причинив ему ни малейшего ущерба. Бригадир отпрыгнул в сторону, когда отточенная сталь, отброшенная сейвалом, пронеслась рядом с его лицом.
— Все ясно, — сердито сказал он Михайлову, отбирая у него нож. — Жрать надо лучше, больше и чаще. И зарядкой заниматься. По утрам и вечерам. А пока что до раздельщика тебе далеко.
С этими словами он нешироко размахнулся и ударил. Острое лезвие фленширного. ножа, казалось, без усилий погрузилось в кожу. На палубу упитанными анакондами и питонами поползли шевелящиеся кишки.
Бывалый профессор, черствые раздельщики и неженственный боцман равнодушно смотрели на это, но впечатлительный Михайлов побледнел.
— Пойдемте, возьмем пищевую пробу, — сказал Думский Косте.
Услышав это, раздельщики, уже знакомые с методикой профессора, подались назад. А доктор со студентом подошли к кишке, и Думский, взмахнув своим длинным ножом, нанес лихой кавалерийский удар с оттяжкой и, колыхнув тяжелым фартуком, быстро, но грациозно отпрянул в сторону. Из разрубленной кишки вверх взметнулась густая канализационная струя, состоящая из полупереваренных рачков и рыбок, и окатила неповоротливого Костю.
— Никогда бы не поверил, что для изучения китов придется работать ассенизатором, — прошептал задохнувшийся от сногсшибательных ароматов студент.
Профессор же переждал, пока стихнет благовонный фонтан, и только после этого в цинковое ведро взял пробу содержимого китового кишечника, щедро разлитого по палубе и по Михайлову. Раздельщики, брезгливо обходя студента, пошли к киту.
— Что же вы, батенька, такой неловкий, — мягко укорил его профессор, снимая с плеча Михайлова лезвием ножа несколько мелких селедок. — А сейчас пройдемте в матку. Здесь главное скорость, раздельщики быстро работают. Чуть замешкаешься — и нам ничего не достанется. — С этими словами Думский ринулся к сейвалу. За ним медленно брел Костя, стряхивая с себя черноглазых рачков.
Раздельщики споро махали фленширными ножами, и разрез на брюхе кита на глазах увеличивался. Сверху, со стрелы корабельного крана, спустили огромный мясницкий крюк; его острие ввели в надрез на китовой коже. На стреле заскрипели тали, и приличный шмат сала поплыл над палубой к горловине салотопки.
— Студент, ты чего медлишь? — сказал подошедший к Михайлову боцман. — Иди скорее к профессору, а то сейчас кончат кита потрошить, и ты никогда в китовую... — он нежно произнес матерное слово, — не заглянешь. Иди! — И гнусный боцман подтолкнул Михайлова к хвостовой части самки. — Студент должен все увидеть, все попробовать и везде побывать.
— А, оправились! — обрадовался профессор подошедшему Косте. — Вот и славненько. В первую китиху мы с вами полезем вместе. Я покажу, где и что находится и как обрабатывается. Ну а уж в следующий раз вы будете работать самостоятельно. Да-с. А сейчас — вперед!
И Думский со своим длинным ножом и в огромном фартуке, похожий на горца с шашкой и буркой, почему-то надетой задом наперед, бросился туда, где точные удары фленширных ножей делали кесарево сечение мертвой китихе.
Раздельщики добрались до анатомических структур, в которые стремился Думский.
— Желтое тело крупное, — задумчиво произнес профессор, рассматривая яичник. — Значит, китиха беременна. Надо искать эмбрион.
Раздельщики уже отверзли полость огромной, величиной с комнату, матки. Михайлов забрался туда и прошелся по пружинящей, как резина, ткани. У студента появилось ощущение, что они с профессором занимаются геологией: все вокруг было настолько громадным, что больше походило на горные породы, слои и горизонты с полезными ископаемыми и самыми подходящими для работы были бы геологический молоток, лопата и кирка. Но Думский достал свой нож и присел над незаметной выпуклостью.
— Вот он, эмбрион. Здесь надо работать аккуратнее, — произнес Думский. — Больше для нас китих этого вида стрелять не будут. Сельдяной полосатик — зверь редкий, на них специальное разрешение получать надо. — И профессор бережно положил полуметрового неродившегося китенка в ведро.
Пока они возились с женскими половыми органами сейвала, вокруг кипела работа. Слышался мат раздельщиков, свист паровых пил, расчленяющих китовые кости, хлесткие удары фленширных ножей, пение лебедок и скрип талей.
Сначала огромные куски сала с помощью кранов переносили и сбрасывали в горловины салотопочных котлов. Потом зверя подтягивали на переднюю палубу, где разборка кита продолжалась. Здесь по воздуху уже плыли, раскачиваясь на крючках, куски темно-красного мяса.
Пятно крови бурело вокруг китобазы. Тысячи чаек и глупышей носились рядом с кораблем. Поблизости на волнах покачивались два буксировщика, приведших еще китов для обработки.
— Все, — сказал окровавленный профессор. — На сегодня хватит. А это, — и он передал Михайлову ведро с эмбрионом, — надо зафиксировать.
Костя пошел по палубе мимо того, что два часа назад именовалось китом. Сейчас от него остались одни ребра, торчащие как шпангоуты потерпевшего кораблекрушение корабля. Раздельщики уже разбирали и их, распиливая паровыми пилами, чтобы из костей вытопить жир.
Последние огромные, под центнер, куски мяса плыли над палубой в открытые зевы люков. Костя, скользя по жирной палубе, сгибаясь под тяжестью собственных впечатлений и китовых проб, думал о том, сколько же ему придется мыться, чтобы уничтожить китовый запах (студент еще не знал, что этот стойкий аромат сохранится до Москвы).
Но судьба приготовила еще одно испытание для впечатлительного дипломника. Михайлову осталось пройти еще с десяток метров до двери, когда сзади он услышал испуганный крик и почти одновременно с этим — тяжелый глухой удар. Под ногами Кости дрогнула палуба, и что-то с силой брызнуло ему на спину. Костя обернулся и поднял голову. Над ним в синем небе качался огромный окровавленный крюк, с которого мгновение назад сорвался не доехавший до люка кусок китового мяса. Он-то и лежал сейчас у ног Михайлова. Огромные, с палец толщиной и длинные, как макароны, темно-красные мышечные волокна судорожно сокращались. Для нежной нервной системы Кости центнер китового мяса сейвала был последней каплей. Студент сделал по палубе несколько неверных шагов и упал в обморок почти с таким же звуком, который несколько минут назад был исторгнут частью сельдяного полосатика.
Михайлова привел в чувство профессор. Он помог добраться слабонервному любителю китов до каюты, сам зафиксировал подобранного эмбриона в спирту, а заодно и подлечил нервы своего подопечного хорошей дозой разбавленного ректификата. Засим Думский оставил утомленного дипломника переживать дневные впечатления, строго запретив ему сегодня выходить на разделочную палубу.
Последствия этого происшествия были весьма печальны для студента и разорительны для его руководителя.
На китобазе жизнь текла напряженно, но однообразно, что приводило к острому хроническому эмоциональному и информационному голоду личного состава. Поэтому всяческие явления, которые скрашивали жизнь или делали ее менее пресной, принимались с восторгом. Киноленты в судовом клубе давно были просмотрены по нескольку раз (последнюю неделю киномеханик крутил фильмы исключительно задом наперед, при этом персонажи не только двигались, но и разговаривали таким же образом). Спасительные посылки приходили удручающе редко, и поэтому, чтобы как-то разгрузиться от стресса (в те годы, правда, этого слова еще не знали), снять напряжение и сбросить излишек адреналина к крови, раздельщики устраивали спонтанные мордобития. Поединки возникали по пустячному поводу, а чаще вообще без него. Вызов противника принимался с удовольствием, так как в этих кулачных единоборствах виделось что-то свежее, вносящее новизну в жизнь в замкнутом пространстве корабля, заполненную лишь трудовыми буднями, которые, в свою очередь, были насыщены одними потрошеными китами.
Дуэли, по заведенному на судне обычаю, проходили не где попало (не в каюте — там слишком тесно, не в кубрике — не дай бог разбить там посуду, и не на палубе — там слишком скользко, и потом, зачем устраивать драку на глазах у всех. На базе считалось, что мордобитие, как и любовь, — это удовольствие для двоих. Поэтому мероприятия проводили в очень удобном и интимном помещении — в корабельной бане, а так как их на судне было две, то для драк была негласно выделена носовая баня.
Степень концентрации адреналина в крови того или иного раздельщика можно было определить хроматографическим путем — по сочетанию красного, фиолетового или желтого цветов на его физиономии.
Но после падения куска мяса и Михайлова баня пустовала: все раздельщики с удовольствием наблюдали ежедневно происходящее на палубе представление.
После того как Михайлов, обработав — уже самостоятельно — свою часть китихи, шел с ведром в лабораторию, один из закоперщиков за его спиной ронял на палубу какой-нибудь увесистый предмет: завернутый в тряпку большой гаечный ключ, сапог с положенным внутрь камнем или что-нибудь подобное, но обязательно издающее при падении глухой звук. Результат эксперимента, к общему удовольствию всех присутствующих на палубе (за исключением, естественно, испытуемого), был всегда одним и тем же. Студент делал несколько шагов, потом оборачивался и, картинно раскинув руки и отбросив далеко в сторону ведро с научным материалом, падал в обморок.
Начальник Михайлова не на шутку встревожился. Нервы студента никак не поправлялись, зато чудесная фиксирующая жидкость исчезала в желудке дипломника во всевозрастающих количествах.
«Этак я домой его привезу не только неврастеником, теряющим сознание при звуке захлопывающейся двери, но вдобавок и алкоголиком, — думал как-то вечером профессор, гладя нетрезвого Михайлова по головке. — Надо что-то делать».
Думский нашел троих главных организаторов ежедневного психологического шоу с участием Михайлова — разновысоких, разномастных и разновозрастных мужиков, но имеющих одинаково нагловатые глаза, которые бывают у околачивающихся в подворотнях подростков. Профессор, что-то пробормотав об излишней впечатлительности студента, передал зачинщикам бутылку спирта.
Результат этой душеспасительной беседы оказался неожиданным: теперь тяжелые предметы стали падать вдвое чаще — не только когда Михайлов уходил с палубы, но и когда он появлялся на ней. Нечестные вивисекторы решили заработать на дипломнике побольше, решив, что профессор является как раз той самой сказочной коровой, доящейся небесной росой.
— А вы обратитесь лучше к боцману, — сказал капитан Думскому, услышав от него про несчастного Костю. — Он имеет большой авторитет у команды. Попробуйте, потолкуйте о значении и пользе для народного хозяйства ваших исследований, поговорите по душам. Думаю, он поймет и поможет.
И профессор, пригласив боцмана в свою каюту, поговорил.
— Это дело поправимое, — на прощанье сказал боцман, пряча свою бутылку во внутренний карман бушлата.
Вечером того же дня он зазвал всех троих шутников в носовую баню.
— Я с вами, ребята, про студента поговорить хочу, — подозрительно задушевно начал боцман.
— Что, Петрович, профессор и тебе поставил? — фамильярно перебил его один из застрельщиков. — Этот студент — золотое дно! Мы на его нервах весь рейс косыми ходить будем. Знаешь, сколько у профессора спирта? Кита утопить можно, честное слово!
— Нет, ребята, — отвечал боцман. — Мне профессор все про науку объяснил. И потом, — добавил боцман сумрачно, — я, не в пример вам, слово свое держу. — И с этим замечанием боцман закрыл дверной засов.
— Ты что, Петрович, из-за этого студента? — спросил другой зачинщик, наслышанный о способностях боцмана по части рукопашного боя, видя, как тот пошел на них.
— И еще, — продолжал решительный Петрович. — Я свой хлеб, не в пример вам, честно отрабатываю. — И сделал еще один шаг.
На следующий день Костя впервые без приключений и обмороков донес ведро с пищевой пробой и эмбрионами до лаборатории. Трое заправил презрительно отвернулись от проходящего мимо дипломника и, как по команде, сплюнули. Боцман был человеком честным, но незатейливым и даже однообразным: огромный свежий синяк ловко закрывал левый глаз каждого шутника.
Народ на китобазе снова стал нервничать и скучать от однообразия корабельной жизни, и вскоре пустовавшая было носовая баня приняла очередную пару дуэлянтов.
Но скоро нашлось новое развлечение. Об этом возвестили жуткие женские визги, доносившиеся из каюты поварихи. Звуки, издаваемые ею, были какой-то неопределенной эмоциональной окраски: то сквозило безысходное отчаяние, то звенел заливистый хохот. Слышались и мужские голоса.
«Ну вот, — подумал Костя, — матросов и раздельщиков на повариху потянуло».
Повариха была дама бальзаковского возраста и тела и запросто поднимала одной рукой тридцатипятилитровую флягу с компотом. Вопли поварихи не стихали, а мужские голоса усиливались до жеребячьего ржания. Михайлов, собравшийся было полюбопытствовать, что же там происходит, в нерешительности остановился.
«Нет, не пойду, — решил он. — Когда их всех поймают, они и на меня укажут, что я тоже участвовал. Не пойду».
А из каюты уже неслись мужские крики:
— Да так не получится! Раздеть ее надо! Пусть сама все снимет! Тогда и пролезет! И мыла надо, мыла! Или масла! Постного! Или сливочного!
И громкий визг поварихи:
— Уйдите, ироды! Я сама!
Благородный Михайлов не выдержал и ринулся спасать женщину. Дверь ее каюты была раскрыта. Мужики толклись у входа и с любопытством заглядывали внутрь. И, рассмотрев что-то, находящееся в каюте, выскакивали в коридор с тем самым жеребячьим хохотом, который так взволновал Михайлова.
«Господи, — подумал начитанный Михайлов, — как в «Оптимистической трагедии» Вишневского».
— Товарищи, что вы делаете?!. Нельзя ведь... Оставьте ее... Ведь это же бесчеловечно... А потом ведь за это же в тюрьму сажают... — бормотал Костя, пытаясь раздвинуть крепкие спины и протиснуться в каюту. Наконец боцман, тоже присутствующий здесь, услышав скорбные причитания Михайлова о загубленной девственности поварихи и о бесчеловечности матросов, зашелся хохотом, отдаленно напоминающим крик встревоженной белой куропатки. Он мощной рукой растолкал мужиков и пропихнул упирающегося Михайлова внутрь каюты.
Поварихи на койке не было. Ее вообще не было в полутемном помещении. А голос любимицы всей команды раздавался откуда-то снаружи. Только сейчас Костя сообразил, что в каюте как-то сумрачно, под потолком почему-то горит электрическая лампочка, а иллюминатор забит тюфяками и подушками с рюшечками и оборочками. Матросы подходили к этим постельным принадлежностям, ласково хлопали по ним ладонями и обращались к невидимой поварихе:
— Клавка, помочь раздеться?
А голос Клавы отвечал откуда-то снаружи:
— Уйдите, нахалы, я сама!
Наконец Костя понял, что тюфяк, закрывающий иллюминатор, — это обширный зад мастерицы готовить макароны по-флотски. Клавдия, почему-то наполовину просунувшись в иллюминатор, стояла на коленях на столе. Ее голова и плечи располагались снаружи корабельного корпуса.
Оторопелому Косте издали позволили насладиться лицезрением лучшей половины человечества, а потом вытолкнули в коридор, где икающий от хохота боцман рассказал ему, что же случилось с поварихой.
Позавчера на палубе от сильной качки сорвался плохо закрепленный кашалот. Зверь поехал по палубе — скользким доскам, и его хвостовой лопастью слегка придавило ногу корабельному электрику. Он, находясь во временно нетрудоспособном состоянии, ковылял по кораблю, навещая всех свободных от вахты знакомых. Он побывал везде — от машинного отделения до камбуза. Там повариха возилась у плиты.
— Ты, Клавдия, женщина положительная, солидная, обстоятельная, — начал, поздоровавшись, электрик и неожиданно тактично переменил тему разговора: — А сколько ты, интересно, весишь? Центнера полтора?
— Что ты! — обиделась Клавдия. — Это я на берегу отъедаюсь. А здесь, на базе, я на диете сижу, вон как похудела!
— Нет, Клава, плохая у тебя, знать, диета, — гнул свое электрик. — Если бы ты себя блюла, уж давно стала бы такой стройной, что в иллюминатор пролезла бы.
— А я не пролезу?! Да что ты такое, старый инвалид, говоришь? Давай спорить, что пролезу!
И они поспорили. Остальное Костя видел сам. Отрыдавшиеся матросы приступили к спасению поварихи. Они из доски и веревок соорудили «беседку» — конструкцию, напоминающую качели, посадили туда хромого электрика и спустили за борт, к той части тела поварихи, которая высовывалась из иллюминатора наружу, — помогать ей освобождаться от одежд.
Клавдия помощь отвергла и раздевалась сама, передавая предметы дамского туалета висящему рядом монтеру, который стыдливо отводил глаза. Это не ускользнуло от внимания поварихи.
— Что ты, старый черт, отворачиваешься? Или женщин не видел?! У, охальник!
И она, кокетливо бросив ему огромных размеров бюстгальтер, напряглась и втянулась через иллюминатор в свою каюту, как моллюск в раковину. Команда наблюдала сцену разоблачения, перегнувшись через борт. Когда повариха скрылась, электрика подняли на палубу, он понес одежду виновнице переполоха. Электрик постучал.
— Подожди, я не одета, — послышался из-за двери голос Клавдии.
Через минуту дверь распахнулась, и повариха в домашнем плюшевом халате появилась на пороге и взяла у него свои вещи.
— Ладно, — умиротворенно сказала освобожденная Клавдия, — проспорила я. Как договорились — вечером.
Вечером в кубрике стоял огромный торт, испеченный Клавдией. Повариха ела вместе со всеми.
— На материке обязательно на диету сяду, — говорила она после каждого куска.
Сердобольный профессор не мог вынести последних душевных мук Кости. Он отправил студента на судно-китобоец, чтобы дипломник, оставив порочную базу, подлечил свои нервы среди неиспорченных охотников, а заодно, для расширения кругозора, посмотрел, как киты добываются.
В день отправки Кости море было неспокойным и шел дождь.
«Хорошая примета — отправляться в путь в дождь», — решил глупый Костя, выходя с объемистым рюкзаком на палубу. Там оптимизма у дипломника поубавилось: море штормило так, что даже огромную базу сильно качало. Где-то внизу волны безостановочно мотали небольшой китобоец с названием «Стерегущий». Он то проваливался в пенную бездну, то взлетал до самого фальшборта китобазы, и перекладины штормтрапа с кастаньетными звуками щелкали по мокрой палубе китобойца. По этой веревочной лестнице Михайлову и предстояло добраться к месту своего отдыха. Перед ним вниз по штормтрапу ловко скользнули два мужика, предварительно сбросив на палубу «Стерегущего» свои вещи — какие-то сумки и свертки.
Костя с ужасом смотрел на бушующее море, на летающий кораблик, на мокрые перекладины, по которым ему предстояло спускаться.
«Кажется, была такая казнь у пиратов — пройтись по доске», — вспомнил эрудированный студент и полез через фальшборт.
— Куда ты? — остановил его боцман. — Кинь сначала рюкзак, а потом сам уже лезь. Не бойся, они поймают.
И, видя, что ошалевший от страха Михайлов уже ставит ногу на первую деревянную перекладину-ступеньку, так и не снимая со спины поклажи, добавил:
— Ну хоть одно плечо от лямки освободи.
Но испуганный Костя не слышал: его внимание было полностью занято морской пучиной, колыхающейся за бортом. Заметив это, черствый боцман заорал уже не дипломнику, а матросу на палубе китобойца, придерживающему штормтрап:
— Студента не спасать! Он с рюкзаком все равно сразу ко дну пойдет!
Эта инструкция отрезвила Михайлова. Он наконец-то осознал серьезность момента, снял рюкзак и, когда «Стерегущий» взлетел под аккомпанемент деревянного перебора ступенек, бросил его на палубу китобойца. К изумлению Михайлова, его рюкзак на лету подхватило сразу несколько рук. Неуклюже спускавшегося Михайлова тоже поймали, правда, не столь нежно. Видимо, на китобойце уже знали, что самое ценное, что было у дипломника, заключалось в его рюкзаке — там находилась двухлитровая бутыль с ректификатом, которую профессор всунул ему в качестве представительского дара науки. Едва Михайлов ступил на мокрую палубу, как «Стерегущий» начал отходить от базы. Проплыл мимо ржавый борт «Командора» с болтающимся штормтрапом, мелькнул родной иллюминатор и равнодушное лицо боцмана, и Костя заспешил к матросам, бережно оглаживающим бока вожделенного рюкзака.
«Стерегущий» развернулся и, роя носом водяные валы, двинулся в бескрайние просторы Тихого океана.
Первый день плавания на китобойце не принес Михайлову ничего нового, кроме сильнейшего впечатления от фантастического всекомандного запоя. Что было с ним, Костя почти не помнил. Иногда сквозь серые полосы глухого похмельного тумана в его голове фиксировались памятными мутными фотографиями отдельные эпизоды: коряво отрезанные ломти черного хлеба, пилообразные края наспех открытых консервных банок и вездесущие стайки пустых бутылок, вожаком которых был Костин двухлитровый пузырь, холостой выстрел из гарпунной пушки — то ли в честь чьего-то дня рождения, то ли в ознаменование Дня рыбака, то ли в качестве салюта пролетевшему над ними американскому самолету-разведчику, направляющемуся к берегам Союза.
Михайлов в нетрезвом виде несколько раз перезнакомился со всеми членами экипажа, пил с капитаном на брудершафт, плясал на столе, пытался искупаться в Тихом океане, выслушал массу автобиографий и три истории о несчастной любви, отклонил предложение интимного свойства и наконец очнулся со страшной сухостью во рту, головной болью, изжогой и фиолетовыми тенями под глазами.
На китобойце единовременно кончились все запасы спиртного. После кратковременной пьянки в открытом море наступил сухой закон. Страждущая команда находила повсюду лишь залежи стеклотары, которая со страшными морскими ругательствами, спровоцированными ферментами похмелья, крушившими могучие организмы китобоев, выбрасывалась за борт.
Началась работа. Судно рыскало в северной части Тихого океана, и впередсмотрящий, стоя в «вороньем гнезде» наблюдательной площадки, выискивал китовый след в океане — ровный, прямой высокий фонтан финвала, чуть пониже и пошире — сейвала, округлый «куст» горбача, стелющуюся над водой влажную струю выдоха кашалота или совсем невысокое шаровидное облако серого кита.
Когда долгожданный знак теплого китового дыхания обнаруживали, судно гналось за зверем, преследовало его, теряло, вновь находило и снова устремлялось за такими нужными и дешевыми тоннами жира, костяной муки, комбикорма для птиц и зверей, отвратительной китовой колбасы и снимков для энциклопедии: бригада раздельщиков, стоящая на туше убитого зверя.
Иногда «Стерегущий» быстро настигал кита, иногда для этого требовалось несколько часов. Охотник наконец приближался к ныряющему гиганту, а дальше все шло так, как это описывал Мелвилл в своем знаменитом романе, но с той лишь разницей, что во времена белого кашалота людям действительно нужны были киты, что вместо весельных вельботов появились суда-китобойцы с неустающими моторами, вместо больших парусников — огромные китобазы, вместо крепких рук гарпунера — пушка, вместо остроги, которой добивали кита, — граната.
Гарпунер «Стерегущего» был отменным стрелком и даже при хорошей волне не делал промахов. Заряд в пушке был довольно слабым, над морем раздавался глухой хлопок, и блестящая стальная болванка гарпуна с четырьмя прижатыми лепестками зубцов, казалось, неторопливо летела, протягивая за собой ниточку крепкого линя к всплывающей на несколько секунд темной глянцевой спине кита. Железо попадало в уже исчезающее под волной тело зверя, и толща воды и плоти глушила разрыв гранаты.
Мертвый кит не мог долго держаться на плаву, поэтому его прокалывали тонкой металлической трубкой и при помощи корабельного компрессора в тушу закачивали воздух. Надутого кита буксировали к базе или, если поблизости были еще звери, в плавающую тушу втыкали длинную мачту с красным вымпелом — «ставили на флаг», чтобы потом легче было отыскать добычу.
Иногда охотничья удача обходила китобоец стороной. За день не удавалось увидеть ни одного фонтана. Тогда вся команда, скучая, смотрела на море, занимаясь вынужденными биологическими наблюдениями и за разъяснениями обращаясь к Михайлову.
Чаще всего над морем попадались птицы — крутящиеся над «Стерегущим» чайки: бургомистры, моевки и скользящие над самыми волнами глупыши. Два раза Костя видел огромных, как планеры, белоспинных альбатросов — бродяг с юга. У безжизненных скалистых островков над морем порхали небольшие серые птички — качурки. Они, трепеща крыльями, как бабочки, летали над самой водой, смешно свесив перепончатые тонкие лапки, как будто собираясь в любой момент присесть на воду, но так и не садясь на нее. В воде живность попадалась реже: встречались ненужные для промысловиков мелкие зубатые киты — белухи и касатки; изредка над волной показывалась заостренная морда сивуча; у берегов плавали лупоглазые нерпы. Когда судно останавливалось, можно было, перегнувшись за борт, рассмотреть и других обитателей океана. В толще воды медленно двигались почти невидимые прозрачные гребневики, заметные лишь по радужно искрящимся, переливающимся, вытянутым вдоль тела пластинкам, виднелись пульсирующие купола огромных медуз-цианей.
Иногда судно останавливалось недалеко от берега, и вся команда рыбачила. Азартно хватала камбала на поддев. Вся рыбалка заключалась в опускании ста метров лески с грузилом и крючком с приманкой. Как только груз касался дна, тут же чувствовался удар — рыба хватала приманку, и приходилось вытаскивать леску с болтающейся на конце плоской, как тарелка, пятнистой камбалой.
Однажды Михайлов подцепил крючком крупного краба. Его панцирь весь был покрыт бугорками, из которых росли кисточки жесткой щетины. Костя сварил его в камбузе, разгрыз волосатые клешни и съел белое мясо. Губы у студента после этой операции горели, как будто он долго и страстно целовался с каким-то усачом.
Кроме этих чисто биологических объектов одиночество китобоев скрашивали и другие морские скитальцы.
Каждый день над судном пролетал американский самолет-разведчик (тот самый, по которому стреляли из пушки) с красивой пятиконечной звездой, правда белого цвета. Самолет этот был почти родным, все знали его бортовой номер и однажды искренне заволновались, когда он два дня не показывался.
Встречи с людьми были не только в воздухе, но и на воде. Однажды впередсмотрящий увидел на горизонте одинокую красную звездочку ракеты, и «Стерегущий» сменил курс. А через полчаса рядом с бортом китобойца болталась на волнах рыжая от ржавчины скорлупка.
— Рыболовный бот, — презрительно пояснил капитан тип судна неграмотному Косте. — Всегда у них одна и та же история... — И приказал спускать трап. — Смотри, сынок, на морских побирушек. — Капитан продолжал учить Костю морской жизни. — На вид — голь перекатная, а заработок выше, чем у нас.
На палубе бота среди огромных тюков кое-как сложенных мокрых сетей стояло четверо рыбаков в невероятно драных бушлатах и резиновых сапогах. Один из них, в самой потрепанной одежде, но в фуражке с «крабом» (остальные были в шапках-ушанках), этаким морским орлом взлетел на палубу китобойца. В руках у мужика был кусок промасленной бумаги.
— Механик, — решил Михайлов. — Наверное, что-нибудь сломалось.
— Штурман кто? — не здороваясь, спросил мужик.
Позвали штурмана. Обладатель крабовой фуражки встал на колени и разложил на палубе лист бумаги, оказавшийся морской картой.
— Где мы? — трагическим голосом спросил у штурмана коленопреклоненный владелец морских регалий.
Аккуратный штурман присел на корточки и хорошо отточенным простым карандашом поставил на карте точку, сразу же потерявшуюся среди грязных разводов. Мужик вытащил из внутреннего кармана бушлата свой красный обгрызенный карандаш и обвел им штурманскую отметку.
— Ишь ты, куда нас занесло, — только после этого удивился рыбак. — Я, вообще-то, капитан, — наконец-то представился он и добавил: — Водой не богаты? — И, не дождавшись ответа, крикнул людям, находившимся в боте: — Давай сюда!
А по трапу уже лезли пиратской абордажной командой остальные рыбаки с молочными флягами — по воду.
— Хорошие люди китобои, — сказал обшарпанный капитан бота Михайлову, глядя, как фляги курсировали с его судна на «Стерегущий» и обратно.
— А вот нас в прошлый раз за то, что воды дали, работать заставили. Да еще как! Мы к СРТ[13] пристали. А там как раз трал поднимали, аж лебедки трещали. Трал мастер с ума сходит. Капитан радуется — вот это улов! Сразу полплана! Поднимают сеть, а рыбы совсем немного. Развязали над палубой кутец, а там здоровенный гранитный валун. Ну нас и заставили команде помогать — его за борт спихивать. Подходим мы к этому огромному камню, а он весь исписан. И красной, и черной, и желтой, и зеленой, и еще черт знает какой краской. Больше всего встречалось надписей на русском языке. Но попадались на японском, английском и даже на польском. Ну мы могли прочесть только русские. Чего там только не было: в основном пожелания Тихому океану, профессии рыбака и тем, кто этот булыжник поймает в следующий раз. В основном такого типа: «Постарались мы, а теперь постарайтесь вы!» В том месте была мелководная банка. И камбала там лежала в несколько слоев, а вместе с рыбой и этот валун. И его чуть ли не каждую неделю чей-нибудь трал ловил. Вот рыбаки и писали что-нибудь душевное своим последователям и всей командой за борт спихивали — не на берег же его везти.
Настал день, когда Костя должен был вернуться на китобазу. Они подходили к гигантскому ржавому судну, окруженному китобойцами, буксировщиками, китами, над которыми празднично полоскались кумачовые флажки, ужасной вонью и тысячами галдящих чаек и глупышей.
«Стерегущий» подошел вплотную к «Командору», и Михайлов, подняв голову, обнаружил среди стоящих на палубе людей профессора, повариху и боцмана.
— Ну как, отдохнули? Посмотрели китов на воле? — закричал Думский. — А мы вам тут небольшой сюрприз подготовили. — И профессор почему-то указал на морское дно и, обернувшись к кому-то невидимому, стоящему сзади него, крикнул: — Поднимайте!
Заскрипели блоки на кране, и из глубины моря пополз трос. Вода забурлила, и из глубины пучины («Как Афродита из пены морской», — подумал Михайлов) появился колоссальный череп кита. Он торжественно поплыл над волнами, и струи влаги стекали с желтых костей.
— Каков красавец! — ликовал сверху жизнерадостный профессор. — Прекрасный экземпляр! Но уж больно вонял! — продолжал Думский. — И мы его погрузили, так сказать, в океан, чтобы его рыбки объели. А теперь после биообработки его и в Москву не стыдно везти в музей. А повезете этот уникальный экземпляр вы, голубчик! — крикнул он ошарашенному Михайлову.
Стрела крана повернулась, и череп, плавно покачиваясь на тросах, поплыл над водой, как жутковатая декорация к фильмам ужасов. Вдруг костяк оглушительно треснул, громоподобно щелкнули челюсти (Косте по забытой привычке стало плохо), тросы лопнули, и череп многоцентнерной тяжестью рухнул в море.
«Амок». Стефан Цвейг», — автоматически отметил про себя студент, испытывая неосознанную радость. А потерявший от горя дар речи Думский еще долго вглядывался в пузырящуюся водную бездну.
УЧЕТЫ
Существует много способов изучения птиц. Можно, укрывшись в шалаше или палатке, удобно устроиться на надувном матрасе и лежать там весь день, наблюдая в подзорную трубу за интимной жизнью коршунов или аистов. Можно, усевшись весной на морском берегу, смотреть на пролетающих уток или чаек. А можно просто бродить по лесам и лугам, высматривая, какие пичуги где живут. А есть способ считать галок и ворон (да и других птиц) на вполне научной основе. Это называется количественным учетом. Знать точное (или относительно точное) число птиц, живущих на той или иной территории, необходимо не только для того, чтобы удовлетворить праздное любопытство орнитологов. Численность птиц надо знать при охране или привлечении редких или полезных для человека видов, а также в случае необходимости уменьшения количества нежелательных пернатых (ворон в городе, скворцов на виноградниках, чаек на аэродромах).
Кажется, чего проще — сосчитать птиц. Но нет, эта работа требует особой квалификации и подготовки. Прежде всего необходимо безошибочно узнавать всех птиц (а их только в Москве обитает свыше 200 видов, а в России — около 700). И различать их надо не только по внешнему облику, а по голосам: песням, посвистам, позывам, крикам, а также по другим звукам (например, различать виды дятлов по их долбежке) — ведь в природе птицу чаще не видишь, а слышишь.
Затем надо проложить учетный маршрут (длина его должна быть около десяти километров), проходящий в типичной для этого района местности, и — самое неприятное для многих орнитологов — учет должен проводиться на рассвете, когда все птицы интенсивно поют и их легко обнаружить.
Если бы вы знали, как от такого «променажа» даже в подмосковном лесу устаешь к концу дня. Идти надо медленно, чтобы никого не пропустить, к тому же ни на минуту нельзя расслабиться. Вот кто-то промелькнул в зарослях — кто это, конек или овсянка? Вот пискнула синица: московка? гаичка? хохлатая? Застучал дятел, а какой? Белоспинный? Или, может быть, большой пестрый?
В лесах средней полосы России больше всего утомляет птица зяблик. Им просто переполнены все рощи и дубравы, ельники и сосняки. И бредешь по лесу, пытаясь за этой «шумовой завесой», за неустанно повторяющимися трелями сотен зябликов услышать и правильно определить песни других видов птиц. И вечером, после такого учета в подмосковном лесу, засыпаешь под четкие, дурацкие, ура-оптимистические фразы зябликов, беспрерывно, как на заезженной пластинке, звучащие у тебя в голове.
Конечно, на таких маршрутах встречаешь не только птиц. Ведь когда ищешь одно, почему-то попадается совсем другое.
О некоторых таких встречах, находках и приключениях, происшедших со мной и моими коллегами орнитологами на учетных маршрутах, я и хочу рассказать.
ПОДЪЕЗД
Наблюдать птиц на лугу, в лесу, на реке и даже на болоте — то есть в естественной обстановке — хоть и трудное, но все-таки удовольствие: природа есть природа. Однако иногда приходится заниматься этим и в других местах, в том числе и в городах. Маршруты здесь неинтересны, скучны и утомительны. Попробуйте несколько часов прошагать по улицам, где иногда и присесть-то на отдых не хочется: повсюду шум, машины и люди. И потом, какие птицы здесь: стрижи, голуби, вороны, галки да воробьи. А последних просто жуть сколько: кричат, чирикают на тротуарах, в скверах, на подоконниках и балконах. И всех надо посчитать, если «делаешь науку». Конечно, есть в городах синицы и мухоловки, скворцы и горихвостки, зяблики и зеленушки, но их очень мало, и птичье население здесь состоит в основном из пресловутых воробьев да сизарей. Тяжело и неинтересно проводить подсчеты в городе.
Однажды летом я брел где-то в районе Университетского проспекта, утомленный душной, прямо-таки булгаковской жарой и бесчисленными воробьиными криками, и совершенно не заметил, как сзади стремительно и бесшумно подкралась огромная черная туча. Небо в мгновение потемнело, и сверху обрушился настоящий тропический ливень. Вот только тут я оценил преимущества города. В лесу ищи елку повыше да погуще — авось она спасет. А здесь я просто юркнул в ближайший подъезд и сразу же оказался там, где сухо и светло. Стою смотрю, как на улице бурлит мутная вода, как по асфальту в эфемерных ручьях скачут капли и лопаются пузыри. Быстро пройдет летняя гроза, а воробьи подождут.
Не один я оказался в спасительном подъезде. Рядом со мной стояли две девушки: наверное, гроза их тоже заставила искать здесь укрытия. Очень симпатичные, стройные девушки: одна брюнетка, другая шатенка, в легких нарядных платьях. И что меня больше всего взволновало, так это их улыбки. Обе девушки были очень привлекательными, но каждая по-своему, а вот улыбки у них оказались похожими: у обоих с какой-то загадкой. Ну прямо две Моны Лизы. Стоят они рядом со мной, на проходящую грозу смотрят, и то одна, то другая на меня взглянет, и зажигается в их чудесных глазах легкий, таинственный, лукавый огонек. Хорошо!
Дождь заканчивался. Я вышел из подъезда и двинулся дальше — считать воробьев, ворон и прочих пернатых соседей горожан. Прошел с десяток метров, не выдержал и обернулся — не ушли ли мои красавицы? Нет, не ушли. Стоят и смотрят на меня с теми же загадочными улыбками Джоконды. В чистом светлом подъезде. А над его входом большая буква «Ж».
ПРАЛИНОВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ
Но городские учеты изредка приносят и настоящие (то есть материальные) радости. И все потому, что приходится выходить очень рано — когда птицы активны, а люди еще не проснулись. Тогда чувствуешь, что после ночи этим утром первым идешь по улицам. Именно в эти утренние часы в Москве я находил множество разных полезных предметов: очень хорошую английскую перчатку (когда я принес ее домой, родственники громко убивались, что она только одна), наручные часы, прослужившие мне десять лет, новую — ну прямо со склада — армейскую фляжку, крохотное помятое золотое колечко с выбитым камушком — судя по всему, вечером по нему прошлось много народу — и около двух долларов мелочью, рассыпанной по площади в один квадратный метр.
Но самую удивительную находку в Москве совершила моя знакомая Ирина. Будучи студенткой, она по заданию своего научного руководителя тоже считала птиц. Дипломница шла рано утром по Черкизовской улице и считала ворон (любимых птиц ее босса), а также заодно воробьев, синиц, стрижей и прочих пернатых. Надо сказать, что Ирина была очень старательной студенткой, закончившей впоследствии институт с красным дипломом, а кроме того — и очень хорошим человеком. Но все же один недостаток у нее был: она до смерти любила сладкое.
Итак, обязательная Ирина шла по безлюдной утренней улице, занося аккуратным ровным почерком всех встреченных птиц в записную книжку. Она дошла до перекрестка и вдруг увидела чудесную, невероятную картину: будто ожили самые смелые, самые сладкие ее грезы. Вся улица была завалена коробками. «Пралиновый торт» — было написано на каждой. Ирина, не смея верить этому утреннему миражу и своим сокровенным, наконец-то сбывшимся мечтам, подняла одну коробку и открыла крышку. Топорщась орехами, залитыми толстым-толстым слоем шоколада, там лежало свежее кондитерское изделие, полностью соответствующее этикетке.
Кроме прочих черт характера, делавших Ирину почти идеалом, она была еще и честной девушкой. Поэтому студентка, взяв только одну коробку и откусив от торта приличный кусок, оставила остальные лежать на улице. Вздыхая о своей непорочности, она свернула в переулок (как требовал маршрут) и, миновав сладкую улицу, пошла дальше, делая периодически остановки, чтобы оглянуться на залежи тортов и, хрустнув вафельными слоями, записать воробьев, прыгающих за ней и склевывающих крошки.
Как всегда, райская жизнь продолжалась недолго. Не успела Ирина пройти квартал, как за ее спиной раздался шум мотора, визг тормозов. Хлопнула дверца машины, послышались торопливые шаги приближающегося человека и его тяжелое дыхание. Сзади к ней подбежал мужчина и схватил ее за руку в тот момент, когда лаборантка откусывала очередной кусок. Испуганные воробьи разлетелись. Грубиян же оказался шофером грузового фургона. Утром, спеша со склада в кондитерский магазин, он слишком сильно затормозил на перекрестке, и из неплотно закрытых дверей машины на асфальт посыпался сладкий товар. Хорошо, что шофер быстро заметил пропажу, вернулся и собрал все коробки. Потерь почти не было. Только у последнего найденного им торта была отъедена половина.
ЗОНА
Был солнечный сухой день. На пропускном пункте милиционеры стояли в марлевых намордниках на загорелых лицах: опять ветер был в их сторону.
Сержант переписал номера моего бинокля и фотоаппарата во избежание мародерства в зоне. Мимо КПП по ровному как стрела шоссе, проложенному посреди старого соснового бора, прошла колонна автобусов с вахтовиками. Я подождал, пока усядется пыль, и только тогда, сев на казенный велосипед, поехал вслед за машинами. Но через пять минут меня обогнал какой-то «Икарус», идущий вне расписания, потом другой. Пришлось надеть респиратор и только потом продолжать свой путь.
Здесь, в зоне, мне приходилось делать все ту же работу: ходить по маршрутам и учитывать птиц. А уже дома, в Москве, вне радиации, можно было посчитать, сколько пернатых обитает на квадратном километре загрязненной территории, и с некоторой долей приближения вычислить и общий вес обитающих там птиц. После некоторых математических действий (в частности, вычитания веса оседлых видов) можно было установить, сколько тонн загрязненного радионуклидами биологического вещества осенью улетало с пернатыми за пределы Чернобыльской зоны в Грецию, Италию, на юг Франции, в Северную Африку — туда, где были расположены места зимовок птиц.
Я уже отработал все основные участки. Леса на юге зоны были скучные, сплошные старые посадки — высокие, ровные, без подлеска сосняки. В таком прозрачном, саженном рядами бору за сотню метров увидишь отдыхающего лося, кормящегося кабана или пробегающую косулю. Зато птиц в таких лесах было немного: вездесущий зяблик, пеночка-весничка, конек, овсянка да синица, подпевающая попискивающему в нагрудном кармане датчику. Небольшая оранжевая плоская коробочка, а сколько развлечений! Пищит дозиметр «Белла» в ритме медленного вальса — значит, все нормально: фон всего в тридцать раз выше московского. Зачирикает датчик, значит, рядом лежит что-то тяжелое и долго распадающееся, тогда шевели ногами побыстрее, пока он не начнет щебетать в прежнем темпе. Можно и поэкспериментировать: опустишь дозиметр к самой земле — ух как заливается: идет бета-излучение от осевшей радиоактивной пыли. Оно относительно безопасно, если вы, конечно, не гуляете босиком. Поэтому в зоне все время, даже по жаре и посуху, ходишь в резиновых сапогах, не пробиваемых этими частицами. К тому же очень гигиенично: сполоснул обувь — и все: фон в норме.
Ну а когда выберешь место для отдыха, тут уж надо быть внимательным. Как-то раз, прежде чем искупаться в Припяти, я проверил «Беллой» весь берег — вроде чистый. Положил одежду, бинокль, фотоаппарат. А когда на базе через несколько дней проявил пленку, она оказалась вся черная. Оказывается, я казенный «Пентакон» бросил на невидимую, но очень активную пылинку плутония. Хорошо, что не сел сам.
Мои любимые в зоне места наблюдения за пернатыми были на воде — на Киевском море. Рукотворный водоем затопил в свое время низкие берега, и там образовались клади — мелководье с окруженными тростником островками, на которых продолжали расти осины, березы и ивы. На кладях держались чомги, утки, кулики, прилетели откуда-то распуганные далекими выстрелами артиллерийского полигона белые цапли, стрекотали камышевки. Там жили квакши, изредка покрикивающие днем и самозабвенно орущие ночью, солидные водяные черепахи, быстрые ужи, краснобрюхие жерлянки и чесночницы с кошачьими глазами. Было еще одно немаловажное обстоятельство, за которое я любил клади. Там «Белла» молчала.
Чтобы составить полную картину о птицах зоны, у меня не хватало одного элемента радиоактивного ландшафта — населенных пунктов, которые попали в зону поражения. Ближайший был в семи километрах. И вот однажды я сел на велосипед, прошел сквозь контрольный пост и поехал.
Через полчаса справа от шоссе показался навес бывшей автобусной остановки. Недалеко от него я в кустах спрятал велосипед и пошел к селу. В нем было около пятидесяти брошенных добротных изб, не хочется называть их хатами, так как по внешнему облику это были типичные среднерусские постройки. В заросших садах буйно цвели груши и яблони. Воробьи в покинутом поселке отсутствовали, и уху орнитолога явно не хватало их щебетания. Зато на околице гуляли цапли, пролетали утки, на покрытых бурьяном огородах перекликались куропатки. Туда же, на огороды, из соседней клади, судя по следам на дороге, вылезали болотные черепахи и зарывали там свои яйца. На крыше каждого дома огромным блином лежало аистиное гнездо (излюбленный сюжет художников чернобыльского кича — знак радиации у хаты, а на крыше гнездо с аистятами, которые, кстати, улетят зимовать в Африку).
Но деревня оказалась не такой безлюдной, как я думал. С другого конца селения закричал петух и замычала корова. Я пошел туда, на ходу отключив попискивающий звуковой индикатор дозиметра: неудобно же напоминать постоянно живущим здесь людям о хронически повышенном фоне.
Через пять минут я уже разговаривал с двумя крепкими дедками и тремя бабульками — «самовселенцами» — так, по-моему, они называются на полуофициальном языке зоны. Их сразу же после катастрофы вывезли вместе со всеми, разместили по коммуналкам или в лучшем случае по однокомнатным квартиркам. Там они с год-два помыкались и решили вернуться умирать в радиоактивную, но родную деревню. Власти зоны относились к камикадзе с пониманием — два раза в неделю в поселок приезжал фургон, и с него продавали «чистые» продукты: соль, сахар, хлеб. В остальном же пособлял огород, скотина, рыбалка и лес с его грибами и ягодами. А так деревня как деревня со своими неспешными и незначительными событиями и новостями.
Охотников не стало, и кабаны до того обнаглели — в огороды по ночам залезают, всю картошку перекопали. А недавно лось приходил. Воробьи вот исчезли, ласточек меньше стало. Зато уток развелось тьма. Охотников-то нет. И что там этот Горбачев думает? Дал тем, кто живет у зоны, какие-то копейки — «гробовые». А им, вселенцам, и вообще ничего не платят.
— Сейчас гостинца принесу, — спохватилась одна бабка и заковыляла к своей избе. Через минуту она вернулась с большим кульком, сделанным из газеты, вышедшей еще до взрыва на АЭС. В кульке были с горкой насыпаны тыквенные семечки.
— Угощайтесь, собственные, — сказала бабка.
— Со стронцием, — пояснил я для себя, но, чтобы не обидеть дедков и бабулек, вместе со всеми стал лузгать белые, в сухой и прозрачной, как стрекозиные крылышки, оболочке семена.
Я постоял еще немного и стал прощаться:
— Пойду я, дело докончить надо.
— Конечно, — закивали они, — работа есть работа — бывайте здоровы, заходите еще.
Проведя учет, я оставил деревню, вытащил из кустов велосипед и поехал по пустому шоссе назад к нашему стационару. Километрах в трех от КПП два человека метнулись через дорогу в кусты и замерли там. Самое неприятное, что у каждого перебежчика было в руках по ружью.
— Лежать тихо, — услышал я слова команды, которую старший отдавал своему подчиненному. Знакомый скрипучий голос и беспрекословный тон успокоили меня.
— Миша, это ты? — обратился я к кустам.
— Лежать тихо, я сейчас, — вновь послышался тот же голос, и на шоссе вылез Миша, лаборант нашего стационара.
— Кого это ты там гоняешь? — спросил я его.
— Да вот профессор Осоедов поохотиться приехал, — небрежно сказал Миша, озаряя меня своей знаменитой жутковато-задушевной улыбкой генерала Лебедя. — У него ружье хорошее — «Ремингтон», с оптикой, так что, глядишь, может, к вечеру чего-нибудь и принесем. Ждите.
Профессор Осоедов — самый главный Мишин начальник — бывал в разных странах. И везде, где можно, он охотился. Профессор, избалованный общедоступной и для рядового охотника дичью: кабанами, лосями и косулями, в последние годы перешел на зверей, обитающих в тропических лесах, горах Южной Америки и монгольских пустынях. И вероятно, пресытившись этой редкой добычей, он решил стать обладателем трофея, которым не мог похвастаться ни один охотник, — радиоактивной дичью.
Правда, охота эта имела кроме экзотической еще и криминальную окраску: у него не было разрешения на отстрел в зоне. Но профессор решил, что цель оправдывает средства, и согласился залезть в зону через черный ход, проделанный в нескольких рядах колючей проволоки местными жителями и хорошо освоенный нашим лаборантом. Но для этого пришлось выполнять все команды Миши.
— Ну, я пойду, — сказал лаборант. — Профессор заждался.
И он скрылся в кустах.
— Это свой, не выдаст, — услышал я оттуда его голос— Но надо быть бдительным: вокруг охрана и патрули. — Миша с явным наслаждением играл роль сталкера. — Так что все остается по-прежнему — предельная осторожность, быстрота, маскировка и четкое выполнение моих команд. А теперь перебежками, — голос Миши вновь приобрел ефрейторские интонации, — во-о-он к тому леску — марш!
Я не выдержал, сошел с дороги, продрался через березняк, растущий на обочине, и вышел на бывшее поле. Приятно ведь посмотреть, как гоняют начальника. В поле, как заяц, вернее, как исполинский кенгуру, пригнувшись рослой фигурой к земле, скакал со своим «Ремингтоном» к указанному Мишей ориентиру крупногабаритный Осоедов. Сзади не торопясь в полный рост шел лаборант, держа в руках одностволку. Он-то знал, что ни патрулей, ни охраны на этом поле не водится. Миша наслаждался своим звездным часом и покрикивал голосом бывшего сержанта:
— Ниже пригнуться, еще ниже. А теперь быстро! Вперед! Бегом! Марш!
Когда я выходил из зоны, уже другой милиционер, но тоже в марлевом респираторе, сверил номер моего бинокля и фотоаппарата с утренней записью в журнале.
— Где работали? — спросил он.
— Да недалеко — в Городищах.
— Все ясно, — протянул милиционер, у которого мысль текла только в криминальном русле. — За самогонкой ездил. Поаккуратней с ней, — посоветовал он неофициальным тоном. — Она ведь у них тоже фонит — радиоактивная. Ведь из местного буряка гонят и не очищают. Йода не кладут.
Стругацкие ничего не придумали. Зона есть зона.
ЛЮБЕРЦЫ
Рядом с Москвой есть удивительное место — настоящий птичий рай. Кого только не встретишь весной на тамошних водоемах: разных чаек и поганок, уток и куликов, а в зарослях ив по берегам поют варакушки и овсянки, стрекочут камышевки. И этот орнитологический заказник находится совсем рядом — у станции Люберцы. И народу там почти не бывает, никто пернатых не беспокоит, хотя территория и не охраняется. А причина малолюдности простая — запах. Вернее, вонь.
Поэтому не заинтересованному в науке орнитологии человеку там трудно находиться — уж больно смердит от этого места, где производится очистка сточных вод со всей Москвы. Здесь в неглубоких прямоугольных искусственных водоемах-картах прожорливые одноклеточные уплетают все, что приносит им щедрая московская канализация, перерабатывая эти дары в плодородный ил.
Вот здесь-то и изучал птичье население мой приятель Ваня. Шел он раз приятным солнечным летним деньком, вдыхал свежий аромат Люберецких полей орошения (так официально называется эта канализационно-очистительная местность), отмечал в блокноте таких же, как и он, индифферентных к запаху птичек. И вдруг заметил Ваня впереди двоих человек.
«Вероятно, тоже натуралисты», — решил он и пошел вперед, рассматривая пернатых в бинокль и внимательно прислушиваясь к их голосам. Он очнулся от наваждения лишь тогда, когда оказался рядом с любителями природы. Парочка (а это были юноша и девушка), совершенно не обращая внимания на бредущего орнитолога, курила и мирно беседовала, глядя на зеленоватые, пенящиеся зловонные массы. Сосредоточенный Ваня так бы и прошел мимо, не заметив ничего необычного в облике этих любителей острых обонятельных ощущений. Но молодой человек привстал, щелчком послал окурок в водоем, отчего с хлопком взорвался поднявшийся со дна метановый пузырь, и потянулся. Он был одет в очень красивую сине-желтую короткую нейлоновую куртку, и лицо его украшали роскошные солнцезащитные очки. То, что на юноше больше ничего не было, Ваня обнаружил, когда молодой человек не торопясь пошел к бережку.
Орнитолог поравнялся с юной леди, решив выяснить, какая же часть туалета отсутствует у нее. И обнаружил, что одежду девушки составляет дымящаяся в углу рта сигарета марки «Мальборо». Навстречу Ване по дамбе двигался юноша, уже размявший свои члены. Он по-прежнему не обращал на исследователя канализационных птиц никакого внимания. Только сейчас Ваня заметил еще одну деталь его туалета — бюстгальтер его спутницы, небрежно повязанный на его голой шее.
Судьба в тот день была благосклонна к Ване и подарила еще одну неординарную встречу. Молодой человек без трусов и с оригинальным галстуком-бабочкой и его несомненно сексапильная подруга, оба с явным нарушением обоняния, остались далеко позади. Орнитолог снова сосредоточился на птичках. Из кустов запела незнакомая Ване камышевка, и вооруженный биноклем испытатель природы, прячась за дамбой, стал красться к ней. Ваня начал медленно приподнимать голову над насыпью в надежде рассмотреть неведомого певца.
В это время в четверти метра от его головы из сухой глиняной тропки вверх взвился кремовый фонтанчик, и тоскливый звук отрикошетившей пули исчез в небесной сини. Вторая пуля легла чуть дальше. Более мудрой оказалась птица: она смолкла и улетела прочь. За ней опомнился и Ваня и плюхнулся за спасительную насыпь. Пули, как капли мелкого дождя, с периодичностью в несколько секунд продолжали прыгать по гребню дамбы. Так под огнем неведомого террориста Ваня пролежал несколько минут. Когда стрельба стихла, он под защитой насыпи пробежал в сторону метров пятьдесят и, уже чувствуя себя в относительной безопасности и спрятавшись за кустом, стал в бинокль выискивать лесных братьев. Скоро он нашел их. Прямо напротив дамбы, за которой лежал Ваня, расположились двое — вероятно, отец с сыном. У отца в руках была мелкокалиберная винтовка. Он зарядил ее и отдал оружие отпрыску. Тот открыл огонь по мишени, поставленной там, откуда только что так счастливо уполз Ваня.
Только что началась перестройка. Мафия ковала молодые кадры.
НАШЕСТВИЕ
Лет двадцать назад поздней осенью и зимой на московских улицах можно было встретить странных молодых людей. По Садовому кольцу, в самом центре города, у ГУМа, ЦУМа, на Красной площади стояли парочки — гомо- или гетеросексуальные, в зависимости от произвола их начальника. Один из членов этой группы обязательно держал в руках записную книжку, другой, задрав голову, смотрел в темнеющее небо и, казалось, находясь в трансе, шептал бессвязные наборы цифр. Так продолжалось около часа. Пешеходы, которые в сумерках спешили по своим домам, как и все жители крупных городов, мало смотрели по сторонам и не замечали ни контактера, ни его помощника. Лишь изредка граждане с развитым чувством наблюдательности подходили сбоку, прислушивались к бормотанию уличного шамана, вперившегося глазами в вечернее небо, в котором мелькали силуэты летящих птиц, всматривались в тексты заклинаний, которые торопливо записывал за гуру его адепт, пожимали плечами и шли домой — к теплому телевизору с программой «Время».
Позднее сведения, нашептанные в разных концах Москвы, обрабатывались в мозговом центре, и наконец результаты сумеречных бормотаний десятков людей обретали зрительные образы.
И вот однажды вечером в аудитории одного из московских вузов собрались все участники этого странного братства. Посвященные расположились вокруг стола, на котором лежала подробная карта города. На карте Москвы был отображен результат полученных разведданных. Жирные черные стрелы тянулись со всех сторон к Москве из пригородов, ближайших поселков и лесопарков. Одни шли по главным магистралям через весь город и своими остриями сходились в одном месте — в сердце столицы, в Кремле. Другие двигались по Ленинским горам — в сторону правительственных дач и к малолюдным местам.
— Вот такая у нас раскладка получается, — прервал молчание шеф — толстый коротенький человечек с бородой, закрученной вправо. — Основные скопления, как видите, каждый вечер образуются в Кремле. Там спокойно: охрана давно не обращает на них внимания, привыкла, а других врагов у них нет. Теперь эти данные можно передать в КГБ. Там, кстати, уже создан специальный отряд по прекращению этих нашествий. Они уже и некоторые методы опробовали. Но пока все безрезультатно: что ни вечер — в Кремле черным-черно. Некоторые из спецотряда предлагали ударить с воздуха, другие — перестрелять всех из ружей, третьи — применить даже лазерные пушки и уничтожить их на подходах к городу. Пробовали также и яды. Но все это малоэффективно. Часть, конечно, погибнет прямо на месте, но другие, более выносливые, собрав последние силы, покинут место проведения операции и умрут где-нибудь поблизости. Были случаи, когда падали на Красной площади. Лежит, допустим, у Мавзолея и предсмертно каркает. А ведь там иностранные гости бывают. Так что впереди множество нерешенных проблем. Борьба предстоит долгая. Враг хитер, умен и осторожен. А кроме того, он летает. Но эти вопросы мы с вами обсудим позже на специальной конференции, посвященной изучению ворон города Москвы.
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»
Кому нравится поп, кому — попадья, а кому — и попова дочка. Ну, а если эти положения прилагать к орнитологам, то некоторым нравятся соловьи, другим — соколы, а третьим — вороны.
К любителям последних птиц и принадлежит известный орнитолог, профессор, работающий в Московском педагогическом институте, а по совместительству и в ЮНЕСКО, по линии которой он объездил весь мир. Именно он однажды в апреле подбил меня провести весенний учет птиц, а также посмотреть, как чувствуют себя вороны, вороны и сороки и сели ли они на свои яйца. Я согласился и взял для компании своего приятеля-кинолюбителя.
Была весна Эпохи Глубокого Застоя. Мы благополучно вылезли из электрички на станции N. Я умышленно не сообщаю ее названия — может быть, былая обстановка повышенной секретности сохранилась там и поныне.
Мы шли по весеннему лесу, прислушиваясь к птичьим голосам. Профессор Михайлов, перегруженный весенней сессией и цветущими студентками, наслаждался хорошей мужской компанией. Мой приятель Юра постоянно отставал, снимая любительской камерой то первую бабочку-лимонницу, порхающую у розовых цветов волчьего лыка, то грязноватый весенний ручей, то изнеможенного Михайлова. Тот вел нас к гнезду ворона — птицы, почитаемой коряками, североамериканскими индейцами, а также любимой и самим преподавателем.
Прозрачный весенний лес мы прошли без приключений. Без происшествий мы миновали и безликое селение — то ли деревушку, то ли дачный поселок. Он насторожил меня своим безлюдьем. Лишь на его окраине, как мне показалось, маясь от долгого безделья (и я оказался прав, но об этом мы узнали уже позже), слонялся одинокий прапорщик. Мы с Михайловым пошли вперед, Юрик отстал. Присев, он поменял пленку в кинокамере и поплелся вслед за нами. Выйдя за поселок на Большое поле, Михайлов махнул рукой в сторону Далекого леса, и мы пошли туда, где жил ворон.
Был какой-то не то чтобы облачный день и не то чтобы слишком солнечный — просто невзрачный теплый весенний денек. Резиновые сапоги постепенно обрастали слоями мокрой глины. Так, шлепая по полю, мы прошли около километра. До леса оставалось столько же. Над нами пролетела стайка чибисов. Где-то сбоку с земли как-то вяло и нехотя от такой невдохновляющей погоды начал было петь жаворонок, но вскоре замолк в ожидании ведра. Пейзаж сзади был более жизнерадостным. От деревни, которую мы миновали, вслед за нами двигалась шеренга людей в составе взвода. Расстояние между солдатами было точно выдержано: нас преследовали по всем правилам военного искусства. Не хватало только, чтобы их командир вышагивал в эполетах впереди пехотной боевой единицы. Я поднес бинокль к глазам — нет, дурак прапорщик, как простой ефрейтор, тоже резво шагал в цепи.
Как выяснилось позже, он, ничего не сказав Юре о стратегической заповедности Вороньего леса, специально пропустил нас туда. Потом хитрый прапорщик вызвал подмогу, чтобы пленить вооруженных кинокамерой шпионов, а потом, купаясь в славе и ласках начальства, пришпилил бы куда-нибудь себе внеочередную звезду.
Было жалко солдатиков, которых их командир погнал в штыковую по такой грязи. Бойцы шли хорошо, размашисто, полы шинелей развевались, брови были насуплены (каждый мечтал о награде — двухнедельном отпуске), ладони стискивали автоматы.
До нас оставалось совсем немного, когда из-под ног пехотной цепи выскочил затаившийся под кочкой пегий, в белых пятнах невылинявшей шерсти русак и на широких махах бросился сначала к нам, а потом, сообразив, — к Далекому лесу. Вскоре после зайца подоспели и солдаты, все красные после такого полезного для здоровья и аппетита марш-броска.
— Куда идете? Ваши документы. Туда нельзя, пройдемте со мной, — одним духом выпалил прапорщик.
Мы покорно сменили маршрут, с тоской взглянув на недоступный лес, что не ускользнуло от бдительного прапорщика. Солдаты справа, слева и сзади конвоировали нас. Я заговорил с одним на личные темы.
— Зайца видел? — спросил я.
Но прапорщик, услышав мой голос, обернулся. Солдат сжал губы и только крепче схватился за автомат.
Сначала мы месили глину на поле, потом шли по дороге к какому-то поселку, и все встречные пешеходы и водители автомашин с любопытством рассматривали мирных натуралистов, ведомых, вероятно, в соседний овраг на расстрел. Мы доплелись до деревни. Прапорщик, оставив нас с конвоем на улице, зашел в какую-то избу (очевидно, явочную квартиру), быстро вернулся и приказал нам всем чего-то ждать. Ждать пришлось недолго: подъехал крытый армейский грузовик, и мы в сопровождении конвоя залезли туда. Машина ехала минут десять и остановилась. Нам приказали вылезти. Вокруг был густой лес. Громадная бетонная стена проходила сквозь него. В стене были огромные железные ворота, покрашенные в зеленый цвет и декорированные красными звездами. Ворота открылись, и оттуда вышли пять человек в черной форме. Наступил ответственный момент: армейская контрразведка передавала нас флотской. Михайлов, я и оба конвоя прониклись торжественностью минуты. Но глубоко гражданский человек Юрик не чувствовал ее. Поэтому, пока прапорщик и мичман сдержанно обсуждали детали нашего пленения и, видимо, делили будущие чины и награды, он снял рюкзак, до этого висевший у него на заднице, достал оттуда кисет, трубку, спички и закурил. Солдаты с завистью вдыхали аромат «Трубки мира». Наконец-то и Юрик понял, куда его ведут, и, предчувствуя ссылку, поражение в политических правах и долгий информационный голод, вытащил из того же рюкзака портативный приемник «Селга» и включил его. Транзистор заговорил на английском языке. Шла передача «Радио Москоу». Но прапорщик и мичман, видимо, не подозревали о ее существовании и, решив, что это идут последние инструкции от резидента, замахали руками. Юрик выключил приемник, и нас отдали в лапы флотского гестапо. Двери в бетонной стене захлопнулись за нами. За воротами была березовая роща, в которой стоял городок. Среди пятиэтажек ходили люди, большинство из которых тоже были в форме военных моряков, так что на улицах было черным-черно.
Нас отвели в местное отделение милиции. Лейтенант бегло взглянул на мое удостоверение младшего научного сотрудника. Все ясно — это безликий интеллигент. Потом я довольно быстро убедил его, что записи на иностранном языке в моем блокноте — это не зашифрованные марки ракет, а латинские названия встреченных нами птиц. У Юры не было никаких документов, и после некоторых его ответов представители правоохранительных органов насторожились. Так, на вопрос о профессии Юра ответил: инвалид второй группы по причине проломленного черепа. Бутылкой. В винном отделе магазина. На вопрос о месте рождения он неохотно сообщил: «Потсдам». После этого милиционеры стали куда-то названивать. Но все оказалось правдой. Наконец очередь дошла до профессора. У него единственного из нас был паспорт. Милиционер изучил все Данные первой страницы и пролистал документ в надежде найти отметки о неоднократных судимостях. Вместо этого обнаружилась вложенная в паспорт фотография. Группа чернокожих людей под пальмами теснилась вокруг белого человека. И этому белому жал руки и приветливо улыбался другой белый человек — Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Милиционер внимательно изучил лицо человека, окруженного нефами и приветствуемого Брежневым, вгляделся в Михайлова и наконец понял, что это была одна и та же персона.
Реакция у милиционера была такая же, как у североамериканского индейца, готового у тотемного столба скальпировать пленника и в последний момент опознавшего в нем сына своего вождя. Но вместо крика радости мы услышали другое.
— Ну и дурак же этот прапорщик! — подтвердил мои опасения лейтенант. — Все в Наполеоны метит. Вы уж извините его, да и нас заодно.
Через пять минут милицейский «газик» вез нас по городку к другим, уже парадным воротам. И когда они открылись, водитель, милиционер, сопровождающий группу бывших подозреваемых, Михайлов и Юрик вздрогнули от крика третьего амнистированного, который заорал так, что услышали прогуливающиеся парами моряки:
— Свобода!
ЛЯГУШКА НА СТЕНЕ
Состав минуту постоял на крохотной станции и отправился к китайской границе. Маленькие смерчи торопливо забегали по шпалам, перебирая сухие травинки и пыльные обертки от конфет. Поезд скрылся, а мы с товарищем остались на гравийной насыпи, заменяющей перрон. Начался первый день нашей дальневосточной зоологической экспедиции.
Было раннее утро. Безоблачное небо обещало жаркий день. Я устроился у рюкзаков, сумок и вьючных ящиков, а Сережа пошел в разведку. В ближайшем поселке он нашел общежитие механизаторов, и мы, пыхтя, перетащили туда вещи. Хозяин общежития выделил нам комнатушку с двумя кроватями без матрасов, но с тумбочкой, в которой я нашел погнутую алюминиевую вилку, ржавую бритву и дюжину пустых бутылок. Между оконными рамами ползали сонные слепни. Среди них выделялся огромный светло-зеленый треугольник ночной бабочки-павлиноглазки артемиды. Это был наш первый, хотя и не орнитологический, трофей, добытый на Дальнем Востоке.
Комендант, наблюдавший за нашим вселением, понимающе закивал.
— Берите и пауков, ребята, — показал он на слепней, — мы вам их еще наловим и всех по акту спишем!
Хозяин общежития еще долго шатался по комнате, расспрашивая, откуда мы и чем все-таки будем заниматься. Узнав, что наша специальность орнитология — изучение птиц, он растрогался и сообщил, что тоже любит природу. Потом деловито осмотрел наши ружья, особо похвалил мое — 32-го калибра, как самое подходящее для охоты на косулю. С этого момента комендант называл нас «орангутологами», старательно выговаривая новое для него слово.
Устроившись, мы решили, что надо использовать такой прекрасный день не только для знакомства с насекомыми общежития, а заняться делом, то есть птицами. В нескольких километрах от поселка находилась невысокая сопка, к которой мы и отправились, захватив с собой бинокли, фотоаппараты, ружья, патронташи, охотничьи ножи, рюкзаки. Местные жители почтительно уступали нам дорогу.
На самой окраине поселка у ворот дома играли двое малышей. Наше появление озадачило их.
— Кто это? — суфлерским шепотом, который было слышно на всю улицу, спросил младший.
Старший посмотрел на наш арсенал и авторитетно заявил:
— Бандиты.
Белесая голубизна — признак будущей жары — уже растекалась по небу. Теплый ветер приносил с лугов запах трав. Мы вышли за околицу и через час были у подножия сопки. Вверх по склону взбирались невысокие корявые монгольские дубы, стоявшие редко, как в парке. По распадкам теснились густые заросли орешника. Флейтами звучали голоса китайских иволг и черноголовых дубоносов, мелодично звенели трельки овсянок, резко свистели, проносясь над нами, стрижи-колючехвосты. Мы забирались все выше по склону, отмечая виды птиц, их численность и особенности поведения. Солнце, палившее после десяти часов с особой ожесточенностью, сейчас стояло в зените. Птицы, утомленные жарой, постепенно смолкали. Орнитологических открытий в этот день не предвиделось.
Мы нашли живописную тенистую поляну и решили отдохнуть перед обратной дорогой. Пока мой товарищ менял пленку в фотоаппарате, я снял рюкзак и ружье и прошелся по опушке. На краю поляны я набрел на россыпь крупных, только что перевернутых булыжников. Муравьи, обитавшие под ними, испуганно суетились, унося куколок — «муравьиные яйца» — в уцелевшие подземные галереи. Три дорожки примятой травы, одна пошире и две поуже, уходили к зарослям лещины. Решив, что нарушать обед медвежьей семьи, по крайней мере, негуманно, мы быстро собрались и, еще раз оглядев поляну и настороженный орешник в распадке, ретировались.
Жара становилась невыносимой. Мы сняли рубашки, подставив спины солнечным лучам. Загар давался потом и кровью — воздух был насыщен не только испарениями сырых лугов, но и тысячами гудящих слепней с зеленоватыми глазами, в которых мерцали черные злые искорки. Мы сделали еще один привал, на этот раз на лугу, у старой тракторной колеи, залитой водой. В луже плавали головастики. Я поймал руками одного. Так и есть: точно таких же головастиков я видел много лет назад на Кавказе. У них был веслообразный, сильно заостренный к концу хвост, а верхняя плавниковая складка доходила до глаз. Так выглядят только головастики квакши, древесницы, или древесной лягушки, — замечательной амфибии, заполучить которую мечтают все террариумисты. У нас в стране живут два вида древесниц — обыкновенная, распространенная на юге европейской части России, на Украине и Кавказе, и дальневосточная, живущая в Приморье и Приамурье.
Квакши — ночные амфибии. Днем они прячутся в траве, кустах, норах и других укрытиях, а в сумерки выходят на охоту — ловят различных насекомых. Водоемы они посещают только в сезон размножения, который длится с конца апреля до конца мая. Зимуют древесницы в дуплах, норах под камнями, на дне водоемов.
Пока мы, отмахиваясь от слепней, отдыхали на кочках, я вспоминал, как впервые познакомился с квакшами. Еще учеником четвертого класса вместе с родителями я отдыхал в Сухуми. Однажды, гуляя, мы с отцом пошли по дороге, петлявшей по склону невысокой горы. По камням ползали, оставляя за собой блестящие слизистые следы, огромные виноградные улитки, бегали энергичные зеленые ящерицы, грациозные, с нервной походкой осы тащили куда-то парализованных пауков.
Тропа привела нас на вершину, где в тени деревьев располагался крохотный, на десяток человек, открытый ресторанчик. В его меню было всего два наименования — шашлык и легкое виноградное вино. Рядом со столиком возвышалась эстрада, на которой играл маленький оркестр. Мне запомнилась юная музыкантша. В такт музыке девушка постукивала двумя небольшими деревянными палочками, внося в восточную мелодию испанский кастаньетный колорит.
Съев свою порцию шашлыка, я оставил отца за столиком и начал обследовать окрестности. Территорию ресторанчика окаймляли нагретые солнцем, терпко пахнущие самшитовые кусты. Находящийся между ними небольшой фонтанчик весь зарос водными растениями. В нем в изобилии плавали головастики. Только я решил заняться ими поближе, как резкий звук отвлек меня от охоты. Музыкантам этот аккомпанемент не мешал, а редкие посетители, вероятно, думали, что на кухне тоскует утка в ожидании залетного гурмана.
Эти пронзительные крики взволновали лишь меня одного. По книгам я знал, что так кричит древесная лягушка. Я подошел к кусту, но голос смолк. Со стороны оркестра послышался очередной чечеточный фрагмент, и невидимый певец вновь ответил. Пытаясь его обнаружить, я засунул голову в самшитовые заросли. Лягушка снова замолчала. Казалось, я вижу каждую веточку, каждый сучок, каждый листик, но обладатель голоса прекрасно замаскировался.
Отчаявшись его поймать, я вернулся к отцу. Надо было спускаться в город. Чтобы не возвращаться без трофеев, я в освободившуюся бутылку посадил головастиков из фонтанчика. Кормил я их водными растениями. Через неделю у будущих лягушек начали появляться задние лапки, на которых виднелись крохотные присоски. Но тогда я так и не довез их до Москвы. За день до отъезда я поймал еще одну кавказскую достопримечательность — гамбузию, небольшую невзрачную рыбку, акклиматизированную у нас в стране специально для борьбы с малярийными комарами. Она была посажена вместе с головастиками. Оказалось, что благородное создание питалось не только личинками комаров. Когда мы добрались до столицы, в бутылке, еще пахнущей кахетинским, сидела лишь одна толстая гамбузия.
Совершенно измученные жарой, липкой влагой и слепнями, мы наконец добрели до дома. Комендант, увидав мой фотоаппарат, стал шумно требовать, чтобы его увековечили на пленке. И, посмотрев на тучи окружающих нас кровососов, сказал: «Вы меня с паутом сфотографируйте». Но почему-то нарушенная координация движений не позволила ему изловить слепня. Чтобы он отстал, я пару раз щелкнул затвором «Зенита». Удовлетворенный комендант удалился, и мы зашли в комнату, наскоро перекусили и с наслаждением растянулись поверх прохладных спальных мешков. Отдохнув, мы сели за работу — переписывать дневники и обрабатывать добытых за день птиц.
Вечерело. Солнце скатилось к горизонту и рассерженным красным осьминогом уползло за далекие сопки. Густые синие сумерки наступили по-южному быстро. Вдали застучал дизель электростанции, на улицах зажглись фонари. За поселком из окрестных канав и луж вдруг разом зазвучали целые хоры квакш. Мне отчетливо представилось, что где-то совсем рядом в темноте сидят тысячи древесниц и, уставясь немигающими выпуклыми глазами на летние звезды, чуть не лопаются от любовных песен. Закончив препарировать последнюю птицу, я взял пол-литровую банку с крышкой, фонарик, надел болотные сапоги и вышел на ночной промысел. Лягушек просили привезти в Московский зоопарк и в живой уголок Дворца пионеров.
На темных безлюдных улицах под редкими фонарями висели конусы желтого света, в которых плясали сотни ночных бабочек. Изредка на такую «танцплощадку» из темноты вылетала черная шелестящая летучая мышь, хватала насекомое и исчезала.
Я остановился на окраине поселка у огромной лужи, которая, казалось, готова была выйти из берегов из-за мощных звуков, издаваемых сидящими в ней изнывающими от страсти лягушками. Улица здесь заканчивалась. Она упиралась в большой сарай, вероятно склад, у которого, как пограничный столб, стоял последний фонарь. Дальше лежало безбрежное море густой, теплой летней темноты. Я включил карманный фонарик, приготовил банку и пошел вдоль берега «водохранилища». Лягушки настолько хорошо замаскировались в прибрежной траве, что долгое время я лишь слышал их: по мере моего продвижения звуки орущих впереди меня квакш затихали, а за спиной невидимые амфибии вновь начинали «петь». Но вот и первый трофей. На мысочке сидела очаровательная, чуть больше пятачка лягушка и печально смотрела на тусклую лампочку у склада. Окрыленный успехом, я склонился к самой земле и медленно обошел лужу. Изредка у квакш не выдерживали нерпы, они прыгали в воду и пытались спастись вплавь. Но их худосочные ножки были больше приспособлены для лазания по стеблям травы и ветвям кустарников, чем для передвижения в воде. Древесницы плыли, неуклюже гребя тонкими задними лапками. Передние конечности они плотно прижимали к телу, считая, вероятно, что их скорость от этого резко возрастает. Проплыв около метра, лягушки уставали и, растопырившись, застывали на поверхности воды. Тут-то я и хватал их.
Квакши имели различную окраску. Преобладали оттенки зеленого — от легкомысленных салатовых до тех, в которые бывают окрашены казенные помещения. Другие цвета — серые и коричневые — встречались редко. Я наловил уже много лягушек. Но хор в луже гремел все так же мощно, и ухо не улавливало утраты некоторых певцов. В банке было еще много места, поэтому я отвернул голенища «болотников» и залез в водоем. Лужа была неглубокая, со множеством островков — этакое Эгейское море в миниатюре. На этих клочках суши тоже сидели желанные амфибии. Я, как морской разбойник, нападал на острова и брал дань пленницами.
Неожиданно двери сарая распахнулись, послышался шум голосов, и на улицу высыпала толпа народу. Строение оказалось местным клубом, в котором кончили крутить кино. Мне не хотелось привлекать внимание, поэтому я, выключив фонарик, застыл на середине лужи полуночной цаплей. Людей, выходящих из кинотеатра, слепила темнота, лишь наиболее зоркие усматривали посторонний предмет в знакомой луже, останавливались и громко обсуждали, что бы это могло быть. Иногда их догадки были весьма близкими к истине и далеко не лестными для меня. Я, не шевелясь, стоял и терпел. Наконец даже самые любознательные зеваки разошлись. Я включил фонарик и продолжил охоту.
Вдруг одинокая фигура приблизилась к берегу и позвала меня по имени. Я промолчал, подумав, что произошла ошибка. Действительно, в поселке я пробыл меньше суток, и практически никто меня здесь не знал, Сергей же был в общежитии. Но зов повторился. Я откликнулся и выбрался на берег. Передо мной на нетвердых ногах стоял комендант, культурно отдохнувший в кино.
Но каково зрение! Прямо Соколиный Глаз! Однако выяснилось, что он уже семь лет как близорук, а очки не носит принципиально, так как постоянно их теряет.
— Как же ты меня разглядел? — полюбопытствовал я.
— Знакомые сказали, что какой-то дурак в луже сидит. Ну, я и подумал, наверняка это кто-нибудь из орангутологов. Вот и позвал. Да, — продолжал он, покачиваясь в темноте, — тут я для тебя кое-что поймал, — и вытащил из кармана папиросную коробку. В ней сидело несколько светлячков, задыхающихся в картонной никотиновой тюрьме, но еще слабо мерцавших. И хотя я был тронут комендантским подарком, первым делом высыпал полуживых насекомых в траву. Любитель природы не протестовал. Глядя на банку, набитую квакшами, он, вероятно, подумал, что всех животных я собираю большими партиями и мне нужны только свежие биологические экземпляры, так сказать, прямо с грядки, и вызвался показать место, где светящиеся жучки водились в изобилии. Мы вышли за околицу.
Поселок остался позади и обозначался лишь заревом огней. Фиолетовая мягкая тьма сомкнулась за нами. В траве словно рассыпалось множество звезд. Каждая из них лежала под зеленым абажуром из листьев, а над ними носились, прихотливо танцуя, голубые кометы. Мы смотрели на миллионы светляков, на эту сверкающую метель, на летящие искры несуществующего фантастического костра. И мне и моему шатающемуся спутнику не хотелось уходить.
Неожиданно звук дизеля умолк, зарево над поселком погасло. Наступила полночь. В это время здесь отключали электричество. Надо было возвращаться. Мы побрели в общежитие.
Знакомство с животным миром родного края и прогулка по свежему воздуху пошли коменданту на пользу — он стал увереннее держаться на ногах. Сам же хозяин общежития, вероятно, считал такое свое состояние ненормальным и, как только мы добрались до дома, стал торопить меня поскорее покончить с квакшами, зафиксировав их в спирте. Узнав, что я собираюсь везти лягушек живьем, он помрачнел, пробурчал что-то о недобросовестности ученых, разбазаривающих вверенные им химические реактивы, и пошел искать равноценный заменитель к другим жильцам.
Проводив крайне разочарованного коменданта, я стал пересаживать квакш в более просторное помещение — пятилитровую банку. Древесницы быстро освоили новую квартиру и расположились в ней под самой крышкой на горловине банки. Они свободно передвигались по стеклу, прилипая к гладкой поверхности не только присосками, но и всей поверхностью нижней стороны тела. Иногда то одна, то другая лягушка, вероятно, вспоминала о теплой луже, ее горловой резонатор раздувался, становясь по размерам почти с саму квакшу, и из банки слышался приглушенный стеклянной стенкой крякающий звук.
Разнообразная окраска древесниц напомнила мне, что они, как каракатицы и хамелеоны, могут менять цвет своего тела. Я выбрал пепельно-серую квакшу, посадил ее на темно-зеленую обложку книги, лежащую у стены, обклеенной ужасными розовыми обоями, и принялся за дневник — надо было закончить записи сегодняшнего дня. Через полчаса я посмотрел, на месте ли лягушка. Она по-прежнему сидела на книге, но цвет ее изменился — по зеленовато-серому телу заструились тонкие, как жилки листа, бледно-розовые линии. Квакша, вероятно, считала, что такая окраска наиболее удачно сочетается с зеленой книгой и розовой стеной.
Скоро древеснице надоело ублажать меня прихотливыми колерами. Она развернулась, с легкостью прыгнула, с поцелуйным звуком прилипла к стене и, лениво перебирая худыми ножками, не торопясь пошла вверх. Квакша меланхолической походкой добралась до потолка и попыталась прогуляться по нему. Но у нее ничего не вышло — присоски на концах пальцев не цеплялись за побелку. Тогда она прошлась под самым потолком по периметру комнаты. Иногда квакша останавливалась и пробовала лапкой известковый слой — не прилипнет ли? Наконец лягушка замерла, плотно прижав к телу задние лапки, скрестила под несуществующим подбородком передние и положила на них голову. Теперь ни за что не скажешь, что это древесница — просто в углу комнаты у самого потолка неизвестно как вырос серо-зеленый листочек.
Я снял ее со стены, посадил в отдельную банку, поставил на пол и лег спать. Утром обнаружилось, что там сидит темно-коричневая лягушка, очень похожая на овальную шоколадную конфету из подарочных наборов. Квакша изменила свою окраску под цвет линолеума, на котором стояла ее стеклянная квартира. Тогда я поставил банку на ярко-красную обложку тетради. Древесница приложила все старания, но в кумачовую превратиться не смогла и к вечеру стала лишь соломенно-желтой.
Время пролетело быстро. Близился конец экспедиции. И вот мы уже в аэропорту Хабаровска. Оставался целый день до московского рейса. Весь багаж был сдан в камеру хранения. Отдали мы туда и посудину с квакшами, обернутую газетой, а сверху завязанную тряпочкой и таким образом замаскированную под банку с вареньем.
Мы обошли весь город, делая остановки в книжных магазинах и точках общепита, искупались в Амуре и, переночевав в гостинице, утром появились в аэропорту. Дежурный, взглянув на наши квитанции, куда-то исчез и вскоре вернулся со своим напарником и двумя носильщиками. Все они уставились на нас, а потом наперебой стали спрашивать, кто же сидит в банке с вареньем. Оказывается, у них была беспокойная ночь. Квакши давали прощальный концерт, и камера хранения походила на птицеферму, специализирующуюся на выращивании уток.
В Москве я раздал всех древесниц в зоопарк, во Дворец пионеров и моим приятелям-террариумистам. Себе я оставил самую талантливую в искусстве мимикрии лягушку. Она живет у меня до сих пор во влажном теплом террариуме. Летом я кормлю ее мухами и другими мелкими насекомыми, которых удается наловить, зимой — мотылем и мучным червем. Когда у нее особенно хорошее настроение, она из зеленой превращается в серую и поет громкие ночные серенады.
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
Я уже трудился целый час, но рваная рана на толстой, как бублик, стальной дужке замка не увеличивалась. По правде говоря, инструмент для взлома был неподходящим. Мне попался стертый, тронутый коричневым бархатом ржавчины трехгранный напильник. Сюда бы ножовку по металлу — и всех дел на пять минут. А напильник не столько резал железо, сколько превращал его в опилки, переходя в это состояние и сам. Я пилил, отвлекая себя от монотонной работы воспоминанием о литературных героях, которые обрели свободу с помощью этого всеоткрывающего ключа. Наконец дужка лопнула, и мы вошли внутрь.
Наш начальник Анатолий Иванович предполагал заняться на этом кордоне заповедника изучением редких приморских насекомых, я — кольцеванием птиц, третий участник нашей небольшой экспедиции — лаборантка Ирина — должна была помогать нам.
Внутри мы обнаружили спальню, гостиную, кухню и веранду. Везде, где нужно, было постельное белье, занавески и скатерти. Были даже телевизор и холодильник, однако электричество отсутствовало. Директор заповедника, отправляя нас сюда, на кордон, в небольшой одинокий белый домик, расположенный у подножия сопки на берегу Японского моря, объяснил, что ключ от замка находится под тазиком в бане, стоящей поблизости. Мы перебрали там все шайки, ведра, посмотрели также под вениками, мочалками и прочими помывочными атрибутами, но ключа не нашли.
Близился вечер, надо было готовить ужин, устраиваться на ночлег, и мы решились на взлом. Но, приобретя таким несколько романтическим способом жилище, мы потеряли замок. А ведь нам надо было уходить на целый день на полевые работы, и оставлять дом открытым не хотелось. Поэтому на следующее утро меня командировали за новым замком в тот же поселок, откуда мы приехали вчера. Попутки здесь ходили нечасто, и я пошел по дороге, периодически присаживаясь отдохнуть у обочины и прислушиваясь, не догоняет ли меня машина. Но посторонних звуков не доносилось. Невысокие дубовые леса на сопках ласково шелестели листвой под теплым сентябрьским ветерком. Не слышно было летнего заливистого птичьего пения, лишь изредка попискивали овсянки и синицы. Лес казался пустым.
Я шел уже часа три. Шансы совершить полную пешую тридцатикилометровую прогулку все увеличивались, а перерывы на отдых на обочине все удлинялись. Эти паузы я решил использовать не только для бездумного любования живописной приморской осенью, но и для развития своих ораторских способностей. Дело в том, что сразу после этой поездки я должен был защищать диссертацию. Работа была давно напечатана, таблицы нарисованы, разослан автореферат. Чтобы время в экспедиции не проходило даром, я взял с собой текст доклада, который, как известно, играет немаловажную роль в процедуре защиты. Текст должен быть не только грамотно и лаконично написан, но и хорошо прочитан, желательно громким, четким командирским голосом, которого у меня не было.
А дальневосточная безлюдная тайга, раскинувшаяся на многие сотни километров, — прекрасное место для ораторских тренировок. И вот я, как Демосфен, удалившийся от людского общества, достал помятые листочки, набрал в легкие побольше воздуха и почти прокричал, четко выговаривая каждое слово:
— Уважаемый председатель Ученого совета, уважаемые члены Ученого совета, товарищи!
И именно в этот миг из-за поворота появился человек. Он, казалось, столь же опешил от начала моей речи, патетически зазвучавшей среди безмолвной тайги, как и я от неожиданного появления слушателя. Я первым преодолел смущение и попытался убедить незнакомца в своей безобидности, объяснив ему, зачем я здесь, в лесу, тренируюсь в витийстве.
Попутчик оказался лесником заповедника, возвращавшимся с обхода своего участка в поселок. Постепенно он смирился с мыслью, что ему придется добираться домой в компании со странствующим проповедником. По дороге он рассказал о себе:
— Работа нравится, и платят неплохо, и сам себе хозяин. Только вот тигры совсем замучили. Пугают. То столкнешься с ним нос к носу, то идет он, проклятый, по твоему следу. Что? Нет, Бог миловал, не нападал. Ни на меня, ни на моих товарищей. И самое главное, не знаешь, что у него на уме... Зверь есть зверь. И карабин никак не выдадут. Бюрократы! А как в тайге без карабина? Ведь кроме тигров в заповеднике водятся и медведи, и кабаны, и даже леопарды. И вообще, кого только не встретишь в этой глухомани, — сказал лесник, покосившись на меня, вероятно вспоминая мои недавние риторические упражнения.
Беседуя таким образом, останавливаясь и прислушиваясь, не догоняет ли нас попутка, ныряя в распадки и поднимаясь на сопки, мы к вечеру добрались до поселка. Я купил замок и отправился обратно. Сразу же за окраиной меня догнал «ЗИЛ», а через час я уже примеривал обнову к дому.
Мои товарищи время даром не теряли. Анатолий Иванович успел поймать редкую, неизвестную науке муху микроскопических размеров и, рассматривая трофей под бинокуляром, расправлял ей крылышки. Ирина приготовила прекрасный ужин. Украшением стола были собранные на мелководье морские гребешки — экзотическое и в то же время очень простое с точки зрения кулинарного искусства блюдо. Чтобы его приготовить (и съесть), надо было ножом раскрыть створки моллюска. Внутри находился кружок сладковатого на вкус и похожего на каучук мускула-замыкателя.
Мы поужинали и расселись на крыльце. Теплый безветренный вечер огромной тенью наползал из-за горизонта. Море бело-голубыми лапами лениво гладило серые песчаные пляжи. Корявые, как на японских гравюрах, сосны змеились по скалам ближайшего мыса. В устье речки плескалась рыба. Спокойное солнце скрылось за сопкой, а парус медленно плывущей яхты еще долго горел розово-желтым светом.
Я проснулся среди ночи. Гребешки не пошли впрок. Я спешно оделся и выскочил на улицу. От вечернего спокойствия не осталось и следа. Молнии прорезали темноту, и далекий гром тяжело рокотал за сопками. Порывистый ветер заплетал тросы струй прямо-таки тропического ливня. Ивы и березы сгибались до земли, а коренастые дубы напружинились и лишь слегка покачивались. Листья деревьев в свете молний казались белыми.
Удобство находилось метрах в двадцати от дома, но дождь был такой, что я, хотя и поспешал изо всех сил, все равно промок до нитки.
Сортир был сделан давно и добротно из таких толстых бревен и плах, что скорее напоминал блиндаж. Плотники выбирали для его постройки стволы неимоверной толщины и, казалось, рассчитывали на прямое попадание снаряда главного калибра линкора. Глядя на это строение, можно было с уверенностью сказать, что оно простоит гораздо дольше, чем Кижи.
Сортир, кроме колоссального запаса прочности, имел еще ряд особенностей, вероятно не запланированных архитекторами. Со временем сруб осел и наклонился. Теперь, для того чтобы проникнуть в него, надо было приподнять тяжелую крышку-дверь. Когда посетитель наконец попадал внутрь, у него возникала полная иллюзия, что он находится внутри огромного, косо поставленного сундука, разделенного перегородкой на две секции. При этом непосредственная цель визита располагалась в наклонной плоскости, и поэтому трудно было решить, находится она еще на полу или уже на стене. Такая двусмысленность создавала конкретные сложности.
С вечера мне определенно не везло. После ужина я ремонтировал свою одежду: штопал, ставил заплатки, пришивал пуговицы. На самом важном месте брезентовых полевых штанов пришлось пришивать пуговицы. Одной не хватило, и я пришил клевант[14] от палатки. Вот его-то сейчас и заклинило. Я метался внутри огромного двухместного сундука, орошаемый водой, текущей сквозь дырявую крышу, и вздрагивая от ударов крышки-двери, которая периодически поднималась ураганным ветром и с грохотом падала. Наконец я вспомнил о ноже, который был у меня в кармане, и, рискуя в темноте сделать себе харакири, освободился. В это время сверкнула близкая молния, рявкнул гром, ветер особенно свирепо рванул дверь, она глухо хлопнула и больше не двигалась.
Только через несколько минут я понял, что удобство сработало как западня. Теперь для того, чтобы освободиться, надо было слегка приподнять дверь, но сделать это можно было только снаружи: внутри дверные ручки отсутствовали. Я сидел на гибриде стены и пола, наблюдая в щель, как на свободе сверкают молнии и хлещет ливень, и думал, как бы мне выбраться отсюда до утра. Меня примерно через час освободил Анатолий Иванович, которому гребешки оказались тоже не по душе, вернее, не по нутру.
Утро было облачное, ветреное и дождливое. Море штормило. Большие серые волны набрасывались на пляжи и жадно пожирали их. Было холодно, мокро и неуютно. В такую погоду все экскурсии отменялись, заняться было нечем, и я принялся топить баню.
Прежде всего отыскал сухие щепочки и начал разжигать старинную чугунную печку, обложенную для большей теплоемкости круглыми булыжниками. Печка сразу же задымила. Плотный грязно-серый дым повис под потолком. Пламя занялось, и я стал носить дрова из поленницы. Они были трухлявые и мокрые, что, естественно, не уменьшило количество дыма. Но печка потихоньку накалялась. Периодически для проверки я плевал на ее ржавый бок, и он лениво шипел.
Дождь и ветер усилились. Облака шли плотными рядами, но иногда сквозь них прорывался солнечный луч, и тогда все вокруг менялось: изумрудно светилась зелень леса, сверкал влажный песок пляжей, огромные султаны волн сияли снежной белизной. Но тучи быстро затягивали просвет, оставляя единственную серую краску. А я снова шел с охапкой пористых, как губка, мокрых дров к бане. Только к вечеру в ней стало жарко. Дым исчез, а бока печки покраснели. Мои плевки теперь звонко отскакивали от раскаленного чугуна. Я последний раз вышел под дождь, срезал мокрые березовые ветки и сделал веник. В сыром предбаннике было хорошо от предвкушения сухого тепла. Ожидание порой гораздо приятнее свершения. Поэтому я раздевался медленно и даже с удовольствием ежился от падающих сквозь дырявую крышу шальных капель.
Вошел внутрь. Жарища! Забрался на верхнюю полку и лег, положив под голову веник. За стеной ревет стихия, хлещет дождь, бушует пронизывающий ветер, можно сказать, настоящий тайфун (кстати, позже по радио мы узнали, что это действительно был тайфун), а здесь тягучий смолистый жар ласкает тело. Благодать! От камней шло приятное тепло. Горячий пот струями катился между лопаток. Я не вытерпел этой сладостной пытки и выскочил на улицу. Холодные капли дождя, казалось, шипели, когда падали на плечи. Я постоял несколько минут, остыл и вновь побежал в парилку.
Когда я, чистый, но вконец измученный от жара, кипятка и веника, шел к дому, последний луч заходящего солнца снова пробился сквозь облака и осветил часть моря и одинокий парус яхты.
На следующий день снова засияло ласковое сентябрьское солнце, с моря потянул легкий ветерок, а волны засветились всевозможными сочетаниями синего и зеленого. Бархатный сезон продолжался. Продолжалась и наша работа. Анатолий Иванович исправно накалывал на булавки мух, я специальными паутинными сетками ловил птиц и кольцевал их, а Ирина занималась хозяйством. Однажды, пошарив в чулане нашего дома, я нашел там резиновую маску для подводного плавания и залез в море.
На огромных серых валунах сидели коричневые и фиолетовые, казавшиеся мягкими и бархатистыми морские ежи, оранжевые морские звезды, актинии всевозможных цветов — от нежно-зеленых до густо-малиновых. Песчаное дно было усыпано морскими гребешками. В голубоватой толще серебристыми пузырьками висели мальки рыб.
На подводной скале я обнаружил скопление гигантских устриц и набрал их целый пакет. У самого берега, на мелководье, я увидел, как змеевидное, покрытое присосками щупальце осьминога втянулось под камень. Огромный валун, под которым скрылся головоногий моллюск, перевернуть не удалось. Я засунул найденную на берегу палку под камень и попытался выковырнуть спрута. Неожиданно за палку дернули и стали медленно поворачивать. Сила рывка и все движения были до жути человеческими. У меня по спине пробежал холодок. Дегустировать осьминога расхотелось.
На кордоне я решил продемонстрировать моим товарищам, как надо расправляться с устрицами. С этой процедурой я был знаком исключительно по литературным произведениям, в которых герои или героини света или полусвета очень изысканно поедали морской деликатес со льдом и лимоном, непременно запивая его бокалом легкого французского вина. Мне помнилось также, что створки устриц открывались очень легко. Я высыпал из мокрого пакета на пол свой улов. Моллюски загрохотали по доскам кусками застывшей лавы. В душу закралось сомнение. Не может быть, чтобы именно этими неподъемными булыжниками лакомилась, изящно отставив в сторону крохотный розовый мизинчик, какая-нибудь светская красотка. Кроме того, на створках моллюсков расположился целый подводный зоопарк. Копеечными монетками лежали устрицы-малютки, семечками висели гроздья мелких мидий, росли миниатюрные леса из водорослей, среди которых бродили крохотные крабы, морская звезда медленно поднимала лучи, ползали морские черви — нереисы. Не думаю, что вся эта живность сильно возбуждала аппетит прелестных литературных героинь.
Я взял у начальника скальпель, ввел лезвие между створок, слегка нажал — и тонкое жало хирургического инструмента сломалось. Тогда я достал свой нож и попытался им отворить устрицу. Лезвие угрожающе пружинило, но моллюск не поддавался.
Терпение моих товарищей истощилось. Анатолий Иванович, грустя о сломанном скальпеле, удалился к своим насекомым. Ирина пошла приготовить что-нибудь более съедобное. Они, однако, скоро вернулись, встревоженные грохотом: это я при помощи топора добирался до деликатеса. Честно говоря, он не стоил таких усилий: на расколотой створке лежал крошечный, с пятачок, мускул-замыкатель — вся съедобная часть.
Ирина с материнским участием посмотрела на обломки моего кулинарного искусства, на предмет столового прибора, который я еще судорожно сжимал за топорище, и позвала нас есть. Было тепло, и мы расположились на улице. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву, сплели на грубых досках стола золотистую узорную скатерть.
Неожиданно у нас появились гости. Сначала на сладкое прилетели докучливые мухи, а затем из-за угла дома, как эскадрилья тяжелых бомбардировщиков, выплыла стая шершней и, сделав несколько кругов, зашла на посадку на «аэродром» между тарелками. В ответственную минуту приземления мы старались не шевелиться, чтобы не разозлить ос. Скоро мы поняли, что перед нами не разбойники, а союзники. Огромные, зловещего вида насекомые освоились на столе и принялись охотиться на мух. Шершень, заметив добычу, тяжело взлетал и в броске пытался поймать ее. Юркая муха почти всегда легко ускользала от его лап, и шершень с громким щелчком падал на стол, но не отчаивался и начинал погоню заново. Картина была такая, будто неповоротливый тихоходный трактор на стадионе пытается задавить мотоциклиста. Удачи у ос были так редки, что мне стало жаль их. Я выпросил у начальника энтомологические булавки, наловил с десяток мух и пригвоздил их к столу. Шершни тяжелым галопом, как забронированные средневековые рыцари, налетали на распятых мух, отрывали их и улетали за угол дома в свое гнездо. Через некоторое время оттуда вновь раздавалось басовитое гудение: эскадрилья возвращалась.
Анатолий Иванович прекратил мое содействие этим хищникам, когда они унесли вместе с мухами несколько дефицитных булавок. Шершни были явными дилетантами в этом промысле. Несколько раз в течение обеда к нам за стол прилетали охотницы-профессионалы — стремительные изящные небольшие осы. Они в легком пируэте грациозно хватали не успевших даже взлететь мух, моментально парализовали их уколом жала и так же молниеносно исчезали с добычей.
Дни шли. Каждое утро нас будили мелодичными громкими трелями голубые сороки. Птицы шныряли вокруг дома, пытаясь найти что-нибудь съедобное. Я просыпался, открывал глаза и, лежа в спальнике, несколько минут рассматривал страницу японского журнала, прикрепленную к стене у моей кровати. На глянцевой бумаге была напечатана цветная фотография, выполненная в сумеречных розово-голубых тонах. На ней была изображена юная японская красавица. Меня она привлекла мечтательно-грустным взором и полным отсутствием одежды. Я окончательно пробуждался, вылезал из спальника, одевался и торопился к сеткам, чтобы поскорее окольцевать и освободить птиц.
В долине перед сопками, уже чуть тронутыми красной, желтой, фиолетовой краской умирающих кленовых листьев, перед сказочными озерами лежали утренние туманы. Они медленно высыхали под лучами солнца. Кусты и деревья постепенно проявлялись, как проявляется изображение на листе фотобумаги. Первым из тумана вырастало сухое дерево. Как только показывалась его вершина, на нее садилась стая черноголовых дубоносов и мелодичным свистом возвещала о начале дня.
Мы ждали, когда спадет роса, высохнет трава и можно будет идти на экскурсию. Сигналом для выхода было пробуждение кобылки, жившей на поляне рядом с домом. Насекомое согревалось на солнце и начинало с треском заводной игрушки летать вокруг кордона, сверкая крылышками. Несколько секунд полета, потом пауза — и кобылка падала, но у самой земли по бокам ее туловища вспыхивали, как стартовые двигатели, оранжевые огоньки крыльев, слышался треск, и она снова взмывала вверх.
Мы делали вылазки в долины лесных речек, туда, где огромные стволы тополей колоннами уходили вверх, а между ними петляли прозрачные потоки. Деревья были увиты виноградными лозами с темно-вишневыми листьями и почти черными с сизым налетом гроздьями, матово светящимися в солнечных лучах. Однажды набив оскомину, мы больше не пробовали их, но удержаться не могли и рвали виноград для украшения обеденного стола.
В долине на лугах среди редких кустов паслись косули. Под камнями жили полозы: узорчатые — цвета кофе с молоком и амурские — огромные, черные с желтыми перетяжками. В траве у луж зелеными шариками скакали крохотные, родившиеся в этом году квакши. На сухих прогреваемых местах под камнями обитало множество черных, блестящих, словно лакированных, сверчков. Если быстро приподнять камень, то они картечью раскатываются в разные стороны, стараясь спрятаться в любой норке или трещине в земле. Иногда в такое случайное убежище их набивалось столько, что всем места не хватало. И тогда начиналась драка: толстые сверчки лихорадочно отпихивали друг друга, лягаясь задними ногами так, что незадачливые соперники отлетали в стороны. Насекомые были похожи на солидных, усатых, одетых в черные фраки скрипачей, затеявших потасовку из-за инструмента работы Гварнери.
На лугах мы пропадали целыми днями и возвращались на кордон, когда заходящее солнце золотило плывущие над землей нити паутины. Ужин проходил без гладиаторских боев — мухи и шершни уже спали. Дым костра серым шлейфом тянулся в долину, туда, где к утру возникало туманное озеро. В надвигающейся тьме разгорался костер, а с луга звучал оркестр маленьких помирившихся скрипачей.
Кроме энтомологических коллекций мы собрали всякую живность, которую просили привезти знакомые из зоопарка и Дворца пионеров. Мною уже были пойманы полозы, квакши и жабы. В сетки попались белоглазки — маленькие пичуги, похожие на пеночек, но ярко-зеленого цвета с белыми кольцами из шелковистых перышек вокруг глаз. Оставалось самое сложное — довезти этот живой груз до столицы. Змей я держал в полотняном мешке, жаб и квакш — тоже в мешках, но во влажных. И тех и других можно было не кормить до самой Москвы — выдержат, холоднокровные существа все-таки.
С птицами сложнее. И кормить и поить их надо постоянно и вовремя. Белоглазки жили в складной металлической сетке для яиц. С кормом все было в порядке. Хотя летом эти птицы питаются насекомыми, осенью они поедают различные плоды. Я кормил своих пленниц черными ягодами дальневосточной бузины, которая везде росла в изобилии. Все свободное время я посвящал сбору ягод: свежую бузину бросал в клетку, а излишки сушил на солнце, делая запас на дорогу. Белоглазки радостно попискивали, когда в их жилище лился очередной дождь из бузины, и тут же жадно начинали есть черные плоды.
Труднее всего оказалось с поилками. Все обычные баночки были неудобны тем, что в них птицы немедленно начинали купаться, предварительно насыпав туда бузины. Белоглазки сразу же становились похожими на стайку девчонок-первоклассниц, которые выяснили, что чернила из чернильницы-непроливайки все же могут вытекать. Из пузырьков и флаконов, найденных на берегу моря, я попытался соорудить автоматическую поилку, которая давала бы воды ровно на один птичий глоток. Я трудился несколько дней, изготовив с десяток различных технических вариантов. Все они были невероятно уродливы и к тому же не работали. Поилки либо не давали воды совсем, либо окатывали жаждущих птичек целым водопадом. На счастье, у белоглазок был веселый и спокойный нрав: они, озорно блестя глазками и тихонько попискивая, ели ягоды, ожидая, когда же будет испытываться очередная конструкция. Разуверившись в своих инженерных способностях, я продолжал ставить в клетку баночку с водой, которую птицы все так же красили бузиной, прежде чем искупаться.
Анатолий Иванович оказался прекрасным начальником. Он работал сам и не мешал работать другим. Утром после завтрака он обычно сидел и курил на скамеечке перед домом, дожидаясь, когда сойдет роса. Солнце поднималось выше, насекомые активизировались, и он, вооружившись сачком, выходил на охоту. Анатолий Иванович был крупнейшим в стране специалистом по двукрылым, проще говоря, по мухам, но не тем, что досаждают в точках общепита, а их диким сородичам. Особой любовью у него пользовались мухи, имеющие микроскопические размеры.
Было интересно наблюдать, как Анатолий Иванович охотится: он шел по тропе, внимательно осматривая каждый листочек, каждую травинку — только так можно было обнаружить притаившуюся добычу. Я успевал проверить сетки, окольцевать птиц, собрать очередную порцию бузины белоглазкам и обсудить с Ириной меню на ужин, а Анатолий Иванович за это время продвигался по тропе всего метров на двести. Однажды он обнаружил на листве очень редкую мушку. Насекомое улетело, но он, хорошо изучив все мушиные повадки, знал, что она обязательно вернется. Так и случилось. Через два часа наш начальник дождался и поймал ее. Как и предполагалось, это оказался новый для науки вид.
Анатолий Иванович отличался не только неутомимостью в ловле мух, но и потрясающей нетребовательностью к бытовым условиям и пище. Мои приятели, уже бывшие с ним в экспедиции, с ужасом вспоминали, как однажды неосмотрительно поручили ему закупку продуктов. Весь месяц им пришлось питаться исключительно вермишелевым супом с копченостями из пакетиков, чаем и сахаром. Анатолий Иванович на этом корме весь срок проходил по своей охотничьей тропе, а его компаньоны едва не умерли от дистрофии.
В эту экспедицию мне повезло. Ирина оказалась не только прекрасной лаборанткой — она кольцевала птиц и накалывала насекомых, — но самое главное — прекрасной хозяйкой. После моих неудачных попыток разобраться с дарами моря она стала использовать только привычные продукты и готовила из них изумительно вкусные вещи. Меню ежедневно менялось, и к каждому блюду подавались какие-то удивительные специи, часть которых Ирина привезла с собой из Москвы, а часть собирала здесь — в лесу и на лугах.
Однажды вечером только мы сели ужинать, как на кордоне появился непрошеный гость — хозяин нашего дома, лесник этого участка. Как выяснилось, он только что вернулся из отпуска, а директор заповедника не предупредил его, что на кордоне живут биологи из Москвы. Поэтому для работника лесной охраны было полной неожиданностью, что в его жилище поселились неизвестные личности, которые распилили замок, везде развесили клетки с птицами, расставили коробки с сушеными насекомыми, положили в погреб мешки с разной гадостью — змеями и лягушками, заняли все кровати, а на его личной постели рядом с японкой спит самый несимпатичный тип, называющий себя орнитологом. Угнетенный столь разительными переменами, происшедшими в его отсутствие, помрачневший лесник очень неохотно дал себя уговорить сесть с нами за стол. Ужин был отменный. Ирина как будто предвидела гостя и превзошла саму себя в кулинарном искусстве.
Осенние цветы стояли в изящной японской бутылке, найденной на берегу. Темно-вишневые листья как будто случайно, а на самом деле весьма продуманно чуть прикрывали аппетитную виноградную гроздь, лежавшую в алюминиевой миске. Салфетки заменяли ажурно вырезанные кусочки фильтровальной бумаги, одолженной у Анатолия Ивановича. Смирившийся со своей участью лесник постепенно оттаивал, а после салата из мертензии — невзрачной, но очень вкусной сизо-зеленой приморской травки — и дикого лука, тушенки и макарон с соусом из молодых подберезовиков совсем подобрел. Но главное было впереди. К чаю подавались маленькие медово-желтые оладьи с малиновым вареньем. Мужчины молча поедали десерт, а Ирина с радостью хорошей хозяйки смотрела, как мы поглощаем ее творения.
Желая как-то завязать разговор и расшевелить нашего гостя, она стала восхищаться природой Приморья. Здесь все так необычно, говорила она, так красиво, так странно. Экзотические бабочки и птицы! А дары моря! А сопки! А тайфуны! Здесь можно увидеть, как дикий виноград обвивает березу, лианы актинидий добираются до вершин самых высоких кедров, а созревшие гроздья лимонника новогодними игрушками висят на елках. Здесь можно встретить совсем неожиданные растения. Вот сегодня утром она совсем недалеко от кордона увидела необычную даже для Дальнего Востока картину: кусты дикой малины с крупными, почти как у садовых сортов, ягодами были увиты какими-то длинными ползучими лианами и широкими листьями. На стеблях этого странного растения висели большие, в два кулака, зеленые плоды. И знаете, что это оказалось? Настоящие дикие тыквы! Вот они на столе — оладьи из дикой тыквы и варенье из дикой малины. Ну как, понравилось?
После ее рассказа наш гость неожиданно впал в такую безысходную меланхолию, что, даже не поблагодарив за ужин, молча встал, оделся, взял карабин и ушел из дому. Мы никак не могли объяснить его поведение. Все так удачно складывалось, налаживались контакты, и вот... Особенно недоумевала Ирина.
Лесник развел костер на берегу моря, сел около него и на все наши просьбы и уговоры вернуться в дом никак не реагировал. Ночью его отчаяние, вероятно, достигло высшей степени, так как он начал стрелять в сторону Сахалина трассирующими пулями. Утром на том месте, где он сидел, мы нашли лишь теплое кострище да несколько гильз. Следы уходили к поселку.
Мы узнали, что же с ним случилось, гораздо позже от директора заповедника. Оказывается, наш лесник был страстным садоводом. Дома у него были огромные плантации. Посадил он кое-что и у своего кордона. Но все лето был в отпуске и на свой лесной огород сумел выбраться только под осень, чтобы собрать урожай малины и тыкв...
Природа, похоже, замерла в блаженном безделье, отдыхая от стремительных летних свадеб, рождений и возмужаний миллиардов живых существ. И как в саду старушки-волшебницы, куда попала Герда из сказки Андерсена «Снежная королева», здесь, в Приморье, время как будто остановилось в вечном августовском лете. Небо безмятежно синело над вздыхающими голубыми валами, над лугами в теплом воздухе медленно плыли длинные серебряные нити, а в зелени листьев не прибавлялось пурпура и золота. Прозрачными спокойными вечерами, когда первые звезды, появлявшиеся на небе, теплыми любопытными глазами заглядывали в нашу долину, дымчатые сумерки лугов оживали тысячами отдельных робких серенад, сливавшихся потом в торжественную и немного грустную мелодию огромного оркестра. Маленькие солидные скрипачи словно тосковали в надвигающейся тьме о недоступности звезд и о медленном, видимом лишь им одним умирании природы.
Но пришли первые холодные утренники, и в раскрасневшихся сопках по-осеннему зашумели птичьи стаи. Пришло время собираться и нам.
Мы вытащили рюкзаки на дорогу и стали ждать попутку. Через полтора часа нас забрал огромный «КамАЗ». Ирину с белоглазками мы посадили в кабину. Рюкзаки забросили в кузов и залезли туда сами. Тяжелый грузовик плавно тронулся. Сразу же стало холодно от набегающего воздуха, и пришлось натянуть свитера. Через десяток километров машина остановилась, и мы увидели, что натворил тайфун. Речка, через которую можно было перейти по камушкам, ревела, как Ниагара, беснуясь в бетонных опорах снесенного моста. В огромных водоворотах кружились обломки деревьев.
Через водную преграду могли переправляться только такие могучие машины, как наша. На обоих берегах реки двумя стайками разноцветных божьих коровок сгрудились «Москвичи», «Жигули» и «Запорожцы». Им дороги не было. Водители в зависимости от темперамента ожесточенно ругались, растерянно ходили по берегу или же философски спокойно смотрели на реку. Наш «КамАЗ», снисходительно урча, миновал косячок малолитражек и медленно въехал в воду. Чувствовалось, как река навалилась на машину, пытаясь сдвинуть ее и унести. Грузовик медленно шел вперед. Неожиданно он осел и остановился: колеса попали в глубокую яму. «КамАЗ» дернулся вперед, потом назад, все сильнее погружаясь, и наконец заглох, когда вода дошла до мотора. Слышно было, как под кузовом бурлят волны и течение катит по дну валуны. Иногда они глухо ударяли по баллонам грузовика.
Обладатели легковых автомобилей сочувственно смотрели на нас с обоих берегов. Было ясно, что нам самим отсюда не выбраться. Именно для таких аварийных случаев рядом с переправой дежурил огромный «Кировец». Трактор медленно заполз в реку, наш водитель вытащил из кузова толстый капроновый канат, прикрепил один конец к крюку «КамАЗа», а другой бросил трактористу. Буксир медленно двинулся к берегу, из-под его колес стали выскакивать лягушками мокрые булыжники, трос натянулся, наша машина чуть подалась вперед, и тут канат лопнул. Размочаленные пряди извивались, как щупальца кальмара. Тракторист достал из-за кабины стальной трос. Железо выдержало, и грузовик выбрался на берег. Пока шофер проверял двигатель, наступили сумерки, а когда мы тронулись в путь, совсем стемнело. Желтый свет фар высвечивал горбатую спину дороги. Темные сопки вздымались и падали огромными волнами. Далеко впереди светилось зарево поселка. В кузове стало совсем свежо от ночного воздуха, перекатывающегося через крутой лоб «КамАЗа». В кабине водитель включил портативный телевизор — для Ирины. И мы с Анатолием Ивановичем, сидя на трясущихся рюкзаках, смотрели через заднее стекло кабины на голубое пятнышко экрана, где беззвучно двигались бледные тени.
ЖЕЛТЫЕ ТРЯСОГУЗКИ
Передо мной своеобразный орнитологический натюрморт. На столе лежат двенадцать тушек желтых трясогузок — мелких, лимонного цвета длиннохвостых птиц, потрепанный полевой дневник с засохшими между страниц комарами и биологический журнал с моей статьей — конечный результат работы. Четыре страницы текста, несколько новых фактов. Но сейчас хочется рассказать не о том, что написано в научной публикации, это интересно только специалистам, а о событиях, которые сопутствовали сбору полевого материала и остались «за кадром».
Мне никак не удавалось попасть на амурские острова, хотя я прожил в поселке, стоящем на берегу великой реки, более недели. Не было оказии — попутного катера или лодки. Но если долго живешь на одном месте, то непременно обзаводишься друзьями и знакомыми. Вот они-то и сказали мне, что по реке из поселка отправляется агитбригада самодеятельности — поддерживать моральный дух косцов и доярок. На огромные, до десятка километров в длину, острова Амура, занятые прекрасными лугами, на лето завозились коровы, а молоко специальными судами ежедневно транспортировали в город. На островах работали и косцы — заготавливали на зиму сено. Их-то и ехала развлекать поселковая агитбригада, состоящая из четырех девиц и хромого аккордеониста. Я отправился к инвалиду, который по совместительству был также и генеральным директором ансамбля, и договорился, что и меня, «науку», возьмут в этот трехдневный вояж. Я собрал вещи, инструменты для обработки птиц, подготовил ружье и сходил в магазин за продуктами, что впоследствии оказалось нелишним.
На следующий день мы встретились на причале, где всех участников путешествия уже дожидался специально арендованный для этого случая большой катер под гордым названием «Лещ». Экипаж судна состоял из двух молодых парней, один из которых был капитаном, другой — его помощником. Кроме того, с нами в рейс увязался совсем молодой, но уже отсидевший за свое хулиганство уголовник, добровольно исполнявший обязанности юнги.
Когда стали грузить вещи на борт катера, я насторожился: мне показалось, что продукты питания остальных участников агитпохода состояли исключительно из ликеро-водочных изделий. Мы отчалили на середину реки, которая напоминала оживленное шоссе. «Жигулями», «Москвичами» и «Волгами» сновали моторные лодки. Солидными комфортабельными междугородными автобусами проносились «Метеоры» и «Ракеты». Как грузовики, медленно двигались буксиры, баржи, сухогрузы и танкеры. Наш корабль на этой водной магистрали выглядел небольшим служебным «рафиком».
Пока катер шел к острову, где должно было состояться первое выступление, команда и пассажиры решили перекусить. За столом мои худшие опасения оправдались: непосредственно из еды у нас оказалось несколько купленных мною банок консервов и пять буханок хлеба. Остальную часть меню составляла «Московская».
Вот и первый остров. Опытный капитан лихо ткнул катер в высокий глинистый берег. Девицы в специально взятых для этого случая в клубе длинных, нарядных, голубых и розовых, платьях стайкой нетрезвых бабочек порхнули к ближайшему коровнику. За ними плелся аккомпаниатор, шатаясь не только под тяжестью аккордеона.
Следом за артистами по трапу скатился и я, на ходу собирая ружье. За тот час, в течение которого длился концерт, я должен был выявить основные виды обитающих здесь птиц и добыть образцы местной авифауны[15]. Так что приходилось торопиться. И как только из коровника донеслись нестройные звуки аккордеона и грянул девичий хор, я открыл огонь. Весь концерт так и проходил в боевой обстановке — под канонаду моего дробовика.
Через час я с добычей возвратился на катер. Девицы уже стояли на палубе и шумно обсуждали плетущегося к судну генерального директора, которого в полуденную жару совсем развезло. Оказывается, он на концерте неожиданно заиграл «Танец маленьких лебедей», требуя при этом от своих подопечных петь под бессмертную музыку Чайковского, а на «бис», когда девицы исполняли злободневные частушки, начал лихо подпевать им, чем повеселил пастухов и даже слегка сконфузил доярок. В целом же можно было считать, что дебют прошел успешно.
В этот день мы посетили еще два острова, и наша тактика там оставалась прежней. Как только катер приставал к берегу, с него пестрым десантом скатывалась группа артисток, за ними медленно двигалась основная ударная, вооруженная аккордеоном сила, а я обходил место выступления с фланга и поддерживал огнем успех операции.
После третьего, последнего в этот день концерта «Лещ» причалил у какого-то крохотного прибрежного поселка, вернее, у его магазинчика. Мы надеялись пополнить здесь запасы продовольствия. Но сельпо не работало.
Вечерело. Мы хотели было заночевать тут же в катере, у берега, но одно обстоятельство заставило капитана изменить это решение.
Вместе с сумерками появились бабочки-поденки. Тысячи, миллионы, миллиарды поденок. Белые, чуть зеленоватые, полупрозрачные, эфемерные создания разом поднялись из своих подводных жилищ, где они прожили годы невзрачными личинками. Теперь, обретя крылья, поденки кружились над рекой на своем единственном в жизни балу, чтобы к рассвету превратиться в серую пену, лежащую у берега, или же нестись вниз по реке, исчезая в водоворотах и жадных рыбьих ртах. А пока скоротечная праздничная жизнь только начиналась. Закружились тихо шелестящие вихри, заструилась крылатая вьюга, и на палубе стали вырастать шевелящиеся сугробы живых снежинок, которые ползали, взлетали и снова садились. Капитан включил сигнальные огни, но они тут же померкли, облепленные тысячами крохотных телец. Поденки ползали везде, в том числе по экипажу и пассажирам, не принося им никакого вреда, только щекоча крыльями и лапками. Известная неприязнь человека к скоплениям членистоногих заставила капитана завести мотор и отогнать катер на середину реки. Здесь поденок было меньше. В уже сгустившейся тьме стали наконец видны габаритные огни «Леща».
Я пожевал на ночь хлеба — единственного продукта, оставшегося на корабле, запил его водой и, сильно утомленный нашими флибустьерскими налетами, пошел в отведенную мне каюту и лег спать.
А агитбригада решила отпраздновать начало гастролей и устроила концерт для себя. Зрителями были экипаж судна и юнга-уголовник. И всю ночь на одиноком катере, стоящем на якоре посредине самой большой реки Дальнего Востока, при тусклом освещении габаритных огней разухабисто ревел аккордеон инвалида, слышались его частушки, от которых, наверное, краснела рыба даже частиковых пород, а девицы лихо отплясывали кадриль, выводя каблучками самые немыслимые переборы. Я мог хорошо оценивать достоинства последних, так как отведенная мне койка располагалась прямо под палубой.
Утром я проснулся рано. Команда судна и пассажиры спали. В кают-компании я нашел бодрствующего юнгу, который, как хорошо вышколенный стюард, тут же предложил мне легкий завтрак: полстакана водки и ломоть хлеба. Хлеб я съел, но от водки отказался и вернулся в свою каюту. Там я обработал добытых вчера птиц, привел в порядок записи в дневнике и поднялся на палубу. Катер, слегка покачиваясь, стоял на якоре посреди реки, и вода с легким журчанием обтекала борта судна. Берега были скрыты утренним туманом. Все по-прежнему спали. Делать было нечего. Я побродил по судну, посидел на влажной от росы скамейке и вспомнил, что вчера в каюте капитана я видел сборник детективов — чудесное средство, чтобы убить время до очередного набега на остров. Я подошел к капитанской каюте и негромко постучал. Молчание. Я открыл дверь. Раздался пронзительный женский визг. Одна из певиц, отнюдь не в концертном платье, мелькнула в сумерках каюты, а голос невидимого капитана в частушечно-инвалидных выражениях объяснил мне всю бестактность столь раннего визита. Самое обидное, что книгу я так и не получил, хотя им она была не нужна.
Катер еще два дня бороздил Амур. Агитбригада пользовалась большим успехом у механизаторов, пастухов и доярок, а две ее участницы — особыми привилегиями у капитана и его помощника. У остальных простаивающих девиц это вызывало раздражение и глухую зависть. Хотя мужчин на корабле вроде бы хватало, но юнга-уголовник, кроме как о хулиганстве, больше ни о чем не думал, а инвалид-аккордеонист ввиду возраста и пристрастия к алкоголю был способен только на матерные частушки. На меня же прекрасная половина агитбригады сразу же махнула рукой как на явно бесперспективного, интересующегося только птичками, обидно прозвав при этом Чижиком.
Несмотря на эти моральные издержки, поездка с орнитологической точки зрения оказалась очень плодотворной. Я собрал интересный коллекционный материал, провел подробные наблюдения, а один вид — желтая трясогузка — требовал более детального изучения.
Поэтому как только «Лещ» привез нашу компанию назад, в поселок, я первым делом пошел в столовую, где оказался более богатый ассортимент блюд, чем на судне, а потом стал собираться на тот остров, где жили трясогузки.
Но как быть с транспортом? Экипаж катера был надолго выведен из строя разгульными днями и буйными ночными оргиями. Однако скоро выяснилось, что моего приятеля Валеру, имеющего свою моторную лодку, направляли работать — косить сено — именно туда, куда я стремился.
К технике у меня одно чувство — уважение, хотя сам я в ней совсем ничего не смыслю. Но, съездив несколько раз на Дальний Восток, я невольно начал разбираться в лодках. Во многих местах это основной, если не единственный, транспорт. Их встретишь и на Охотском море, и на озерах, и на огромном Амуре, и на извилистых таежных речках. И разговор на берегу обязательно зайдет о воде, судах и моторах. Так что вольно или невольно становишься слушателем, а позже и участником бесед о «Крымах», «Прогрессах», «Обях», просто «Казанках», «Казанках-М» и даже о «Казанках 5М-2», а также о редукторах, помпах, маховиках и срезанных шпонках.
Вот и сейчас, прежде чем погрузиться в лодку Валеры, я, стараясь не путать помпу с магнето, поговорил о достоинствах и недостатках охлаждения моторов «Вихрь» и «Нептун». Это здесь, в Приамурье, — начало любого разговора, вроде беседы о погоде в старинных аристократических семействах. Мы оба пришли к единому мнению, что «Нептун» в этом отношении лучше, положили вещи в носовую часть судна и оттолкнулись от берега.
Лодка мне сразу же понравилась. Деловая, простая конструкция. Хороша и для рыбалки, и для перевозки груза. Сначала поразило, потом стало нервировать полное отсутствие комфорта, какой-то военный аскетизм. Судно украшал лишь закрытый алюминиевым кожухом мотор от «Волги», две деревянные узкие и очень жесткие скамейки, штурвал и единственная кнопка на приборном щитке. Удивляла также необычная чистота — ни глины, ни песка, ни засохших водорослей, ни рыбьей чешуи. Лодка была не новая, но ухоженная, вымытая и выскобленная. Чувствовалось, что хозяин любит и бережет ее.
Мы уселись на монашеские скамейки, и Валера нажал кнопку. Мотор сразу же завелся с непривычным мягким приглушенным звуком. Судно на малой скорости отошло от берега, «капитан» тронул какой-то невидимый рычажок. Мотор зарычал, лодка, выходя на глиссирование, почти вертикально задрала нос, но, набрав скорость, легла на воду.
Да, не только по своей патологической чистоте, отсутствию комфорта, но и по скорости это было настоящее военное судно, точнее говоря — торпедный катер. Километров пятьдесят в час он давал, легко обходя «Амуры», «Прогрессы» под двумя моторами и не отставая от «Ракет».
Мы вышли на середину реки. Справа на Амур наваливались высокие сопки Сихотэ-Алиня, слева широко раскинулись пойменные луга. Солнце вспыхивало на вершине каждого водного гребня. Знойный летний ветер взбивал вполне морские волны.
Тут катер показал свои отличные мореходные качества. Он легко прыгал через две волны и рикошетировал от третьей. Искрящиеся брызги вырывались из-под днища при каждом ударе. Иногда этот ритм сбивался, нос лодки зарывался в воду, судно на мгновение теряло скорость, но мощный мотор через несколько секунд снова разгонял его.
Какое удовольствие — лететь посередине огромной реки в вихре горячего ветра и прохладных брызг!
Но уже через десять минут лета я перестал замечать окружающую красоту и начал поносить (про себя, разумеется) недобрыми словами спартанское убранство лодки, особенно ее сиденья, сделанные, казалось, из железного дерева. Даже Валера, опытный речной волк, страдал. По крайней мере, он через каждые двадцать минут сбавлял газ. Лодка начинала плавно переваливаться по водной пашне, а наши избитые скамейками тела отдыхали. Но перекур оканчивался, мотор послушно набирал обороты, и лодка вновь взлетала над волной в своем ужасном галопе. Мы же начинали дружно стучать о деревянные скамейки задами и ритмично екать селезенками при каждом ударе.
Наконец мы добрались до острова. Я пошел знакомиться с косцами, лагерь которых располагался поодаль от коровника, где несколько дней назад гремел веселый концерт.
Через полчаса, поговорив с местным начальством, я уже считался жителем этого небольшого временного поселка и поставил свою палатку рядом с вагончиками косцов. После того как я «отстроился», меня позвали обедать в столовую — дощатый навес с полиэтиленовыми стенками. На прозрачной пленке, защищающей внутренность помещения от ветра, жужжали оводы, обреченно сложив лапки на груди и спиной скользя по прозрачной преграде. У пышущей жаром печки суетился повар. Я с удовольствием ел плотный обед и расспрашивал соседей по столу — трактористов и шоферов — об острове и птицах, которых они здесь встречали.
Ночь была беспокойной. Вокруг лагеря бродили коровы. Они цеплялись за туго натянутые растяжки моей палатки. Полотняный дом при этом глухо гудел, отчего казалось, будто я сплю в контрабасе. Приходилось вылезать из теплого спальника и отгонять томно дышащих коров.
Я встал рано, с рассветом. По опыту поездки на «Леще» я знал, что уже в одиннадцать часов придет влажная жара, при которой работать в поле физически невозможно. Наступит время сиесты — полуденного отдыха.
Серый туман стелился над лугами. По-утреннему, отчетливо выговаривая каждую фразу, пели птицы. На небольшой старице закрякали невидимые утки. Я направился туда.
Поднялось солнце, и туман растворился. Заблестевшая было роса быстро высохла. Становилось жарко. Я около часа занимался наиболее интересным для меня видом — желтой трясогузкой, а потом решил выяснить, сколько же на небольшой старице обитает уток-касаток.
Пройти по берегу водоема было почти невозможно: там «росли» огромными грибами частые высокие кочки. Поэтому я залез в неглубокую — по колено — старицу и побрел по мягкому илистому дну. Двигаться в теплой, не успевшей остыть за ночь воде было очень приятно.
Я прошел около сотни метров и спугнул выводок касаток. Пушистые серые утята шумно разбегались по воде. Один птенец нырнул и, окруженный сверкающим слоем воздуха, прилипшего к его пуховой шубке, поплыл под водой, зацепился за стебель и замер, ожидая, когда минует опасность.
Над поверхностью старицы появился зимородок. Он стремительно облетел ее, видимо в поисках подходящего наблюдательного пункта. Но излюбленных этой птицей кустов, склонившихся над водой, здесь не было, и тогда зимородок, высматривая рыбешку, голубой утренней звездой повис на одном месте, бешено работая крыльями.
Передо мной плавал островок цветущих водных растений. Желтые звездочки лежали на темно-коричневой воде. Я достал из рюкзака фотоаппарат и, смотря в видоискатель, стал выбирать наилучшую точку для съемки. Увлекшись, я совсем забыл, что нахожусь в водоеме, и присел, замочив ту часть тела, которой вчера так досталось в лодке. Я наконец приготовился снимать и обмер: прекрасный, только что раскрывшийся цветок уже увял. Лимонная оторочка венчика поблекла и порвалась, а налетевшие мелкие блестящие жучки жадно грызли тонкую шелковистую ткань лодочек-лепестков. Я осмотрелся. Все цветы золотистого островка умирали, едва успев распуститься, и тонкий аромат их реквиемом плыл в воздухе. Остались нераскрытыми только несколько бутонов.
Я заторопился и, забыв о всех неудобствах съемки в воде, навел объектив и стал ждать. Через минуту цветок начал распускаться, словно разгорался огонек, некоторое время светился чистой желтизной и потух. Я отснял всю его стремительную жизнь, вздохнул и побрел дальше по старице.
Завтрак в полиэтиленовой столовой был отменным, только чай подавали «пустой» — не сладкий, а повар всем вновь прибывающим рассказывал жуткую историю о том, как ночью неизвестные злодеи проникли в столовую и утащили мешок сахара. Механизаторы решили, что это дело рук пастухов — известных любителей браги. Ответ на волнующий всех вопрос, брали они сахар или не брали, должно было дать время. Если через неделю пастухи будут «под мухой», это явная улика против них — ведь спиртного на острове взять больше неоткуда.
Мне тоже было интересно узнать, из-за чего кончилась сладкая жизнь, но дела торопили, и, пробыв на острове еще четыре дня и выполнив намеченную программу, я стал собираться в город.
Бригадир косцов посоветовал мне пройти с километр по берегу до враждебного лагеря пастухов, куда каждый день приходило судно, забиравшее молоко.
— Только скажи капитану, что ты от меня, — напутствовал бригадир.
Я сложил палатку, собрал вещи, взял рюкзак и, повесив на плечо зачехленное ружье, отправился к пастухам.
Катер уже стоял у берега. Вокруг толпился народ: на баржу, пришвартованную к судну, загоняли по дощатому настилу быка. При дефиците зрелищ на острове это было почти кино, остросюжетный фильм, тем более что бык никак не хотел ехать в город, и пастырям приходилось всячески его уговаривать. Доярки, стоящие рядом, слушали их и, видимо, вспоминали частушки недавно гастролировавшей агитбригады. Наконец бык не выдержал очередной словесной атаки и рысью, гремя по доскам копытами, забежал на баржу.
Начали заполнять катер молоком. На палубе поочередно открывали горловины резервуаров, доярки обвязывали их марлей, и с берега по широкой гофрированной трубе молоко, пенясь, бежало внутрь корабля. Потом стали запускать пассажиров, попутным рейсом добиравшихся до города. Зашел и я, забыв, однако, представиться капитану. Он бросал на меня подозрительные взгляды: всех заходящих он знал лично, а я для него был «бич» — человек без определенных занятий.
Народ разместился на скамейках верхней палубы. Было объявлено, что катер отойдет не скоро, а из-за обузы — баржи с быком — в город прибудет далеко за полночь. Я загрустил. Транспорт к тому времени прекратит работу, и мне предстояла долгая пешая прогулка до здания железнодорожного вокзала, откуда я собирался уехать в другой район.
Невеселые размышления были прерваны пастухом, также собравшимся в город. Он осмотрел мои вещи и, обнаружив среди них зачехленное ружье, пристал с расспросами. Я рассказал о своей работе, упомянув, что одна из целей таких поездок — сбор научных коллекций для зоологического музея.
Найдя наконец источник каждодневной канонады на острове, пастух стал медленно «заводиться». Из его монолога я понял, что он отнюдь не поборник охраны природы, а просто переживает, что я перестрелял всех уток, на которых он сам собирался охотиться осенью. При этом пастух не только обсыпал меня ложными обвинениями, утверждая, что я обжираюсь молоденькими утятками, но и обдавал потоками неквалифицированной ругани и парами незрелой браги. Косцы оказались правы. Только недружественный лагерь не выдержал требуемого срока и начал пить раньше.
Я продолжал вежливо увещевать моего собеседника, доказывая, что не ем утят, а коллекционирую мелких воробьиных птиц, причем в очень ограниченном числе. Я не поленился, распаковал рюкзак и показал ему торжественную бумагу — официальное разрешение Главохоты на отстрел птиц для музея.
Но пастух не унимался. Плохая брага делает человека раздражительным. Он почти кричал, причем в его речи все меньше оставалось места для меня, Главохоты и научной деятельности. Пассажиры на катере, доярки на берегу и даже бык на барже с любопытством смотрели на нас. Мне предоставлялось последнее слово. Я аккуратно сложил красивое разрешение на отстрел, не торопясь спрятал его в рюкзак, вспомнил, что несколько дней пил чай и компот без сахара из-за этого субъекта, даже толком не сумевшего использовать ценный пищевой продукт.
И я громко заговорил о необходимости пополнения коллекции зоомузея Московского университета, стараясь правильно чередовать слова, содержащие информацию, с сериями слов, ее не содержащую. Декоративные наборы я пытался выдавать как можно более длинными и разнообразными.
Я закончил свою оправдательную речь и, честно говоря, подумал, что сейчас придется вспоминать не только портовый жаргон, но и усвоенные когда-то азы бокса и каратэ. Но все сложилось по-другому. Моя речь имела успех. Оппонент заплакал пьяными слезами, сказал, что нехорошо так отзываться о нем и его родственниках, и убежал по трапу на берег. Больше я его не встречал. Доярки на берегу, услышав простые слова, а не научные термины, еще раз обсудив с пастухами детали погрузки быка, двинулись к коровнику. Пассажиры продолжили прерванные разговоры. Далеко замычали коровы, которых гнали на вечернюю дойку, и бык нервно заходил по барже.
Капитан же, из моего монолога выяснивший, что я вовсе не «бич», а научный работник, вылез из рубки, подошел ко мне и отечески спросил, не голоден ли я. Мы пошли в его каюту, где поужинали жареной рыбой, а потом я с удовольствием выпил стакан чаю. Сладкого! Обсудив сначала достоинства и недостатки моторов «Вихрь-Э» и «Вихрь-Р», мы нашли общих знакомых на катере «Лещ» и уже начали разбирать сложности амурского фарватера, когда я услышал знакомый звук и выскочил на палубу. Так и есть: по вечерней реке со стороны лагеря механизаторов, оставляя за собой две высокие белые волны, мчался Валера на своей замечательной лодке. Я замахал руками. Судно по плавной дуге, снижая скорость, подошло к молоковозу.
— Володя, ты что, еще не уехал? — закричал мой приятель. — А меня ребята в город послали. За сахаром. — И он недобро взглянул в сторону пастухов. — Садись, через час будем на месте.
Я пожал руку капитану, бросил в лодку свои вещи и спрыгнул туда сам. Мотор мягко зарычал, лодка рванулась, за кормой затрепетали два белых вымпела бурунов.
Вечерний Амур был спокоен, и мы не останавливались на отдых. Я успел в город еще до того, как трамваи разошлись по паркам.
ТУГУР — РЕКА РЫБНАЯ
Кому приходилось, путешествуя, забираться в «медвежьи углы», знает, как утомительна бывает дорога. Часто сутками ждешь в центральном аэропорту: нет погоды, самолетов или керосина. Неделями ночуешь в дощатых строениях местных аэровокзалов, каждое утро с тоской взирая на эскадрильи «АН-2», мокнущих под обложным дождем, и проводя серые дни в бесконечных беседах с умирающими от скуки летчиками. Наконец добираешься до поселка, откуда тебя должен везти местный рейсовый автобус. И тут оказывается, что он в лучшем случае только что ушел и будет послезавтра, причем на него претендует батальон таких же страждущих, но менее груженных и поэтому более мобильных аборигенов, а в худшем случае — автобус сломан или рейс вообще отменен, так как недавние ливни размыли дороги, а водитель заболел. В довершение всего выясняется, что в населенном пункте нет гостиницы, а сельсовет, где можно отметить командировку, расположен километрах в сорока, к тому же сегодня суббота и он не работает, а полки сельпо, на запасы которого ты очень рассчитывал, ломятся только от серых макарон такого диаметра, что кажется, они сделаны на трубопрокатном заводе. Рядом с макаронами скучает остродефицитный в Москве зеленый горошек пяти сортов и шоколадные конфеты, настолько закостенелые, что честная продавщица принимает их обратно или меняет на другие продукты.
Это, так сказать, один из обычных вариантов начала. Продолжение может быть более оптимистичным. А может и не быть.
Но в этот раз мне повезло. Я очутился в глухой дальневосточной тайге ровно через сутки после того, как вылетел из Москвы. Первая посадка — в Комсомольске-на-Амуре. Через час после прибытия из аэропорта уходил «борт» (так здесь называют самолет) «АН-2», а еще большая удача — на него были билеты. И снова в полет.
Правда, в «кукурузнике» не было такого комфорта, как на флагмане советского Аэрофлота. Пришлось расположиться на скамейках, похожих на сиденья допотопных «Побед» и «Москвичей» первых выпусков. Проход был завален рюкзаками, сумками и чемоданами: второй пилот заставил пассажиров всю тяжесть положить поближе к носу, чтобы, как он выразился, «самолет не кувырнулся». Летчики открыли дверь своей кабины, и все сидевшие в салоне с интересом наблюдали, как они вели машину — один держался за штурвал, жал на кнопки и педали, а другой читал газету. Пассажиры — завсегдатаи этой линии почти не смотрели в поцарапанные плексигласовые иллюминаторы: там простиралась давно примелькавшаяся для них картина — горная тайга, мари и реки. Знатоки следили за альтиметром, показывающим высоту полета, и спорили, на сколько машина провалится в очередную воздушную яму за следующей сопкой — на 50 или 100 метров.
Наконец «АН-2» сел на земляной аэродром небольшого поселка. Мне удалось устроиться в крохотной гостинице для пилотов. Утром меня разбудили: на север, как раз туда, куда мне было нужно, шел патрульный вертолет пожарной охраны лесов. Я поговорил с вертолетчиками и стал переносить свои вещи к машине. В ней уже сидело пятеро мужиков — лесные пожарные. Они помогли мне затащить два моих рюкзака и ящик и, узнав, что я первый раз лечу на вертолете, уступили место у иллюминатора. Последним залез механик, поднял за собой трап — хрупкую алюминиевую лестницу и захлопнул овальную дверцу. Загрохотал двигатель, послышался легкий посвист винта, и тени от лопастей заскользили по иллюминаторам. Вертолет плавно пошел вверх. Показался поселок, лежащий в стороне от аэродрома, потом речка, мари и дальние сопки.
Машина чуть наклонилась и двинулась на север, к Тугуру. Мы плыли над лиственничной тайгой, над бескрайними моховыми болотами, над серыми лентами рек, обрамленными мохнатым бордюром из темно-зеленых елей и пихт. Изредка внизу виднелись старые лесовозные дороги, неестественно прямолинейно прорезающие леса. На марях они теряли свою уверенность и осторожно обходили аккуратные блюдца небольших озер.
Примерно через час полета машина сделала круг и стала снижаться. В светлой зелени лиственничной тайги рядом с речным изгибом-кривуном показались два дома — метеостанция Бурукан. Вертолет спускался, целясь колесами на белую шиферную крышу. При снижении все-таки выяснилось, что летчик не хочет ломать чердак дома округлым пузом «восьмерки», а садится на крошечную поляну, лежащую, казалось, у крыльца. Машина снижалась, дома из крохотных избушек превращались в огромные хоромы, тонкий лиственничный жердняк стремительно вытягивался вверх, а посадочная площадка отползала в сторону. Из дома показалась фигурка и неторопливо двинулась к «аэродрому». За ней пестрой стаей трусили собаки.
Вертолет мягко ткнулся колесами во влажную землю большой поляны. Летчик не стал выключать двигатель, мужики помогли мне выгрузить вещи. Я махнул рукой пилоту и отвернулся, чтобы сор, поднимаемый воздушным вихрем, не попал в лицо. «Восьмерка», грохоча, взлетела, и трава на поляне забилась зеленым пламенем. Вертолет набрал высоту и исчез за сопкой.
Ко мне подошла молодая женщина в сопровождении десятка огромных лаек. Я представился, объяснил, зачем забрался в эту глухомань. Хозяйка метеостанции Валентина пригласила меня в дом перекусить с дороги. К чаю были поданы огромные ломти удивительно вкусного, испеченного здесь же, на метеостанции, душистого белого хлеба и грандиозные рыбные котлеты.
Неожиданно за дверью послышались тяжелые шаги и цокот собачьих когтей по доскам. Лайки, судя по всему, вертелись на крыльце, радостно встречая кого-то. Дверь распахнулась, и вошел хозяин — невысокий, сутулый, крепкий человек лет сорока. Мой новый знакомый Виктор молча сел к столу, налил чаю и начал намазывать на хлеб чудовищное количество масла. Пока он этим старательно занимался, я рассмотрел его получше. Он был рус, кудряв, курнос и пронзительно голубоглаз. Ярко-рыжая вьющаяся борода росла от глаз до кадыка. Типичный коренной сибиряк. Может быть, даже старовер. Вон на шее тесемка — наверняка крест. Неразговорчивый метеоролог не торопясь умял свой бутерброд, потянул веревочку висящего на шее нательного креста, но из-под старой штормовки показалось вовсе не распятие, а крохотные женские часики. Он посмотрел на циферблат и, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Однако на срок надо идтить, — встал из-за стола и исчез за дверью.
Заинтригованный, я обратился к Валентине за разъяснением. Оказалось, что «срок» — это строго определенное время передачи метеосводок. Работники станций через каждые четыре часа в одно и то же время снимают показания с приборов об атмосферном давлении, температуре воздуха, скорости и направлении ветра, облачности. Вся информация при помощи специальных таблиц переводится в цифры и морзянкой передается в единый центр, где она и обрабатывается.
Мне стало любопытно, как составляется прогноз погоды, и я вышел на улицу. Виктор задумчиво смотрел на небо, по которому плыли облака. Дверь кухни отворилась, показалась Валя.
— Нимбостратусы, — сказала она, глянув вверх. Как потом выяснилось, это было название облаков.
Витя пошел к соседнему сараю измерять высоту облачности. В строении вместо ожидаемого мною радиолокатора стоял прибор, очень похожий на самогонный аппарат, но таких колоссальных размеров, что наверняка смог бы снабдить суточной нормой первача население небольшого городка. Но агрегат был вполне мирного назначения. Вместо спиртов и сивушных масел он вырабатывал водород, которым Виктор наполнил резиновый шар, наподобие детского, только раза в четыре больше.
Взяв летательный аппарат, надутый строго определенной порцией легкого газа, Виктор вышел на улицу. Он вынул из кармана брюк секундомер, включил его и одновременно выпустил шар. Потом из другого кармана достал темные солнцезащитные очки и, нацепив их на нос, улегся на скамейку, стоящую у сарая, и стал задумчиво смотреть на уносящийся ввысь измерительный прибор. Проглянуло солнце, и мне подумалось, что профессия метеоролога мне бы подошла. Когда минут через пять крохотная точка шара скрылась в облаках, Виктор выключил секундомер, вздохнул и встал. Потом он пошел в «служебку» — помещение, где обрабатывались показания приборов и стояли рации, и по специальной таблице, зная время подъема шара, рассчитал высоту облачности. Он перевел все данные о погоде в цифры как раз вовремя: кустовая станция вызывала Бурукан.
После «срока» мы снова пошли на кухню, где вскипел очередной чайник. За чаем хозяин метеостанции постепенно разговорился. Оказалось, что он мой ровесник — это борода придавала ему такую солидность. Никакой он не сибиряк, и не старовер, и вовсе не русский, а чистокровный немец. Судьба занесла его предков из Германии в Россию, в Поволжье, оттуда они перебрались в Казахстан, где и родился Виктор. Он объездил всю Сибирь и наконец осел здесь, на Дальнем Востоке. Виктор рассказывал, в каких местах он работал, я вспоминал о своих экспедициях, и так, за чаем и огромными котлетами, которые, как оказалось, были сделаны из тайменей и ленков, мы проговорили до следующего «срока».
Вечерело. Валентина показала мне комнату, где мне предстояло жить. Я разложил свои вещи, расстелил на раскладушке «спальник» и вернулся на кухню, где уже передавший сводку Витя сидел у печки на невысокой скамейке, курил и ковырялся в забарахлившей бензопиле. Я пожелал ему спокойной ночи, на что в ответ услышал, что худших слов для дежурного на станции нельзя придумать: ведь проспать «срок» — это ЧП. Только тогда я понял, почему в доме такое обилие будильников: на кухне их было три штуки, в комнатах они встречались повсюду как поодиночке, так и небольшими стайками, тикающие на разные лады и смотрящие белыми глазам и циферблатами с подоконников, шкафов и полок.
Я извинился за «спокойную ночь» и ушел в свою комнату, где разделся, залез в спальный мешок и, утомленный стремительностью дороги Москва — Бурукан, уснул как убитый.
У меня оказался недобрый глаз. Среди ночи на дворе громыхнул выстрел, а через минуту в мою комнату ввалился хозяин и сказал:
— Вставай, дело есть.
Оказалось, что после передачи ночного «срока» Виктор, выйдя из служебки, увидел на фоне луны сову, сидящую на медной проволоке антенны. Он, помня из нашего разговора, что я собираю для зоологического музея всех дальневосточных птиц, решил к утру сделать мне подарок и, достав карабин, выстрелил. Сова благополучно улетела, зато антенна оказалась перебитой пулей. И мы всю ночь при свете карманного фонаря ремонтировали ее. Но следующий, утренний «срок» был передан вовремя. Так началась моя жизнь на Бурукане.
Утром, когда я уходил в тайгу, меня предупредили:
— Осторожней, не застрели вместо сохатого или медведя Ржавую, она где-то рядом бродит.
На станции кроме собак жила еще и кобыла, которая числилась в инвентарной описи под номером 72 и стоила по этому же документу двести пятьдесят рублей. Прошлой осенью Ржавую подрал медведь. С тех пор она жила на правах инвалида, паслась в окрестностях, умело избегая теперь встреч не только с таежными хищниками, но и с хозяевами. Правда, часто по утрам она подходила к станции и, пользуясь старой дружбой с собаками, безнаказанно пожирала различные малосъедобные вещи. Ее любимым занятием был грабеж умывальника. Уже на третий день она слопала мое мыло, неосмотрительно оставленное там. Иногда Ржавая выходила на разбой и средь бела дня. Наиболее дерзкой ее операцией следует считать ликвидацию двухведерной кастрюли компота, сваренного Валей и поставленного охлаждаться в ручей, текущий рядом с домом. Кобыла бесшумно прокралась по воде и молниеносно выпила все два ведра десерта.
Начались мои трудовые будни. Я облазил окрестные мари, дурманящие резким запахом багульника, светлые ветреные лиственничники и сумрачные замшелые пихтарники. Виктор для далеких походов выдал мне одну из своих собак — белоснежную лайку по кличке Байкал. Пес был по собачьему возрасту мой ровесник и с таким же интересом бродил по тайге. Он помогал мне искать гнезда птиц, и вообще с ним было не скучно. Витя на этот счет имел свое мнение:
— В случае чего медведь Байкала первого есть начнет, а у тебя будет лишний шанс еще раз выстрелить или убежать.
Говорил он так не без основания: весь берег реки был выбит звериными тропами. Правда, сейчас звери встречались редко. Заметно прибавлялось их осенью, когда они с ягодных марей перебирались к реке, по которой на нерест шла кета.
Однажды после очередной вылазки на марь, где мы с Байкалом перекопали гектар мха в поисках гнезда редкой птицы, я застал Виктора сидящим на лежанке для наблюдений за высотой облачности. Он озабоченно и с некоторой грустью смотрел на свору собак. Летом собаки для охотника обуза — только корми их. Вот зимой это первые помощники промысловиков. Хоть по соболю, хоть по сохатому. Лайки примостились у бревенчатой стены «агрегатки» — небольшого строения, где стоял генератор, питавший электричеством метеостанцию. Псы смотрели на Виктора. В их скучноватых глазах можно было прочесть примерно следующее: «Ну сегодня-то мы сыты, а что завтра?» Штатный наблюдатель за облаками вздохнул. Из всех рыбных запасов оставался только один небольшой таймень. Надо было добывать собакам еду.
Ранним утром следующего дня в серовато-зеленых сумерках мы, груженные тяжелыми канистрами с бензином, шли по тропе к реке. Пара надежных лаек бежала следом. Эта поездка мне была как нельзя кстати. Ведь за все время пребывания здесь я обследовал только около километра реки. Берега Тугура почти непроходимы из-за упавших деревьев и множества впадающих в него ручьев, через которые без лодки не переправиться.
Вот и бухта. Здесь в утреннем тумане плавала алюминиевая «Казанка», а также и другие плавсредства: долбленный из ствола тополя нанайский «бат» и длинное уродливое ржавое сооружение, которое сделали умельцы геологи, стоявшие в прошлом году неподалеку от метеостанции. Оно было сварено из разрезанных вдоль половинок железных бочек. Судно имело очень неприглядный вид, непечатное название и прекрасные мореходные качества. Особенно хороша была эта лодка для прохождения мелких перекатов. В нее-то мы и погрузились.
Витя проверил мотор, залил в запасные бачки бензин, привязал карабин как самую ценную вещь длинной веревкой на случай оверкиля, накрыл толстым брезентом рюкзаки, и мы отчалили. Загрохотал мотор. Лодка пошла вверх по течению, оставляя сзади сизый дымок и расходящиеся белые буруны волн. Солнце коснулось вершин сопок, на которых розово светились сухие стволы лиственниц. Туман уползал с середины реки и жался к берегам.
Поднимались мы вверх по течению долго — все выбирали место. Наконец лодка пристала за очередным кривуном. Мы отпустили собак и стали ждать — не послышится ли лай. Тогда быстрее заводи мотор и за поворот — наперерез спасающемуся вплавь, уходящему от погони зверю. Но тайга молчала. Витя решил не терять времени даром и достал откуда-то с носа лодки спиннинг. Инструмент был, очевидно, изготовлен все теми же умельцами геологами и входил в состав табельного имущества судна. Изящное английское слово «спиннинг» никак не вязалось с внешним видом этого орудия лова, впрочем, как и с дальневосточной тайгой. Правда, здесь, в затерянных уголках, на паровых дореволюционных драгах, на ложках и кружках, вымываемых иногда современными старателями из старых отвалов, на котлах салотопок, оставшихся на месте бывших факторий, довольно часто встречались английские слова. Да что говорить — в небольшом поселке, стоящем на берегу Охотского моря, куда когда-то заходили американские зверобои, и поныне живет большая семья эвенов со звучной фамилией Гутчинсон.
Но я отвлекся от спиннинга. На толстенной, грубо обструганной полуметровой палке, там, где конструктору подсказала интуиция, проволокой была прикреплена катушка, умело выточенная из поршня тракторного двигателя. На ней помещалось около пятнадцати метров лески, толстой, как бельевая веревка. К концу жилки была привязана приманка — рабочая часть десертной ложки с огромным самодельным, похожим на небольшой якорь тройником, с которого не сорвался бы и ихтиозавр. Я знал, что в Тугуре много рыбы, но никогда не подозревал, что она здесь ловится такими дремучими снастями, где в качестве наживки используются столовые приборы.
Витя отошел к заливчику, где течение было слабое, и стал бросать блесну, вернее ложку, в воду. При третьем забросе он как-то буднично зацепил приличную щуку. В прозрачной воде было видно, как рыба упирается, широко раскрыв пасть, раздвинув в стороны жаберные крышки и дергаясь всем телом. Но все детали спиннинга были сработаны хотя и топорно, зато очень прочно, и щука в конце концов оказалась на берегу. Она открывала пасть и чуть не бросалась на нас. Я еще раз подивился мудрости создателя спиннинга, рассчитанного на крупную добычу: Витя, используя толстое удилище как дубину, оглушил вытащенное страшилище и продолжал промысел. Через несколько минут он точно так же расправился со второй щукой, а потом и с третьей. Все щуки были одинаковые, точно штампованные — около восьмидесяти сантиметров в длину.
От однообразия такой ловли мне стало скучно, и я пошел по берегу посмотреть, какие птицы здесь обитают. На середине заливчика плавала гагара, над ней кружила скопа. На вершине прибрежного ивового куста пела овсянка-дубовник, а ниже, на ветвях, нависающих над самой водой, ходила, тихонько попискивая и качая хвостиком, желтая трясогузка. Неожиданно этот орнитологический мир нарушился. В воде под трясогузкой с хлопком возник белый бурун, оттуда вверх взлетела щука и через мгновение исчезла вместе с птицей в пасти. Желтые перышки, как лепестки одуванчика, качались на успокаивающейся воде. Витя, тоже наблюдавший эту сцену, ничего, по своему обыкновению, не сказал, но посуровел. Он поймал еще несколько щук, хотя еды для собак, на мой взгляд, у нас было достаточно. Этих он дубиной-спиннингом оглушил, как мне показалось, с некоторым ожесточением.
Лая мы так и не услышали. Усталые и мокрые собаки вернулись часа через два. Они подошли к хозяину, виновато виляя хвостами: нет, мол, лосей. Охота на сегодня не удалась. Зато рыбалка оказалась успешной. Нос лодки был завален зубастыми, похожими на крокодилов щуками.
Вытащив из реки очередной трофей, Витя запустил руку себе за воротник, потянул за веревочку часы и объявил, что пора возвращаться. Мы залезли в лодку, позвали собак и оттолкнулись от берега. Мой приятель решил сэкономить бензин и стал сплавляться по стремительной речке, не заводя мотора. Пока Витя поднимал его, чтобы «сапог» не цеплялся за дно и не тормозил движение лодки, наше уродливое суденышко, пройдя кривун, развернулось поперек реки так, что корма вместе с моим товарищем оказалась у берега, а нос, где находились я, собаки и рыба, — ближе к середине Тугура.
С берега склонялась подмытая водой огромная береза. Толстые сучья ее касались воды, которая била вокруг них веселыми фонтанчиками. Такие деревья здесь зовут «гребенками». Их ветки часто «вычесывают» из лодок вещи, а то и незадачливых путешественников. До носа нашего судна береза не доставала, я и собаки были в безопасности. А вот у Вити положение незавидное: упереться в надвигающиеся сучья нельзя — перевернется лодка, прыгнуть за борт — там вода плюс четыре градуса, и к тому же он плавает как топор.
Клепаный борт ударился о березу. Витя не стал ни отталкиваться от нее, ни прыгать за борт, а с ловкостью ласки, приседая и изгибаясь, преодолел частокол березовых сучьев. На последнем этапе, так сказать на финишной прямой, ветка дерева сдернула с него красную вязаную шапочку, и она взметнулась над рекой судейским флажком. Витя обернулся, выбросил руку и достал болтающийся над рекой головной убор уже как приз победителю соревнований скоростного преодоления «гребенок». Потом, отдышавшись, закурил, достал со дна лодки сбитое из двух досок корявое весло и вытолкал судно на середину реки, подальше от берега. Видимо, одного рекорда в этот день ему было достаточно.
Бросив окурок в воду, он стал копаться в моторе — свеча верхнего цилиндра барахлила. Мне же было предложено попытать рыбацкого счастья — побросать блесну. Витя вспомнил, что с лодки можно поймать тайменя, и сменил насадку. Вместо аккуратной, обтекаемой, удобной во рту десертной ложки была привязана специальная блесна: длинное, с ладонь, медное корытце, залитое свинцом, с тройником еще более чудовищных размеров. Блесну, по-видимому, делали все те же геологи. На ее медной оболочке ножовкой был нанесен грубый сетчатый узор, изображавший рыбью чешую. Кроме того, автор, чтобы вовсе уверить хищника, что этот кусок металла имеет отношение к ихтиологии, керном вычеканил органы зрения. Увидев блесну, напоминающую рашпиль с глазами, я подумал, что ею можно добыть рыбу только при прямом попадании, но промолчал, решив во всем довериться Вите.
Первый взмах спиннинга — и блесна упала на дно лодки, а на катушке образовалась «борода» из спутанной лески. Витя тактично промолчал. Второй заброс был более удачным — насадка попала в воду и была вытащена оттуда. Рыбалка началась. Шумела река. Под дном лодки глухо стучали сносимые быстрым течением камни. Солнце клонилось к закату и добавляло всем краскам оттенок меди. Наша лодка, тихонько поскрипывая, обходила все перекаты, «гребенки» и заломы. Морды псов, дремлющих на куче щук, были усталые и чуть виноватые. Витя копался в моторе, а я продолжал рыбалку, с интересом наблюдая, как он инстинктивно съеживался и пригибался, когда полукилограммовая блесна с неторопливостью летящего утюга порхала над его головой. Но опасения его были напрасны. У меня появился опыт. Я уже почти перестал делать «бороды», и кусок металлолома летел примерно туда, куда я его посылал. Правда, увлекшись, я иногда добрасывал блесну до берега, но тут же спохватывался, дергал леску, и пучеглазая приманка огромной желтой лягушкой тяжело прыгала в воду.
Честно говоря, я расценивал это занятие как полезное для здоровья атлетическое упражнение, что-то вроде метания молота. Еще пару забросов — и кончу это сумасшедшее развлечение. Уже силы на исходе — вон блесна упала в воду метрах в трех от лодки. Лениво кручу катушку спиннинга, когда-то бывшую частью трактора. Приманку уже видно в прозрачной коричневатой воде. Она нелепо дергается в метре от борта, распугивая все живое своей омерзительной неестественностью абстрактной скульптуры, выполненной в технике «автогеном по металлу». Но тут из-под лодки появляется огромная, стального цвета голова, пасть рыбины медленно раскрывается, я вижу черную дыру глотки и жаберные дуги. У меня холодеет в животе, а в этой огромной, как ведро, пасти тайменя исчезает блесна. Приманку мне жалко, поэтому я бросаю спиннинг, хватаю руками леску и тяну изо всех сил. Мне удается дважды поднять над поверхностью воды рыбью голову.
Вероятно, в пылу единоборства я что-то мычал, так как Витя оставил мотор и обернулся. У него была хорошая реакция, но пуля угодила лишь в центр кругов на воде — туда, где мгновением раньше скрылся таймень. Я стоял, счастливо улыбаясь, держа в руке полкило цветных металлов, честно отвоеванных в рукопашной схватке с речным хищником. У неразговорчивого Вити на этот раз хватило слов до самой нашей бухты. Всю дорогу он доходчиво объяснял мне, что не надо было хватать леску руками, а следовало тащить рыбу при помощи удилища. Тогда бы двадцатикилограммовый таймень — почетный трофей даже для Тугура, — может быть, и не сорвался.
А я сидел на скользких холодных щуках, рассеянно слушал Витю, гладил собаку, а перед глазами еще стояла чудовищная пасть, хватающая блесну.
Время на метеостанции пролетело быстро. Я закончил свою работу. В условленный день из-за сопки послышался вибрирующий звук двигателя, а затем показалась сама «восьмерка». Пилот, как и прежде, не выключал мотора, ожидая, когда я погружусь. Я пожал руку Виктору, поблагодарил Валентину и залез в машину. В алюминиевой утробе вертолета на этот раз сидели геологи. Вертолет пошел вверх, домики метеостанции превращались в посылочные ящики, в сигаретные пачки, в спичечные коробки. А совсем рядом с ними текла тонкая серо-коричневая струйка — Тугур.
Через час вертолет сел в поселке. Я переночевал у знакомого летчика. Утром на завтрак хозяйка подала жареных карасей и щуку вполне приличных по местным понятиям размеров, но гораздо меньше тех, которые ловятся в Тугуре.
Через шесть часов я уже был в Хабаровске. До рейса на Москву оставалось время, и я побродил по набережной Амура, наблюдая за рыболовами. Каждый из них имел по три-четыре превосходные удочки, а их легкие пластиковые спиннинги были снабжены самыми современными катушками. В воды Амура уходили тончайшие, как паутинки, лески. Но рыбаки в большинстве своем бездействовали, лишь созерцая концы ловчих инструментов, направленных на реку, как ружейные стволы на неприятеля. Только у одного задергался поплавок, и счастливец вытащил небольшую, с ладонь, рыбку — колючего сомика-касатку. Я, находясь под впечатлением Тугура, подумал, что он, конечно, выпустит этого малька. Но рыбак деловито достал из изящного портфеля, в котором он носил приманку, добычу и свой обед, плоскогубцы и старательно обломал касатке шипы, очевидно, для того, чтобы она занимала меньше места, и спрятал ее в портфель. Другие рыбаки, стоящие рядом, открыто завидовали. А я наконец понял, что возвращаюсь домой, к цивилизации.
И через сутки, в Москве, придя на пруды в Воронцовском парке, я уже без удивления смотрел, как восторженные взрослые дяди ловят карасей, гольцов и ротанов размером с мизинец. И вспоминал Тугур — рыбную реку.
ТАСЬКА
Экспедиционная жизнь снова занесла меня в этот приамурский поселок, затолкав в переполненный жаркий «лиазик». Как ни странно, рейсовый автобус ходил более-менее по расписанию. А в прошлом у него случались неожиданные перерывы из-за периодического запоя шофера. Ныне же водители пошли, по-видимому, безалкогольные. А вот автобус был тот же самый — с ножевыми ранами на дерматине сидений, зашитыми редкими стежками суровой ниткой, с ослепительно белыми змеящимися трещинами на темно-сиреневом овальном окне — как будто молнии на фоне грозовых туч, с фанерными заплатами на складчатых дверях.
От размышлений о быстротечности времени меня отвлек нежный девичий голосок кондуктора:
— А ты чего, бородатый... ворон ловишь? Бери билет, мать твою так!
Я присмотрелся к кондуктору. Так виртуозно и непосредственно могла выражаться лишь одна представительница прекрасного пола.
— Таська! — окликнул я обладательницу кондукторской сумки. — Ты чего, в заповеднике больше не работаешь?
— Ни... себе! — обрадовалась на весь автобус Таська. — Вот это встреча! А ты как сюда попал? Опять птичек губить будешь? А я вот работу сменила. Надоело в конторе сидеть. А тут веселее и зарплата выше.
Последнюю фразу я понял как намек и полез в карман за мелочью.
— Да убери ты свои копейки! — возмутилась Таська. — Я тебя и так прокачу. Помнишь, как прежде катала?
Пять лет назад я впервые появился в этом дальневосточном поселке обжигающе душным летним днем с тяжеленным рюкзаком и таким же вьючным ящиком, сам изображая лошадь. Вещи я еле дотащил до конторы заповедника.
В то время его никак нельзя было отнести к разряду процветающих. Единственным помещением, которым он располагал (не считая зимовья в тайге), была контора — однокомнатная изба — да стоящая рядом баня, переоборудованная под склад.
В связи с приездом из столицы научного сотрудника, вздумавшего изучать местную орнитофауну, хранящиеся в бане шифер и кирпич перенесли на улицу, и я получил собственные апартаменты. Целый день я благоустраивал жилье: выметал сор, мыл пол, ремонтировал покосившуюся трубу, замазывал глиной дымящую печку и сооружал из досок лежбище. Провозился я до самой темноты, очень устал и на следующее утро встал поздно.
В окно бани снаружи лился яркий свет и виртуозная матерная брань. За краткий срок пребывания на дальневосточной земле я привык к местному диалекту, но сейчас замысловатый речевой свинг привлек мое внимание не только изощренными словесными арабесками, но главным образом тембром нежного девичьего голоса. Я выглянул в окно.
Во дворе толпилось человек семь мужиков, одетых в энцефалитки — форму, в которую бывают обряжены браконьеры, научные сотрудники, лесные пожарные, геологи, «бичи» и лесники. О принадлежности мужиков к последней категории свидетельствовали алюминиевые дубовые листья, пришпиленные к рукавам энцефалиток и фуражек. Посреди внимательной, цвета хаки мужской аудитории этакой дальневосточной лесной орхидеей в легкой белой блузке и пестрой юбке стояла невысокая изящная брюнетка с цыганскими чертами лица, на мой взгляд излишне перегруженного косметикой. Именно эта симпатичная девушка и высказывала ряд весьма критических замечаний по поводу последних распоряжений директора заповедника. Мужики курили, молча смакуя никотиновый дым и некоторые речевые обороты собеседницы. Увидев меня, она на мгновение притихла. Я поздоровался. Лесники закивали головами. «Орхидея» внимательно изучила меня.
— Ты и есть тот самый ученый из Москвы, о котором нам вчера директор говорил? Ни... в какую даль забрался!
Последующим напутствием Таськи (а это была именно она), которое в нашей печати обычно не публикуется, я начал свою орнитологическую деятельность на Дальнем Востоке.
Первая вылазка в поле, то есть тайгу за околицей, была наиболее запоминающейся. В тот день я безо всякой экипировки, вооружившись лишь биноклем, решил прогуляться по просеке. Лес издали казался очень похожим на подмосковный, но вблизи такие детали, как высокие кедры, сизые пихты, дикая белая сирень, вьющаяся по стволам деревьев лиана княжика с крупными голубоватыми звездочками венчиков да еще знакомая по Подмосковью грушанка, но не с белыми, а с насыщенно-розовыми цветками постоянно напоминали мне, что я на Дальнем Востоке. О птицах я не говорю — их голоса пока не были мне знакомы. Поблизости от поселка, недалеко от стоящего на отшибе коровника, меня ожидала еще одна характерная примета дальневосточных лесов. Влажная глина была затоптана отпечатками огромных когтистых лап, в которые из соседней лужицы натекла вода: я потревожил медведя, обнюхивающего парнокопытных. После этого моей привычкой стало носить в тайгу не только бинокль, но и ружье.
В течение нескольких дней путем проб и ошибок я выработал оптимальный режим. Я рано вставал и выбирался на рассвете из поселка в тайгу, несколько часов занимаясь полевыми наблюдениями и добычей тех видов, которые были слабо представлены в командировавшем меня зоомузее. Возвращался я уже при жаре — часов в одиннадцать, прятал настрелянных птиц в холодный погреб, умывался, завтракал и устраивал себе сиесту: часа два дремал на дощатом лежбище в бане. Перед тем как забыться в полуденном сне, я выпроваживал на улицу кучу мух, отдыхавших на прохладном потолке. Делал я это чрезвычайно вредным для здоровья, зато очень эффективным способом, направляя вверх из аэрозольного баллончика тонкую струйку дихлофоса. Все мухи, находившиеся в бане, тут же взлетали в воздух и пулеметной очередью уносились через открытую дверь. Одна-две пары из общей стаи, обычно из тех, кто во время моей акции занимались любовными утехами и поэтому дезориентированные, стремились покинуть помещение через окно, но, ударившись о стекло и пожужжав немного, умирали, так и не разомкнув объятий. Проводив последних мух и оставив дверь открытой, чтобы выветривался яд, я растягивался на спальнике.
После традиционного испанского полдневного отдыха я начинал переписывать дневник. Ближе к вечеру, когда из конторы расходился народ, я перебирался туда, в освободившееся помещение. Там было попросторней, а самое главное — там были стул и стол, пригодный для камеральной обработки птиц, электрический свет и радиоточка. Я застилал стол газетами, включал репродуктор и вплотную занимался пернатыми. Препаровка птиц — занятие трудоемкое. На приготовление одной тушки уходило около часа, а я за день добывал пять-шесть птиц, поэтому мои разделочные занятия завершались далеко за полночь. К этому времени я становился похожим на мясника и мельника одновременно: руки у меня были по локоть в крови, а кроме того, я был по уши в крахмале (им присыпают птиц, чтобы кровь не пачкала перо). Где-то около двух часов ночи я заканчивал работу, упаковывал готовые тушки, мыл инструмент, пил чай, запирал контору и брел в баню, чтобы снова встать с рассветом.
В конторе вечерами иногда задерживались люди — то директор, то главный лесничий, то шофер, то еще кто-нибудь. Мне такое соседство было приятным: сотрудники заповедника рассказывали случаи из таежной жизни, о повадках лесных обитателей, начиная от лягушек и кончая браконьерами. Я же как узкий специалист расспрашивал в основном о птичках. Мужская часть работников заповедника — все, как один, заядлые охотники — с интересом наблюдали, как я делаю тушки. Им это было знакомо — промысловики использовали те же приемы для обработки шкур, правда более крупных объектов: от белок и соболей до медведей и лосей. Лесники обычно однотипно удивлялись скрупулезности и кропотливости работы орнитолога, утверждая, что за время, которое я затрачиваю на каждую птичку, можно снять шкуру с тройки соболей или разделать лося. А также все, как один, спрашивали, зачем я сыплю крахмал.
Однажды, ближе к полуночи, когда я, сильно утомленный серией белых трясогузок, занимался предпоследней птицей, в комнату вошла Таська. Она жила рядом, через дом, и на минутку заскочила в контору напечатать какую-то справку: директор просил подготовить ее к утру. Закончив свое дело, Таська стала следить за моей работой. Мой вид был, наверное, не очень привлекательным: весь в крови и крахмале. Я не обращал внимания на гостью, так как был занят ответственным делом: вскрывал брюшную полость.
— Чего это ты там ищешь? — с некоторой брезгливостью, издали наблюдая за моими действиями, спросила она.
Я, уже привыкший к профессиональному любопытству лесников, жизнерадостно сообщил, что определяю пол птицы, и в подтверждение своих слов извлек наружу и промерил окровавленным штангенциркулем два похожих на белые фасолины семенника. Судя по их размерам, это был половозрелый и активно размножавшийся самец.
— Вот, — сказал я Таське, продемонстрировав мужское достоинство трясогузки. — Это семенники.
— Кобел, значит. — У секретарши был свой взгляд на всякую мужскую породу. Она подумала, посмотрела на разложенные тушки и кладки птиц, на мой комбинированный маскарадный костюм «Король-Чума», и произнесла: — Кому только эти яйца нужны? — И пошла к двери.
На пороге она задержалась, еще раз критически оглядела крахмальную пудру на моей одежде и физиономии, редкие перья, приставшие к рубашке и волосам, окровавленные руки и как бы про себя, задумчиво и, как мне показалось, с некоторым сожалением произнесла на прощанье:
— Нет, пожалуй, с тобой в постель я бы лечь не смогла. Спокойной ночи!
Через неделю, облазив все окрестности поселка и изучив редеющее с каждым днем птичье население, я стал совершать дальние вылазки.
Однажды мы с лесником заповедника договорились вместе пойти на многодневный таежный маршрут, условясь встретиться рано утром на окраине поселка. Вечером того же дня, едва я расстелил на столе газеты и стал готовиться к работе, в контору вошла Таська.
— Ну, ты, птичий доктор! — сказала она, глядя на разложенные мною блестящие инструменты. — Сегодня днем почтальон приходил. Тебе телеграмму принес. — И она протянула мне бланк.
Из телеграммы следовало, что завтра, неделей раньше оговоренного срока, прилетал мой коллега из Москвы. Надо было его встречать. Поход в тайгу откладывался. Я поднялся со стула, прикрыл бумагой птиц, скальпели и пинцеты и направился к выходу.
— Ты куда? — спросила Таська.
— К леснику. Надо его предупредить, что я завтра не смогу пойти, а то он утром зря ждать будет — неудобно получится.
— Так автобус сегодня не ходит — Федотыч опять набрался.
— Что ж делать, придется пешком.
— Пешком, сказал тоже! До его дома километров шесть с гаком будет. (Поселок был большой, вернее, сильно вытянутый вдоль единственной дороги.) Да, дела, — продолжала вслух размышлять Таська. — И мужа дома нет, у него ночное дежурство. Он бы тебя на мотоцикле доставил. А ты сам-то мотоцикл водишь? Бери да поезжай.
— Нет. В институте на военной кафедре только броневик научили водить.
Таська длинно и, как всегда, виртуозно выругалась, ловко связав одной фразой гнилую московскую интеллигенцию и ее военную подготовку.
— Пошли, — сказала она, подумав. — Сама отвезу.
Я потушил свет, закрыл дверь на ключ и двинулся следом за Таськой к ее дому. Но секретарша погнала меня к сараю.
— Иди за мотоциклом, а я пока пойду штаны надену. Не в юбке же рулить.
Я выкатил из сарая тяжелый темно-синий «Иж». Через минуту на улице появилась и Таська. Уже в штанах.
— Так, — сказала она, обойдя машину. — Мотоцикл, кажется, на ходу. Только, — и Таська снова припечатала соленое словцо, — стартер у него не работает. Муж никак не починит, мать его так! Я сейчас в седло сяду, а ты мотоцикл разгонишь. Как он заведется, так ты на сиденье и вскакивай. Хоть мотоцикл сумеешь разогнать, ветеринар куриный?
Я уперся руками в заднее сиденье и стал толкать мотоцикл с Таськой по деревенской улице. Машина набрала скорость, секретарша нажала на сцепление, мотор затарахтел, и мотоцикл рванулся вперед. Таська притормозила, подождала, пока я догнал гремящий «Иж», и крикнула: «Прыгай!..»
Каскадером я никогда быть не собирался, но тут пришлось. Я прыгнул вслед медленно уезжающему мотоциклу и удачно попал на заднее сиденье.
— Ну, а теперь полный вперед, — сказала Таська и крутанула рукоятку газа. Мотор взревел, налетел встречный ветер, и поток каштановых Таськиных волос ударил мне в лицо.
По ходу поездки выяснилось, что у мотоцикла был еще ряд изъянов. Во-первых, ослабли тормоза. Во-вторых, отсутствовало резиновое кольцо, за которое мне нужно было держаться, а такое приспособление было отнюдь не лишним при езде на бешеной скорости по чудовищным ухабам, которые покрывали дорогу поселка. Я пытался держаться за края сиденья, но оказалось, что оно не привинчено к мотоциклу, а просто лежит на нем, как седло без подпруги. Поэтому при очередном толчке я почувствовал, что отделяюсь от машины вместе с сиденьем, как при катапультировании с подбитого самолета. Когда же мы с седлом приземлились на спину мотоцикла и металлические компоненты конструкции соприкоснулись у меня под гениталиями, раздался леденящий кровь скрежет, как будто внизу захлопнулся медвежий капкан. После этого я перестал цепляться за сиденье, предоставив ему свободно болтаться на мотоцикле, а сам привстал на подножках, как на стременах. Таська поняла мои мучения.
— Да ты за меня держись! — не оборачиваясь крикнула она, выдавливая из мотоцикла все возможные лошадиные силы.
Я поспешно выполнил ее приказание. Но юная матерщинница, как я упоминал, обладала миниатюрной фигуркой. Поэтому держаться мне было особенно не за что. Кроме того, у нее под блузкой оказалась то ли капроновая, то ли шелковая сорочка с крайне низким коэффициентом трения, что также не способствовало крепкой хватке. Оставшуюся часть пути мы так и ехали: на дороге, рельефом похожей на огромную стиральную доску, я все пытался покрепче сжать ускользающую из моих объятий Таську.
Темнело. Народ в поселке уже полил огороды, поужинал и теперь, наслаждаясь тихой вечерней прохладой, группировался на уличных скамейках. Повсюду виднелись бабки, обсуждающие поселковые новости. Наше появление на мотоцикле выглядело этаким экстренным выпуском последних известий (раздел «Скандальная хроника»). Таська-то подцепила московского научника и повезла куда-то на ночь глядя. Ишь как торопятся! А научник-то совсем голову потерял! Вон как в нее вцепился! Срамота!
— Вот здесь, — повернулась ко мне Таська, — я на прошлой неделе от гаишника ушла. Он на «Урале» был с коляской, а я на «ижаке» вон по той тропке, милиционер туда и не сунулся — знал, что не проедет.
Через минуту мы были у дома лесника. Таська загнала мотоцикл на пригорок, чтобы мне было легче его толкать. Я зашел к моему знакомому и объяснил ситуацию. Лесник, узнав, кто меня довез, только покачал головой:
— Ну и девка!
На обратном пути Таська зажгла фару. Ее прыгающий свет выхватывал на мгновение из густых сумерек заборы, приткнувшиеся к ним скамейки и любопытные, с сощурившимися глазами лица старушек, карауливших наше возвращение.
ЧЕТЫРЕ НОЧИ МЕДОВОГО МЕСЯЦА
Не люблю я набирать в экспедиции много лаборанток. Одни хлопоты с ними: ведь основной задачей всей поездки становится не сбор полевого материала, а недопущение местного мужского населения к собственным представительницам прекрасного пола. Хотя и существует несколько нюансов, смягчающих сексуальный напор. Так, половой состав группы в соотношении 1:1 резко снижает агрессивность местных самцов. Если мужчин в экспедиции больше, чем дам, то и это находит понимание у местных аборигенов. Вспоминается случай, подтверждающий это правило.
На центральной площади дальневосточного поселка, то есть у нескольких изб — почты, исполкома и двух магазинов, наша маленькая экспедиция — Люба, Анатолий и я — ждала автобус. Рядом скучали еще человек пять. В томлении мы сделали несколько кругов по маршруту почта — промтоварный магазин — продовольственный магазин, все время выглядывая в окна: не пришел ли автобус. Вскоре мы стали бродить поодиночке. И тогда-то меня на улице вежливо остановил нетрезвый туземец. Он поинтересовался, откуда мы, куда направляемся и чем занимаемся. Я рассказал ему о науке зоологии, и мы с ним стали чинно беседовать о дальневосточных птицах, рыбах и зверях. Скоро я почувствовал, что моего собеседника томит и гложет какой-то вопрос, связанный с нашей небольшой группой. Но степень его опьянения была столь неудачной, что не позволяла ни спросить меня открыто о мучившей его проблеме, ни скрыть его жгучей заинтересованности. Наконец он сделал над собой заметное волевое усилие и, прервав в самом неподходящем месте свой рассказ «Мои победы над тиграми», спросил:
— И это вся экспедиция — три человека?
— Вся, — подтвердил я.
— Понятно, — протянул он, и я почувствовал, что сейчас наконец услышу тревожащий его вопрос. И он не замедлил его задать. — А ты мне вот что скажи, мил человек, — насиловал себя абориген. — А как же вы вдвоем все-таки с ней живете?
— Как, как! Не знаешь, что ли? — Я постарался, чтобы мое удивление его неграмотностью выглядело искренним, а разъяснение — весомым и основательным. — В каждой экспедиции лаборантка положена только старшему научному сотруднику, ну в крайнем случае начальнику экспедиции. А мне как младшему научному сотруднику лаборантку не выдали. Так и получается, что это девушка начальника.
— Все понятно, — сказал дальневосточник, явно обрадованный таким простым решением проблемы классического треугольника, и отошел прочь, забыв дорассказать о своих тигриных похождениях.
Гораздо хуже, если в экспедиции представительниц прекрасного пола больше, чем мужиков. Тут уж местные донжуаны вовсю стараются восполнить собой этот дисбаланс. Именно поэтому я не люблю брать с собой много лаборанток. Одни хлопоты с ними. Я стараюсь везти всего одну штуку и, как можно быстрее миновав все промежуточные населенные пункты, сразу затащить ее в такое безлюдье, где никто не будет мешать нам заниматься работой.
В тот год на Дальний Восток я взял Ирину. Пикантность ситуации означенного полевого сезона состояла в том, что лаборантка за несколько дней до отъезда вышла замуж и у счастливых супругов начался медовый месяц. Ее муж, тоже биолог, в свадебное путешествие уехал в Монголию. И Ирина отправилась на Восток. На Дальний. Со мной.
— Присматривай за ней, — сказал мне суровый, но любящий муж, когда мы прощались в Домодедове. Потом подумал, что-то вспомнил, наверное вражьи наветы, подозрительно посмотрел на меня и добавил. — Но не очень.
И я стал «не очень».
ПЕРВАЯ
Мы ввалились в крохотную однокомнатную квартирку в городе Комсомольске-на-Амуре, заняв своими рюкзаками все свободное пространство. Мой приятель Глеб, хозяин квартиры, был обладателем удивительно длинного носа, наполеоновской энергии, четвертой жены и от нее — новорожденной дочки. Кроме того, он был страстным птицеловом (одна из причин, по которой мы с ним когда-то познакомились). На стенах комнаты висели прекрасные клетки, с любовью сделанные им самим. В них Глеб держал только экзотику (а экзотикой для него были подмосковные птицы: зяблик, щегол, соловей, славка-черноголовка). В старой, небольшой, но такой же аккуратной клетке жила самая банальная птица окрестных лесов — желтогорлая овсянка, мечта любого московского птицелова.
Во время тихого застолья (дочь спала) Глеб рассказал забавную историю, случившуюся с ним, когда он ловил птиц при помощи особого самолова — лучка. Глеб был мастером на все руки, технарем высочайшей квалификации, имел доступ к современным военным разработкам. Поэтому предметы ловли птиц у него были сделаны на том же уровне, как и вся продукция военно-промышленного комплекса.
Итак, Глеб на поляне у лесной дороги поставил самолов, который был способен набрасывать сеть на польстившуюся на наживку птицу. Глеб хотел отловить лесного каменного дрозда — удивительно красивого певца с яркой охристой грудкой и блестящей голубой «шапочкой».
Любитель-орнитолог, поставив и замаскировав ловушку, сам притаился в кустах неподалеку в ожидании, когда же дрозд прекратит выводить рулады — явный признак того, что он попался.
Неожиданно послышалось приглушенное урчание мотора, и на дороге показался «жигуленок»: семейная пара выехала в весенний лес отдохнуть. Глава семейства начал общаться с природой — то есть открыл капот машины и погрузился в мотор. Более поэтичная половина двинулась к соседним кустикам — как раз на ту полянку, где Глеб поставил лучок.
Недаром Глеб слыл на всем Дальнем Востоке асом по части ловли птиц. Лучок был изготовлен из таких материалов, что его невозможно было заметить даже вблизи: сетка была окрашена в темно-бурый цвет. Титановая дуга самолова была анодированной, матово-зеленой. А для полной маскировки вся снасть была присыпана прошлогодними листьями. Над поверхностью земли торчал лишь тонкий прутик, в расщепе которого был вставлен аппетитно извивающийся мучной червяк — приманка для дрозда. Насторожка снасти была сверхчуткой. Стоило только птичке слегка коснуться червяка клювом, как очень мощная, снятая с истребителя пружина мгновенно захлопнула бы дугу лучка и накинула бы на жертву сеть.
Притаившийся Глеб с беспокойством наблюдал, как романтическая женщина скрылась как раз в том месте, где был поставлен самолов. Худшие опасения птицелова подтвердились: из кустов сначала раздался истошный вопль, а потом оттуда выпорхнула дама, держа руку чуть пониже спины. Дрозд замолчал, голова мужчины вопросительно вынырнула из-под капота. Женщина торопливо зашептала ему что-то, показывая то в сторону кустов, то на пораженную авиационной пружиной часть своего тела. Оба испуганно огляделись по сторонам, однако спрятавшегося орнитолога не заметили, быстро сели в машину и уехали любоваться природой туда, где лешие не шутят так плоско.
Так в тихом повествовании орнитологических историй прошел вечер. Пора было укладываться спать. Глеб с серьезной физиономией сообщил лаборантке, что места в микрометражной квартире нет и что ей и мне придется спать вместе, на диване. Но, заметив, как побледнела наивная Ирина, сжалился и успокоил ее, пояснив, что это он так шутит.
Но все же мы спали рядом: она — на диване, а я — на полу.
ВТОРАЯ
К вечеру следующего дня, проехав четверть Амура на «Метеоре», мы прибыли в поселок с тюркским названием Тахта. Я оставил Ирину с рюкзаками на дебаркадере, а сам пошел в разведку. Нужна была лодка, чтобы добраться до озера. Я направился к живописному городку, который можно увидеть на берегу любого амурского поселка: тесно прилепленные друг к другу разнокалиберные деревянные и железные коробки, отдаленно напоминающие уменьшенные копии кавказских городов мертвых. Там местная водоплавающая мужская часть населения хранила под замками от злых людей моторы, весла, сети и бочки с бензином. Именно там можно было найти кого-нибудь, кто бы мог нам помочь. Но среди этого ячеистого склада я нашел лишь толстого милиционера в ранге майора, жевавшего вяленую корюшку и пившего гранеными стаканами портвейн с невзрачным собутыльником.
Я вкратце объяснил им ситуацию. Милиционер молча вник в мое положение, налил мне стакан портвейна и дал корюшку. Он подождал, пока я выпью, закушу, и только после этого сообщил, что лодок нет, а попутная баржа будет завтра. Так что на ночь надо устраиваться в гостинице. Избу у причала видели? Это и есть гостиница. Всего хорошего. И милиционер из очередной бутылки стал наливать вино в стакан. На прощанье я попросил у милиционера корюшку — для Ирины. Он дал.
Через пять минут я подошел к лаборантке, подарил ей вяленую корюшку и, дыхнув на новобрачную сладковатым ароматом портвейна, предложил пройтись в гостиницу. Она подозрительно покосилась на меня — вероятно вспомнив, что ей наговорили в Москве директор зоомузея, клеветники, завистницы и муж, пребывающий сейчас в свадебном путешествии в Монголии, и, вздохнув, пошла за мной.
В гостинице было всего три комнаты — мужская, женская и для семейных.
— Может, вам вместе? — спросила пожилая комендантша, выписывающая квитанции.
Но Ирина, видя, что в геометрической прогрессии, по мере удаления от центров цивилизации, я буквально на глазах обрастаю пороками, энергично запротестовала. Комендантша удивленно подняла брови, а я, пожав плечами, согласился жить раздельно, но оба рюкзака оттащил в свои апартаменты, где, судя по аккуратности заправленных коек, я должен был ночевать в одиночестве. Ирина же, осмотрев свою комнату, с легкой грустью констатировала, что с ней будут обитать еще две сожительницы.
Мы достали из рюкзаков булку, колбасу, чай и сахар, раздобыли у комендантши кипятка и, перекусив, решили прогуляться по окрестным сопкам, ведь май на Дальнем Востоке — чудесное время. В окрестностях Тахты везде по сопкам рос рододендрон, или багульник, как его неправильно называют. Летом он совершенно незаметен, а вот весна — это его пора. Все сопки стоят розовые от плотно цветущих кустов. В первые годы моих дальних странствий я, имея в руках фотоаппарат, заряженный цветной пленкой, снимал розовые цветы безостановочно и приходил в себя, когда переставал работать рычаг перевода. Лишь на третий год поездок в Приамурье я сумел изжить этот недостаток.
Мы шли по просеке. Вокруг безумствовал розовый цвет багульника, дуб распускал свои первые сморщенные красноватые листочки, осинники были еще совсем прозрачные, лиственничники покрылись нежным зеленоватым пушком. По обочинам дорог в сухой прошлогодней листве синели мохнатые чашечки прострел-травы. Со всех сторон несся птичий щебет. Был хороший весенний вечер, располагающий к лирике. Но солнце потянулось к горизонту, стало прохладно, и мы вернулись в гостиницу. Зайдя в свой номер, я с удовольствием залез под одеяло и быстро заснул.
Была ночь, когда в дверь постучали.
— Кто? — проворчал я спросонья.
— Я, — ответила из-под двери Ирина. — Пусти меня к себе.
Я встал, натянул джинсы и открыл дверь. Романтическая история наконец-то начиналась.
Смущенная лаборантка проскользнула в комнату. Я ждал. Наконец она рассказала мне, что ее соседки, две местные молодые особы, рассматривали гостиницу исключительно как место наживы и привели к себе в комнату двух нетрезвых поклонников. Ирина попыталась уснуть, но ее столь энергично вовлекали во всеобщее веселье и убеждали быть раскованней, что моя лаборантка, поразмыслив, решила, что я все же более безопасен, чем два пьяных клиента тахтинских девок, и, улучив момент, пришла ко мне.
Я погасил свет, и мы легли. Через пять минут Ирина уютно посапывала из-под одеяла. Из-под своего. Мне же не спалось. Острое чувство постепенно захватило меня. Через некоторое время я понял, что с причиной, его вызвавшей, одному не справиться. И я пошел к Ирине.
Прежде чем продолжить свое повествование, я хочу применить распространенный литературный прием: взгляд на одно и то же событие с точки зрения разных действующих лиц. Самое сильное впечатление от этой ночи было, наверное, у Ирины. Поэтому я попытаюсь описать восприятие событий ею.
— Проснулась я от яркого света — под потолком загорелась лампа. Володя стоял передо мной худой, еще не загоревший, в огромных черных семейных трусах. Выражение лица у него было решительное. Боже мой, подумала я, а ведь права была директриса. Не надо было с ним ехать, у мужиков одно на уме. Закричать? Или еще рано?
В этой драматической ситуации я вынужден лишить Ирину слова и продолжить повествование сам.
Я сделал шаг вперед.
— Володя, что ты, — тихо простонала Ирина, натягивая простыню до подбородка, и уже покорно шептала: — Не надо...
— Молчи, — сказал я, подходя к чужой жене, — чего орешь? Все у вас одно на уме, ни о чем другом подумать не можете! У тебя пинцет есть? Или что-нибудь в этом роде? А то у меня все инструменты на дне рюкзака.
— Зачем тебе пинцет? — с любопытством, уже спокойным голосом спросила она. Ирина из литературы знала, что изнасилование, как правило, происходит без применения этого инструмента.
— Клещ у меня, — ответил я. — Наверное, когда мы с тобой по сопке гуляли, он ко мне и прицепился. Только ты не смейся, пожалуйста, и меня не смеши, у меня живот ужасно болит.
— Почему болит? — наконец-то всерьез встревожилась добрая Ирина.
— А клещ ко мне в пупок залез и там присосался. Боль адская. Особенно при напряжении. Вот я и не могу смеяться. Поможешь мне его вынуть?
Но клеща я, сидя на краю ее постели, минут пять выковыривал сам. Лаборантка же, уткнувшись лицом в подушку, в это время корчилась и дрожала рядом. От дикого хохота.
ТРЕТЬЯ
Ранним утром я вышел на берег Амура. У дебаркадера стояла баржа, на которой было нагружено очень много нужных вещей: три грузовика, пять легковых автомобилей, доски, шифер, кирпич и что-то другое, скрытое брезентом. Я по добротному трапу взошел на палубу и пробрался в капитанскую рубку куда-то на третий этаж и там спросил, не могла ли баржа подбросить до места работы московскую экспедицию. Капитан критически рассмотрел меня и уточнил:
— До Чумикана, что ли?
— Как до Чумикана? — удивился я, зная, что этот поселок расположен на берегу Охотского моря. — Мне сказали, что баржа до Озера идет.
— А, тебе до Озера... — В словах капитана послышалось легкое презрение к пресным водоемам. — Ниже еще один причал есть. Оттуда баржи на Озеро и ходят.
Я прошел по берегу метров пятьсот. Причал там точно был. Построенный из трех бревен. К нему пришвартована небольшая баржа. Настоящая речная галоша. Трап заменяла доска, положенная с берега на борт судна. На барже было безлюдно. Я вошел в расположенную на корме ходовую рубку. Там тоже было пусто. Через минуту под моими ногами, в недрах судна, раздался какой-то шум, потом люк на борту открылся. Оттуда показалась русая кудрявая сонная человеческая голова.
— Чего надо? — спросила голова.
— На Озеро пойдете?
— Только на Второе, — ответила зевающая голова. — К вечеру.
— Нам на Первое надо, — продолжал я беседу.
— На Первое не пойдем.
— А нам очень надо, — настаивал я, демонстрируя припасенную для такого случая бутылку спирта.
— Тогда пойдем. Подъезжайте часам к четырем, — сказала голова. — Вещей много? За час загрузитесь?
— Загрузимся, — успокоил я его.
— Пока, — сказала голова, и крышка захлопнулась.
Мы с Ириной подошли к четырем часам. На нашей барже уже тарахтел мотор. На палубе стоял обладатель кучерявой головы — молодой высокий парень в синей спецовке. Рядом был еще один речник, годами постарше, ростом пониже и не такой кучерявый, а скорее лысый. Вдвоем они приняли наши рюкзаки и положили на палубу.
— Это все? — спросил тот, кто был помоложе, осматривая забиравшихся по трапу нас с Ириной и наши вещи.
— Все, — сказал я.
— Тогда поехали.
Он размотал канаты, привязанные к бревнам, и баржа отчалила. Мы вчетвером еле разместились в крохотной ходовой рубке. Пол под ногами мелко вибрировал, изнутри снизу шел уютный ровный шум двигателя. Мы познакомились. Пожилой капитан и его кучерявый помощник оба оказались Александрами.
— Вон мыс, видите? — показал на скалистый правый берег Амура Александр — по судовой табели о рангах Первый.
— Видим, — отвечали мы с Ириной.
— Бабий Пуп называется, — равнодушно назвал он местную географическую достопримечательность.
— Мужики вчера вечером с рыбалки возвращаются, — капитан продолжал развивать свою мысль о мысе, — один другого спрашивает: «Ты где рыбу ловил?» — «В Тахте, на дебаркадере, а ты где?» — «Да чуть ниже Бабьего Пупа. Там клюет лучше».
Ирина отвела взгляд от приметного ориентира и стала изучать левый, ровный, без всяких мысов берег.
— Ну что, — спросил Александр Второй, — пора?
— Пора, — ответил капитан.
На полке перед штурвалом появился бумажный пакет, из которого Александр Второй достал чудесный пышный кусок яблочного пирога (Приамурье в те годы славилось выпечкой), четыре кружки и бутылку такого же портвейна, которым меня вчера угощал милиционер (вот что значит централизованное снабжение). Ирина пить отказалась, но компенсировала это тем, что отломила очень приличный кусок пирога и пошла на нос баржи любоваться Амуром. Мы как раз его пересекали и входили в протоку. Бутылка быстро пустела. Штурвал из рук Александра Первого перешел к Александру Второму, а сам капитан, неловко открыв дверь, вывалился на палубу, неровными шагами прошелся по ней, достиг носа судна и там упал перед Ириной на колени.
«Молодец Ирина, быстро адаптировалась к Дальнему Востоку, даже не шевельнулась», — похвалил я про себя лаборантку.
Между тем капитан, не меняя позы, то есть оставаясь коленопреклоненным, стал что-то с жаром, интенсивно жестикулируя, рассказывать Ирине.
— Хороший мужик, — с явной симпатией прокомментировал действия своего начальника оставшийся Александр. — Только, чтобы ему захмелеть, наперсток нужен. А после этого врать начинает. Особенно бабам. Ты после попытай у своей лаборантки, о чем он ей сейчас рассказывает.
Потом, последовав его совету, я расспросил Ирину. Ниже приводится краткая стенограмма того, что она услышала.
— У нас очень опасная служба. Особенно опасно, когда шторм на Амуре. Однажды девятый вал накрыл посреди Амура «Метеор», и он стал тонуть. Я тогда кричу Сашке: «Полный вперед!» Он как газ врубит, баржа на редан вышла, и мы как раз к ним подоспели. Взяли теплоход на буксир и к берегу его доставили в целости и сохранности. А если бы он утонул, его со дна уже не подняли бы. Потому что вот здесь, у Тахты, самое глубокое место, как Мариинская впадина. А на картах не обозначена потому, что это место секретное. Да... Места здесь суровые и климат тяжелый. Когда идешь по Амуру зимой (тут он и сам сообразил, что его занесло и Амур зимой замерзает)... и вообще... к берегу нельзя приставать. Ни в коем случае. Опасно. Пристаем только в поселках. А так в диком безлюдье опасно. Хищники. Летом медведи нападают, зимой (тут он снова вспомнил, что зимой навигация прекращается)... и волки. Особенно когда мясо, колбасу и тушенку везешь. Чуют. Но самое опасное, когда по сельпо водку развозишь. Тогда не знаешь, вернешься ли живым из рейса. Нанайцы, ульчи и тунгусы как узнают про водку, так и караулят, когда наша баржа подойдет. Однажды мы подходим к кривуну, а они на лодках из-за поворота, из кустов выскакивают! И на баржу! На абордаж! (Эти слова слышал и я, так как капитан уже выкрикивал их громким голосом.) И на абордаж! Они на абордаж, а мы их багром! Они в нас из луков (явная реминисценция из фильмов про индейцев) — а мы их багром! Они в нас из ружей — а мы все равно их багром!
Капитан стоял на коленях и со зверским лицом показывал Ирине, как он багром отпихивает от баржи туземцев, возжелавших казенной огненной воды. Потом Александр Первый стал затихать, а затем и вовсе распластался у ног Ирины, дернулся и заснул.
— Ну вот и все, отмучился, — прокомментировал краткое выступление капитана его помощник. — Успокоился. Теперь только у поселка и отойдет.
Мы с Александром Вторым допили портвейн и доели бисквитный пирог. Помощник капитана к чему-то прислушался.
— Клапан что-то застучал, — сказал он. — Слышишь?
На мой взгляд, машина продолжала работать так же ровно и гул двигателя ничуть не изменился.
— Нет, стучит, — настаивал Александр. — На, держи. — И он, неожиданно передав мне штурвал, скрылся в люке.
Баржа в это время шла по извилистой протоке. Кулисы ивовых кустов обрамляли берега. Ровную коричневую воду не тревожил ветер. Табунящиеся самцы касаток — самых обычных и красивых уток Приамурья — легко вспархивали перед носом баржи. Грузно с разбега поднялась гагара. Птица долго летела над самой поверхностью воды, касаясь концами крыльев речной глади, а за ней тянулась ровная цепочка расходящихся кругов, как будто по гагаре долго, но постоянно ошибаясь в упреждении, стреляли из спаренного пулемета. С берега вертикально вверх, медленно взмахивая крыльями, поднялась в воздух серая цапля, на лету изгибая шею так, чтобы голова удобно легла между лопатками.
Но орнитологией в это время занималась одна Ирина, я же крутил штурвал. С непривычки было трудно согласовывать крутизну поворота, инерцию баржи, снос течения, люфт механизма и тормозящее действие портвейна. Поэтому, сразу же после того как я занял место рулевого, судно сползло с фарватера и начало тереться о берега, осыпая Ирину и лежащего у ее ног капитана сбитыми с кустов ивовыми листочками. Она вскоре поняла, что что-то изменилось в поведении корабля. И оглянулась. Вероятно, нанаец с луком и стрелами, захвативший баржу, вызвал бы у нее меньший шок, чем ее начальник, крутивший штурвал. Лаборантка привстала, с ужасом ожидая неминуемого кораблекрушения. Но в это время мы наконец вышли в безбрежное озеро, а из подпола появился Александр Второй и взял управление на себя. Успокоенная Ирина присела у лежащего капитана и вновь стала смотреть вперед.
Легкий ветерок гулял над озером, в приглянувшихся ему местах стирая мелкой рябью солнечный глянец с водной глади, перебирая стебли камыша, росшего редкими кустами на мелководьях, и заворачивая молодые листья кувшинок. Где-то вдалеке, на другом берегу озера, у темно-зеленых расплывчатых силуэтов сопок, была метеостанция — конечная цель нашего путешествия. Низкое солнце красило в глубоко-охристый, теплый цвет серые стены домов приближающегося поселка. Когда я его увидел, у меня защемило сердце. Я наконец-то осознал, что я снова здесь, на любимом Озере. У заброшенной рыбоперерабатывающей фабрики крыша съехала почти до земли, у деревянной лестницы, поднимающейся вверх по косогору, сломалось еще два пролета, и жители проложили на склоне тропинку, флагшток у клуба еще больше покосился, а на стене склада появилась новая черта, отмечавшая осеннее наводнение.
А в общем было по-прежнему: те же лодки на берегу с неубранными моторами (местных воров пока не завелось, а «гастролеры» сюда не добирались) и знакомые мужики, вышедшие на покосившийся причал, привлеченные приходом внепланового судна. Они-то и приняли швартовые и помогли нам перетащить на берег рюкзаки. Я расплатился с Александрами всесоюзной валютой за спецрейс. Протрезвевший и обретший способность самостоятельно передвигаться на нижних конечностях капитан занял свое место в рубке, и баржа пошла по протоке на Второе Озеро. А мы с Ириной, взяв рюкзаки, двинулись к дому моей знакомой бабки — проситься на ночлег.
В доме у бабки было все по-прежнему. Удивительный запах вареной картофельной кожицы, громогласное тиканье ходиков и тускловатый свет лампочки — все это составляло правдоподобную декорацию «настоящей деревни». В горнице на стене все так же висели в застекленных рамках старые побуревшие фотографии со стандартными сюжетами: мужчины в военной форме, некрасивые невесты, большие семейные группы (почему-то всегда около заборов), застолье на улице и разнокалиберные дети. Рядом располагались и купленные по случаю живописные полотна: штампованный фольклор — лебеди на пруду и лубочная классика — молодая пара, гуляющая в саду. Он — явный татарин, но с длинными черными вьющимися кудрями, в сиреневом фраке и в голубых панталонах, она — вся в розовом и с букетом невиданных цветов: Ленский и Ольга.
Не очень удивившись нашему приходу, бабка пожарила картошки и подала на стол соленую прошлогоднюю кету, посетовав, что до хода свежей еще около месяца. Мы достали и свои припасы и все вместе поужинали. Бабка пошла готовить нам место для ночлега. Я просил ее не утруждаться, сказав, что мы можем переспать и на полу, в спальных мешках.
— Ладно, чай, не в тайге живем, — проворчала бабка (хотя тайга подступала прямо к огородам и только неделю назад медведь вечером гонял по разрушенной лестнице поселянку). — Это вы в лесу будете в кукулях мерзнуть, а дома надо жить по-человечески. Тем более что после такого события.
Я не придал значения последним словам бабки и только потом вспомнил об оброненной Ириной фразе, что она недавно вышла замуж и что у нее продолжается медовый месяц.
— Ну вот, все готово, молодые, — сказала бабка, появляясь на пороге комнаты. Последние слова меня насторожили. — Я вам все приготовила, располагайтесь со всеми удобствами, голубки!
Мы с Ириной вошли в комнату. Сзади раздался скрип петель: бабка, перекрестив нас, услужливо прикрыла дверь. Мы оба оторопели: посреди горницы, прямо под картиной «Сиреневый Ленский, заигрывающий с розовой Ольгой», была застлана огромная двуспальная кровать. Две подушки, полуприкрытые пестрым лоскутным одеялом, доверительно жались друг к другу, утопая в пушистой перине. Тут я вспомнил о намеках бабки. Но первой очнулась Ирина, и через пятнадцать минут альковное великолепие было разрушено и мы оба мирно засыпали. Она — на кровати, нежась на пуховой перине, обнимая подушку и вспоминая монгольского мужа, а я — скорчившись на сундуке.
ЧЕТВЕРТАЯ
Утром я встретил у магазина знакомого охотника, и он перевез нас на лодке на другой берег озера, на метеостанцию. Лодку встречало все население этой таежной фактории: шесть собак, семья метеорологов, начальник рыбосчетной станции и его помощник — утративший пассионарность нанаец, потомок тех героев, которые брали на абордаж баржи на амурских протоках. При ближайшем рассмотрении оказалось, что людей было пятеро: на руках у Вали был малолетний сын — прибавление в народонаселении фактории.
— Хорошо, что ты с лаборанткой приехал, — после бесцветного приветствия сказала Валя и тут же обратилась к Ирине: — Дети есть?
Ирина немного подумала, а потом честно ответила:
— Нет.
— Ничего, — успокоила ее Валя, — будут.
Жена Олега приуныла. Очевидно, она вспомнила три неудавшихся покушения ее начальника на первую брачную ночь и то обстоятельство, что ей со мной предстояло жить еще целый месяц. Медовый. Неожиданно Ирина нашла душевную поддержку в лице мирного нанайца.
— Хорошая у тебя жена, — сказал он, — только шибко строгая. Начальник, — нанаец, обращаясь к Вале, показал на меня пальцем, — в деревне всю прошлую ночь на сундуке проспал.
Бабий телеграф работал что надо!
— Да не жена она ему, а так, лаборантка, — огорчила Валя нанайца и, обращаясь ко мне, повторила: — Хорошо, что ты с ней приехал, а то мне в город надо съездить, а Ваньку не с кем оставить. Держи! — И Валя передала опешившей Ирине малолетнего сына. — Пошли, я покажу, что, как и где. Михалыч! — она обернулась к привезшему нас охотнику. — Подбросишь до деревни? А уж оттуда до города я как-нибудь сама доберусь.
Ошеломленная такой встречей, Ирина послушно пошла следом за хозяйкой, бережно неся на руках приемного сына.
Метеоролог и я остались на берегу. У самой кромки в воде толпились бесчисленные рыбешки.
— Кета скатывается; много малька в этом году, — пояснил мне ситуацию начальник рыбосчетного поста. — Через три года, когда они вырастут и вернутся, все икрометы будут забиты. Мы со Степой считали, — он кивнул в сторону нанайца, — много малька. А позавчера Степку чуть медведь не съел, — перевел он разговор на другую тему. — Да, Степка?
— Ага, — подтвердил нанаец. — Он на кривуне тухлую кетину ел, а я неслышно подошел. Он когда меня увидел, как заревет — и прямо на меня полез. Хорошо, что у меня ружье с собой было, я ему в морду и саданул. Правда, дробью, мелкой, на рябчика, которую ты, — он обратился ко мне, — в прошлом году давал. А патроны дымным порохом были заряжены. Как я ему в морду пальнул, он сразу же в кусты — только треск по реке стоял. Не любит он дымного пороха, — заключил свое повествование Степа.
Вернулись Ваня и Ирина.
— Детское питание в погребе. — Хозяйка давала последние указания. — Мужикам рыбу жарь или картошку делай с тушенкой. Проследи, чтобы Витя собак кормил. Да, вот тебе еще одна забота: Рохля, по-моему, скоро загуляет.
Тут и я заметил, что все пять кобелей как-то по-особому смотрят на небольшую сучку с печальными лемурьими глазами.
Лодка с Валей ушла к деревне. У Ирины при ее отъезде глаза стали такие же грустные, как и у Рохли. Ванька доверчиво прижался к моей лаборантке. Скоро от берега отчалила еще одна лодка — начальник рыбосчетной станции вместе со Степой — мирным нанайцем — уехали на заездок считать скатывающегося малька.
— Ну, пошли и мы, — неторопливо сказал мне Витя. — Сетку проверить надо. И потом ведь и тебе учеты водоплавающих гусеобразных провести тоже не мешает. (Я был здесь в прошлом году, и Витя вполне усвоил орнитологическую терминологию.) Так ведь?
Я сказал, что так. У Ирины стали глаза еще печальнее. Мы забрались в лодку, и Витя оттолкнулся веслом. Я оглянулся. Одинокая Ирина стояла в опустевшей фактории на самом берегу реки с младенцем на руках. Ну точно жена рыбака или зверобоя, провожающая мужа на промысел.
Мы вернулись, когда стало смеркаться. Я нес пять селезней касатки — результаты учетов пластинчатоклювых, Витя — скользкий мешок с рыбой. Дома все было по-семейному: обезумевшая Ирина разрывалась между убегающей из кастрюли кашей и ревущим в другом конце комнаты Ванькой.
Ну, а вот эта ночь была у нас по-настоящему брачной. Опасения Вали подтвердились: Рохля загуляла, и вся собачья свора устроила шумную оргию с лаем, визгом, завыванием и дракой. Проснувшись, заревел Ванька. Ирина, спешно накинув халатик, порхнула его успокаивать. Витя и я, тоже в неглиже, вышли на улицу, чтобы как-то утихомирить собачью вакханалию.
Жена Олега стала жить нормальной жизнью лаборантки только через три дня, когда из города вернулась Валя и забрала у нее сына. Только тогда мы с Ириной стали вместе, изучая жизнь пернатых, бродить по тайге, марям и сопкам, путешествовать на лодке, одолженной у Вити, по реке, озеркам и протокам. Мы часто навещали Степу — мирного нанайца, угощавшего москвичей долгожданной, наконец пошедшей на нерест кетой горячего копчения (он коптил рыбу прямо при нас, но почему-то в старом помойном ведре), ночевали в охотничьих зимовьях, ставили палатки-скрадки для наблюдения за гнездовой жизнью белоплечих орланов, паутинными сетями ловили, а потом кольцевали мелких птиц, а вечерами в комнате, которую нам на метеостанции выделил Витя, мы с Ириной обрабатывали собранный за день материал. То было счастливое время!
Ирина Константиновна давно никуда не ездит. За нее это делает муж. А детей у них четверо — по числу брачных ночей медового месяца.
ТАЕЖНОЕ ЖИЛЬЕ
«Дойдешь до берега — и поворачивай на восток, а там еще немного — и избушка. Ее никак не минешь, она отовсюду хорошо видна». Сколько таких объяснений приходится слышать в экспедициях! И пробираешься ветвящимися тропами, ища пропадающую строчку человеческого следа на болоте, размышляя на развилках и всматриваясь, не мелькнет ли среди вертикальных стволов плоская крыша.
Жилье! Только вдали от городов и деревень наиболее полно чувствуешь, что такое жилье. И какое облегчение наступает, когда, совсем отчаявшись и решив, что где-то потерял нужную тропу или не там свернул, вдруг увидишь приземистое строение, блеснувшее крохотное оконце и чахлые березки на крыше. Жилье! Твои гиды немного ошиблись в направлении и расстоянии, но ты, ругавший их последний час пути и уже смирившийся с тем, что придется ночевать под открытым небом, а завтра возвращаться и искать, где же ты сбился с дороги, получаешь в подарок эту избушку с вросшими в землю стенами и просевшей крышей. Дверь, обитая старой телогрейкой, заботливо подперта лопатой. Значит, избушка пуста и в полном твоем распоряжении. Бросаешь у входа рюкзак, вешаешь на гвоздь ружье и, поклонившись низкому косяку, входишь в дом.
Интерьер всех охотничьих избушек прост и одинаков. У входа располагается железная печка, у небольшого оконца — столик, у дальней стены — нары. Для начала надо сделать хороший веник и вымести мусор. В нем обязательно тускло поблескивают маленькими золотыми самородками битые капсюли и сереют тяжелые горошины дробин. Потом следует прибрать на подоконнике и полках. Здесь лежат просроченные, но из экономии не выброшенные лекарственные упаковки, пакеты с сухим лавровым листом, толстые, в бурых пятнах ржавчины иголки с суровыми нитками практичного черного цвета, огарки свечей и окаменевшие пачки соли.
Разобравшись в наследстве, оставленном тебе предшественниками, можно затопить печку, поставить на огонь имеющийся в каждом зимовье помятый, закопченный, но обязательно целый, без дыр чайник, и, пока он закипает, разобрать рюкзак, расстелить спальник, и, сняв сапоги и обув легкие кеды, сесть на отполированную сотнями суконных штанов скамейку, и бездумно смотреть в дверной проем, где, как пылинка в луче солнца, танцует самый первый и самый чуткий комар.
Я жил, наверное, в сотне разных избушек, но только одну строил сам...
— Этак мы никогда до места не доберемся, — сказал Витя, сбрасывая с плеча бензопилу. — Снимай рюкзак, здесь остановимся, отдохнем, а потом дальше потопаем.
Виновником этой остановки был я. Горячее влажное марево, висевшее над моховым болотом, кочки и торчащие низкие лиственницы, за которые все время цеплялись ноги, совсем доконали меня. Очень хотелось пить. А за спиной рюкзак с инструментами, палаткой и едой на неделю — за такой срок мы собирались поставить зимовье на новом охотничьем участке моего приятеля. Вите еще труднее — у него рюкзак и бензопила, а это такая противная для переноски штука, особенно когда она лежит не на ватнике, а на штормовке, ткань которой — плохой амортизатор. Как пилу ни верти, всегда у нее найдется острый угол, который давит на плечо.
Сначала я, как менее выносливый, а потом и Витя стали припадать у голубичных кустиков и рвать ягоды. Тяжелые, с тусклым сизым налетом плоды моментально растворялись во рту, оставляя на языке кислый привкус. Одиночные ягоды не снимали, а лишь усиливали жажду. И Витя дал команду остановиться. Я с радостью сбросил в мох тяжелый, мокрый от пота рюкзак. Штормовка отлипла от спины, и теплый воздух потек между лопатками. Я сделал два шага и упал на колени перед кустом, на котором голубичная синь была самая плотная. Я собирал голубику горстями и отправлял в рот кисло-сладкую массу со случайными зелеными листочками. У меня посинели ладони, как при кислородном голодании, штормовка стала походить на блузу художника-мариниста, а штаны были такие, словно я вылез из давильного чана с виноградом сорта «Изабелла».
Витя лежал на кочке рядом со своей красной бензопилой, курил, лениво посматривал на меня из-под белесых ресниц, не глядя запускал в ближайший куст руку, беря оттуда, как из корзины, спелые ягоды.
Жажда прошла. Я надел приятно холодивший спину рюкзак, помог Вите поудобней устроить на плече бензопилу, и мы пошли по мари дальше, равнодушно наступая синими кедами на миниатюрные виноградники.
Безбрежная марь, покрытая сетью кочек, наконец-то кончилась, и мы подошли к подножию сопки. Под ногами захрустел сухой белый лишайник. С тропы вертикально вверх с треском взлетела глухарка.
— Давай остановимся, посмотришь местную достопримечательность, — неожиданно предложил Витя.
Мы освободились от поклажи, и он повел меня в сторону от тропы. Под ветвями одинокого большого куста кедрового стланика показалось низкое строение, похожее на вход в погреб.
— Я это зимовье нашел уже после того, как выбрал место для своего, и очень обрадовался, — пояснил Витя, — значит, участок здесь отличный, ведь эта избушка принадлежала легендарной личности, прекрасному охотнику, знавшему толк в соболином промысле.
Сначала я подумал, что у избушки раскатились бревна стен, а крыша сползла до самой земли, но, когда подошел ближе, понял, что ошибся; избушка оказалась целая, но всего в пять венцов. Стволы прислоненного к стене моего ружья возвышались над крышей.
Внутри было темно, как в склепе. Строитель не счел нужным создавать излишнюю иллюминацию, оставив в качестве источника освещения только дверной проем. Низкий потолок заставлял передвигаться на манер гориллы, опираясь руками о землю, но и в таком положении я цеплялся спиной за потолок, хочется сказать — загривком, так как чувствовал себя в этой берлоге зверем. В углу вместо печи находился сложенный из камней очаг. Никаких других признаков культуры не было, если не считать зеленой, как соленый огурец, латунной гильзы 16-го калибра с длинной черной продольной щелью, за ненадобностью брошенной здесь. Я выполз из избушки и только тут заметил, что двери не было. Я вдохнул свежего воздуха и снова нырнул в темный лаз — проверить, куда же она делась. Над входом у самого потолка я нащупал полоску гнилой ткани — все, что осталось от когда-то висевшей мешковины, завешивающей вход.
Пока мы шли дальше по тропе, Витя рассказывал мне о хозяине этого зимовья. Избушку ставил обитавший когда-то в этих местах охотник, профессиональный браконьер, настоящий волк-одиночка. Выносливостью он обладал феноменальной, напарников не терпел и сам строил в тайге известные лишь ему такие вот берлоги и зимой кочевал по ним. Отменное здоровье позволяло ему за светлое время суток проходить огромные расстояния, расставляя и проверяя по пути капканы. Часто его путь пересекали свежие следы сохатого. Но он ни разу не стрелял зверя. Не из жалости, а из чисто принципиальных соображений, считая, что открыть банку тушенки по времени гораздо быстрее, чем догнать, застрелить и освежевать лося. Сэкономленное же время можно всецело посвятить соболям.
Раз после сезона охоты, уже ранней весной, он на попутном вертолете выбирался в ближайший поселок. Перекупщики давно его ждали. Ждала и предупрежденная кем-то милиция. Когда он вышел из вертолета, его окликнули. Охотник бросился к краю аэродрома, у которого начинался лес. Рванувшийся было за ним сержант его не догнал.
Через полтора часа охотник вернулся в поселок и тут же был задержан милицией. В вещевом мешке, таком же плотном, как и тот, с которым он сходил с вертолета, была лишь туго скатанная телогрейка. А целый рюкзак «котов» — так браконьеры называют соболей — так и прошел мимо иркутских охотоведов, мимо ленинградского пушного аукциона.
Уже с десяток лет его зимовья пустовали. То ли он все-таки попался более расторопному милиционеру, то ли подвело его здоровье и он, заболев, так и остался в одном из многочисленных, раскиданных по тайге логовищ, то ли провалился под лед, не заметив в зимних сумерках занесенной снежком промоины. А может, в соболиный год кто-то позавидовал его охотничьему фарту и в конце зимы встретил его на выходе из тайги...
Мы прошли еще немного, и мой товарищ остановился на поляне, где располагался его склад стройматериалов и инструментов. Все это Витя перевез еще зимой на «Буране». Он осмотрел свое хозяйство и неожиданно стал ругаться, обращаясь к тайге:
— Ну где же ты? Выходи! И чего ему, сволочи, надо было? — сказал он уже спокойным голосом, обращаясь ко мне. — Ты посмотри, что медведь натворил!
Алюминиевая канистра была прокусана, и весь бензин вытек. Рядом лежал исполосованный когтями рулон рубероида.
— Ну ладно, с этим ясно, — несколько поостыв, сказал Витя и пнул ногой разодранный рубероид и жеваную канистру. — Он думал, что там внутри что-то съедобное. А зачем лопату уволок? Ведь у меня здесь была отличная лопата, совковая. Слышь? — И мой товарищ снова заорал в сторону леса: — Хоть лопату-то отдай!
Витя пошарил по соседним кустам и несколько успокоился, найдя вторую, нетронутую медведем железную канистру.
— Если б он и эту кончил, пришлось бы нам лес валить «Дружбой-2». — И Витя показал на двуручную пилу, у которой зверь старательно обгрыз деревянные ручки.
Рядом со стройплощадкой мы сняли брусничный дерн, обнажив каменистую почву, и развели костер. Я достал свою легкую капроновую австрийскую палатку и поставил ее в стороне, подальше от огня, чтобы случайная искра не прожгла крышу.
Витя тем временем вбил колья недалеко от костра и привязал к ним кусок брезента так, чтобы полотнище уходило наклонно к земле в сторону от пламени. Он наломал мелких веточек, набросал их на землю под полог, а сверху накрыл штормовкой.
Медный закат принес долгожданную прохладу. Солнце село, и осенним холодом потянуло с болота. Самые яркие и самые торопливые звезды повисли между ветвей. Летучая мышь зашелестела пергаментными крыльями над поляной. Я залез в нарядную палатку, подложил под себя для мягкости свитер и заснул.
Проснулся я от стужи августовской ночи. Пластиковый пол палатки был холодный и скользкий, как каток. Багровые сполохи костра двигались по капроновой стене. Я надел все теплые вещи, которые нашел в рюкзаках, но все равно мерз. Пришлось выбираться наружу, поближе к костру. Мой приятель сладко спал. Тепло костра, отраженное наклонным брезентом, обогревало Витю. Он лежал в майке и легких тренировочных штанах. Стараясь не разбудить его, я пристроился у огня, думая соснуть хоть часок. Но оказалось, что главным в устройстве такого ночлега был не источник тепла, а наклонный кусок ткани. Без него один бок моего тела грелся, зато другой покрывался инеем. Проснувшийся под утро Витя посмотрел на мои мучения и уступил мне место под пологом.
Очнулся я от грохота «Дружбы» — мой товарищ начал работать, пользуясь утренней прохладой. У костра в двух котелках стоял завтрак — макароны с тушенкой и чай. На черной, маслянистой от копоти поверхности сосудов оседали сизые снежинки пепла. Комары начали завтракать раньше меня. Это была еще одна причина моего пробуждения. Я умылся в ручье, позавтракал и стал ошкуривать топором стволы поваленных лиственниц. На желтоватой древесине, округляясь, проступали бесцветные капли смолы.
Солнце приближалось к зениту, жара усиливалась, и мы пошли за мхом на прохладное болото.
Человек удивительно быстро уродует природу. Еще вчера здесь шумела тайга, и ошалевший от безделья медведь рвал рубероид, пил бензин и крал лопаты, а сегодня на поляне повсюду виднелись бледно-желтые бревна, обломанные сучья с увядающей нежной хвоей, клубы темно-красной коры и зеленые стожки мха, напоминающие кладбищенские холмики. И все это за один день. И в то же время было приятно, что здесь, в глухой тайге, рождается настоящее человеческое жилище. Не холодная палатка-однодневка, не комфортный, до абсурда примитивный полог Вити, а настоящий, хотя и очень маленький, дом, в котором можно жить не только летом, но и жестокой дальневосточной зимой. Это чувство первостроителя хорошо знакомо деревенским плотникам, тем, кто возводит дом от первых венцов до конька крыши. Аналогичное ощущение, правда сильно редуцированное, испытывают и жители крупных городов, доделывающие новую квартиру. Но закладка жилья в глухомани — это особое наслаждение. И мне было очень приятно почувствовать себя Юрием Долгоруким, Ромулом и Кием одновременно.
Под вечер Витя вытащил из своего рюкзака кусок брезента — захватил все-таки для меня, предвидя, что в палатке я долго не протяну, и сделал еще одно лежбище. Мы разожгли костер, попили чаю и залезли каждый под свой полог. Огонь шевелился между бревен, как длинная желтая рыба. Темнело. Под брезентом моего товарища вспыхнуло и погасло оранжевое пламя и запульсировала малиновая точка.
Два дня ушло у нас на валку и очистку от коры лиственниц и добычу мха. Когда все было готово, стали класть венцы. Первый положили прямо на землю, без фундамента, да он здесь и не нужен — почва состояла почти полностью из мелких камней. Мы вырубали в каждом бревне продольный желобок, равномерным слоем рассыпали там мох, а сверху клали следующее бревно. Все стороны избушки — длина, высота и ширина — были чуть больше человеческого роста. Крохотное сооружение, и, чтобы его протопить, зимой нужна всего одна охапка дров.
Сруб мы поставили за три дня. Перед тем как положить последние два венца, Витя «Дружбой» выпилил дверной проем, на боковой стене — окно. Последний день мы покрывали тонким лиственничным жердняком крышу, подгоняя тонкие стволы впритык друг к другу. Теперь внутрь приходилось ходить через дверь, а не так, как мы привыкли — перелезая через стену.
Обычно каждый, кто входит в зимовье первый раз, а особенно кто из него выходит, приносит ему своеобразную дань, а лучше сказать — жертву. Так было и с нами. Хотя мы сами строили избушку и хорошо представляли ее габариты, но при выходе сначала Витя, а потом и я приложились лбом к низкой дверной притолоке. Каждый последующий раз мой товарищ вытягивал руку, ощупывал злополучный косяк, чтобы точно установить его местоположение, ругался и только после этого выходил наружу. Я же, когда хотел выйти, приседал к самому полу и в такой позиции, которая, кажется, называется «гусиным шагом», медленно продвигался к двери, почесывая уже синеющую отметину.
Мы раскроили рубероид, выбросив изодранные медведем лоскуты, и застелили им крышу, а в углу избушки установили печку. Строительство закончилось. Пока еще не чувствовалось, что это человеческое жилье: в нем было прохладно и сумрачно, пахло смолой и хвоей, как под ветвями ели. В стену у входа я вбил пару гвоздей в надежде, что когда-нибудь, вернувшись, я повешу здесь ружье и рюкзак. Витя, чтобы оживить покидаемое зимовье, положил на вороненое, с желтыми звездочками ржавчины дно печки пригоршню сухих щепок и поджег их. Почти невидимые в лучах солнца клубы прозрачного дыма потянулись из трубы.
Я взял полегчавший рюкзак. Витя бережно положил на спину неуклюжую бензопилу, и мы двинулись через голубичную марь к реке, где в кустах неделю назад спрятали лодку.
БАТЯ
Бессильно опустив руку на упругий теплый бок «Тани», я прикрыл глаза. Легкие волны плескались совсем рядом. Лодка, увлекаемая течением, плавно покачивалась на воде. Болели все мышцы. Коротенькие весла без уключин, похожие на ракетки для игры в пинг-понг, быстро утомляли гребца. Суденышко польского производства по паспорту значилось как «лодка надувная одноместная «Таня». Мои дальневосточные приятели звали ее короче: «Таня одноместная». Для небольших водоемов (прудов, стариц, проток) это была незаменимая посудина — легкая и очень маневренная. Она служила не только на воде, но и на суше. Перевернув ее, можно было с комфортом отдыхать на мягком резиновом днище.
Ранним утром я прошел с десяток километров вверх по течению реки, неся «Таню» в рюкзаке, потом надул ее и стал сплавляться, по пути считая выводки уток. До метеостанции, где я квартировал у своих друзей, оставалось не более километра. Но поднялся встречный ветер, лодка почти не продвигалась вперед. Я легонько шевелил в воде коротышками-веслами, экономя силы для последнего рывка. Вся живность в тридцати градусный полуденный зной попряталась. Тайга, утром звеневшая птичьим многоголосьем, сейчас молчала. Слышался лишь свист ветра в серебряных стволах лиственничного сухостоя. Только из прибрежных ивняков все так же бодро выкрикивала свои звучные трели бурая пеночка. В еще по-весеннему холодной реке виднелись зигзаги плывущих гадюк. Змеи, приподняв головы над водой, перебирались на лето с сопок на болота.
Неожиданно из-за поворота стремительно вылетел нарядный желто-синий катер. В нем сидели двое. Человек за рулем был очень массивен, поэтому лодка заметно кренилась на левый борт. Судно приблизилось. Я был восхищен его щегольской отделкой — даже носовая утка была выполнена в форме осетра.
«Гаргантюа» с трудом повернулся и громовым голосом, перекрывающим шум мотора, осведомился, не нужна ли мне помощь, и предложил подвезти. Он, видимо, считал, что в таких лодках могут плавать лишь люди, потерпевшие кораблекрушение. Я отказался: мне было стыдно изменять верной «Тане». Шикарный корабль развернулся и исчез.
Я познакомился с хозяином катера через час, когда наконец добрался до метеостанции. Его габариты еще раз поразили меня. Высокий рост этого пожилого человека скрадывался непомерной толщиной. Огромная, как котел, голова крепилась к туловищу без какого-либо намека на шею, курносое лицо было обожжено загаром, начинающие седеть волосы были подстрижены «под горшок», светло-голубые глаза смотрели из-под густых выгоревших бровей. Одежда его состояла из старой ковбойки, растянутых на коленях тренировочных штанов и легкомысленной детской панамки. Владелец катера оказался начальником артели старателей. Узнав, что в его подчинении находится десяток участков, разбросанных по тайге, я поинтересовался, нельзя ли мне попасть туда. Начальник обещал перевезти меня через озеро до базы, откуда постоянно на участки ходили машины.
Но желанная поездка состоялась не так скоро, как хотелось бы. Низкие тучи опустились на сопки, подул холодный ветер, и частый дождь зашуршал по мари, запузырился по реке, занавесил тайгу колеблющейся сероватой кисеей. Озеро штормило. Гул слышался даже на метеостанции, за восемь километров от него. В бинокль были видны белые гребни частых волн. Даже замечательный катер не прошел бы сейчас через озеро. Надо было ждать.
Батю (так за глаза звали старатели своего начальника) хозяева станции поселили в маленькой летней кухне, почему-то называемой на Дальнем Востоке чаеваркой. Строение стояло на высоком крутом берегу реки. Когда Батя лез в свое жилище, казалось, что тяжелый танк совершает рейд по горной местности. Батя отдышался и с трудом протиснулся в дверной проем, который совсем не был рассчитан на такую комплекцию. Он жил в чаеварке, как под домашним арестом, трое суток. Хозяйка регулярно поставляла наверх, в «камеру», еду. Иногда его навещал более изящный помощник Петька — моторист и постоянный спутник. Батя ел, спал, изредка выходил под дождь, а во время свиданий резался с ординарцем в карты — в «петуха». Тогда из чаеварки периодически слышались крики птицы, в честь которой была названа азартная игра: звонкое кукареканье Петьки или хриплый, больше похожий на рев быка голос Бати.
«Камерная» жизнь, регулярность питания и избыток сна привели к тому, что Батя еще больше отяжелел. На четвертую ночь железные ножки кровати, на которой он спал, прошили тронутый гнилью пол. Комфорт и душевный покой начальника артели были нарушены, и он решил двигаться домой, тем более что дождь стал стихать. Батя поблагодарил хозяев, как медведь скатился с горы и, пыхтя, залез в свой катер. Погрузились и мы с Петькой. Начальник занял свое место за штурвалом, мотор заревел, и судно, легко набрав скорость, помчалось вниз по реке. Сзади между двух расходящихся бурунов стремительно уменьшались здание метеостанции и хозяева, стоящие на крыльце.
Озеро еще штормило. Крутые волны неожиданно вырастали перед катером, как забор в ночной деревне перед путником. Судно с ходу упиралось в эту мгновенно возникающую стену и раздвигало ее тупым носом. На миг серое небо и далекие зеленые сопки исчезали: мутная, как кофе с молоком, волна набегала на лобовое стекло. Часть воды объемом в несколько ведер перекатывалась прямо на нас, поэтому Батя решил ехать не через середину озера, а вдоль берега. Путь здесь был длиннее, зато намного спокойнее, без водных процедур. По пологим прибрежным волнам катер пошел ровно, плавно переваливаясь, как грузовик на вспаханном поле.
Неожиданно он остановился. Мель. Сзади за кормой будто кто выплеснул тушь — винт зарылся в мягкий черный ил. Петька и я спрыгнули в воду. Здесь было теплее — озеро еще не успело остыть. Ноги увязали в мягком иле, и мы, Петька — с одного борта, я — с другого, с трудом стали толкать тяжелый катер, вполголоса ругая дождь, шторм и вес Бати. Неожиданно Петька исчез под водой. Я сделал шаг и тоже провалился в подводную яму. Винт, вырвавшись из липкого илистого плена, заработал во всю мощь, и лодка устремилась вперед. С левого борта, держась руками за уключину, полоскался я, с правого — Петька. Батя сначала удостоверился, что катер вышел на оперативный простор, и только потом, приглушив мотор, занялся спасательными работами. Он не вставая протянул свои огромные лапы, без напряжения поднял нас, перенес через борта и бережно опустил на сиденье.
Дождь прошел. Волнение стихало. Мы с Петькой, сняв мокрые рубашки и прижавшись спинами к теплому кожуху мотора, наблюдали, как приближается поселок старателей. Не успело судно причалить, как к нему побежали люди — помочь пришвартоваться, вытащить вещи и Батю. Чувствовалось, что его здесь уважали.
В поселке повсюду виднелись грузовики, трактора и экскаваторы различной степени разобранности, вокруг них копошились промасленные механики. Из открытых дверей мастерских бело-синей зарницей отсвечивал огонь электросварки. У бензохранилища стояли «Уралы» с огромными, явно самодельными прямоугольными цистернами вместо кузовов.
Вдалеке от базы, где-нибудь в зажатом сопками распадке или на мари, у задохшегося от торфа ручья, располагались столовая, баня, бараки, мастерские и самое главное — «прибор», на который днем и ночью бульдозеры беспрерывно толкали и толкали «пески» — серый, покрытый глиной гравий, с которого вода запруженной речушки вымывала, отсеивала и осаживала чуть зеленоватые крупинки золота. Их не видели ни бульдозеристы, ни шоферы, ни рабочие мастерских. «Снимать» золото с опечатанного «прибора» могли только три человека на каждом участке — начальник, главный инженер и охранник. Каждый вечер дежурный с базы выходил на радиосвязь с начальниками участков и задавал единственный вопрос: «Как идет металл?» Все были заинтересованы в нем — от Бати до повара, ведь каждый получал с общей выработки всей артели по трудодням, которые к концу сезона оборачивались в тысячи. Но такая метаморфоза происходила только при условии, что золото осаждалось на лотках промывочных машин без перебоев. Поэтому здесь нередко можно было видеть, как повар несет рабочему бульдозеристу судки с горячим обедом, а в то время, как тот перекусывает, сам садится за рычаги машины.
Батя был прирожденным организатором и пользовался непоколебимым авторитетом. Проведя в артелях на Дальнем Востоке почти всю жизнь, он прекрасно знал все тонкости добычи драгоценного металла, сам был классным шофером и трактористом. Батя сплотил весь коллектив артели так, что он работал безотказно и в самых критических ситуациях выдавал свои ежедневные килограммы. Народ здесь работал без лозунгов, не за страх и не за совесть, а исключительно за деньги, за очень большие деньги.
Каждый в артели отлично исполнял свое дело, вкалывая по двенадцать часов в сутки и имея два выходных за весь сезон — один на 1 мая, другой — на 7 ноября. Бывшие зэки, попавшие в артель, говорили, что в зонах было легче. Если рабочий оказывался профессионально непригоден, что, впрочем, бывало крайне редко, его переводили в подсобные рабочие — «шныри». И хотя там трудодней меньше, все равно к концу срока он не будет внакладе. А если человек просто ленив, следовал немедленный расчет с фантастически низкой зарплатой — что-то типа пяти рублей в день. Вопрос с дисциплиной, таким образом, никогда в артели не стоял. Проблемы возникали при наборе кадров. Желающих на самые «дорогие» профессии — бульдозеристов, шоферов, токарей — было хоть отбавляй, прямо настоящий конкурс.
У Бати было чутье на людей. Он мог забраковать человека с документами высочайшей квалификации, но взять в шоферы полуграмотного забулдыгу, которого недавно лишили прав. Однажды перед «приемной» комиссией предстал молодой человек, просившийся в бульдозеристы. Он с гордостью положил на стол новенький диплом недавно оконченного технического вуза. Молодой человек чем-то не понравился двум помощникам Бати, но начальник артели вступился за него:
— Тракторист он хороший, машину любой модели с закрытыми глазами разбирает и собирает. И бульдозерист неплохой, — продолжал он. — А корочки эти, — и Батя небрежно двинул новенькую синюю книжечку огромной ладонью, — он купил, я проверял. Так что берем.
К новичкам Батя применял самые жестокие дисциплинарные меры, производя своеобразную селекцию. Он знал, что человек, удержавшийся после сезона каторжной работы, будет приезжать сюда постоянно. Новичок втянется, будет полгода жить в европейской части страны, отдыхая на кавказских, крымских и прибалтийских курортах, строя себе и детям кооперативы, ежегодно меняя машины, охотясь за модными гарнитурами или же стремительно просаживая по ресторанам заработанные тысячи. А потом всю зиму он с нетерпением будет ждать весны, а с ней и вызова из артели. С ветеранами Батя был либералом. С некоторыми из них он начинал артельное дело.
Один раз его старый товарищ совершил один из самых страшных грехов — напился. Бригадир принял решение — отчислить из артели. На этот раз Батя стал защищать нарушителя.
— Да что он видит, этот бульдозерист? — играл Батя несвойственную ему роль адвоката. — Все полгода у него болота, сломанные трактора, соляр да нигрол. Он даже стрижется наголо, чтобы голову от мазута легче отмывать — все время с головой в мотор залазит. Давайте его оставим. Все-таки первый раз за семь лет. А чтобы авторитет бригадира не подрывать, переведем этого бульдозериста на другой участок.
В артели зарабатывал себе на кооперативную квартиру и сын Бати. Отец определил его водителем бензовоза в самую глухую точку и виделся с сыном раз в неделю, когда тот приводил свой «бензак» на базу. Я наблюдал их встречу: Батя орал на своего отпрыска за то, что тот брал с собой в дорогу ружье — охота в артели была привилегией начальства.
Батя на первый взгляд несильно интересовался делами артели, во всем доверяя помощникам. У него недавно появилось хобби — свиньи и огурцы. Он собрал толковых плотников и самолично руководил строительством свинарника и теплицы. Зная его организаторские способности, можно было предположить, что в скором времени старатели станут питаться бужениной, ветчиной и свежими огурчиками.
На базе Батя обычно сидел в сарае, где по стенам висели километры рыболовных сетей, а по углам стояли десятки лодочных моторов. Здесь он с ординарцем играл в «петуха». В случае возникновения аварийной ситуации, когда по какой-либо причине металл не шел, Батя активизировался. Об этом на базе все узнавали по его хриплому реву — начальник артели отдавал приказы. Появлялись отсутствовавшие люди, машины, запчасти, продукты, горючее, и в конечном итоге усыхающий было золотой ручеек вновь набирал силу, и артель продолжала давать план.
Справедливости ради надо сказать, что крик Бати слышался нечасто. В артели работали грамотные инженеры, администраторы, геологи, хозяйственники, а каждый рабочий имел минимум три специальности. Механики в таежных условиях переделывали и восстанавливали даже не из гаек, а, казалось, из молекул машины всевозможных марок, купленные где-то экономным завхозом по цене металлолома. Шоферы в случае необходимости вели огромные тяжелые грузовики через сопки, горные речки, болотную зыбь и по проседавшему под колесами влажному песку морских побережий. Повара из обычных продуктов готовили поистине ресторанные блюда. Показателем того, что артель работает успешно, были нерекламируемые рейсы вооруженных спецкурьеров в тайгу за снятым с «приборов» золотом. Потом металл попадал в город, откуда его также спецрейсом везли в столицу. Но все это я узнал позже, когда пожил среди старателей.
А пока Петька для начала сводил меня в столовую, где нас накормили превосходным обедом: супом из горбуши, лосиным мясом с картошкой и компотом. На столах громоздились баррикады из пачек печенья, лежали россыпи конфет и стояли, тускло поблескивая смазкой, банки с тушенкой — все это было бесплатной добавкой к обеду. Но ее брали только шоферы в рейсы.
Потом мы пошли в баню. Возле нее высились две деревянные горы: чурбаков и уже колотых дров. Между ними стоял «шнырь» и с помощью колуна зарабатывал свои трудодни — переводил одно состояние древесины в другое. В бане днем народу почти не было. Один полуголый шофер, приехавший из ночного рейса, что-то стирал, а рядом другой, в кепке, сапогах и промасленной робе, промывал горячей водой засорившийся радиатор автомобиля.
На следующее утро Батя сказал мне, что он, инженеры и охранник едут на морское побережье поохотиться и могут взять меня. Я с радостью согласился. Машина сначала пробиралась мимо старых отвалов, похожих на гигантские огородные гряды, где вместо почвы был гравий, а вместо морковки и лука росли десятиметровые ивы и березы, затем проползла мимо полуразрушенной огромной паровой драги, на которой в давние времена мыли золото то ли китайцы, то ли японцы, то ли американцы.
Сверкнув влажным глазом, заложив за спину рога, перелетел через дорогу перед самым радиатором машины северный олень. Охранник, никогда не расстававшийся с пистолетом, успел только расстегнуть кобуру, а серая шкура зверя мелькала уже далеко в стороне.
Деревья становились все ниже, воздух терял лесные запахи и наполнялся холодной свежестью. Машина выехала к морю. На сером гравии бурели валы выброшенных водорослей. Волны набегали на берег, как табуны белогривых кобылиц.
Грузовик двинулся по дороге, идущей вдоль побережья. На обочине стояли покосившиеся столбы старой телефонной линии, на которых сидели орланы. Проводов между столбами не было, как не было и поселков, которые они когда-то соединяли. Через каждые десять — пятнадцать километров попадались скелеты рыбоперерабатывающих фабрик с истлевшими внутренностями: охристыми от ржавчины котлами для варки рыбы, съеденными коррозией дизелями, из которых свисали зеленые от окислов змеевики медных трубок. На местах бывших домов, как надгробия, стояли уцелевшие печные трубы.
Настоящие кладбища находились на увалах вдалеке от моря. Ветер свистел в ставших серебряными от времени покосившихся деревянных крестах, на которых были вырезаны фамилии, даты рождения и смерти живших когда-то в поселках людей. Кусты кедрового стланика шумели среди крестов, как волны зеленого моря, разбиваясь о невысокие щебнистые холмики. Исчезли горбуша, сельдь и белуха, опустели, разрушились поселки рыбаков и зверобоев.
Батя останавливал машину и собирал среди развалин домов железные костыли, нужные ему для постройки свинарника. Он заставлял это делать и нас. Артель находилась на полном хозрасчете, и начальник экономил на всем. Рвущийся на охоту народ тихо роптал, но железки собирал исправно, радуясь, что начальнику не пришла пока в голову мысль добывать заодно и кирпич из печных труб.
Мы наконец доехали до поселка, стоящего в устье речки. Он также был полностью разрушен, но старатели под руководством Бати несколько лет назад основали здесь свою резиденцию. Они отреставрировали единственное пригодное для жилья строение — бывший хлев. В нем была поставлена печка и сооружены нары.
«Урал» остановился, и мы выгрузились. Батя хриплым голосом отдал распоряжения, в печке запылал огонь, и скоро закипел чай. Наскоро перекусив, старатели разобрали ружья и разбрелись по серым приморским пляжам.
Стаи уток-турпанов черными стрелами проносились далеко от берега, но азартные охотники все же открыли огонь. Пока народ распугивал нерп и засевал дробью море, я сходил к чахлым лиственницам и добыл несколько интересных мелких птичек. Когда я вернулся, пролет уток кончился, и пальба прекратилась. На столе лежала добыча — несколько черных как сажа турпанов. В доме никого не было — все столпились у речки. Оттуда слышался рокот — говорил Батя. В устье зашел косяк сельди, и он, заметив это, решил, что не худо будет подкормить малосольной селедочкой личный состав артели.
Предложения, вернее, приказы Бати не обсуждались. Старатели разделись, залезли в воду, окружили косяк сеткой, а концы подбор привязали к крюкам «Урала». Машина медленно попятилась от реки, и кольцо поплавков стало сужаться. Но ячейки сетки были чуть шире рыбьих туловищ, и селедка сыпалась из нее в воду, как серебряные монеты из дырявого мешка. Батя посмотрел, молча развернулся и пошел к бывшему свинарнику играть с ординарцем в «петуха».
Раз в неделю посланная Батей машина забирала меня из очередной таежной точки на базу. Там я первым делом шел в баню, потом — в столовую, а после — к начальнику. Он расспрашивал меня о результатах работы, о дальнейших планах, рассматривал мою коллекцию — тушки птиц, не веря, что за этим можно приезжать из столицы да еще получать за эту работу такую мизерную зарплату.
Пришло время покинуть гостеприимный поселок. За мной с другого конца озера на лодке приехал работник метеостанции. Я поблагодарил начальника артели от лица науки за содействие, погрузил в лодку вещи, и мы отчалили. Батя сидел на скамейке у своего домика и наблюдал за нашим отъездом.
Поверхность озера была без единой морщинки, точно полированная. Новый «Вихрь» разогнал нашу лодку до рекордной скорости. Когда мы были уже на середине озера, за кормой «Прогресса» показалась крошечная точка — отошедшая вслед за нами лодка. Но уже через пять минут можно было заметить, что носовая утка этого судна мастерски сделана в форме осетра. Батя сидел в катере один, без ординарца, поэтому крен на левый борт был особенно заметен. Он что-то кричал, но из-за рева моторов слов нельзя было разобрать. Тогда Батя сделал крутой разворот и пошел на нас, как будто хотел таранить «Прогресс». Он махнул рукой, и пара забытых мной туристских ботинок, как два ядра, просвистели в воздухе и упали в лодку. Батя что-то проревел на прощание, катер развернулся и через несколько секунд исчез, оставив белый трассер вспененной воды.
Батю я встретил через полгода в Москве. Он перебирался домой, в столицу, когда вода в реках и ручьях Дальнего Востока превращалась в лед и ни техника, ни люди не могли работать. Наступал «мертвый сезон» — полугодовой старательский отпуск, и рабочие артели, получив свои тысячи, разъезжались по всему Союзу. Одним из последних, уже по снегу, покидал базу Батя.
В столице у него была роскошная кооперативная квартира и — чем Батя особенно гордился — машина марки «форд». На импортный автомобиль начальник, по слухам, ухлопал всю зарплату за несколько лет.
И вот зимой на одной из центральных московских улиц я увидел длинный серебристый лимузин с темными, как солнцезащитные очки, стеклами. Рядом стояла слоноподобная фигура. Одет Батя был вполне цивильно. Вместо привычной драной ковбойки, тренировочных штанов с пузырями на коленях и детской панамки на нем были шикарная дубленка, соболья шапка и джинсы. Импортные штаны такой необъятной ширины наверняка достались Бате не легче, чем «форд». В этой одежде он вполне гармонировал с роскошной машиной, хотя по габаритам лучше бы сочетался с самосвалом. Бывший профессиональный шофер заботливо протер совершенно чистое блестящее лобовое стекло рукавом французской дубленки, открыл дверцу и, с трудом втиснувшись в салон, расползся по сиденью. Автомобиль беззвучно тронулся с места, сразу же набрав скорость. Он несся по улице, почти цепляя левым бортом промороженный асфальт.
ПЯТЬ И ШЕСТЬ
Ледяная от осенних утренников вода стоящего в сенях рукомойника и кружка обжигающего чая не смогли до конца прогнать сон. Я, ежась, влез в хронически не просыхающие сапоги, нацепил на пояс патронташ, надел рюкзак, повесил на плечо старое ружье и вышел из избы вслед за моим товарищем. Сергей, привыкший к таким ранним пробуждениям, бодро шагал, развлекая меня рассказами о нравах и повадках таежных обитателей. Я же думал только о теплой постели.
Лишь через полчаса, когда мы были километрах в двух от поселка, я наконец заметил, что мой приятель пошел на охоту без ружья. Вот рюкзак на его спине, вот нож в деревянных потертых ножнах — по дальневосточной моде с длинным узким клином, приспособленным для разделки рыбы. А где же ружье? Неужели он рассчитывает только на меня? Что-то не похоже на моего знакомого. Профессиональный охотник, он вытащил меня сегодня ранним утром по первым заморозкам, обещая интересный маршрут и полный набор дичи: глухарей на брусничниках, рябчиков в ольшаниках, а на старицах — уток. И пойти без ружья! А ведь у него есть вполне приличная двустволка. Неужели забыл? Ну и промысловик!
Сергей тем временем свернул с хорошей дороги на еле заметную тропинку и стал внимательно вглядываться в стволы обступивших нас высоких лиственниц, с которых, тихо кружась, падал редкий бесшумный золотой дождь.
— Давно здесь не был, почитай, с прошлого года, — объяснил он свой замедленный шаг.
Я кивнул, сделав вид, что все понял.
— Ага, вот она, — сказал мой товарищ, показывая на крохотную, заплывшую янтарным соком зарубку на дереве. — Теперь недалеко. Айда за мной! — И ломанулся, как лось, сквозь густые заросли невысокого березняка.
Я догнал Сергея у огромной лиственницы, стоящей посреди тонких березок, как слоновья нога в траве. Он снял рюкзак, закурил и не торопясь подошел к дереву. В стволе виднелось длинное узкое дупло — бывшая морозобоина. Края вертикальной щели начали заплывать, затягиваться нарастающей древесиной. Сергей просунул ладонь в дупло, что-то там ухватил и стал медленно вытаскивать. Но кисть с зажатым в ней предметом никак не проходила назад.
— Смотри-ка как заросло, на следующий год, пожалуй, без топора не обойтись, — сказал он, с трудом высвободив руку, держащую длинный предмет, завернутый в грубую ткань. — Ну вот, теперь и поохотиться можно, — продолжал мой товарищ, — а то как-то нехорошо получается — одно ружье на двоих. Разве это охота? — И он подмигнул мне.
Из промасленной мешковины, тускло блестя потертым воронением, выскользнула малокалиберная винтовка. Сергей достал из рюкзака тряпку и тщательно протер оружие, шомполом снял смазку внутри ствола и, вынув затвор, поднял малопульку вверх и заглянул в дуло.
— В этом году нормально, — удовлетворенно хмыкнул он. — А в прошлом чуть ее не испортил, смазка с водой попалась, и весь казенник ржой покрылся, еле оттер.
Вытащив из кармана пачку патронов, он зарядил мелкашку.
— Пошли, что ли? — сказал Сергей, надевая рюкзак.
Через полкилометра мы вышли к сильно петляющей таежной речке. Вдоль ее русла тянулись старицы, обрамленные высокой пожелтелой травой. Сергей снял с плеча винтовку и, пригнувшись, двинулся к одной из них. Через минуту послышались торопливые хлопки выстрелов. Я выскочил на берег. Небольшая стайка чернетей уходила вверх. Одна птица лежала на спокойной коричневой воде, другая уплывала, волоча крыло. Еще один хлопок — и подранок замер. Охота здесь закончилась. Сергей вырубил ножом палку и достал обеих уток.
— Видишь, что значит полгода не стрелять: четыре патрона на вторую извел. Тренироваться регулярно надо. Вот если б она зарегистрированная была. — И он любовно погладил рябой, в мелких выбоинах, ствол заслуженного оружия, — Пошли, однако, недалеко еще старица есть. Должен же и ты сегодня пострелять.
К следующему водоему Сергей пустил меня первым. Я ползком добрался до берега и осторожно раздвинул прибрежные заросли. Утки сидели на коричневой с золотыми монетками березовых листьев воде. Дробовой круг накрыл всю стайку, но на месте осталась лишь одна птица, остальные три понеслись над самой поверхностью старицы.
За спиной у меня ударами кнута защелкала мелкашка, и перед последней, отстающей чернетью стали взвиваться водяные фонтанчики. Я обернулся. Сергей, не отрывая приклада от плеча, дергал затвор, и зеленые гильзы, крутясь и тихонько посвистывая, падали в траву. На четвертом выстреле утка споткнулась. Эти две чернети упали далеко, и мы минут десять ждали, пока их прибьет к берегу слабый ветер.
— Тебе двух уток хватит? — спросил Сергей. — И мне хватит. Пойдем выберем место посуше, перекусим.
На высоком берегу недалеко от ручья мы остановились, сняли рюкзаки, вытащили котелок и продукты — хлеб, сахар и крупу.
— Разводи пока костер, а я сейчас. Чернетей этих домой понесем, а охотникам в тайге надо питаться диетической едой.
И он, взяв винтовку, пошел вверх по ручью.
Огонь только разгорался, когда Сергей вернулся. В руках у него ничего не было. Значит, зря сходил. Я достал из кармана рюкзака утку и начал ее щипать.
— Ты чего? — спросил товарищ. — Ведь я же сказал, будем питаться нежным мясом. Как там у Маяковского про рябчиков?
И мой приятель вынул из каждого кармана телогрейки по тушке этой птицы.
— У меня здесь знакомый выводок держится. Бью только для питания в лесу, на развод оставляю.
И он назидательно поднял палец вверх.
— А ты что, выстрелов не слышал? Я недалеко, метрах в двухстах был.
Сергей дал мне одного рябчика, и мы стали ощипывать птиц. У моего товарища это получалось сноровистее — чувствовался большой опыт. Потом я сходил к ручью, помыл и порезал мясо и вернулся к костру. Сергей лежал на телогрейке, курил и задумчиво глядел на пламя. Я повесил над огнем котелок и, присев рядом, взял в руки винтовку. Весь приклад был поцарапан и побит, лак остался только в некоторых местах. Левая сторона ствола давно лишилась воронения и блестела. Защитное кольцо мушки было упрочнено двумя аккуратно примотанными деревяшками. Ремень крепился под самым дулом, чтобы ствол не торчал над плечом. Так удобней пробираться по густым зарослям — не будешь цепляться за ветки. Магазин был соединен сыромятным ремнем со спусковой скобой на случай быстрой перезарядки: пустой выдернул, он повис, а новый, полный, вставил — и работай дальше.
— Люблю я эту винтовочку, — сказал мой приятель. — А раньше, пока к ней не приспособился, совсем она мне не нравилась. Вроде и убойность слабая, и траектория не настильная, а пристрелялся — оказалось почти универсальное ружье. Вообще-то мне каждый год на сезон охоты госпромхоз выдает казенную мелкашку, да ведь сезон-то еще не начался. Вот и пришлось сегодня со своей. Да и смазку поменять надо, и пострелять из нее охота. Оружие ведь тоже хочет быть в деле. Хочешь, расскажу, как я впервые оценил малопульку? Однажды вот такая же винтовка, калибром пять и шесть, мне жизнь спасла, да не только мне одному. Будешь слушать? Тогда засыпь пшено. Уже пора.
— Сразу же после армии решил я «побичевать», побродяжничать, пожить вольной жизнью и устроился рабочим в геологоразведочную экспедицию на реке Амге. Партия наша была не то что скандальная, а безалаберная какая-то. То напьются, то подерутся, но не по злобе, а так, от скуки, а самое главное — без последствий. Вот, к примеру, случай, чтобы тебе показать, что за народ там подобрался. Слушай, а посолить забыл! Охотники! Сыпь тогда сейчас. Не то, конечно. Ну, что делать?
Так вот. Возвратились мы раз на базу. Каждый из своего маршрута. Поели и разбрелись по палаткам. Делать нечего. Скучно. Карты надоели, брагу ставить — начальник гоняет, а потом наш повар, бывший зэк, сахар прятал мастерски, ни за что не найдешь. Вдруг из соседнего лиственничника собаки залаяли. Один из наших, самый обалдевший от безделья, пошел посмотреть, что там случилось. Вернулся минут через пять.
— Ничего интересного, — говорит, — собаки на дерево белку загнали и брешут. Черненькая такая белочка, симпатичная.
А я ему:
— Как это черная, ведь летом белки рыжие.
Тут все старожилы стали мне наперебой рассказывать про местных якутских белок. Какого цвета они бывают зимой, какого летом. А потом вдруг один и говорит:
— А чего мы все рассказываем? Пойдем поймаем ее. Он и посмотрит. Айда, Серега. Только топор возьми.
Народ как-то неожиданно дружно подхватил эту мысль, и через минуту почти вся партия двигалась в сторону собачьего лая. На вершине лиственницы, сжавшись в черный комок, сидела белочка. Внизу у ствола стояли наши собаки — все двенадцать беспородных псов, и дружно брехали. Начали мы ту белочку ловить. Поначалу у нас это плохо получалось. Засядет, к примеру, зверек на тонкой лиственнице, ну мы ее в два топора раз-раз — и готово. Но все равно белочка успевает перескочить на другое дерево. А если ствол толстый, быстро топором не свалишь. Пару раз пришлось на дерево лазить, да что толку — она только перепрыгивает на соседнее. Никак не поймаешь. Только работяги от этого не приуныли, а, наоборот, в еще больший азарт вошли. Чуть вместе с собаками не лают. Видят, что топорами здесь не обойтись, — сбегали в лагерь, притащили три бензопилы, и охота пошла успешнее. Белочка сигает по ветвям, за ней, вернее под ней, наши собаки бегут, не дают остановиться, а за собаками — мы. Измором решили взять. Как только зверек на вершине затаится — тут наши самые опытные вальщики подбегают и с двух сторон дерево — жик-жик. Пару раз белка чуть до земли на падающей лиственнице не долетела. Я уж думал, собаки разорвут, и не знаю, как она спаслась. Один раз лесина на толпу стала валиться — уж тут не до белки, еле сами увернулись. Наконец минут через сорок загнали ее на высокую лиственницу. А вокруг рос низкий березняк. Тут мы сразу поняли, что она от нас не уйдет. В три бензопилы и шесть топоров смели березы, чтоб белка туда перескочить не смогла. Зверек стал понимать, что ему особенно деться-то некуда, и заметался в кроне. Но тю-тю, поезд ушел. Осталась на искусственной поляне одна лиственница с белкой, а под ней — восемнадцать человек, потные, азартные, и двенадцать кобелей. Люди орут, собаки лают, бензопилы трещат. Собак мы привязали, чтоб они зверька не подрали, и начали дерево валить. Упала лиственница на поляну, и все восемнадцать бугаев бросились на нее, бедную, с телогрейками. Поймали.
Действительно черная. Ну, чего сделали... Не съели, конечно. Каждый подержал в руках, погладил — и отпустили. Хорошая белочка была, симпатичная. А у тебя в рюкзаке котелок есть? А чего же сидим? Иди черпани воды, как же без чая в тайге?
Вот такая экспедиция была, в которой я первый год работал. И был там один геолог. Нет, белочку он не ловил — на маршруте был. А если б и находился в лагере, то вряд ли пошел. Нет, не то что сторонился, а, знаешь, как-то не принято было, чтоб геологи с работягами якшались. Интересный мужик. Большой спец в геологии. Кличка у него была Аристократ. Получил он ее после работы по контракту где-то в Африке. Почему? Знаешь, сколько здесь комара, мокреца и мошки бывает? Так вот это мелочи по сравнению с Якутией. Мы все на маршруты даже летом ходили закутанные с головы до ног, в шапках, накомарниках, энцефалитках, а он — в охотничьей тирольской шляпе, импортной яркой рубашке с закатанными рукавами, в джинсах и сверхмодных туристских ботинках. Тогда еще кроссовок не придумали, а то он непременно бы в них пижонил. На поясе у него — полевая сумка из кожи антилопы, на груди — американский бинокль, в руках — сделанный по заказу геологический молоток из ниобиевой стали с рукояткой из ореха, на плече — изящный карабинчик, калибром чуть больше, чем малопулька. Ему это ружьишко какой-то африканский геологический босс подарил. В общем-то, не геолог, а картинка. Одно слово — Аристократ. И ни один комар его не трогает. Он из этой же Африки привез какое-то противокомариное средство: брызнешь на себя капельку из пузырька — и ходи себе целый день среди голодных комаров хоть голым. Но нам не давал, экономил.
Однажды работяги нашей партии достали экспедиционную мелкашку, поставили на пенек пустую банку из-под сгущенки и давай по ней «поливать». Винтовка не такая была, как вот эта, а однозарядка. Пока ее зарядишь, пока выстрелишь, пока промахнешься... Все так занудно у нас получалось, тем более что очередь на нее — пять человек. Но периодически то один, то другой в банку попадает, и она тихонечко и жалобно позвякивает. Аристократу, видно, такой замедленный темп надоел. Он вышел из палатки с африканским подарком, небрежно вскинул автоматический карабин и выпустил всю обойму. Банка, пока гремели выстрелы, не переставала плясать на пне. А от него до мишени было чуть не вдвое дальше, чем от нас. Все, конечно, такого снайпера зауважали, но один ехидный парнишка сказал, что такой калибр годится для того, чтобы белок гонять да по банкам стрелять. А если медведь попадется, что тогда? Прикладом? Аристократ вместо ответа порылся в коробке с патронами, зарядил свою винтовку, выбрал подходящую мишень и выстрелил. Лиственница, потолще руки, стоящая метрах в ста на краю мари, переломилась пополам. Разрывная пуля. С такой можно и медведя встречать.
Мы его и встретили. Через неделю. У самого лагеря. Сейчас расскажу, давай только супчик похлебаем. Эх, ананасов нет, а рябчики хороши. Как там вода? Закипела? Достань у меня в рюкзаке заварку. В левом кармане. Нашел? Да, про медведя. Вообще-то там этого добра хватало. Но все обходилось, избегали они человека. На работу — брать пробы — мы уходили далеко в тайгу. Ткнет тебе инженер на карте, куда идти, и скажет, что делать. Ты берешь инструмент: топор, лопату и кайло, продукты, если надо — палатку и спальник, я вообще-то телогрейкой обходился — и марш в поход. Придешь на место, канаву выроешь, возьмешь там пробы — и домой. Нет, не одну канаву на точке, а три — пять. Тяжело с непривычки. А такие точки везде — до трех десятков километров от базы.
Но одному из наших — его, кстати, тоже Володей звали — подфартило — он пробу брал в километре от лагеря. Иногда при хорошей погоде было слышно, как он кайлом работает. Однажды к вечеру собралась в лагере почти вся партия, только Аристократ снова на маршруте был и этот Володя еще работал. Слышим — стучать перестал, значит, домой возвращается. Повар наш кашу с тушенкой и чай на печку поставил разогревать, а тот уже рядом и идет не по тропе, а напрямик, через тайгу. Экономит расстояние и время. Кушать хочет. А чтоб с курса не сбиться и мимо лагеря не пройти, покрикивает. Мы ему отвечаем. То один отзовется, то другой. Только минут через пятнадцать кто-то сообразил, что он слишком долго идет. И крики все слабее, и голос какой-то хриплый. Как только мы это поняли, все с мест повскакали, схватили ружья, топоры — и в лес.
Прибежали к нашему товарищу, а он стоит у здоровенной сухой лиственницы белый как полотно. Пот с него градом, в руке обломанное топорище, а само лезвие загнано в дерево по обух. Вокруг ствола натоптано, как у пивного ларька в выходной день.
А случилось вот что. Прошел Володя уже полпути до лагеря, и вдруг выскочил на него из-за коряжины медведь. Покричал он на зверя, постучал топором о лесину — тот не уходит, а, наоборот, приближается. Ну, наш товарищ и дал деру. А от медведя в тайге разве убежишь? Встал Володя тогда за ствол большой лиственницы и давай орать, нас на подмогу звать. А мы-то думали, что он домой спешит, на ужин.
Медведь настырный оказался, не уходит, и наш приятель тоже упрямый, не дается ему и все старается, чтобы между ними лиственница была. Ну, зверь осерчал и давай его из-за дерева лапой доставать. Володя заметил, что лапа-то на стволе лежит, когда медведь к нему тянется, и рубанул по ней. Знаешь, в кино показывают: отважные охотники топором кончают матерого зверя. И он, наверное, тоже решил попробовать. Но у этой скотины такая молниеносная реакция оказалась, что он успел лапу отдернуть. Топор в дерево вошел, а медведь еще своей «пятерней» так по обуху съездил, что почти все лезвие в дерево вогнал и топорище обломил. Так что Володя вокруг дерева уже без топора плясал, и голос у него стал сипнуть. Ну, тут-то мы и подоспели. Медведь услышал, что на выручку толпа спешит, и ушел.
В общем, нашему другу повезло. Если б миша его лапой достал — нокаут верный. Я потом минут десять топор из лиственницы выковыривал. Ты когда-нибудь сухую лиственницу рубил? Нет, сухую. Тогда не знаешь. Это по крепости почти железное дерево. А медведь так топор засадил, в пору бензопилой доставать. Достал. А зачем мне такие сувениры? Топор он и есть топор. Насадил я его потом на топорище да и работал до конца сезона. Не отвлекай, дай про медведя расскажу.
Володя, как поужинал в лагере, отдышался, пришел в себя и решил зверю отомстить. А на беду, у нас в лагере только одна мелкашка, из которой мы консервную банку мучили, и разболтанная одностволка с наполовину отпиленным стволом. Наши «бичи» ее привезли из поселка. Говорят, у пацанов на что-то выменяли, а вернее, просто «увели». Все это оружие явно не на крупного зверя. Но Володя уже завелся, взъярился, землю роет и икру мечет. Хочу, говорит, на медвежью охоту. Кто со мной? Ну, я и пошел. Он взял винтовку, а я ружье и два пулевых патрона — все боеприпасы к нему. Володя сходил к столовой, у которой обитали наши собаки, и выбрал там одну, с торчащей шершавой шерстью. Смотреть не на что. Хвост то ли обрублен, то ли обкусан, уши все рваные. Кличка, правда, боевая — Пират. Потом, уже после охоты, я, присмотревшись, заметил, что все наши псы этого кобелька уважают. Хотя некоторые собаки были вдвое его больше и нравом побойчее, но и они всегда отходили, если он к брошенному поваром куску подбегал.
Долго мы не собирались, и скоро все вчетвером — за нами еще здоровенная собака увязалась — были у той самой лиственницы. Пират как почуял медведя — шерсть дыбом и по следу. А тот огромный кобель сник. Видно, думал, что просто на прогулку идем, а не медведя гонять. Пират пошел по следу молча, а вторая собака то за ним кинется, то к нам подбегает и тоже не лает, а только тихонько поскуливает. Ну мы за ней и идем. Наконец услышали голос Пирата. Тут я понял, что Володя настоящий охотник — он так рванул к медведю, как будто и не плясал с ним под лиственницей. Я, естественно, стараюсь не отстать. Только запнулся о корень и упал. Ружье — в одну сторону, топор — в другую. Патроны рассыпал. Вскочил, все собрал, побежал на лай. Слышу — щелк, щелк. Володя из мелкашки по медведю стреляет. А ведь это не Аристократово ружье. Из нее неумеючи и утку не убьешь. Тогда я впервые живого медведя вблизи увидел. Огромным показался. Зверь задом к лиственнице прижался, ревет на собак и пытается их лапой достать. Второй кобель, глядя на Пирата, тоже в азарт вошел, брешет, прыгает вокруг, правда без пользы, так, внимание отвлекает. А Пират все норовит медведя сзади цапнуть. Видно, раз уже укусил, вот тот и прижался к дереву — бережется. То есть идеально собаки работают — вдвоем держат зверя, которого вообще трудно остановить, это тебе не сохатый. Я тогда этого не знал, думал, что так всегда бывает. Чего с меня возьмешь, я же был салага, первый раз на такой охоте. А Володя стоит за деревом и только из мелкашки щелкает. И хотя медведь рядом, никак не может ему в самое убойное место — за ухо — угодить. Наконец попал — зверь оседать стал. Мой товарищ хватает у меня тогда ружье — и прыг к медведю, ствол к уху приставил и курок спустил. Собаки его уже мертвого потрепали. Пират немного, а вот второй пес впился как клещ, и не оттащишь. Мы перекурили, а потом Володя медведю брюхо распорол и желчь достал. Отличное лекарство. От всех болезней. Мяса не взяли. Нет, почему, съедобное. Медвежье мясо вообще-то первый сорт, особенно если зверь кормится не рыбой, а орехами, корнями и ягодами. Сочное, нежное. Только там, на Амге, все медведи были заражены. Трихинеллез, глисты. Есть, конечно, можно, если варить часа три. И то опасно. Рядом с нами, километрах в ста, еще одна партия стояла. Соседи. Завалили они медведя, нажарили котлет, поели, а через некоторое время троих спецрейсом в поселок. Зачем в больницу? На кладбище. Не знал? А еще биолог! Червячки в желудке выводятся, в кровь попадают и по всему телу разносятся. А у этих троих в мозг попали.
Так вот я первый раз был на охоте и увидел, что даже медведя можно из малокалиберной винтовки убить. С тех пор стал думать, как бы мне ее заполучить. И достал наконец. Контрабандную, незарегистрированную. Таскал ее на каждый маршрут, патрончики на тушенку и сгущенку выменивал и все время тренировался. По банкам, по затесам. И влет пытался стрелять. Ну с этим туго шло: винтовка не дробовик. Но все равно успехи были. Потом к охоте пристрастился, Володя помог. Вот несколько лет назад и участок охотничий дали. Каждый год до десятка «котов» сдаю. Соболей то есть.
Как она мне жизнь спасла? Не только мне. Семерым. Было это года через три или четыре, точно не помню, после того как я первый раз в жизни медведя гонял. Я все по геологическим экспедициям бродил. Молодой был, здоровый, свободный. Денег много платили. Правда, «пахать» надо было. Бродячая жизнь слегка меня повертела. Два раза тонул, один раз еле ноги унес от лесного пожара, однажды здорово обморозился, но кое-чему научился. В геологах несколько профессий получил. Хотя «корочки» у меня только на буровика и бульдозериста, но разбираюсь и в электротехнике, слесарном, плотницком и столярном деле. Поболтался я по Якутии, был и на юге, и на севере, под Нижнеянском, там, кстати, розовая чайка есть, знаешь такую? Редкость, говоришь? А она там на помойках кормится. И попал наконец в те же примерно места, где и начинал. Но в другую партию устроился. Поработал там сезон, а потом с геологией круто завязал. Народ там был разноперый. Кого только не встретишь! И бывших докторов, и артистов, и даже один мастер по сырам, из Минска, я тебе как-нибудь потом отдельно расскажу. Кто из-за баб сюда попал, а больше из-за водки. Как начали «керосинить», так и покатились, полетели у них звания, чины, награды, партбилеты, и оказались все вместе в одной партии, в Якутии, уравненные в правах. А так как нужной квалификации нет — все стали сезонными рабочими с простыми обязанностями: кайло в руки и вперед — шурфы бить да пробы брать. Попадались и бывшие зэки, и чуть со «сдвигом», начальники почти никому не отказывали, что делать — в тайге любая пара рук на вес золота. Ну, конечно, с таким народом ухо надо востро держать. Партия эта сложилась неудачная. Один утонул в горной речке, однажды подрались до поножовщины, двое огуречного лосьона так напились, что «вольта словили», ну, с ума сошли и в тайгу убежали. Неделю, наверное, их искали. Так и не нашли.
Обычно хотя целый день орудуешь то кайлом, то лопатой, да еще ходишь по пятнадцать — двадцать километров, все равно рано спать не ложишься. Так и в тот вечер было. В бараке нас жило десять человек. Уже смеркалось. Кто книжку читал, кто робу штопал. Двое в карты резались, а бывшие интеллигенты — те в шахматы. Шурик, мой приятель, помню, компас делал. Он всем своим друзьям сувениры мастерил — или отличные ножи, или компасы, то, что наиболее необходимо в тайге. Стрелку брал от магазинного прибора, а все остальное делал сам из латуни. Руки у него золотые были. У меня его компас до сих пор хранится. Ни разу не подводил. Вернемся — покажу. Да и этот вот нож — тоже его подарок.
В общем, обычный вечер был. Один из наших, имени его не помню, да, по-моему, и не знал никогда, понаблюдал, как интеллигенты в шахматы играют, потом встал, карабин, который на партию полагается, из угла дома вытащил и на улицу вышел. И слышно — бах-бах. Тренируется, значит. Пристреливает. Ему завтра на дальний маршрут идти. Надо к оружию приноровиться. Мы же понимаем.
Рядом с Шуриком два молоденьких паренька сидели, первый раз в экспедиции. Смотрели, как он в корпус круглый кусок плексигласа вставляет. Им, видно, это надоело, и они из дома вышли — тоже решили пострелять. Мужикам ведь всегда оружие в руках повертеть охота. И снова грохот. После второго выстрела дверь открывается, и один из них вваливается в барак. Грудь его я не видел, только вся роба на спине в крови. Таежный народ тертый, ему два раза не надо повторять, особенно когда речь о жизни заходит. Бедолагу этого мы в дом втащили, дверь на крючок, в ручку еще черенок лопаты засунули — для верности, и все за печку. Она кирпичная, пуленепробиваемая, не выдаст. Только мы там спрятались, как из двери щепки полетели. И стреляет, паразит, по полу. Думает, что все залегли. И не кричит, не матерится. Молчит. Пять раз выстрелил, потом перерыв — карабин заряжает. Тогда один из нас вылез из-за печки, снял мелкашку (была в экспедиции одна пятизарядка) — и к окну. Как раз вовремя. Тот, за дверью, снова палить начал. Наш товарищ под очередной выстрел ногой раму высадил — и на улицу. Все мы за печкой притихли, ждем, чем дело кончится, помирать никому неохота. А только между четвертым и пятым карабинными выстрелами — их все считали — тихонько малопулька щелкнула. И тишина. Проходит минута, другая, и наш приятель, что в окно вылез, кричит:
— Выходи, готов.
Столько трупов, как в тот день, я никогда не видел и дай Бог не увижу. Прямо у крыльца вытянулся второй парнишка. А тот, что с карабином, метрах в двадцати лежал. И маленькая дырочка у него на переносице. Видно, кто стрелял, хотел в лоб попасть, только спуск у мелкашки тугой был. Вот и обнизил.
Мертвых трогать не стали — им все равно не поможешь. Собрались все живые, поговорили минут пять. Потом толпой прошли вокруг барака, потоптались у выбитого окна, нашли гильзу от мелкашки, пуля от которой торчала в переносице у того, с карабином. Шурик выбитую оконную раму аккуратно вставил и заодно по подоконнику шкуркой прошелся, чтоб, значит, там ничего лишнего не было. Винтовку разрядили, все патроны в речке утопили, а потом мелкашку бензином протерли. Ствол, приклад и магазин. В общем, всю. А после этого повесили ее туда же, где она висела, — на гвоздик за печкой. Все, что нужно было, сделали и пошли к начальнику — докладывать. Его дом в полукилометре стоял.
На следующий день прилетела «восьмерка», полная милиционеров. Шутка ли: три трупа за один вечер — и нет виновных. Один-то есть, тот, что с карабином. Осмотрели милиционеры место преступления, следов не нашли, гильзу не нашли, отпечатков пальцев на винтовке не обнаружили. Трупы в поселок отправили и нас допрашивать начали. Заводят по одному в дом начальника партии. Там сидят майор и еще один милицейский чин. Они каждого выпытывают, как все было. Кого первого застрелили, кого потом? Что за человек был тот, с карабином? Не пьян ли был? Не ссорился ли кто с ним? Кто в окно вылез и из мелкашки стрелял? Здесь-то у милиции заминка-то и вышла.
Каждый, во-первых, говорит, что не он, а во-вторых, что не знает кто. Все соглашаются, что тот, с карабином, убит из нашей винтовки, потому что больше не из чего, но никто, оказывается, не видел, кто же ее с гвоздя снял. И каждый из семерых божится, что он не дурак под пули себя подставлять и что именно он все время за печкой сидел.
Целую неделю нас мучили. Но так ничего и не добились. Забрали все ружья и уехали к себе в район. Замяли как-то это дело. Потом материалы на того, с карабином, раскопали. Оказалось, что он в психдиспансере на учете был. Справку какую-то нашли, что лечился когда-то. Да, видно, недолечился. Начальнику партии очень большие неприятности сулили. Но не сняли. Он мужик был толковый и на этом участке всю работу тянул. А нас... Вина конкретного лица не доказана, и потом милиция, видно, и сама понимала, что у нас другого выхода не было — либо он нас всех перещелкает, либо мы его уберем. Дело затихло. И вот что интересно — даже когда мы оставались своей компанией, никто тому, кто в окно с мелкашкой лазил, ни разу не напомнил о том случае. Ребята надежные оказались. Не трепачи.
Только я после этого случая через пару месяцев из партии подался. Пошел сначала в бульдозеристы, потом в метеорологи. Охоту, правда, никогда не бросал. И мелкашку тоже не бросаю — надежная вещь, если ею регулярно заниматься.
Сергей, как бы в подтверждение своих слов, взял оружие, поднял ствол вверх и почти не целясь выстрелил. Половина шишки, висевшей на верхушке высокой ели, подскочила и упала, глухо стуча по веткам.
— Спуск хороший, — сказал он, поглаживая приклад. — Мягкий. Не то что у той, геологической. Из нее всегда низил. Ну что, заговорил я тебя? И чай остыл. Нет, греть не будем. Давай быстро, по-военному, попьем такой, какой есть, и айда до дому. А то мне еще винтовку прятать.
ЛЫЖИ
— Говорят ведь: готовь сани летом, а телегу зимой, — произнес метеоролог Витя, взглянув утром на побелевшую от инея марь. — А я как цыган: тот начинает искать, где шубу купить, когда зима настает. Завтра, может, белые мухи полетят, а я вот только собрался дерево на лыжи рубить.
Уже около недели студеные ночи засахаривали клюкву на болотах. Вечерами река прихватывалась первыми заморозками, и нам с Витей доставляло большое удовольствие проехаться по успокоенной холодом воде, дробя звонким алюминиевым корпусом «Прогресса» хрупкий и тончайший, как покровное стекло, первый ледок.
— Лыжи-то у меня есть, — продолжал Витя, — но старые, все растресканные, латаные-перелатаные. Вряд ли охотничий сезон доходят. Так что надо вверх по реке ехать, тополь валить. Поедешь?
Я, конечно, согласился. Я жил тогда в таежном поселке, состоящем всего из двух изб. В одной располагалась метеостанция, в другом — рыбинспекция. Ихтиолог, по совместительству нештатный промысловик, узнав о предстоящей вылазке, попросил захватить его. Он собирался на свой охотничий участок, а тут такая счастливая оказия: двадцать километров можно подъехать на лодке. А оттуда еще тридцать — до зимовья. Пешком.
Жизнь у Вити никогда не соответствовала словам популярной в прошлом песни: «Были сборы недолги...» И хотя мы еще вечером лихо катались по заледенелой реке на лодке с хорошо работающим мотором, как всегда, выяснилось, что в «Прогрессе» не хватает множества самых необходимых вещей, «Вихрь» почему-то забарахлил, бензопила разобрана до гаек, ее цепь не точена, куда-то запропастился топор и существует еще целый букет причин, которые, казалось, откладывают нашу поездку навсегда. И все же я на всякий случай собрался: положил в рюкзак бинокль, фотоаппарат, патроны и обильно смазал ружье, твердо зная, что даже в самой сухой лодке, а уж тем более в Витиной, обязательно бывает вода.
Метеоролог полдня курсировал от подсобки, где у него хранились инструменты, запчасти и бочки с бензином, до берега, где стояла лодка, делая регулярные перерывы на перекуры и чаепития. И в тот момент, когда мне показалось, что мы никогда не отчалим, все трое (вернее, четверо: ихтиолог взял с собой суку) неожиданно оказались у «Прогресса», погрузились и отошли от берега.
Наша четвероногая попутчица была странным бастардом, в котором слабо чувствовались отзвуки крови западносибирской лайки. Сука обладала прекрасными, выразительными, чуть навыкате огромными лемурьими глазами и стервозным характером. Рохля (так ее звали) летом, в мертвый для охоты сезон, жила за озером, в большом поселке. Там периодически срывалась с цепи и, чтобы оставаться в хорошей форме и в качестве лекарства от скуки, устраивала вылазки в соседние курятники. А чтобы ее хозяину, ихтиологу Юре, было легко считать трофеи, Рохля стаскивала всех добытых птиц к своей конуре. Эти игры не нравились ни ихтиологу, ни соседям, ни курам. Юра платил за убиенных птиц и прощал собаке эти маленькие слабости за ее прекрасные рабочие качества, за ее феноменальное чутье. Не было еще ни одного соболя, чьих следов Рохля не распутала бы, и, загнав зверька своим противным лаем на дерево, стояла, мерзко поскуливая, в ожидании человека с ружьем, то есть Юры.
— Рохля каждый год мне план делает, — с гордостью говорил ихтиолог, — и себе на шубку зарабатывает, — И скромно добавлял: — На соболью.
Я редко попадал в дальневосточную тайгу зимой и осенью: работа орнитологов в основном весенне-летняя. Поэтому, когда мы в середине пасмурного, с низкими сплошными облаками безветренного осеннего дня пошли вверх по реке, я с удивлением всматривался в знакомые места, сотни раз виденные летом, когда моим попутчиком был только цвет ислама. А сейчас наперебой краснели, бурели и желтели перелески, луга, мари, склоны сопок и затоны, алыми кровеносными сосудами вились потерявшие листву ветки свидины, у вершин крутых сереющих мокрым шифером скал проплывали зеленым облаком незаметные летом кусты кедрового стланика.
Где-то далеко, в верховьях реки, прекратил работать прииск старателей: у них наступили зимние каникулы. Охотники за золотом перестали сбрасывать в реку антикоагулянты, и вода в Уле обрела серую прозрачность и от этого стала казаться холодней.
Лодка петляла по привычным кривунам и протокам, а потом пошли новые места, куда летом не доберешься из-за низкой воды. На одном повороте Витя обернулся, махнул рукой в сторону берега и крикнул:
— Тополя!
Три дерева стояли на высоком откосе.
Зигзаги реки сделались более крутыми. Заметно обмелело. Под водой у самого дна зазмеились распластанные течением привидения водорослей. На опасных местах — у подводных валунов или затопленных коряг — мемориалами неудачникам, не прошедшим выше по течению, замелькали ярко-голубые, малиново-красные и лимонно-желтые обломанные лопасти лодочных винтов.
Но Витя был настоящим речным волком, и поэтому он сломал свой винт там, куда никто не доходил. Белый «хвост» за кормой лодки стал пестрым из-за прихваченной со дна гальки, а потом и вовсе украсился отлетевшими зелеными винтовыми лопастями. Мотор, перестав ощущать сопротивление воды, противно завизжал, и Витя выключил его. Это была самая дальняя точка на реке, куда мы по такой воде смогли подвезти Юру.
Охотник взял ружье, рюкзак, позвал Рохлю и, тяжело спрыгнув за борт, попал в единственную на этом перекате подводную яму.
— Вот черт, — проворчал Юра, выбравшись на берег и выливая воду из голенища, — теперь топай в мокрых сапогах. Мне бы к вечеру вон туда добраться. — И он показал на далекую сопку. — Там у меня землянка, в тепле переночевать можно, обсушиться. А потом еще день перехода — и дома, в зимовье. Рохля! Рохля! — снова позвал он все еще сидевшую в лодке собаку.
Рохля нервно заходила по алюминиевой палубе, гулко отзывавшейся ее шагам, и наконец, решившись, плюхнулась в холодную воду, проплыла с метр над злосчастной ямой, достала лапами дно, в несколько прыжков достигла берега и торопливо и старательно отряхнулась. Она поглядела на оставшихся в лодке своими лицемерно-грустными глазами и скрылась в тайге. Юра снял с плеча бокфлинт[16] и сунул в оба ствола по пулевому патрону — путь предстоял долгий, а медведи еще не залегли по берлогам — и двинулся вслед за Рохлей. Мы смотрели, как растворяется среди невысокого прибрежного ивняка человеческая фигура, одетая в серую, шинельного сукна куртку. В безветренном воздухе быстро стихали его шаги. Пройдя немного, Юра что-то вспомнил и обернулся.
— Пока, — небрежно попрощался он, — к Рождеству, может, выйду.
В это время из низкой тучи пошел первый в этом году снег и окончательно скрыл охотника.
Мы столкнули «Прогресс» с мели. Лодка, царапнув несколько раз днищем по гальке, бесшумно заскользила по холодной воде и, медленно вращаясь, поплыла мимо берегов. Витя закурил, и клубы дыма в полном безветрии и легком снегопаде стали чертить траекторию катящегося тела. Работник метеостанции после перекура занялся поисками запасного винта. Такового в лодке не обнаружилось: сказывалась хроническая безалаберность подготовки любого Витиного мероприятия.
Мы сплавлялись пару километров — до примеченных тополей. Редки они в Нижнем Амуре. Здесь по сопкам и марям растут лиственницы, по распадкам — пихты и ели, по берегам — осины, ивы и ольхи. А река, по которой мы плыли, на языке местных жителей называлась Улом — «Тополиной» из-за растущих только в ее долине деревьев.
После поворота Витя, не приподнимаясь с нагретого сиденья, вставил весла в уключины и подогнал лодку к берегу.
— Приехали, — сказал он, — вон они, три тополя, как на Плющихе. Один кривой, на лыжи явно не пойдет. Посмотрим, как другие.
Мы влезли на берег, привязали лодку и пошли к деревьям. Витя походя ударил обухом по самому толстому, и ствол отозвался глухим звуком гнилой древесины. Третий тополь откликнулся свежим холодным звоном. Витя засадил топор в обреченное дерево и пошел к лодке за бензопилой.
Облака теснее прижались к земле. С неба посыпалась мелкая сухая белая крупа. Золото лиственниц на глазах обесценивалось: близкая зима щедро разбавляла его серебром. Снег, уничтожая живопись, гуашь, темперу[17] и сангину[18], сохранил на несколько мгновений минорную акварель, а потом размыл и ее. Бледный цветной слайд тайги потерял свою воздушность и глубину, пространство сплющилось, и остался лишь черно-белый, плоский набросок сглаженных треугольников сопок: зима — поклонница графики. Сбитые хвоинки лиственниц падали на свинцовую поверхность реки, и архилаковая клинопись, желтые иероглифы, золотые распятия, охристые иксы, лимонные единицы и восклицательные знаки из аурипигмента[19], медленно уносимые течением, слагались в длинную осеннюю повесть.
Витя завел бензопилу. Ее грохот гасился падающим снегом, а голубой дым смешивался с тающими в нем снежинками. Дерево рухнуло, и треск ломких от холода тополиных сучьев прозвучал как нестройный ружейный залп взвода. Витя с удовлетворением обнаружил, что весь срез был белый, без гнили и морозобоин. Лыжи выйдут прочные. Он прижал бегущую по удлиненному овалу цепь бензопилы к зеленовато-серому стволу и выпилил два бревна по длине лыж. Потом на их торцах сделал по два надреза. Витя заглушил «Дружбу», срубил небольшую березку, вытесал несколько клиньев и стал забивать один в белую плоть тополя. Прямослойная древесина легко поддавалась его ударам, и от ствола стала медленно отделяться ровная во всю длину бревна щепа.
Слышно было, как внутри тополя трещат раздираемые клином древесные волокна.
Через час работы у Вити вышло две доски: толстых, шершавых, в продольных желобках, как кожа кита-полосатика, с задранными, торчащими, как редкая щетина, белыми заусенцами.
Мы захватили увесистую добычу веревочной петлей и потащили ее к лодке, как туши добытых и освежеванных зверей. Белые плахи пахали тонкий слой только что выпавшего снега. Мы погрузили будущие лыжи в «Прогресс». Витя достал из кубрика «Шмель», хлеб, консервы, зажег примус и зачерпнул из реки воды. Привязанную лодку водило из стороны в сторону, и о ее алюминиевые борта изредка приглушенно ударялись сносимые течением ветки. Прекратившийся было снег вновь обильно посыпался из дырявого мешка тучи, стирая последнюю позолоту с лиственниц.
Чай вскипел, и мы перекусили. Витя еще раз обшарил лодку, окончательно удостоверился, что единственным нашим движителем будут весла, отвязал конец, и мы опять закружились, подхваченные рекой.
По-новогоднему крупные хлопья снега, как парашюты десанта неисчислимой армии, плавно опускались на медленно движущиеся берега и на неподвижную темную воду, в которой беззвучно исчезали.
Мы, не сговариваясь, инстинктивно стараясь не шуметь в этой нисходящей белой тишине, поставили весла в уключины и лишь изредка подгребали, удерживая «Прогресс» на середине реки.
Становилось холодно. Витя поднял брезентовый верх лодки и под этой довольно драной крышей вновь зажег примус — на этот раз для тепла. Я остался снаружи и взялся за весла, намереваясь одновременно и согреться, и по мере сил приблизиться к дому. Сначала я сделал несколько пробных гребков, и массивная лодка медленно пришла в движение. Струи зажурчали у ее носа, а после хода весел крохотные черные водоворотики отбежали в стороны. Капли падали с алюминиевых лопаток, прошивая поверхность реки все удлиняющимися стежками.
Я взял такой темп, чтобы не мерзнуть, но и не уставать.
Все берега и сопки стали чисто-белыми от снега, лишь мокрым асфальтовым шоссе чернела река. Влажный снег лип к моей суконной куртке, собирался на сгибах рукавов, таял и чернел. Низко над рекой, бесшумно и медленно взмахивая крыльями, пролетела огромная белая птица, почти невидимая в густом снегопаде, и, покрутив большой круглой головой, внимательно посмотрела на меня желтыми глазами. Через мгновение полярная сова неслышно растворилась за кормой.
Птицу видел и Витя.
— Явилась, — пробурчал он из-под брезента, — зиму почуяла. Пощупает она теперь моих куропаток.
Медленно, вместе с падающим снегом опускались сумерки. Река уже не выдерживала льющегося сверху мягкого потока, не могла больше растворять его холодные хлопья. По воде поплыли русалочьими призраками сероватые покрывала нетающего снега.
Далекая сопка за кормой — мой ориентир — скрылась за белой пеленой, я сбился с курса, и лодка царапнула бортом прибрежный ивовый куст. Рядом приглушенно стучал ручей. Значит, до станции еще шесть километров.
Посредине реки чернел одинокий кол.
— Греби к нему, сетку снимем, — раздался изнутри лодки голос Вити. — А то река станет, и останусь я без сетки.
Я подгреб и взялся за верхнюю подбору. Три огромных, страшных, все в темно-зеленых и малиновых разводах, последние в этом году самцы кеты, запутавшиеся кривыми зубами в капроновых ячеях, медленно всплыли, пробив ватный слой намокшего снега. Рыбы не бились и не нарушали в свой предсмертный час покоя сумерек, безветренного снегопада и успокоенно-бесшумного течения реки.
Когда мы наконец добрались до метеостанции, была глубокая ночь. Облака расходились, и месяц сверкающей елочной игрушкой повис на крутом склоне темной сопки. Фиолетовое небо соприкасалось с освещенными лунным светом голубыми марями. Среди осевших от снега елей теплились огоньки метеостанции. Нас ждали.
Лодка, бесшумно раздвинув прибрежный слой намокшей травы, плавно коснулась берега. Я взял ружье, рюкзак, Витя — сетку и трех кетин, и мы пошли вверх по склону, прокладывая себе дорогу в первых в этом году сугробах.
Новогодняя ночь царствовала долго. Когда мы через час, отогревшись печкой и чаем, спускались вниз, к лодке, за заметенными снегом и лиственничными хвоинками, словно завернутыми в белые с золотым шитьем пелены, тополевыми досками, в звездной темноте совсем по-мартовски гремела капель, с шумом прошивая проседающий снег.
ЛИСИЦА
Заходящее февральское солнце тронуло розовым цветом безмолвную глухую белизну марей. К вечеру воздух становился неподвижным и звонким и, казалось, медленно превращался в огромный ледяной кристалл. Любые звуки в этой бесконечной морозной тишине были неестественными и болезненно громкими.
Закончив маршрут, я вышел из тайги и остановился метрах в трехстах от единственного на десятки верст жилья.
В холодном резонирующем воздухе хорошо было слышно, как Виктор, хозяин дома, со звоном колет дрова, напряженно выдыхая при каждом ударе, и как тонко, по-комариному, поет металл, когда в стылой древесине натыкается на каменной твердости сучок. Из избы слышалось позвякивание посуды и детский голосок — хозяйка кормила ужином сына.
Я подошел к дому. Виктор посмотрел на меня своими голубыми глазами, засадил топор в чурбак, порылся в кармане, воткнул в обледенелую бороду «беломорину» и закурил. Он долго и обстоятельно расспрашивал о сегодняшнем дне, о том, каких птиц я видел, а заодно интересовался, не заметил ли я где свежих звериных следов. Он был охотник, сезон подходил к концу, а лицензии оставались неиспользованными.
Я так же подробно и неторопливо старался отвечать ему, хотя московская привычка спешить сильно мешала. К тому же хотелось в тепло. Ремни крепления на левой ноге сильно давили, и к концу дня ступня окончательно замерзла и онемела.
Беседуя, я не мог оторвать взгляда от белой мари, от призрачных, обсыпанных инеем ивовых кустов, тянувшихся вдоль берега невидимой речки. Солнце садилось. Лиловая тень от сопки медленно ползла по равнине, укорачиваясь на пригорках и вырастая в лощинах. На далеких вершинах снег лежал опавшими лепестками розовых пионов. По белому полю двигалась золотая искорка. Она то замедляла ход, то совсем останавливалась, то резко бросалась в сторону — это лисица мышковала.
Я заметил ее, когда она легкой рысью выбежала из редкого лиственничника, достигла приречных ивняков и уже стала охотиться. От дома, стоящего на высоком склоне, хорошо были видны и бескрайний простор, и тени, скользившие по нему, и лисица посреди огромного белого пространства.
Я вытащил из-за пазухи бинокль и, стараясь не дышать, чтобы иней не осел на стекле, поднес его к глазам. Зверек, казалось, совсем не чувствовал холода. Он задорно трусил на грациозных, в черных чулочках лапах, останавливался, прислушиваясь, не пискнет ли где мышь. Лисица иногда поворачивалась и с лукавой улыбкой смотрела на далекое, а поэтому безопасное человеческое жилье. Я показал ее Виктору, а потом передал ему бинокль. Он внимательно осмотрел марь, бросил папиросу и не торопясь пошел к собачьим конурам, откуда вырывались редкие вздохи и клубы пара.
Звякнуло железо. Мой приятель пристегнул всех трех собак и вошел в дом. Через минуту он вернулся. В руках у него был карабин.
Проваливаясь в глубоком снегу, Виктор дошел до красного, как пожарная машина, «Бурана», сдернул с мотора заиндевелый тулуп, забрался на сиденье снегохода и вынул из кармана полную обойму патронов. Они торчали в металлической планке ровно, как зубья гребенки. Среди восьми желтых гильз были две зеленые — как два гнилых клыка. Витя почти беззвучно, с легким щелчком, похожим на тот, с которым ночью открывают замок, оттянул затвор, зарядил карабин и поставил его в снег, прикладом вниз. Оружие ушло в холодную белую перину по самый спусковой крючок. Черный зрачок дула смотрел в морозное, с высокой дымкой гаснущее небо. Витя дернул шнур стартера. Мотор задребезжал, как консервная банка, но не завелся.
Огонек на мари замер: лисица услышала первый враждебный звук и перестала охотиться. Я посмотрел на нее в бинокль, и мне показалось, что улыбка на ее мордочке из лукавой превратилась в грустную.
Сзади меня оглушительно заработал двигатель. Собаки, услышав звук, всегда связанный для них с погоней, выскочили из своих заснеженных домиков, рванулись к «Бурану», но обледенелые брезентовые поводки не пустили их. Тогда Мухтар, самый молодой, горячо и обиженно залаял. Витя не оборачивался на лаек, он смотрел на лисицу, которая трусила к спасительному лесу.
Кровавое пятно снегохода стремительно скатилось со склона сопки и превратилось в темно-красную точку, мчащуюся наперерез золотой искре.
Лисице оставалось пробежать около полукилометра до ближайших деревьев, но неожиданно она раздумала пересекать открытое пространство и решила спасаться в прибрежных ивняках, неширокой полосой петляющих вдоль реки.
Снегоход то стремительно несся по плотному насту, покрывающему речной лед, то медленно полз, тараня тяжелый рыхлый снег ложбинок. Машина остановилась, оглашая марь пулеметными трелями выхлопов. Витя на равнине потерял лису из вида и разглядывал ее следы на снегу, чтобы понять, куда ехать.
Сверху, от дома, мне хорошо было видно, как зверек в мелком прибрежном кустарнике пробирается к другому, более дальнему участку леса.
Витя наконец прочел следовую летопись и поехал вслед за убегающей лисой, подминая снегоходом чахлый кустарник. Я в бинокль видел, как он, привстав в «Буране» как на стременах, торопливо стаскивал из-за спины карабин. Бег лисы стал мечущимся, неровным, отчаянным. Роскошный ее хвост, как ненужная обуза, тряпкой болтался из стороны в сторону. Я опустил бинокль. С мари раздались тягучие выстрелы — там затвор карабина торопливо выплевывал все зубы: восемь золотых и два гнилых — зеленых.
Солнце село. Дальняя фигурка человека у бордового снегохода взмахнула рукой, в которой гаснущим пламенем взвилась уже мертвая лиса.
Витя вошел в дом, оставив карабин в сенях, чтобы оружие не запотело в тепле, сел у печки на пол, достал из одного кармана смятую пачку «Беломора» и закурил. Из другого кармана он вытащил россыпь патронов и вставил их в скобку обоймы. Получилась точно такая же гребенка, которую я видел у него в руках четверть часа назад. Только у этой все зубья оказались золотыми.
Приемник, стоящий на столе, передал позывные радиостанции «Маяк». Я вышел на улицу. Прямо перед крыльцом на проволоке, натянутой между деревьями для сушки белья, висела на толстой веревочной петле лисица. Охотник ждал, пока окоченеет тушка. Горячий, золотистый оттенок меха исчез, цвет его стал желто-серым. От сумерек, наверное. Белая манишка была вся залита темной кровью. Грустная улыбка так и осталась на лисьей мордочке. Я повернулся спиной к раскачивающемуся тельцу и вошел в дом.
ЯБЛОКИ
Петя, тридцатилетний молодой человек, выйдя на улицу из барака, взглянул на термометр и впервые в жизни увидел, что малиновая полоска окрашенного спирта сползла ниже отметки 50 градусов. Вспомнив рассказы Джека Лондона, он начал экспериментировать: плюнул и прислушался. Певец Заполярья писал, что при такой температуре слюна замерзает на лету. Но сейчас плевки в исходной консистенции долетали до земли, вернее до заледенелой дорожки. Петя не мог поверить, чтобы Джек Лондон ошибался, и решил, что эффект мгновенного замерзания слюны обнаруживается только при попадании ее на камень или металл. Все валуны были под снегом, зато рядом стоял огромный японский бульдозер. Петя старательно заплевал импортную технику, но желаемого результата все равно не добился и, расстроившись из-за недобросовестности великого американца, вернулся в барак. В теплом помещении толстенные стекла его очков тут же запотели. Он расстегнул овчинный полушубок, оттянул на животе свитер и протер им очки.
Сегодня Петя отпросился у начальства — бригадира геологоразведочного отряда и утром попутным лесовозом прибыл в поселок. Ему крайне необходимо было встретиться с заведующим продовольственного магазина. Под угрозой был его, Петин, авторитет. Неделю назад случился конфуз. В очередной раз в отряд пришел вездеход с продуктами. Ребята, как всегда, но уже без прежнего интереса, попросили Петю показать свой беспроигрышный трюк: назвать, не заглядывая в накладные, какой сорт сыра привезли на этот раз. Петя, работавший раньше в Минске сыроделом высшего класса, а теперь — сезонным рабочим геологической партии, сначала понюхал бледно-желтый кусочек, пожевал его и безапелляционным тоном объявил наименование продукта, сорт и процент жирности.
— Только недозрел немного, местная промышленность халтурит, — сказал он, дожевывая ломтик. — Ну, вы-то не заметите и так съедите.
И впервые за полгода ребята, уже привыкшие к этому всегда удачному фокусу, дружно и даже злорадно закричали, что продукт не того сорта, который назвал Петя. Тот страшно расстроился.
В Якутию, к геологам, Петя попал случайно. В разговорах с товарищами он часто упоминал слова Толстого о том, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Из этого умудренный жизнью геологический народ сделал верный вывод, что Петю в Минске заела жена. И действительно, он, не выдержав вечных ссор, истерик, обид, бежал сюда, в Якутию, которую считал краем света, бежал от любимой дочки, работы, на которой его ценили, и двухкомнатной квартиры. Он часто говорил, что ему надо потеряться здесь, в глухомани.
Хотя в партии собрался пестрый народ и господствовали грубые нравы, Петю из-за совершенной неприспособленности к жизни в таежных условиях не обижали. Здесь были жестоки к людям хитрым, подлым или отъявленным эгоистам. Петя же был застрахован от всех конфликтов еще не выветрившейся романтичностью, полной наивностью и потрясающей близорукостью.
Петино существование в партии началось просто и незаметно: его определили в «помогайлы» — подсобные рабочие, так как нужной здесь квалификации у него не было, а сыроваренный завод среди болот, сопок и таежных дебрей строить пока не собирались. И стал Петя таскать на участки, расположенные в нескольких километрах от лагеря, инструменты: ломы, кайлы и лопаты.
На пятый день службы ему доверили перенести с базы в тайгу более сложный инструмент — ручной бур. Петя задерживался. Бригадир послал парнишку порасторопней сбегать на базу (до нее было около полукилометра), найти бывшего сыродела, поторопить его, а заодно сделать внушение за медлительность. Запыхавшийся рабочий вернулся через пятнадцать минут и доложил, что «новенький» вышел к ним, в бригаду, полтора часа назад. Без бура народ простаивал, и все двинулись на поиски Пети. Инструмент, лежащий в тайге недалеко от тропы, нашли сразу. А Петю искали весь день и только к вечеру заметили дымок, тянувшийся из-за мари. Трое пошли туда и через два часа привели бывшего минчанина. Он, близоруко щурясь, осторожно нес в руках, как бесценное сокровище, свои очки. Лицо его было в крови, оба глаза совсем заплыли.
Петя рассказал, что с ним приключилось. Когда он нес свой бур, через тропу перелетела пара серых птиц с рыжими хвостами, размером чуть крупнее дрозда. Ребята, слушая его рассказ, без труда узнали кукш. Сыродел у себя в Минске никогда не видел таких милых созданий и завороженно смотрел, как они с томным кошачьим мяуканьем плавно кружили среди деревьев. И тут он сделал единственную ошибку, которая стоила рабочего дня целой бригаде, — сошел с тропы, чтобы получше разглядеть забавных птичек, так как очки со стеклами плюс десять позволяли изучать ему орнитофауну Якутии только с близкого расстояния. Когда кукши улетели, он хотел вернуться туда, где его ждал бур, но не смог найти ни дороги, ни транспортируемого инструмента. Блуждал по тайге он долго, но все время ходил по кругу и удалился от лагеря лишь километра на три.
Он перебрался через лесное болото, устал, промок и остановился отдохнуть и посушиться. Эта задержка его и спасла. У него оказались спички, хотя Петя не курил. Ребята из партии засунули ему в карман штормовки коробок. Спички, правда, отсырели при форсировании болота, и их пришлось сушить. Вот тут-то Петю и заели комары. Репеллент, которым он намазался в лагере, был смыт болотной водой. Накомарник он снял еще на тропе — сетка мешала рассматривать кукш. Петя сложил большую кучу хвороста и через каждую минуту пробовал зажечь спичку. Но они сохли медленно, а комары, казалось, подлетали со всей Якутии. Петя сидел, натянув штормовку на голову, спрятав ладони в рукава, и часто вздрагивал от укусов. Зеленый цвет куртки и брюк превратился в блестяще-серый от сидящих впритык друг к другу алчущих крови насекомых. Петя не мог долго скрывать голову, так как, защищая ее, он оголял живот и поясницу, которые сразу же превращались в общественную столовую на тысячи посадочных мест. Руки и лицо стали красно-бурыми от крови и раздавленных комариных тел.
Спички сохли около часа. У обессиленного этой инквизиторской пыткой Пети возникли галлюцинации. На ближайшей лиственнице появился огромный, с глухаря, комар. Он стал скалить на Петю страшные зубы, жутко хохотать и приговаривать басом, почему-то похожим на голос Петиной жены, хотя у нее было визгливое сопрано. «Вот погоди, — бубнило страшное насекомое, — вечер придет, тут я тебя и съем!» Испуганный Петя протирал кровавыми руками стекла очков, но комар не исчезал.
Наконец просохшая спичка зажглась. Кровососы остались с подветренной стороны, на свежем воздухе, а Петя укрылся в едком дыму костра. Комары терпеливо ждали, когда он задохнется и вынырнет из серых клубов дыма, чтобы глотнуть кислорода. Но Петя терпел, и слезы промывали на его окровавленных щеках дорожки. Через четверть часа Петя огляделся. Комар ростом с глухаря исчез, зато метрах в двадцати от костра стоял, опустив рогатую голову, северный олень и печально смотрел на друга по несчастью. Он тоже искал в дыму спасение от комаров. То, что олень действительно существовал, а не привиделся Пете, подтвердила спасательная группа, которая его обнаружила. Ребята потом жалели, что подошли слишком шумно и спугнули зверя. Всем давно надоела тушенка.
Хотя Петя чуть не погиб, свое приключение он воспринял без лишнего драматизма. Но новые товарищи хорошо усвоили, что за ним надо присматривать. Два дня он отлеживался в лагере. Опухлость на его физиономии прошла, настроение улучшилось, и сыродела продолжали эксплуатировать, ограничивая пределами лагеря.
Прошел месяц, и комариное происшествие забылось. Петя постепенно освоился в отряде, больше не терялся, его безбоязненно стали отпускать за несколько километров от базы, правда взяв с него обещание, что он будет передвигаться только по дороге.
И наконец, однажды осенью взяли в многодневный маршрут.
Пять человек должны были пройти около сорока километров по таежной тропе, чтобы в намеченной начальством точке взять геологические пробы. Петю разбудили еще затемно, велели сходить в столовую и собрать продукты. Он, старавшийся впредь не попадать впросак, быстро и грамотно сложил рюкзак так, чтобы вся тяжесть равномерно распределялась на спине. Он проявил инициативу, положив немного хлеба, чая и сахара в боковой карман, чтобы подкрепиться в дороге. Туда же он сунул и сливочное масло, упакованное в железную банку из-под зеленого горошка.
Через час ходьбы начальник остановился, долго изучал карту, а потом, свернув с тропы, пошел прямо сквозь тайгу вверх по склону.
— Через сопку перевалим, а там уже рядом, — пояснил он. — Это лучше, чем пятнадцатикилометровый крюк по тропе делать.
Чистым редким лиственничником идти было легко, ребята взбирались по склону без остановок, и начальник устроил привал только перед тугой стеной кедрового стланика. Пете показалось, что дальше идти будет легче. Но когда, перекурив, они полезли сквозь упругие темно-зеленые заросли, он понял, что ошибался. Распластанные по камням, прижатые к земле сосны настолько переплелись стволами, что представляли собой почти непреодолимое препятствие.
— «Линия Маннергейма» пошла, — сказал один пожилой работяга, еще помнивший войну с финнами.
Кусты росли настолько плотно, что приходилось все время шагать не по земле, а по стволам и ветвям, поминутно рискуя сломать ноги. Через час они преодолели пятьсот метров хвойной зоны. Петя последним выбрался из этого ада и застал всю группу лежащей на рюкзаках. Геологи тяжело дышали и жадно курили. Дальше путь был свободен: выше стланик не рос, и до самой вершины шла каменистая осыпь.
— Армянское радио спрашивает, — сказал между двумя затяжками начальник, — может ли человек снова превратиться в обезьяну? Армянское радио отвечает, — продолжал он только что придуманный анекдот, — может, если его на неделю посадить в кедровый стланик.
Ребята устало засмеялись.
Лезть вверх дальше по огромным валунам было легче, чем пробираться среди сосновых кустов, но на перекур пришлось останавливаться еще раз. Народ отдыхал, распластавшись на камнях, лишь Петя, посидев несколько минут и чуть отдышавшись, подошел к огромному полутораметровому, поросшему зеленоватым лишайником валуну. Он заметил, что камень лежит неплотно, и стал раскачивать глыбу. Через минуту гранитный монолит сорвался и покатился вниз, глухо бухая, выбивая бледно-розовые искры и сдирая с камней лишайники. Валун, тяжело прыгая, медленно разогнался, вломился в стланик и утонул в зеленых зарослях приземистой ползучей сосны. Запахло жженым кремнем. Кто-то, наблюдавший за Петиными забавами, лениво ругнулся. А он, зачарованный грандиозным рукотворным обвалом, смотрел сквозь свои фантастические диоптрии на еще колеблющиеся кусты.
Наконец дошли до перевала. По ту сторону сопки уже лежал снег. Начальник приказал вырубить крепкие палки, и люди, опираясь на них, стали медленно спускаться по плотному, прихваченному ночными заморозками насту. Кирзовые сапоги — не альпинистские ботинки с триконями, поэтому ребята шли по скользкому склону медленно, осторожно, след в след, выбирая путь поближе к одиночным кустам кедрового стланика или каменным березам. Идущий первым старательно выбивал пяткой в плотном снегу ступеньки. Каждый следующий углублял их.
Пете, плетущемуся в хвосте каравана, досталась хорошо утоптанная снежная лестница. Но и это не помогло. До конца снежника оставалось метров пятьдесят, когда он поскользнулся. В группе не страховались — не было веревок, а потом, никто не знал, как это делается. Поэтому Петя беспрепятственно заскользил по склону, умело объезжая кусты, за которые еще можно было зацепиться, и своих товарищей, протягивающих ему руки. И хотя все кричали, чтобы он тормозил палкой, Петя бережно прижимал к груди корявый сук и с чуть виноватой улыбкой, поблескивая очками, набирая скорость, несся вниз. Весь в снежной пыли, он хорошо вписался в поворот, миновав последнюю березу, за которую еще можно было схватиться, и скрылся из глаз. Ребята заторопились вниз выручать товарища. Первым до поворота дошел начальник, и по выражению его лица остальные геологи поняли, что и на этот раз с Петей все обошлось. Он копошился внизу, в зелени кедрового стланика, почесывая ушибленные бока и рассматривая самое ценное, что у него было, — очки.
Ребята, пройдя по следу Пети, еще раз подивились его везению. Траншея, обозначавшая траекторию его спуска, ловко обходила два острых валуна и торчащий ствол сломанной камнепадом березы. У нее-то и развели костер. Петя сидел рядом с огнем, зализывая ободранные руки. За чаем все забыли о Петином спуске, но тем не менее продолжали его ругать. Дело в том, что в куче пустых консервных банок, лежащих в лагере, сыродел умудрился найти ту, из которой ленивый повар каждое утро плескал на поленья соляр, чтобы побыстрее разжечь костер. В нее-то Петя и запаковал масло. Выяснилось, что пищевой продукт хорошо впитывает горючее. Но после тяжелых переходов все зверски хотели есть и поэтому, ругая неудавшегося самоубийцу, жадно поглощали пахнущие соляром бутерброды.
Люди разбрелись поискать подходящее для лагеря место. Начальник тоже пошел в тайгу, взяв с собой Петю, — после сегодняшнего происшествия он боялся оставлять его одного. У ручья они набрели на небольшое заброшенное охотничье зимовье и вошли внутрь. Избушка была старая, с просевшей крышей и рыжей от ржавчины печкой. Было ясно, что ее не удастся отремонтировать и придется жить в палатке. Петя, затюканный ребятами, особенно следил за собой. В зимовье он сумел не свалить дырявую, красиво изъеденную ржавчиной железную печную трубу и не задеть грозивший обвалиться потолок.
У начальника поднялось настроение. «Если простые слова на этого вахлака так действуют, то надо почаще их ему повторять», — подумал он и вышел из избушки. Следом осторожно с видом ученика, отвечающего на «пять» и нечаянной оговоркой боящегося все испортить, появился Петя. Он, осмелев, проявил инициативу и, ловя одобрительные взгляды начальника, высунув от старания язык, закрыл за собой дверь. Та, невредимо простоявшая, наверное, лет двадцать, от его бережного прикосновения замерла, а потом медленно упала, вырвав из косяка проржавевшие гвозди. Начальник посмотрел на Петю как на обреченного и молча сплюнул.
Но Петя выжил.
О начале своей таежной карьеры Петя вспоминал в ожидании, когда же откроется магазин.
Директор сначала никак не мог понять, что же все-таки он хочет, этот странный посетитель. Партия заказанный сыр получила? Получила. И по госцене, которая значится в накладных. Ну, а сорт... Сорт, может быть, и другой, но цена — три рубля ноль-ноль копеек за килограмм. Так что все без обману, даже ОБХСС не придерется.
Петя долго втолковывал, что он вовсе не из органов народного контроля, а просто борец за истину, за правильное определение сортности сыра. Директор выслушал его, недоверчиво покрутил головой, потом отвел борца в подсобку, отрезал от огромного желтого сырного круга ломтик и протянул ему. Петя попробовал и точно назвал сорт. Директор улыбнулся.
— Вообще-то я мог и не пробовать, — сказал испытуемый, — ведь в таких «блинах» расфасовывают только «Российский». — Улыбка сошла с лица завмага, зато в глазах загорелись азартные огоньки.
Он отвел Петю назад, в свой крошечный кабинет, посадил на стул и попросил подождать. Через несколько минут он появился, неся на листе серой упаковочной бумаги еще четыре ломтика. Через минуту Петя определил все сорта сыра, имеющиеся на складе, а восхищенный его талантами директор сам одним пальцем отпечатал на пишущей машинке бумагу, в которой говорилось, что такого-то числа, в такой-то отряд, такой-то партии было отпущено пять килограммов сыра «Российский», который в сопроводительных документах ошибочно именовался «Голландским». Печать и подпись директора магазина. Истина восторжествовала.
Петя бережно спрятал бумагу, удостоверяющую его еще не утерянную квалификацию мастера-сыродела, попрощался с завмагом и зашел в этот же магазин уже как все — через основной вход. Петя в благодарность бригаде, которая отпустила его добывать истину, купил три бутылки водки и пять килограммов редкого фрукта в зимней Якутии — розовых с мелким красным крапом яблок. Он насыпал плоды в рюкзак, сверху положил бутылки и поспешил к бараку. Там он попросил у знакомого телогрейку, запихал внутрь ее яблоки и уже в таком теплоизоляторе снова положил их в вещевой мешок. Легкомысленно отказавшись от горячего чая, он взял свои лыжи и пошел домой, в отряд.
Утром до базы его довез лесовоз, а сейчас он двинулся более короткой, прямой дорогой. Надо было пересечь по старой лыжне марь, а там уже до лагеря рукой подать. Сыродел торопился: мороз к вечеру крепчал, и он беспокоился, как бы не замерзли яблоки. Петя шел и думал о тепле избушки, в которой обитала бригада, о чае, который там всегда был горячим, о своих товарищах, которые отпустили его для того, чтобы он доказал себе и им, что он все-таки прав, а заодно привез пару «пузырей».
Он немного жалел, что вокруг лишь снежные поля и нет твердых предметов, на которые можно было бы плюнуть — при такой холодине наверняка бы возник эффект, описываемый Джеком Лондоном. Но Пете и без экспериментов приходилось останавливаться — выдыхаемый воздух от мгновенного образования мельчайших ледяных кристаллов с легким шелестом оседал на шапке, воротнике, а самое главное — на очках. Путешественник снимал варежки и соскребал иней с полусферических стекол. От тепла рук он таял, на очках оставалась тонкая пленка воды, которая на морозе мгновенно превращалась в лед и мутнела, как катаракта. Из-за нее Петя прошел поворот к лагерю, приняв сослепу за лыжню старую заснеженную дорогу, по которой уже несколько лет никто не ездил.
Садящееся солнце запуталось в редких елках на сопке, а на марь легли длинные тени от невысоких лиственниц. Петя в очередной раз снял очки, содрал со стекол иней, протер их выбивающейся из рукава полушубка серой сетью растянутого свитера и оглянулся. Поворота все не было. Он понял, что заблудился. Какое-то нехорошее чувство первый раз за всю жизнь здесь, в Якутии, появилось в душе Пети. До этого он думал, что самое плохое в жизни — его семейное существование — уже прошло. А сейчас он почувствовал, что смерть, та, о которой он часто думал в Минске, где-то рядом, в морозном притихшем лиственничнике.
Но Петя недаром кормил комаров, скользил по снежнику и еще несколько раз другими способами покушался на свою жизнь. Он твердо осознавал, что надо надеяться только на самого себя и продержаться до утра. В том, что его будут искать, он не сомневался. Приступ страха и отчаяния прошел, и Петя начал трезво размышлять. С дороги он сбился, совсем стемнело, обратную лыжню в тайге он не найдет. Придется ходить по краю мари. Ее граница — сплошная стена деревьев, которые будут различимы даже ночью. Марь, как ему говорили, замкнутая, овальная, похожая по форме на огромный стадион. Его на ней найдут. Самое главное — не уйти в тайгу и не останавливаться. И Петя неторопливо, экономя силы, пошел вдоль опушки леса, стараясь держать такую скорость, чтобы не уставать и не задыхаться.
Что происходило дальше, Петя помнил смутно. Совсем стемнело, и на синем снегу растворились черные тени деревьев. С этого момента он не делал остановок, чтобы очистить очки от инея — в темноте он все равно ничего не видел, лишь слабо различал, скорее чувствовал опушку леса. Петя считал шаги и на счет «двадцать» чиркал по снегу концом лыжной палки — чертил стрелу, показывающую спасателям, куда он движется.
Среди ночи ему послышались выстрелы — ребята указывали, куда надо идти, и он чуть было не пошел на звуки далеких хлопков. Но понял, что чувства его обманывают, когда услышал стрельбу уже с другого конца. Петя не поверил призрачным звукам, этим столь причудливо изменявшимся манящим голосам сирен, и продолжал свой замкнутый путь по мари. А выстрелы действительно были. В бригаду с базы по рации сообщили, что Петя вышел, и его товарищи, поняв, что он снова потерялся, открыли огонь. Но в это же время стали палить из карабина и на базе, ожидая, что Петя вернется к ним.
Ребята из лагеря, расстреляв две обоймы, поняли, что Петя окончательно заблудился и сам не выберется. Трое, одевшись полегче, в расчете на быстрый бег, бросив в рюкзаки свитера, фонари и термосы с горячим чаем, встали на лыжи и пошли выручать товарища. Через полчаса они достигли злополучной мари. На ее опушке они сразу же наткнулись на столь хорошо утоптанную лыжню, что казалось, ее готовили для международных соревнований. При свете фонарей обнаружились и стрелы на снегу. Они догоняли друг друга и сливались в одну сплошную линию. Тогда ребята поняли, что Петя с вечера описывает круги по мари, идя уже в который раз по своему собственному следу.
Отряд спасателей вскоре настиг Петю. Сыродел медленно и неуклюже, как бы нащупывая дорогу, шел по лыжне. Когда его позвали, он не откликнулся, продолжая медленно двигаться вперед, перебирая негнущимися ногами. Через каждые несколько метров он останавливался и чертил на снегу палкой. Когда ребята заглянули ему в лицо, они поняли, почему у него такая неуверенная походка: толстенные стекла очков были покрыты сантиметровым слоем инея. Петя, не отвечая на расспросы, что-то беспрерывно бормотал себе под нос. Они прислушались и поняли, что он считает, а на счет «двадцать» останавливается и чертит на снегу стрелу.
Спасатели больше не приставали к Пете с вопросами. Они достали из рюкзака длинную веревку и привязали этого живого робота за пояс. Один пошел вперед, таща Петю на буксире, другой подталкивал его сзади, следя, чтобы он не упал. Но тот еще уверенно держался на ногах. Правда, он иногда делал попытки остановиться и чиркнуть палкой по сугробам.
Путешественник стал приходить в себя в избушке у печки. Он пошарил в кармане и достал какую-то бумажку. Геологи подошли к керосиновой лампе и увидели, что это записка директора магазина, в которой тот утверждал, что сыр действительно был «Российским».
— Ребята, — сказал слабым голосом отогревающийся Петя, близоруко щурясь и бережно гладя оттаивающие очки, — а я вам яблочек принес. В рюкзаке.
Они развязали рюкзак, и из телогрейки на стол, гремя, посыпались замороженные до каменной твердости яблоки. Нашлись там и три бутылки водки. Все они лопнули, а внутри каждой была белая сосулька, по форме похожая на артиллерийский снаряд. Ребята положили эти куски льда в кастрюлю, накрыли их крышкой и поставили в холодок под нары, чтобы пары спирта при оттаивании не улетучились.
ЛУЧШАЯ НОЖКА ПАРИЖА
Сквозь сладкую дрему я слушал, как приятный мягкий баритон радио «Свобода» клеветал на Союз. Под интимно-доверительный голос заморского диктора я медленно, как на сеансе гипноза, погружался в сон. Неожиданно Витя толкнул меня в бок.
— А что вот это слово означает? — И он, водя пальцем по страницам книги, обложка которой была обернута в крафтовую бумагу, прочитал по слогам: — Эксги-би-ци-о-низм.
Пришлось, оттолкнув сладкого античного бога, возвратиться на грешную землю — в зимовье дальневосточной тайги.
Из стеклянного жерла керосиновой лампы поднимались спирали копоти и, кружась, прилипали к потолку, рисуя на нем черную розу. Железная печка негромко подпевала заокеанскому диктору, малиновые сполохи змеились по бревенчатой стене. С потолка изредка падали капли воды: от тепла на крыше подтаивал снег. Воздух в зимовье нагревался быстро, но неровно. Внизу, а именно на полу (а на самом деле — на каменистой земле), лежал лед, а под потолком температура поднималась, наверно, за тридцать градусов, так что пришлось открыть толстую тесаную дверь и занавесить вход мешковиной. Ткань быстро покрылась инеем и стала похожа на седую шкуру невиданного зверя.
В углу драгоценными меховыми комочками свернулись шкурки добытых Витей соболей. Сам охотник сидел у керосиновой лампы и листал книгу, захваченную мной сюда, в глухомань, чтобы здесь, в зимовье, читать ее долгими февральскими вечерами. Но с непривычки я так выматывался на маршрутах, бродя по сугробам, что даже такое интересное издание не могло меня увлечь и досталось более выносливому Вите. Мой товарищ медленно левой рукой переворачивал страницы книги, насыщенной графиками, таблицами, фотографиями и рисунками. Правую, раненую, перевязанную руку он бережно качал, как будто баюкал ребенка. Мертвая виновница Витиной травмы — огромная серая сова — тоже была в избушке. Но она лежала на полу, в холодке, дожидаясь, когда я сниму с нее шкурку. Сегодня Витя на своем «путике» — охотничьей тропе — нашел эту ночную хищницу, случайно попавшую лапой в капкан. Когда он освобождал птицу, сова когтями почти насквозь прошила ладонь охотника и заякорилась в ней. Витя, плохо знакомый с анатомией птиц, стал душить ее как млекопитающих — за горло. Проведя за таким занятием четверть часа, он наконец понял, что этим ничего не добьется. Еще столько же времени у него ушло на то, чтобы левой, свободной рукой снять из-за плеча спины карабин и взвести затвор. Расстрелянная в упор сова разжала лапу и освободила моего приятеля.
Сейчас участник схватки с пернатым хищником сидел у стола с четырьмя колотыми ранами ладони. В качестве обезболивающего, вернее, отвлекающего средства он попробовал книгу. И оно помогло. Витя, шурша страницами, запоем читал. Я объяснил Вите еще пару терминов и, подумав о количестве выпитого за ужином чая, опустил ноги, ступнями нащупал шлепанцы — головки обрезанных валенок — и отодвинул штору из мешковины, за которой густела морозная синева. Свет керосиновой лампы высвечивал желтые янтарики блестевших снежинок, бледные изумруды глаз Ката, лежащего у порога, и вороненый отблеск висевшего снаружи карабина. Я шагнул через порог.
Дрожащие звезды, казалось, звенели в кобальтовом небе. Ослепительная луна пробивалась сквозь частокол низкого лиственничника. Через полуприкрытую дверь желтовато светились недра зимовья, слегка размытые клубящимся у порога туманом. Другая слабая струйка пара поднималась из собачьей конуры, где спал Рыжик. Огромный сугроб лежал на крыше, и края его мягко свешивались вниз. Из трубы зимовья изредка вылетало черное на лунном фоне облачко с одинокой, красной, торопливо гаснущей искрой и медленно уплывало от избушки, а густо-фиолетовая тень скользила за ним по голубому снегу.
Трикотажная продукция дружественного Китая не позволяла при февральском морозе долго любоваться ночными красотами, и я, закончив и это занятие, шагнул к зимовью и, отодвинув мохнатую мешковину, бросился на теплые нары, туда, где лежали Витины трофеи — две шкуры северного оленя, одна серебристая, другая бурая, и накрылся огромным овчинным тулупом.
— Что, холодно? — оторвавшись от книги, спросил Витя. — Сейчас градусов сорок. А в теплом зимовье-то хорошо. А помнишь, как мы его вместе строили? Как медведь у нас лопату украл и рубероид разодрал? Вот и течет теперь крыша-то. А как у нодьи под пологом спали, помнишь? А ведь под ним даже в такой мороз, как сейчас, можно в лесу переночевать. Лишь бы сильного ветра не было. Я однажды почти неделю жил в тайге у нодьи. Правда, не зимой, а поздней осенью. И не один, — добавил Витя, отложив книгу. — Хочешь, расскажу?
Я согласился. Предчувствуя, что повествование, как всегда, будет долгим, я взял инструмент и стал обрабатывать сову.
— В каждой организации есть идиоты, — просто начал Витя. — Особенно плохо, когда идиот — начальник партии. Вот такой товарищ и отправил меня — тогда рабочего якутской геологической партии — и одну молоденькую сотрудницу — инженера — осенью на маршрут, за тридцать километров от базы. Видишь ли, начальство все лето чесалось, а осенью засуетилось. Стали бабки подбивать, и вдруг оказалось, что надо получить данные именно из этой точки. А уже конец сентября, холодные обложные дожди идут без продыху. Но надо, значит, надо. Взяли мы рюкзаки, инструмент и потопали, куда нас послали, я — шурфы бить, она — образцы из них описывать. Целый день шли под мелким дождиком и к вечеру были насквозь мокрые. Лагерь разбили у ручья. Я пару сухих елок срубил и разложил костер. Напарница моя — у нее, кстати, редкое имя было — Элиора, но мы ее просто Лелей звали, у огня села, стала ужин готовить. А от ее мокрой телогрейки пар так и повалил. Но ничего, не ноет, геологини — они ко всему привычные. Я развязал чехол палатки и чуть не матернулся: наш завхоз подсунул мне именно ту, у которой ребята еще летом полстены прожгли — искра от костра попала. Моя напарница как увидела, в чем нам предстояло жить, так еще больше погрустнела. Я было тоже приуныл, но вспомнил, как охотники мне рассказывали про нодью — костер из длинных бревен — и как у него под пологом можно вполне удобно и тепло устроиться, и решил попробовать — вдруг получится. Распорол я ножом палатку, так, чтобы вышло прямоугольное полотнище, и приладил его у костра. Три сухих бревна у него вдоль положил, два — рядом, одно вверху, а потом горящих углей из костра между ними рассыпал. Лапника нарубил и под полог бросил. Тут и чай поспел. Поужинали мы, значит, и я в этот «дом» залез. Там сыровато было — лапник от дождя весь мокрый. Но тепло, и даже очень. Бревна занялись, а наклонный брезент прямо на меня жар отражает. Палаточная ткань нагрелась так, что видно, как сверху на нее капли дождя падают и тут же высыхают. Я разулся, телогрейку и брюки снял и остался в одних тренировочных штанах и рубашке. И Леле говорю, чтобы она тоже под полог шла, мол, тут очень даже уютно. Она сначала думала, что я ее для чего другого зазываю, а потом видит, что у меня намерения вроде как мирные и разделся я вовсе не от страсти, а от тепла. И полезла под брезент-то. Посидела там минут десять. А сухие еловые стволы горят ровно, жарко, без дыма. И поняла Леля, что это тепло надежное, долгое, не как от костра, а скорее как от печки, и мы с ней не просто в тайге находимся, а вроде как в помещении. И начала Леля осваиваться, располагаться по-домашнему. Сначала сняла телогрейку. Я смотрю^ у нее рубашка тоже насквозь мокрая. Леля то одним боком к костру повернется, то другим, чтобы, значит, одежда побыстрее сохла. Ан нет, хотя и жарко, а рубашка влажная, неуютно в ней. Она подумала и попросила меня под самой брезентовой крышей веревку натянуть. Ну, привязал я веревку. И начала тут Леля раздеваться. Брюки сняла, рубашку, колготки и все это хозяйство на веревке развесила. А сама осталась только в трусиках и лифчике. Из полиэтиленового мешка тонкий свитерок достала — единственную сухую вещь. Я думал, она его наденет, но Леля свитерок на лапник положила — чтобы не кололся. Посидела так с минутку, пощупала одежду, что на ней осталась, — тоже мокрая! Потом на меня так внимательно, оценивающе посмотрела и говорит своим нежным голосом: «Витя, о любви — ни слова!» — все остальное тоже сняла и тоже сушиться повесила. А девке чуть больше двадцати. Нельзя сказать, чтобы красивая была, так, просто симпатичная. Но фигурка! Я таких больше не встречал! Представляешь ситуацию? Осенняя ночь где-то в Якутии, дождь по брезенту над нами шуршит, а я смотрю на Лелю, изучаю ее незагорелые места и стараюсь спокойно курить. А она обо мне и не думает. Только иногда привстанет — бельишко свое щупает, проверяет, как оно сохнет, да иногда свитерок под собой поправит, видно, колется все-таки лапник-то.
Дрова медленно горели — до самого утра тепло было. Я только раз вставал нодью подправить. Но я в ту ночь не заснул. А она спала. Да, тяжело мне было... Как это по-научному называется? — И Витя полистал заветный томик. — Ага, вот. Эксгибиционизм — это, значит, у нее, а вуйяеризм — это, значит, у меня. Эх, Леля, Леля, — вздохнул Витя и, засунув в печку кряжистое полено, снова склонился над книгой.
А я, сняв шкурку с совы, вымыл руки и снова задремал, убаюкиваемый клеветой транзистора. Витя периодически расталкивал меня, требуя разъяснения непонятных слов. Для краткости и доходчивости, экономя время на сон и ленясь из-за дремоты, я употреблял ненаучные термины, следя из-под полуприкрытых век, как над лампой на потолке расцветает бархатно-черная роза.
Удивительна связь времени, пространства и человеческой памяти! Сколько раз ловил себя на мысли, что какую-нибудь тропу в дальневосточной тайге, горах Тянь-Шаня или Алтая, в Большеземельской тундре или оренбургской степи я знаю лучше, чем центр родного города. И от этой мысли почему-то становилось радостно и жутковато, от ощущения «идеи» того места, которое, реальное, на самом деле лежит где-то за тысячи километров, а может быть, уже уничтожено золотодобытчиками, геологами, военными, строителями или просто лесным пожаром. Места, где тебе известно все — вплоть до поворота с грунтовой дороги у столба с разбитым изолятором, а дальше, по тропе у третьей развилки, там, где ориентиром служит куст черемухи — редкость и поэтому хорошая примета в сплошной лиственничной тайге, а через полкилометра начинается марь с озерком, на котором я безуспешно искал гнездо гагары, но зато застрелил охотского сверчка.
Такие мысленные «видеозаписи» почему-то намертво врезаются в память, и поневоле удивляешься, как это ты с первого раза запомнил детали сложнейшего маршрута ночного перехода или легенду к карте, нацарапанной на мездре пачки «Беломора» простым карандашом с торчащими деревянными заусенцами вокруг тупого грифеля. Карандаш, как водится, держит местный охотник, он же поясняет и легенду к самодельной карте, спотыкаясь в своем повествовании, как на бесконечных кочках, на матерных словах.
Так же легко усваиваешь (что невозможно сделать в Москве!) очень сложно «плавающее» расписание автобусов или сроки сизигийных приливов[20].
В любых местах, даже в тихих поселках, куда орнитолога забрасывает полевая жизнь, впечатления (а значит, и время) в первые несколько дней чудовищно уплотнены. Наверное, за этот стремительный калейдоскоп событий, за ощущение концентрированной жизни геологи, зоологи и моряки любят свои профессии.
Но стоит съездить в одно и то же место более двух раз, как свежесть впечатлений тускнеет и все становится по-домашнему обыденным и привычным. С бытовой точки зрения жизнь, несомненно, оказывается более легкой, но зато менее интересной. А на Дальний Восток я ездил более десяти лет и уже давно на те маршруты, куда в первый год выходил в энцефалитке, болотных сапогах, с полной боевой выкладкой (запас еды на двое суток, котелок, много патронов с различными номерами дроби, индивидуальная аптечка, ружье), сейчас отправлялся только в ковбойке, легких брюках и кедах. Из провианта я брал у хозяйки бутерброд с красной икрой или котлету из лося, которые съедал тут же, на крыльце. Единственная экспедиционная вещь, всегда сохранявшаяся, несмотря на рудиментацию остальной экипировки, это бинокль. И в Москве, даже через неделю после возвращения из экспедиции, видя далекий силуэт птицы, неопределимый невооруженным взглядом, я отработанным цепким движением хватал себя за грудь, ожидая ощутить пальцами волнообразную пупырчатую тяжесть оптического прибора. Такая полная адаптация к Дальнему Востоку, исчезновение чувства новизны, а также то обстоятельство, что зимой там проводилось очень мало орнитологических исследований, и вызвали желание поехать туда в суровый сезон, в знакомую и одновременно другую страну.
А кроме того, каждый год во время моих экспедиционных скитаний я неизменно слышал одну и ту же фразу: «Эх, зима бы скорее!»
Ее вызывали и сомлевшие от полуденной жары бескрайние мари, и приступы аппетита у комариной стаи, и покрытое смазкой и опушенное пылью висевшее на стене ружье, и ожиревшие, спящие в холодке собаки.
И я решился. Моя телесная конституция в то время была скорее летней, чем зимней, и поэтому рюкзак, который я взял с собой, был забит в основном теплыми вещами. Я ехал к Вите — моему хорошему приятелю, жившему на метеостанции, и все снаряжение, вплоть до лыж и ружья, он обещал выдать мне на месте. Кроме своей одежды я вез из Москвы подарки: несколько бутылок марочных вин, пару коробок шоколадных конфет, хорошего сыру и колбасы. В рюкзаке, конечно, также была и книга, та, которая читается с неослабевающим интересом, — коротать досуг долгими вечерами. Я взял с собой только что изданный томик, добытый по великому блату знакомым медиком.
Когда я, по-зимнему экипированный (рюкзак, овчинный полушубок, офицерские сапоги, утепленные искусственным, «рыбьим» мехом, огромная собачья шапка), появился в Домодедове и снял из-за жары в здании аэропорта головной убор, обнажив очень короткую (из гигиенических соображений) стрижку, милиционер специального контроля почему-то начал обследовать меня с особой тщательностью. Пассажиры, стоящие в очереди за мной, с любопытством рассматривали небольшую коллекцию вин, запасы шоколадных конфет, две пары китайского белья (не предназначенного для подарков) и другие интимные предметы мужского туалета. Сержант самозабвенно углублялся в недра моего рюкзака в поисках жидкостей, «могущих самовоспламениться в процессе полета», а также холодного и горячего оружия и добрался-таки до книги, предназначенной для чтения в тайге. Томик, положенный на стойку рядом с кальсонами, дрогнул от грубого прикосновения представителя власти. Открылась обложка, обернутая крафтовой бумагой, бесстыдно обнажив титульный лист с надписью «Общая сексопатология». Милиционер наугад раскрыл книгу (я лишь заметил, что на той странице была фотография пожилого гермафродита) и в тот же миг забыл обо всем на свете. Очередь беспрепятственно потекла мимо меня, запихивающего обратно в рюкзак вино, конфеты и китайский трикотаж, мимо зарумянившегося милиционера, судорожно перелистывающего страницы. Я давно затянул последний ремень рюкзака и тактично ждал, не смея прерывать работника МВД. Лишь объявление, что посадка на мой рейс заканчивается, заставила сержанта со вздохом отдать заветный том.
С приключениями я все же добрался до метеостанции — одинокого домика у озера, где жила семья моего знакомого. Витя, его жена Валя и их сын Ванька с таким же интересом, как московский милиционер, рассматривали привезенные подарки, а Витя, кроме того, тут же увлекся сексопатологическими картинками.
Через полчаса, вспомнив о госте, он отложил томик и посмотрел на мои теплые вещи. Особенно его позабавили утепленные «рыбьим» мехом сапоги, совершенно не выдерживающие дальневосточных морозов.
— Пошли, подберем что-нибудь путное. — И метеоролог повел меня в кладовку.
Первым делом Витя достал с полки унты, сшитые из оленьего камуса. Они были сработаны местной мастерицей, еще помнящей секреты народного ремесла. Камус — шкура, снятая с нижней части лосиных или оленьих ног, — была по старинному рецепту выделана и для повышенной влагостойкости прокопчена. Унты были шиты не капроновой леской, а ниткой, скрученной из звериных сухожилий. Хотя мастерица знала, что обувь предназначалась только для охоты в тайге, она все равно украсила верх голенищ кусочками собольего, лисьего и заячьего меха. Единственное, что меня смущало в этих замечательных унтах, так это их исполинский размер. Они, казалось, были сработаны на носорогов или, по крайней мере, на йети. Я осторожно заметил Вите, что они будут мне несколько великоваты. Он вместо ответа выдал мне дополнение к комплекту «обувь охотничья таежная» — пару меховых носков — канчей, пару носков, сшитых из войлока, и толстенные стельки. В кладовке также оказались брюки и куртка из шинельного сукна. Завершали таежную экипировку ружье 32-го калибра и легкие самодельные лыжи, сделанные из тополя и подбитые камусом.
Я быстро переоделся и совершил вокруг метеостанции пробную прогулку на лыжах. Нельзя сказать, что они прекрасно скользили, зато у них было одно важное преимущество: камус, ворс которого был направлен назад, не давал лыжам проскальзывать, и поэтому на них можно было взять «в лоб» крутой склон сопки.
С неделю я жил на станции, изучал птиц окрестных лесов. А потом мы с Витей уехали на снегоходе в его зимовье.
Витя растолкал меня, когда стало светать. Керосиновая лампа бледно желтела на фоне заиндевелого голубеющего окна. Над ней на потолке распустился огромный черный цветок. Судя по его размеру, Витя не спал всю ночь, штудируя «Сексопатологию». Выбранное психогенное средство помогло: рука охотника перестала болеть. Наскоро позавтракав, мы вышли из избушки. Было морозно, над лесом поднималось солнце. Каждый двинулся в свою сторону. Витя взял двустволку, позвал лаек и, забрав около двадцати капканов (его «путик» был длиннее), пошел по длинному ельнику. Я повесил на шею бинокль, закинул за спину рюкзак с топориком, капканами, термосом с чаем и двумя свертками (в одном — бутерброды для себя, в другом — тухлые рябчики для соболя, ну и вкус у него!), взял свое ружье и пошел на охоту, одновременно занимаясь и орнитологией — учетом птиц в зимней светлохвойной тайге.
Камусные лыжи с легким шелестом бороздили блестящую от солнца снежную целину, иногда приглушенно царапая припорошенные стволы деревьев. На подъеме идти было одно удовольствие, а вот на крутом спуске я по неопытности разогнался так, что сумел объехать лишь два дерева и зацепился на третьем. После остановки я достал из рюкзака топорик и вырубил из затормозившей меня прямой тонкой лиственницы шест — суррогат лыжной палки.
Я нашел место, подходящее для постановки капкана. Толстый ствол дерева у самого основания был выдолблен черным дятлом-желной. Получилась довольно глубокая деревянная пещерка, куда даже в самые свирепые метели не задувало снег. А это, как внушал мне промысловик, одно из условий грамотной постановки капкана. Ведь снег, припорошивший железо, может днем слегка подтаять на солнце, а потом, к вечеру, снова замерзнет, и капкан «прихватит». И как бы соболь ни топтался на тарелочке спуска, сторожок не сработает.
Я положил в глубь дупла кусок протухшего рябчика (еще раз подивившись соболиным вкусам), а ближе к выходу поместил настороженный капкан.
Через три часа все звероловные снасти были расставлены под пнями и коряжинами. Последний капкан я для практики поставил с «отчепом» — особым рычагом, устроенным таким образом, что он поднимал добычу над землей. Делалось это для того, чтобы соболиную шкурку не поели мыши.
Длинные тени деревьев на снегу, как стрелки тысяч часов на голубеющем циферблате, показывали, что короткий зимний день на исходе. Заснеженная вершина далекой сопки засветилась пунцовым светом. Когда я добрался до зимовья, сумерки уже висели над тайгой.
Мой напарник еще не вернулся. В зимовье было холодно: железная печка не держала тепло. Я положил в ее пасть сухие, хранящиеся под нарами поленья, плеснул на них немного керосина из канистры и поднес горящую спичку.
Холодное топливо разгоралось плохо, и лишь через несколько минут пламя охватило дрова и забилось где-то в трубе. Я поставил на печку кастрюлю и стал растапливать снег для чая. Кипячение снега было хотя и романтичным, но довольно нудным делом. Приходилось совершать постоянные рейсы наружу, набирать в ведро пушистой белой влаги и ссыпать ее в стоящую на печке кастрюлю. Часть снега, естественно, попадала на раскаленное железо печки, и вверх взлетало огромное облако пара, а в кастрюле прирастал лишь тоненький слой воды. Потом я разогрел на сковородке нашу повседневную еду, заботливо наготовленную впрок Валей, — замороженные лосиные котлеты. Несколько раз я выходил и прислушивался, не шуршат ли лыжи, не идет ли Витя. Но вокруг стояла могильная морозная тишина. Я взял карабин, выбрал из лежащих на подоконнике патронов один с залитой зеленой краской пулей, загнал его в патронник, вышел из избушки, поднял ствол вверх и нажал на спусковой крючок. Огромная, с рваными лепестками оранжевая гвоздика, на миг громыхнув, расцвела в синей тьме, и малиновая черточка трассирующей пули растаяла где-то у почти невидимой сопки. Эхо выстрела долго блуждало по долине, звеня замороженными лиственницами и пугая вылетевших на охоту неясытей.
Через несколько минут послышалось тяжелое дыхание. Заиндевелая рогожа отодвинулась, и заснеженные морды Рыжика и Ката просунулись внутрь зимовья. Нарушая все Витины инструкции, я дал псам по котлете. Зайдя в избушку, собаки торопливо глотали. Неожиданно они отпрянули, унося во тьму недоеденные куски. Еще через пару минут послышался шорох лыж, и в зимовье ввалился Витя. У него быстро оттаяли борода усы, и он из сказочного, обсыпанного снегом гнома превратился в рядового старообрядца.
За ужином он рассказал мне о своем походе. Витя прошел, расставляя капканы, километров пятнадцать по хорошему хвойному лесу. В нескольких местах приходилось обходить участки буреломов и прорубаться сквозь заросли тонкого лиственничного жердняка. Нет, он не заблудился, а, обойдя сопку еще засветло, сумел выбраться на свою лыжню. А за выстрел спасибо — он уже в темноте точно сориентировался, где стоит зимовье, и «срезал» порядочный отрезок пути, пройдя напрямик через марь.
Его охотничий участок оказался богаче моего. Снег во многих местах был истоптан сохатым, встречались и следы северного оленя. На окраину мари под самой сопкой дня два назад выходила рысь. Я перевел разговор на птиц, и промысловик вспомнил, что Рыжик облаял на пихте «смиренного рябчика» — дикушу.
После ужина я привычно задремал под радио «Свобода», а Витя, как всегда, уткнулся в книгу.
На следующий день я скользил по своему «путику», испытывая ощущение непредсказуемой возможности, азарта, удачи, воплощенной в черно-смоляной, с редкими звездочками снежинок шубке подвижного зверька, того чувства, что согревает кровь, придает легкость ногам, зоркость глазам и гонит охотника (или просто мужчину) из тепла и уюта.
Но у меня никто не ловился. К одному капкану, судя по следам, подходил соболь, но, вероятно, я сделал что-то не так, и он не соблазнился благоухающим рябчиком. Приближаясь к последнему капкану с отчепом, я еще издали увидел большое коричневое пятно, висевшее над снегом.
Вот он, мой соболь! Я рванулся к нему напрямик сквозь березовую поросль.
Увы! В капкане, поставленном по всем правилам охотничьего ремесла, висела, распушив оперение, дура кедровка, ценный лишь с орнитологической точки зрения трофей. Охота была неудачной. Расстроенный, я сел на ствол упавшего дерева и достал из рюкзака термос и бутерброды. Чай был чуть теплым, а замерзшее сливочное масло звонко, как капустная кочерыжка, хрустело на зубах.
А мой пришедший к вечеру в зимовье приятель был доволен: в рюкзаке у него лежало два «кота», а еще один соболь, по-видимому обладавший очень хорошей реакцией, ушел, оставив в железных челюстях капкана лишь свой коготок.
Утром я, выйдя из избушки, наткнулся на Витю. Он стоял, вперив взгляд в заснеженную тайгу.
— Слышишь? — спросил он.
Я поднял «уши» шапки. Абсолютная ледяная тишина, казалось, примерзла к бледно-голубому зимнему небу и к белой равнине. Витя неожиданно вышел из состояния медитации, метнулся к избушке, и через мгновение его суконная куртка, перечеркнутая по спине карабином, скрылась между деревьями.
— Топорик возьми и догоняй по лыжне! — крикнул он мне.
Так я и сделал. Камусные лыжи — отнюдь не гоночные, и только через четверть часа я отчетливо услышал звонкие в морозном воздухе голоса собак. Я поднажал, но дважды грохнули выстрелы, и лай Рыжика и Ката сразу же оборвался, как будто Витя застрелил своих помощников. Лыжня сворачивала в густой ельник. Там нужно было подныривать под мохнатые еловые лапы, с которых лились водопады легкого снега, и залезать на головокружительную высоту лесных завалов. Я представил себе, как Витя несся по снежной целине, подстегиваемый азартным, захлебывающимся лаем собак, «держащих» зверя. Два раза я оступался и, с трудом выбираясь из бездонного сугроба, невольно задумывался, как же мы будем здесь идти под грузом — ведь снегоход тут явно не пройдет.
На Витю я вышел неожиданно. Под густой елкой лежали уже успокоившиеся собаки и лось. На нем сидел мой товарищ и, моргая заиндевелыми ресницами, пускал из обледенелой бороды клубы папиросного дыма. На сучке, стволом вниз, висел остывший карабин.
— Ну что? — спросил меня Витя. — Не успел? А я ждал, стрелял не сразу, хотел, чтобы ты тоже посмотрел, как это делается, а может, и поучаствовал. Однако холодно, — добавил он, бросая окурок и вставая. — Давай разделывать.
Мы перевернули лося на спину. Витя надрезал на задних ногах шкуру и стал снимать ее. Подпарывая ножом дымящуюся, слегка пузырящуюся, словно в мыльной пене, белую с легкой желтизной изнанку, он постепенно освободил от шкуры одну сторону зверя. Иногда лезвие перерезало сосудик, и теплая, но уже мертвая кровь текла каплей калинового сока по белому исподу кожи на снег.
На небе не было ни облачка. Но под елями тусклого солнечного тепла не чувствовалось, и мороз свирепствовал вовсю. У меня даже в рукавицах пальцы окоченели, а Витя работал голыми руками. Когда и его допекал колючий, как битое стекло, воздух, он совал ладони под теплую лосиную шкуру и грелся.
Наконец зверь был освежеван, и Витя, ловко орудуя ножом как гаечным ключом, «отвинтил» ноги бывшего лося, потом топориком разрубил оставшуюся хребтину так, что из нее получились три примерно равные по весу части. Я оттаскивал мясо в сторону и клал куски на утрамбованный снег, чтобы они не касались друг друга, иначе сморозятся.
Витя сложил в рюкзак немного вырезки, грудинку, почки, печень и простреленное сердце. Оставшееся мясо мы завалили снегом и прикрыли лапником: рядом, услышав выстрелы, уже кружила пара воронов.
Мы пошли назад. Собаки, у которых прошел азарт охоты, плелись, вернее, плыли по снегу следом за нами, увязая в сугробах по самые уши, и, наверное, сами недоумевали, как они могли здесь загнать сохатого.
Наконец мы выбрались на марь, где снег был не таким глубоким. Лайки ожили и рванулись вперед. Витя с карабином и я с простреленным лосиным сердцем в рюкзаке поспешили за ними. Через полкилометра мы догнали Рыжика и Ката. Они опасливо принюхивались к глубокому свежему следу.
— Так вот кто у нас в соседях! — произнес Витя, останавливаясь и доставая из кармана портсигар, сделанный из оранжевой пластмассовой коробки армейской противохимической аптечки. — Может, это та самая пара волков, которая Мухтара задрала, — продолжал он, закуривая. — Однако мясо надо быстрее вывозить, пока они его не нашли.
И по пути к зимовью Витя рассказал мне, что случилось с одной из его собак за неделю до моего приезда.
Около метеостанции появилась пара волков. Мой товарищ часто натыкался на их следы, а однажды прямо из окна увидел и самого зверя, неторопливо трусившего за околицей. Витя для бесшумности хода надел только меховые носки — канчи и побежал по тропе наперерез, через рощицу, по обходной тропке. Но волк, видимо, что-то почуял и ускорил темп, уходя через марь. Когда Витя выбрался на опушку рощицы, волк был уже метрах в двухстах от него. Зверь кроме обостренного чувства опасности обладал и прекрасным слухом. Витя бережно перевел предохранитель карабина в положение «огонь». Тихо звякнул металл. Серое движущееся пятно на мари от этого негромкого звука резко дернулось в сторону; волк, даже не оглянувшись, сменил аллюр с рыси на галоп. Захлопали безнадежные выстрелы, и, пока зверь успел добежать до леса, пять снежных цветков расцвели и опали на его следах.
Когда Витя возвратился домой, обнаружилась пропажа: привязанные за поводки Рыжик и Кат стояли, задыхаясь в лае, у будок, а конура Мухтара была пуста: перегнивший брезент поводка не выдержал.
Витя звал лайку, стрелял из карабина, но все было безрезультатно. К утру Мухтар тоже не появился. Тогда Витя завел «Буран» и поехал по следам собаки. Скоро они сплелись с волчьими. Охотник нашел то место, где Мухтар догнал зверя. Там Витя и прочитал написанную на снегу, заносимую слабой поземкой историю. Зверей было двое: волчица, крутившаяся у метеостанции и заманившая Мухтара в тайгу, и матерый волк, бросившийся на пса из засады.
Витя не хотел отдавать волкам и лося, поэтому на следующий день я, расположившись на заднем сиденье «Бурана», этого гибрида танка с велосипедом, имевшего гусеницы от первого транспортного средства и руль от второго, судорожно сжимал левый рукав куртки, в который струйкой жидкого азота тек набегающий холодный воздух. Наш снегоход с прицепом вскоре остановился у знакомого леса. Дальше машина не могла пройти из-за густых завалов, и нам пришлось выносить мясо на себе.
Сначала Витя загрузил меня тридцатикилограммовым куском хребтины, столько же положил на свое плечо, и мы тронулись в обратный путь. Я шел сзади и только слышал, как он легко перескакивает на лыжах через стволы упавших деревьев. Я же забирался на них неуклюже, как цирковой медведь на брусья, с трудом балансируя двухпудовым куском мяса. Времени на это у меня уходило много, так что когда я был еще на полпути к снегоходу, Витя уже возвращался за следующей порцией. И вот наконец последняя ходка. Осталась пара задних ног, почти с меня ростом и весом килограммов под пятьдесят каждая.
— Лучшая ножка Парижа! — прокомментировал эту конечность Витя, перегруженный сексологическими впечатлениями, помогая мне удобней разместить «ножку» на плече.
Я медленно пошел по лыжне, для баланса упираясь обеими руками в черное лакированное копыто и думая, что хлеб охотникам вообще-то дается нелегко. Не знаю, как Витя, но я порядком намучился со своим мясом, пока дошел до пены. Пена — это старое якутское название специальных деревянных нарт, или саней, в которые раньше впрягались ездовые собаки или олени. Нынче, когда слабосильных животных заменили мощные снегоходы, легкая пена трансформировалась в огромное металлическое корыто, а скорее в небольшую плоскодонную баржу, сваренную из листового железа.
Мы заехали сначала к зимовью, чтобы оттуда двинуться на метеостанцию. Витя наложил в прицеп-пену каких-то досок, канистры, рюкзаки, лыжи, ружья, бензопилу. Потом мы загрузили куски промороженной лосятины, а уж на самом верху должен был расположиться я. Помня о том, что путь будет долгим, а на таком средстве передвижения мерзнешь удивительно быстро, я надел на себя все запасы теплого белья, оба свитера, а сверху — суконные штаны и куртку. После этого я стал передвигаться как клиент больницы Склифосовского, одетый в монолитный гипсовый корсет, или как водолаз в глубоководном костюме. Мне хватило сноровки только для того, чтобы доковылять до пены и упасть на разобранного лося. Витя по-отечески накрыл меня роскошным овчинным тулупом. Для полной иллюзии, что мой приятель — партизан, везущий к своим «языка», не хватало, чтобы он так же заботливо влил обездвиженному пассажиру в рот спирт из фляжки — чтобы пленник не мерз дорогой.
Вместо этого Витя что-то сказал Рыжику, и понятливый пес тут же запрыгнул в пену и взгромоздился на мою голову, сдвинув шапку на лицо. Мы поехали. Я с трудом поднял закованную многослойным одеянием руку, передвинул лайку со лба на затылок и обрел способность видеть. Но снежная крошка, летящая из-под гусениц «Бурана», слепила меня. Кроме того, у снегохода был сломан глушитель, и поэтому он гремел, как работающий над самым ухом отбойный молоток, а выхлопные газы прерывистой струей били прямо в лицо.
Скоро ровная дорога кончилась, и мы поехали по присыпанным снегом кочкам. Пену затрясло, и все смешалось: капканы, вонючий мешок с рябчиками, ружья, топоры, я, тулуп, лайка и куски лосятины. Напуганный пес изловчился и, оттолкнувшись лапами от моей головы, выпрыгнул за борт. Застоявшаяся, вернее, засидевшаяся лайка радостным легким галопом побежала по следу «Бурана», на ходу хватая снег: ей было жарко. Порезвившись, Рыжик догнал пену и побежал рядом. Пес жмурился от холодного встречного ветра и летящей из-под снегохода снежной пыли. Через несколько минут на морде собаки наросла белая маска. Сцементированный влажным дыханием снег превратился в неподвижную личину, сквозь узкие прорези которой смотрели умные карие глаза. Я начал жалеть, что собака спрыгнула с меня: оказывается, я лишился неудобной, беспокойной, тяжелой, но очень теплой шапки. В отсутствие Рыжика голова у меня начала мерзнуть — встречный ветер шутя «пробивал» меховой треух.
Ожившие на тряской дороге вещи, казалось, объединились, чтобы избить оставшееся живое существо. Особо я был сердит на бензопилу, которая меня, замерзшего, ослепленного снежной пылью и задохнувшегося в угарном чаду выхлопа, подло била поддых своей изогнутой ручкой.
Наконец мы съехали с проклятых кочек. Дальше шла ровная дорога. Присмиревшие вещи расползлись по дну огромного железного корыта. И я мог наконец посмотреть по сторонам.
Как-то неожиданно посерело, с минуту продержалась световая неопределенность, сумеречная грань между днем и ночью, быстро стемнело. Витя включил фару, и впереди «Бурана» бегущей лисицей заметалось пятно света. Окрестный пейзаж заставлял удивляться тому, насколько может быть выразительна серая краска. Светилось тусклым потемневшим серебром небо, проносились мимо блеклая марь с застывшими на ветвях редких, расплывчатых, словно слегка проштрихованных простым карандашом невысоких лиственниц с зеленоватыми облачками свисающих лишайников, а сзади струей разведенной сепии[21] лилась дорога.
Мое восхищение быстротечными зимними сумерками длилось недолго. На каком-то ухабе пену неожиданно сильно тряхнуло. Груженая железная баржа тяжело вскинулась, словно танк на ухабе, и вся система, сработав как баллиста, выбросила пассажира на обочину, в мягкий сугроб. Поверх меня плавно, как купол парашюта, лег огромный тулуп. Скованный многослойной одеждой, я смог подняться не сразу. Я кричал и свистел вслед удалявшемуся мотоциклетному грохоту, пока красная убегающая звездочка заднего огня «Бурана» не скрылась за поворотом. Я перестал кричать и тяжело, словно спешившийся пес-рыцарь, пошел по буранному следу туда, где исчез мой приятель. Теперь я мог любоваться вечерней марью вблизи, не отвлекаясь тряской в пене, бензиново-рябчиковыми ароматами и пронизывающим ветром, и гадать, когда же Витя оглянется — у него была такая хорошая привычка.
Уже совсем стемнело. Тусклым фосфором светились низкие облака — очевидно, взошла луна. Дорога определялась на ощупь: я на ней меньше проваливался, чем на снежной целине. Издали, со стороны ельника, послышался разочарованный вой — собравшиеся подкрепиться нашим лосем волки обнаружили, что их обошли. Я инстинктивно захлопал себя по бокам: так и есть — и нож остался в пене. Невольно из памяти всплыл рассказ о съеденном Мухтаре. До поселка метеостанции по такому снегу и в такой одежде было не меньше четырех часов хода, но я очень надеялся, что Витя когда-нибудь спохватится. И действительно, вскоре послышался треск двигателя. Свет фары запрыгал по верхушкам деревьев, на повороте желтое пятно, описав по мари широкую дугу, упало вниз и заскользило по дороге, временами взлетая и ослепляя меня.
Как выяснилось, Витя обернулся, переезжая через реку. Там был крутой берег, и мой заботливый товарищ решил поинтересоваться, как я пережил этот спуск, и с удивлением обнаружил, что интересоваться, собственно, не у кого.
После ночных приключений я выспался в теплой метеостанции и встал поздно. Вити в доме не было. Я умылся под округлым выменем звенящего одиноким соском умывальника, попил с Валей и Ванькой чаю с еще оставшимися московскими конфетами, оделся и вышел на улицу. Слюдяная морозная свежесть бодрила. Снег давился под ногами с капустным хрустом. На флагштоке под припорошенным высокими облаками небом колыхалось полотнище черного цвета. От этой незначительной детали мирное таежное селение приобретало вид пиратского логовища. К околице вилась слабо натоптанная тропка. Я любопытства ради двинулся по ней и оказался у невысокого строения, едва видимого из-под снега, — небольшой баньки. Я толкнул дверь, шагнул внутрь, в холодный полумрак нетопленого помещения, и вздрогнул. У окна, выходившего на марь, было вынуто стекло. На подоконнике стволом наружу лежал карабин. На полке стояла жестянка из-под консервов, полная окурков, и зажженная свеча. Рядом со свечой сидел человек. Он был тепло одет и читал «Сексопатологию». Это был Витя. Он, как мне показалось, обрадовался моему приходу, оторвался от книги и попросил расшифровать пару терминов. Не зная, что и подумать о душевном состоянии промысловика, прячущегося с сексологической книжкой по холодным баням и вооружающегося при этом карабином, я сначала спросил его о цвете флага в поселке.
— А это у нас ни одного кусочка кумача не было, — растолковал мне охотник. — А вертолетчики просят, чтобы флаг у посадочной площадки болтался: им направление ветра определять надо. Вот Валя и повесила, что под руку подвернулось.
Потом он объяснил, почему эта дальневосточная баня чем-то напоминает знаменитый далласский книжный склад. Оказывается, Витя не забыл старые счеты с волками. Недалеко от бани он положил приваду[22] и ожидал гостей. Но волки, хотя и крутились где-то у метеостанции, к приваде не подходили.
Витя замерз (даже книга его не грела), встал и, видимо решив, что охота на сегодня закончилась, пошарил в предбаннике и появился с двумя ведрами, лопатой и пешней. Оказывается, жена утром послала его за водой, а он засиделся в бане, увлекшись охотой на волков и книгой.
Охотник и я выбрались на реку. На льду виднелись присыпанные снегом проруби, напоминающие разграбленные кладоискателями могилы. Каждый новый ледяной колодец «работал» не больше недели. Хотя его ежедневно подновляли, но от морозов стенки постепенно обрастали льдом, и наступал момент, когда легче становилось выдолбить новую прорубь, чем обновлять старую.
Витя ударил пешней, и бесцветные, с чуть заметной голубоватой искрой льдышки побежали от стального острия. Он поработал минут десять, потом я совковой лопатой очистил выбоину. Лед был настолько прозрачным, что даже сквозь метровую толщину было видно желтоватое песчаное дно реки, редкие камни и темные водоросли. Мелкие рыбки гольяны толпились у самого берега. Мальков видел не только я. Два крупных ленка явно хотели познакомиться с ними поближе. Но зазор между дном и ледяной крышей был таким узким, что в нем помещались лишь гольяны. Хищники подплывали к ним на четверть метра, но дальше их не пускал лед. Один ленок остановился перед преградой и просто смотрел на близкую, но недоступную закуску, другой нетерпеливо плавал вдоль прозрачной стены; иногда он ложился на бок, что позволяло протиснуться еще на десяток сантиметров. Рыба некоторое время лежала на боку, тускло отсвечивая желтоватым брюхом, и, убедившись в безнадежности своего предприятия, давала задний ход. Понаблюдав за этой подводной жизнью, я вернулся к проруби.
Ледяная яма была уже почти в метр глубиной. Витя напоследок несколько раз с силой ударил пешней, и со дна ямы забил фонтан прозрачной воды. Я, взяв лопату, стал собирать всплывающие льдинки и отбрасывать их в сторону. Когда капли воды падали на перемерзший лед, слышался треск, похожий на звук постреливающих в костре дров, и белые трещины мгновенно растекались в прозрачной толще и застывали замороженными молниями. Но от этого лед не терял твердости, не крошился и не прогибался.
Пока мы возились с прорубью, наблюдали рыбью охоту и экспериментировали со льдом, по косогору к реке спустился Ванька: мать послала его за нами. Он толкнул ногой наш отвал — кучу ледяной крошки, и легкие кристаллы с шелестом рассыпались по поверхности реки.
Я взял два ведра с водой, и мы с Ванькой двинулись к дому, а Витя отправился в баню — положить пешню и лопату и забрать карабин и «Сексопатологию».
Мы уже подходили к берегу, когда сверху послышался шум двигателя, и над метеостанцией низко, едва не задев черное пиратское полотнище, пронесся маленький оранжевый вертолет. Я поставил ведра и приветливо помахал авиаторам рукой. Реакция их была неожиданной: «двойка» стремительно снизилась и села рядом с нами, дверь открылась.
— Булки есть? — стараясь пересилить рев мотора, заорал мужик в тулупе, сидевший рядом с пилотом. У него на коленях почему-то лежал новенький «калашников».
— Нет! — закричал я, отворачивая лицо от снежных вихрей и ловя сдуваемого по льду Ваньку. — Еще не пекли! Вечером будем!
— Да я не про хлеб! — Мужик рвал голосовые связки. — Волки, волки есть?
— А как же! — отозвался я, вспоминая недавнюю ночную прогулку и рассказы Вити о Мухтаре. — Вчера вон из того ельника выли. — И показал на далекий лес.
Мужик с автоматом исчез за захлопнувшейся дверью. Вертолет кузнечиком скакнул вверх и полетел невысоко над землей туда, где я вчера в темноте гулял в негнущемся костюме.
Треск невидимого вертолета то затихал, то нарастал, но когда мы с Ванькой подходили к крыльцу, сквозь рокот двигателя послышались три четкие автоматные очереди.
— Охотовед, однако, прилетал, — сказал пришедший чуть позже Витя, тоже слышавший воздушный бой и узнав про мужика с автоматом. — Завтра расскажут, как он поохотился.
Я поставил ведра на кухне. Там Ванька уже сидел за столом и наворачивал жаркое из лося. Мы с Витей присоединились к нему. После работы на морозе и сытной еды тепло печки валило с ног. Витя не противился: он снял со стены два полушубка, и мы расположились на полу у жаркой кирпичной кладки. Ванька разделся и пошел спать в соседнюю комнату.
Вскоре Валя растолкала нас: предстояло печь хлеб. Когда печка протопилась, Витя взял ведро и совок, выгреб угли, вынес их на улицу и утопил в соседнем сугробе. Валя раскатала на столе подошедшее тесто на шесть коротких толстых колбас, уложила каждую в алюминиевую форму, а Витя засунул их лопаткой в раскаленную печь. Потом он сел рядом, рассеянно полистал потертый томик, и в ожидании свежего хлеба потекли бесконечные таежные рассказы о собаках, волках, сохатых, удачных и неудачных выстрелах. Ровно через час Валя прервала мужа на каком-то особенно красочном эпизоде, в котором он одним выстрелом убивал сразу двух кабанов, и расстелила на столе кусок белого полотна.
Витя, надев рукавицы, вытащил первое металлическое корытце и довольно хмыкнул: хлеб вылезал из него пышным коричневым сугробом. Мой товарищ постучал по донцу формы, и она выпустила соломенно-желтое тело булки. Он перекинул с руки на руку сладко пахнущий обжигающий брусок, положил его на полотно и полез за следующей формой.
Засыпающий в соседней комнате Ванька услышал, что достают хлеб, голым выскочил из темноты и подбежал к печке. Пятна малинового цвета от лежащих в поддувале угольков двигались на его белом, словно мукой обсыпанном тельце. Ванька, цепляясь за суконные штаны отца, смотрел, как тот достает последнюю буханку. Витя почерневшими от морозов ладонями взял нож и отрезал сыну краюшку. Ванька схватил ее, обжегся, бросил на стол и, обиженный, солнечным зайчиком пронесся по полу и исчез в темноте спальни.
Валя накрыла кустодиевски пышные хлебные телеса влажной холстиной, потом меховой курткой и оставила их «доходить».
Мы втроем сели пить чай. Намазанное масло просачивалось сквозь ломти горячего хлеба и стекало янтарными каплями. А потом я стал упаковывать коллекции. Моя единственная зимняя экспедиция подходила к концу.
На следующий день я покидал гостеприимную метеостанцию. Путь предстоял неблизкий — около сорока километров через озеро до ближайшего поселка, куда из города приходило единственное зимнее транспортное средство — аэросани. Витя собирался в этом поселке сдать добытое мясо и соболиные шкурки. Я, помня вчерашнее путешествие на снегоходе, сам тщательно уложил и закрепил все вещи, плотно оделся и, простившись с хозяйкой и Ванькой, улегся в пену, завернулся в тулуп и позвал Рыжика на свою голову. Мы тронулись. Меня тряхнуло всего один раз — когда мы въехали на лед. А дальше по озеру «Буран» пошел ровно, без толчков. Глушитель был исправлен, светило солнце, не трясло, не было противной бензопилы и вонючих рябчиков — то есть путешествие было прекрасным, если не считать пронизывающего холода: на озере дул хороший встречный ветер, и к середине пути я основательно продрог.
Неожиданно Витя притормозил. Я приподнял голову с лежащим на ней Рыжиком. Рядом с нами стояли маленькие, как детские санки, нарты. В них сидел одетый в драную распахнутую телогрейку, засаленные солдатские штаны и бесформенную шапку и обутый в полуботинки нанаец Степа. Его я знал по летним поездкам, он работал на рыбосчетной станции. Второй нанаец, одетый так же легко, мне незнакомый, был запряжен в нарты. Я совсем закоченел, глядя на них.
Мы, соблюдая таежные приличия, поговорили, вспомнили всех знакомых и только потом распрощались. Я посмотрел вслед этим, на мой взгляд, откровенным самоубийцам: мороз был хорош, ветер крепчал — а они в такой одежде. Витя был настроен более оптимистически.
— Ветер им попутный, — сказал он, глядя, как по-бурлацки напрягается под тяжестью нарт таежный рикша. — Часа через два должны быть на метео. Валя их чаем отогреет.
Он завел «Буран», и мы поехали дальше. Но наш караван еще раз остановился. Витя опять с кем-то разговаривал. Я снова приподнялся. До поселка было около двух километров; он был уже очень хорошо виден на высоком берегу.
Рядом со снегоходом на этот раз стояли трое: мужчина, женщина и корова. Все трое были тепло одеты. На мужике был овчинный тулуп, на женщине шуба и шерстяной платок, на корове — гигантский бюстгальтер, подвязанный тесемками на крестце. Животное стояло на длинном половике, расстеленном на озерном льду, как высокопоставленный государственный деятель во время встречи гостей на аэродроме.
Дальневосточная жизнь научила меня ничему не удивляться, и я, следуя примеру Вити, поздоровался с сопровождающими лицами.
— Вот корову купили, — сказал мужик. — Хозяйка за озером решила корову продать, ей срочно деньги нужны. Она к сыну уезжает, на запад. Хотели ее сначала на «Буране» в пене перевезти. — И мужик погладил отвернувшееся животное. — Связать, положить на солому, а сверху чем-нибудь накрыть. Но хозяйка говорит, что после такой перевозки у коровы все молоко пропадет. Вот и пришлось гнать ее через озеро, с двумя половиками. Пока она по одному идет, мы другой перестилаем. И лифчик из одеяла пришлось шить — иначе вымя отморозит. Я кроил, жена шила. Наверно, размер тридцатый вышел. Да, Люба? А вы к приемщику? Тогда, может, еще встретимся, нам тоже в деревню. — И он, показав на далекие крыши, ласково подтолкнул покупку.
И мы поехали дальше. Низкие размытые облака висели над озером, над белыми сопками, над скованными льдом и засыпанными снегом протоками, лежащими окоченевшими змеями между крутых берегов.
Знакомый по летним поездкам поселок сейчас, зимой, как-то съежился и казался беззащитным (обманчивое, впрочем, впечатление для охотничьей фактории, где почти у каждого жителя был свой карабин). Легкая пурга плясала на безлюдных тропинках, перескакивая через крыши домов и верблюжьи горбы сугробов. Ветер вытягивал из труб серые ленты дымов и разматывал их по улицам. Самый вкусный дым вился из местной пекарни.
Мы подъехали к дому приемщика-заготовителя и пошли сдавать пушнину.
Глубоко нетрезвый начальник, как купец минувших времен, за бесценок скупающий у камчадалов, якутов или индейцев мягкую рухлядь, торопливыми пальцами хватал искрящиеся черным огнем шкурки, складывал губы трубочкой и раздувал нежный мех, чтобы определить, нет ли там «солнышка» — светлого радужного пятна, удешевляющего пушнину. Он мял шкурку, привязывал к ней ярлык с Витиной фамилией, называл цену и бросал в свой мешок. Цены были высокими — здесь встречались в основном якутские соболя.
А Витя сидел рядом, курил и пересказывал ему «Сексопатологию».
За окном прошла корова в бюстгальтере — ее новые хозяева с покупкой наконец-то добрались до дома.
Через час я стоял у избы, в которой располагалась почта, и ожидал прибытия аэросаней. В доме заготовителя я переобулся и сменил таежную одежду на цивильную. Поэтому, попав на улицу в сапогах «на рыбьем меху», я стал испытывать удивительное ощущение, будто ходишь босиком по мерзлому железу. Поэтому я старался как можно меньше прикасаться ступнями к земле и прекратил свои чечеточные импровизации, когда вдалеке что-то загудело, и через несколько минут в снежном вихре и самолетном грохоте подкатило транспортное средство, очень похожее на микроавтобус «рафик», поднятый над землей на тонких длинных опорах, к которым крепились лыжи. А вообще-то машина напоминала огромную пузатую водомерку.
Провожавшие меня Витя и приемщик поговорили со знакомым им водителем. Он кивнул, и я забрался внутрь «рафика» и уселся на груду посылочных ящиков и брезентовых опечатанных мешков. В корме загрохотало — это заработал мотор, пропеллер закрутился, и машина тронулась. Я подложил под себя почту помягче, снял сапоги, сунул обмороженные ступни к калориферу, под ток горячего воздуха, и стал смотреть сквозь желтоватый поцарапанный плексигласовый иллюминатор.
Впереди на миг появились засыпанные снегом прибрежные ивовые кусты и тут же исчезли сзади в пурге, бегущей за аэросанями. В тепле микроавтобуса я задремал и очнулся от тишины. Двигатели смолкли. «Рафик» остановился. Я был в городе.
В полночь на высоте десяти километров над землей где-то над Подкаменной Тунгуской я отломил кусок мягкого хлеба, выпеченного на метеостанции, и достал так ни разу и не открытую мною книгу в уже сильно потертой рваной крафтовой обложке. На странице 112-й специального медицинского издания я обнаружил Витину закладку — коготок ушедшего от него соболя.
ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ
Юра на минуту заглушил мотор, и лодка медленно поплыла по течению вдоль высокой прибрежной травы. Он перегнулся через борт «Прогресса» и набрал в помятую алюминиевую флягу прозрачной, чуть коричневатой воды. Когда добрались до устья реки, стало ясно, что они опоздали, — начинался отлив. И хотя Андрей перелез через ветровое стекло и утяжелил своим весом нос лодки, приподняв ее корму, работающий винт еще долго цеплялся за грунт.
Наконец илистое дно ушло вглубь. Вода посветлела. Прозрачные волны залива Счастья стали накатываться на палубу. Расцвеченные солнцем брызги вылетали из-под днища и сыпались на корму. Андрей сел рядом с Юрой. Тот закурил и обернулся проверить, не слетел ли с мотора колпак.
Андрей мысленно был уже в поселке. «Час хода — и там, — думал он, — а завтра с утра на попутку — и в город». Выходные дни прошли удачно. Съездили в недавно поставленное зимовье. Поймали сетчонкой в реке первых в этом году горбуш. Хватило и поджарить, и на уху, и еще стакан малосольной икры получился. Хорошо, что он в свое время познакомился с местным охотником Юрой, этим низкорослым, но сильным и выносливым парнем. Теперь можно каждую пятницу вечером приезжать к нему.
Простой парень этот Юра. Живет один в отдельном доме. Полная свобода. Рядом рыбзавод, куда на путину приезжают студентки. Кстати, скоро ведь путина. И стоит ему, Андрею, эта дача — килограмм колбаски, сладостей каких-нибудь да хорошего белого хлеба: в этой дыре в сельпо хоть шаром покати. Зато здесь у него почти свой особняк. Кругом природа. И рыбалка тебе, и охота. Забываешь здесь и город, и свой кабинет черчения в техникуме. А со студентками и жену можно забыть. На время, конечно. Правда, обстановка дома оставляет желать лучшего. Что и говорить — холостяк. Мебель вся из оструганных досок — знакомый плотник делал. На кухне под столом капканы на крыс стоят. Дикость, конечно, но есть в этом какая-то первобытная прелесть.
Лодка удалялась от низких ровных берегов, которые, казалось, погружались в море. В небе висели крачки, и крылья их уже чуть розовели в лучах медленно скатывающегося к горизонту солнца. Птицы беззвучно открывали клювы — мотор глушил их голоса. В полусотне метров от лодки из воды медленно, как восходящая луна, поднялась округлая, гладкая спина белухи.
Неожиданно лодка словно споткнулась. Товарищи ударились лбами в стекло. Мотор взвизгнул и затих. Сразу стало слышно, как волны стучат в тонкие алюминиевые борта.
— Бревно, топляк, — сказал Юра. — Только откуда он здесь? Ведь они и в море редко попадаются, не то что в заливе. «Повезло» нам. Хорошо, если срезанной шпонкой отделаемся. Однако смотри — совсем не на бревно мы напоролись.
Андрей обернулся. Сзади за кормой у самой поверхности воды кружила огромная калуга. Кровь шлейфом тянулась за ней.
— Утонет! — крикнул Юра, безуспешно пытаясь завести мотор. — Давай, Андрюш, на весла, — скомандовал он, а сам поднял карабин и приготовил небольшой багор.
Лодка поравнялась со смертельно раненной рыбой. На ее спине виднелся огромный рваный след от винта. Громыхнул выстрел. Над головой калуги взвился длинный узкий фонтанчик, а спустя несколько секунд из ее жабер потекла темная кровь. Рыба замерла и стала медленно погружаться. Юра, перегнувшись, подцепил ее багром, и они вдвоем с Андреем перевалили в лодку тяжелую сероватую тушу.
— Все было — и горбуша, и кета под винт попадали, в озерах сига, карася и даже щуку лодкой давил, а вот калугу — в первый раз. Подфартило. Теперь починимся — и с добычей домой.
Юра достал из-под сиденья большой круглый металлический бачок, в каких перевозят кинофильмы. Там хранились инструменты и запасные части. Андрей рассматривал калугу. Таких больших он еще не видел.
— Килограммов восемьдесят будет? — спросил он.
— Вообще-то на глаз трудно определить, сколько рыба весит, но эта центнер наверняка потянет. А может, и больше. Приедем — взвесим. Дорого нам эта калуга досталась, — продолжал он, разобрав мотор. — Серьезная авария. Греби вон на ту сопку. Видишь? А я чинить буду. Надо хоть на веслах двигаться, а то смотри, как отлив «свистит». Боюсь, придется у поселка лодку по мелякам тащить.
Андрей греб плохо, неумело — глубоко погружал весла в воду и сильно рвал их на себя. К тому же мешала качка. То один, то другой борт лодки взлетал над волной, весло не доставало до поверхности воды и делало холостой гребок. Лодка двигалась медленно, неверно, тяжело. Андрей задыхался и уже начинал злиться на копающегося в моторе Юру, который иногда оглядывался на него и коротко бросал:
— Вправо. Левым больше загребай.
Наконец Юра собрал мотор и закрыл его колпаком.
— Сейчас поедем, — сказал он и дернул стартер. Мотор завелся с третьего раза.
До поселка оставалось километров семь. Были уже видны светло-серые шиферные крыши домов, когда под днищем «Прогресса» зашуршал песок.
— Приехали, — сказал Юра. — Вылезай. Будем тащить. Тут недалеко «канал» — глубокий участок протоки, идущей до самого устья.
Андрей огляделся. Влажное желто-серое илистое дно отступившего моря простиралось до горизонта. Унылыми озерами серела оставшаяся вода залива. На обнажившихся участках суши, лайдах, не торопясь бродили редкие кулики и чайки, чернел силуэт одинокого орлана.
Резиновые сапоги глубоко уходили в ил. Лодка тяжело двигалась, изредка со скрежетом задевая в вязком дне камни и ракушки. Сзади оставалась ровная линия от лодочного киля, а по бокам от нее — две цепочки глубоких следов, над которыми клубились сероватые легкие илистые облачка.
Они прошли около ста метров и остановились. Еще больше обмелело. Лодка почти не двигалась вперед.
— Все, — сказал Юра и, сполоснув сапоги, залез в лодку. — Забирайся, Андрюш, — посидим покурим. Чего корячиться, подождем. Скоро прилив пойдет. Время работает на нас.
Андрей тяжело перелез через борт, запачкав серым илом лежащую калугу. Юра неторопливо курил. Он отвинтил у алюминиевой фляги крышку, налил в нее воды и с удовольствием выпил.
— Здесь у всех, кто по морю ходит, обязательно есть такая канистра, впрочем, как и надежный якорь, и конец метров на тридцать. И все из-за лайд. Длинная веревка лучше держит якорь на мелкой воде — течение не срывает. Я в прошлом году был у знакомого охотника на горной речке, на притоке Амура. Там вообще без якорей ездят. Чудно! И носовой конец — всего метра два. А зачем им больше — они лодку к прибрежным кустам привязывают. Ну и, конечно, фляге водой никто не берет. Пьют прямо из речки. Только кружку и возят. А здесь — море.
Андрей слушал Юру, устало прислонясь к борту. «И черт меня дернул поехать в это зимовье, — думал он, — как будто избушек не видел. Экзотики захотелось! Уединения! Могли бы и в поселке посидеть — там у них такая же дикость, как в лесу. Говорят, на прошлой неделе к околице медведь приходил. Глухая тайга, одним словом. Людей-то не увидишь. Юра тоже хорош. Четыре года здесь живет, а фарватера не знает и в отливах не разбирается. Кстати, интересно, скоро ли все-таки вода прибывать начнет, а то будем здесь сидеть до скончания века. И на работу опоздаю. Хорошо, хоть на калугу наскочили. Интересно, даст он мне кусок? Наверное, даст. Ведь в товарищах ходим. А вода, по-моему, не поднимется. Наврал Юрик насчет прилива, еще отлив идет. Интересно, а если я пешком пойду? Тут километров пять, значит, два часа ходу. Запросто. Его здесь оставить, пусть себе в лодке сидит, ему торопиться некуда. А самому пойти. А рыбу? С собой тащить? Тяжеловато будет».
— Слушай, — сказал он Юре, — может, еще потолкаем? А то мне на работу надо.
— Ну что ж, давай попробуем. Хотя я бы предпочел дождаться прилива. Так надежней, да и на моторе идти легче. А то эти метры знаешь как нам достанутся. Может, все-таки посидим? Сейчас примус зажжем, кусок рыбы сварим, чайку закипятим. Время быстро пройдет. Ну ладно, не хочешь — не надо. На работу так на работу. Пошли. Только сначала посмотрим, где канал. Чтобы лодку напрямик толкать.
Юра размотал якорную веревку и бросил за борт огромный, сваренный из арматурных стальных прутьев якорь. Две его лапы глубоко ушли в мягкий ил, а две другие нелепо торчали над поверхностью воды.
— Мало ли что случится. Береженого Бог бережет, — объяснил он Андрею свои действия и похлопал себя по карманам. — Папиросы взял, спички взял. Дай-ка мне карабин.
— Зачем его таскать, оставь, ведь сейчас вернемся.
— Да нет, он не тяжелый, я к нему привык. — И Юра, перемахнув через борт, пошел, по колено проваливаясь в заиленный песок.
Невидимые, окрашенные под цвет фунта небольшие камбалы выскакивали из-под его сапог. За ними мутными расплывчатыми пунктирами взлетали со дна клубы поднятого ила. Большие рыжеватые крабы угрожающе поднимали вверх клешни.
«Куда идем, — ворчал себе под нос Андрей, — вон же крыши поселка виднеются. А мы топаем куда-то в сторону. Местные все-таки ужасно бестолковые. А насчет того, чтобы до поселка пешком добраться, это я погорячился. Тут и за час километра не пройдешь. Интересно, зачем он все-таки карабин взял? Пять килограммов на плече тащить. Лодка-то рядом. И что может случиться?»
— Вот он, канал. Правильно топаем, — прервал его размышления Юра, показывая на далекий расходящийся круг на воде. — Горбуша в речку идет. Она по мелководью не плавает. Давай к лодке возвращаться.
— Ты иди, а я, пожалуй, до канала добреду. Проверю. Чтобы нам зря лодку не таскать.
— Как хочешь. Только поскорее. Вон туман с моря гонит.
Андрей еще не дошел до канала, когда услышал голос Юры:
— Поворачивай, а то «Прогресс» не найдем.
Андрей обернулся и увидел, как Юра, придерживая на спине карабин, торопливо шел к растворяющемуся в серой пелене далекому силуэту лодки. Андрей поспешил за товарищем. До лодки оставалось не более двухсот метров, когда она полностью скрылась в плотном, как густой дым, тумане.
— Да, сейчас толкать, пожалуй, не придется. Мы просто канал не найдем, ничего не видно. Что ж делать, подождем в лодке. Что-то я мерзнуть начал. Пошли быстрее, — сказал Андрей, догнав товарища.
— По-моему, лодка левее, — спокойно заметил Юра.
— Да нет, я точно запомнил, где она. Метров пятьдесят осталось. Скажи, пожалуйста, какой туман! Как пар в плохой бане.
Минут пять они шли молча.
— Стой, — сказал Юра. — Промахнулись.
— Как промахнулись? — начал волноваться Андрей. — Надо искать. Пошли так: ты влево, я вправо. Мы ее быстро найдем.
— Давай лучше вернемся на наш след. По нему уж наверняка выйдем на лодку.
— Так это вон сколько возвращаться, а она рядом, я чувствую.
— Ладно, стой здесь, я один вернусь. Так надежнее. Только с этого места никуда не сходи.
Вскоре Юра нашел две сильно замытые течением цепочки следов. Он облегченно вздохнул и, придерживаясь одной из этих путеводных нитей, пошел к невидимой лодке. Юра окликнул своего товарища.
— Иду, — отозвался Андрей из тумана. Голос его звучал почему-то сбоку. Вскоре послышалось тяжелое шлепанье шагов по воде.
— Наверное, ты прав, — сказал подошедший Андрей. — «Прогресс» можно найти только по следам. Я тут, пока тебя ждал, походил немного, думал, наткнусь на него. Я прямо нутром чую, что где-то рядом стоим.
— Как походил? — тихо спросил Юра. — Я же говорил — стой на месте.
Если б Андрей был повнимательней, он, возможно, заметил бы, что лицо его товарища мгновенно побледнело, а на лбу выступили капельки пота.
— Ну ладно, не ворчи. Замерз, вот и походил. Давай веди. Юра прошел несколько шагов и увидел, что две ведущие к лодке цепочки следов безжалостно разрезаны многочисленными тропами, натоптанными Андреем. Юра подолгу останавливался каждого разветвления, возвращался, методично искал верный след, но тот пропал, исчез среди множества ненужных.
Отчаявшись найти выход в этом лабиринте, они, перекликаясь, бродили наугад в тумане в надежде найти лодку. Через полчаса поисков они, устав, сошлись.
— Все, хватит, пришли, — сказал Юра. — Будем ждать, пока туман сойдет, — и перевесил карабин с плеча на спину. Потом вытащил из-за пазухи папиросы и спички, закурил и положил их за отворот старой вязаной шапки.
— Купаться не хочется, а придется, — добавил он, поеживаясь.
— Как придется? — не понял Андрей.
— Ветра-то нет, — ответил Юра, — и туман густой. Надолго. А прилив уже вовсю пошел. Не чувствуешь, что ли?
Наконец Андрей тоже заметил, что холодная вода, раньше не доходящая ему до колен, сейчас обжимала сапоги на бедрах.
— Так мы же здесь утонем, надо делать что-то, — прохрипел он.
— Утонуть-то не утонем, приливы сейчас низкие. Тебе, пожалуй, по грудь будет. А мне по шею.
Андрей молча смотрел, как блестящая влажная граница на высоких голенищах его сапог медленно ползла вверх. До края болотников оставалось еще сантиметров десять. В туманной тишине послышался слабый плеск воды.
— Что это? Лодка? — шепотом спросил Андрей.
— Нет, — равнодушно ответил Юра, — это у меня сапоги залило.
Андрей, чувствуя, что скоро подойдет и его очередь, судорожно завертел головой в надежде увидеть если не лодку, то хотя бы какой-нибудь намек на просвет в тумане. Но беловато-серая пелена была такой же плотной и неподвижной. Чтобы как-то оттянуть неприятный миг, он приподнялся на носках. Но уже через пять минут обжигающе холодная вода с хлюпаньем потекла в сапоги.
Одежда намокала быстрее, чем прибывала вода. Андрей чувствовал, как вверх по его рубашке поднималась ледяная влага. Сразу же стало жутко холодно, и его стал бить озноб. Он обернулся и посмотрел на своего товарища. Лицо Юры было спокойно. Но огонек папиросы, зажатой серо-синими губами, дрожал.
Юра поймал взгляд Андрея, и малиновая точка перестала плясать. Он подтянул ремень карабина и перевесил его на грудь, чтобы морская вода не залила затвор. Ветра все не было. Крохотные, но видимые глазом частицы влаги плавали в воздухе и оседали на лицах неподвижно стоящих людей.
Скоро Андрей от холода впал в дремоту. Его бил мелкий озноб. Иногда накатывались волны дикой нестерпимой дрожи и будили его. Тогда он ошарашенно глядел на неподвижную фигуру Юры, который стоял, закинув руки за голову, чтобы не намочить рукава телогрейки. Вид у него от этого был задумчиво-мечтательный. За отворотом шапки нелепо белела пачка папирос. Вода почти поднялась к карабину, висевшему на груди.
Андрею вспомнился стоящий у поселка памятник перевернувшимся на лодке геологам — стела из толстых деревянных брусьев, стянутых стальными скобами. «А ведь нам никакой памятник не поставят, — подумал он. — Те хоть погибли на посту, что-то там открывая, а мы замерзнем по дурости».
А Юра думал о бане, в которой он парился месяц назад у своего приятеля. Она стояла на берегу горной речки и была совсем малюсенькой. Изрядную ее часть занимала огромная железная бочка, стоявшая на печке. Чувствовалось, что баню делали скоро, топорно, с единственным желанием — побыстрее помыться. Убожество обстановки его приятель замаскировал довольно своеобразно — пол и полки были завалены душистыми пихтовыми ветками. В небольшой бане было нестерпимо жарко. Они выскакивали наружу и с размаху бросались в студеную воду реки. Ледяная вода лишь освежала. Поплескавшись, шли париться снова. Потом, утомленные нестерпимым жаром, отдыхали на крылечке. Их тела пахли пихтовой хвоей. Ветер медленно нагонял речную прохладу, густо замешенную на запахе цветущей дикой сирени.
Юра очнулся. Кто-то трогал его за плечо. Рядом стоял Андрей. Телогрейка на нем была мокрая до самых плеч. И рукава были тоже мокрые — видно, он устал держать руки на весу и опустил их вниз. Его беспрерывно бил озноб. Какими-то невидящими глазами он смотрел на Юру и дрожащей рукой стягивал с него карабин.
— Ты чего? — очнувшись, спросил Юра.
— Все равно замерзнем. Вот темнеть скоро будет, а туман не сходит. Не могу терпеть, сил нет. — И он дернул за ружейный ремень. От рывка Юра чуть не упал и сделал шаг вперед, переступив по липкому дну. В темной воде от его движения заходили буруны.
«Что же делать? — лихорадочно думал он. — Андрей совсем сдал. А ведь мужик здоровый. С ним не подерешься. Пожалуй, утопит. Может, двинуть его прикладом промеж глаз? Да, а потом держи его на плаву. Вот незадача. А крепким казался».
— Дай карабин, — хриплым голосом повторил Андрей. — Дай карабин, гад! — уже закричал он. — Все равно околеем, а так быстрее будет.
— Сейчас, сейчас, — стараясь говорить спокойно, сказал Юра. — Я сам сниму.
Он отступил на шаг, обхватил онемевшей ладонью холодный шарик затвора и пять раз передернул его. Пять патронов упали в темную воду. Андрей, шатаясь точно пьяный, подошел к Юре, схватил разряженный карабин, слабо размахнувшись, отбросил его в сторону и тихо заскулил. Юра прошел туда, где только что разошлись круги, ногой нащупал на дне оружие и попытался поддеть его сапогом за ремень, но это не удалось. Тогда он прижал ступней приклад, словно боясь, что карабин уплывет. В трех шагах от него совсем по-щенячьи подвывал Андрей.
— Тише ты, — вдруг сказал Юра и коротко ругнулся. Андрей послушно смолк.
— Слышишь? — продолжал Юра. — Ветер поднимается, волна бьет. Слышишь? Волна в лодку бьет! Лодка! Лодка рядом!
Взгляд у Андрея на секунду потеплел, и он медленно двинулся в направлении невидимого источника звука.
— Стой! — твердо приказал ему Юра. — Подойди сначала сюда.
Андрей подчинился. Живая теплота в его глазах снова исчезла. Юра взглянул в серое лицо Андрея, в его бессмысленные затравленные глаза, в которых замерзло отчаяние. «Неужели и у меня лицо такое же? — подумал Юра. — Вот жуть-то. Однако карабин доставать надо. Этого, — он бросил взгляд на Андрея, — не заставишь. Придется самому».
— Держи, — сказал он Андрею и протянул ему свою шапку, — смотри не урони, — добавил он, видя, как дрожат руки товарища, — там спички и папиросы.
Юра вздохнул и присел. Вода сомкнулась над ним. Голову будто охватило раскаленным обручем. Он схватился за ружейный ремень и вынырнул. Взяв у Андрея шапку, торопливо надел ее, прислушался, откуда доносятся приглушенные удары, и быстро пошел туда, на ходу опуская карабин в воду, чтобы смыть с него ил. Андрей шел следом.
Вдруг Юра споткнулся. «Якорный конец, — догадался он. — Слава Богу».
Через минуту он был в лодке. Андрей, забравшись в «Прогресс», упал на дно и замер рядом с калугой. Юра с сожалением посмотрел на него, вытащил якорь и пошел к мотору. Руки почти совсем отказывали, пальцы онемели. Когда он дергал стартер, со сгибов рукавов его телогрейки, пузырясь, текла темная вода.
Мотор наконец завелся. Юра сел за штурвал, дал полный газ и оглянулся на Андрея, по-прежнему неподвижно лежащего рядом с огромной рыбиной.
Сквозь редеющий туман тускло блеснула желтая точка — фонарь в поселке. Огонь несколько раз тускнел, застилаемый обрывками тумана, но не гас. Через некоторое время они причалили к дощатому пирсу.
Юра выбросил на берег якорь, взял карабин и стал поднимать Андрея. На пирсе зашевелилась темная фигура.
— Леш, ты, что ли? — спросил Юра, вглядываясь в подошедшего мужика.
— Что, Троицу праздновали? — спросил Леша, с завистью глядя на еле ворочающего языком Андрея.
— Праздновали, — ответил Юра, — помоги мне его дотащить. Они с трудом подняли мокрого Андрея и повели к дому.
— Отрежь себе калуги сколько надо, а остальное брезентом накрой. Он в кубрике.
— Сделаю. А чего вы такие мокрые? Дождя не было. Перевернулись, что ли?
— Да так, купались. Жарко было.
— А...
— У тебя бутылки не будет? Я отдам.
— Не, мы тоже праздновали. У тещи есть, но только коньяк. Ко дню рождения бережет.
— Слушай, отнеси ей рыбу, попроси бутылку взаймы. Я в город съезжу и привезу.
— Ладно, попробую. Сейчас калуги ей отнесу и вернусь.
В коридоре Юра с трудом освободил Андрея от мокрой телогрейки, сапог и брюк и втолкнул его в комнату. Потом сам, раздевшись, зашел в кладовку, снял со стены теплый свитер и суконные штаны и облачился в них. Пришел сосед с коньяком. Юра затопил печку, сунул к самому пламени дрожащие непослушные пальцы и, обжигаясь, стал их разминать, как тугое тесто. Потом открыл бутылку и разлил в три стакана коричневую жидкость. Один стакан он протянул Леше, один оставил на столе, а из своего не торопясь отпил половину. Коньяк был теплый. Юра посидел, покурил, почувствовал, что в животе разожглась маленькая печка, взял третий стакан и пошел в комнату. Он приподнял лежащего на кровати Андрея и влил ему в рот коньяк. Тот закашлял, открыл глаза, взял стакан и с жадностью выпил.
Затем Юра сел на пол, прислонился спиной к теплым кирпичам печки и стал рассказывать Леше, что случилось с ними в заливе Счастья. Потом сосед ушел. А Юра еще долго не спал. Потягивая из стакана коньяк, он возился с карабином: оттирал ил, промывал пресной водой, сушил и смазывал.
Утром Андрей, проснувшись первым, вышел в коридор. На полу окоченевшим трупом лежали его мокрые вещи: телогрейка, штаны и сапоги. В углу, жирно блестя под желтым светом электрической лампочки, стволом вниз стоял карабин. Рядом в стеклянной банке лежал затвор, залитый керосином.
ХОЗЯИН ОСТРОВА
Серо-зеленая волна медленно вздыбилась в легком морском тумане и застыла над синим горизонтом: лодка подходила к низкому острову. Показалась черная изба с посеребренной морскими ветрами дощатой крышей. Чуть поодаль от дома кособочился сарай.
Нос «Прогресса» заскрипел по гальке, стих мотор. И сразу же с этой полоски суши повеяло нагретым солнцем сосновым бором, свежим сеном и торжественным ароматом роз. Над островом пронесся ветерок и подмешал в эту чудесную палитру земных благовоний йодистую сладость выброшенных прибоем водорослей.
Рыбак, который привез меня сюда, помог перенести вещи к сараю — пустой базе зверобоев. Это было незатейливое, сколоченное из досок сооружение, обитое снаружи черным толем и от этого похожее на катафалк. В нем мне и предстояло обитать.
Прощаясь со мной, морской возница остановился на пороге и спросил:
— Хозяина острова видишь?
— Нет, — ответил я.
— Вот он. — И рыбак показал рукой на крышу соседнего дома.
Там рядом с трубой, распластавшись, лежал человек. Голова его временами испускала ослепительные лучи.
— В бинокль смотрит, — пояснил рыбак этот странный оптический эффект «ореол святого». — За нами наблюдает. Это и есть Яша, хозяин острова. Единственный коренной житель Чкалова. Ты с ним еще познакомишься. Легендарная, между прочим, личность. Хотя и тунгус, но и за границей был, и в кино снимался. Он к тебе обязательно заглянет, вот ты его и расспроси. А я поеду.
Лодка, добавив к розовому благовонию запах непредельных углеводородов, удалилась.
Внутри строения, которое на этот раз стало моим домом, было так же, как и на других становищах. На столе лежали алюминиевые ложки и вилки с почему-то разведенными зубцами, под нарами медленно прорастали клубни картошки, в углу стоял мешок с солью, а из стенных пазов торчали полоски бурой сухой травы, похожей на обрывки магнитофонной ленты.
Я положил на нары рюкзак, собрал ружье, взял бинокль и пошел на первую орнитологическую экскурсию через остров: от залива к морю.
Море, пока еще невидимое, стонало за пахнущим смолой пушистым ковром кедрового стланика. Тяжелый аромат розового масла источал шиповник. Он цвел везде — и в низинах (там его кусты были пышными, раскидистыми и высокими), и среди стланика, где он сплетался с ветвями ползучей сосны и его пунцовые цветы лежали на бархатистой зелени, как ордена на сукне защитного цвета. А на продуваемых ветрами гривках, где росла лишь северная ягода шикша и лишайник, шиповник принимал карликовую форму с двумя-тремя листочками и одним прижавшимся к земле алым цветком.
Узенькая тропка, вьющаяся среди кустов, по-немецки аккуратная, казалось, была специально посыпана мелким гравием (ложное впечатление, так как весь остров был сложен этим строительным материалом). Дорожка совсем заросла. Иногда она упиралась в глухую зеленую стену, и мне приходилось шагать прямо в колючий куст. Я раздвигал пружинистые смолистые ветки; за зелеными колючими кулисами скрывалась микроскопическая полянка, благоухающая хвойным бальзамом и розовым маслом. Здесь рос какой-нибудь особо неистовый шиповник, так жизнелюбиво усыпанный цветами, что даже просоленный морской ветер не мог выполоскать его одуряющий, въевшийся и в сосновые иголки аромат.
Я поднялся на поросшую редкой травкой гривку, на которой лежали принесенные осенними штормами полузанесенные песком белые стволы деревьев, и увидел море.
По берегу в обе стороны тянулись бесконечные ровные пляжи. Солнце спускалось через далекие облака к горизонту. Волны набегали на прибрежную отмель, вздыбливались над ней белыми гребнями и, уже обессиленные, растекались прозрачными дугами по берегу, аккуратно раскладывая бурые валики морской травы.
Я сел на матово-белый ствол плавника и прислонил к нему ружье. Приклад заскользил по песку, оставляя за собой темный влажный след.
Удивительна сила морских пространств! Здесь можно и сосредоточиться и забыться. Такие места с беспредельным окоемом располагают к размышлениям и к бездумному созерцанию мятущихся волн. А впрочем, может быть, моменты такой медитации и есть самые осмысленные минуты экспедиции, да и жизни вообще.
Вода прибывала. Вдалеке, на лайде — мелководье, обнажившемся во время отлива, дремало с десяток нерп. Среди зверей чернели два орлана. Птицы, вероятно, подсели к нерпам в надежде, что среди зверей есть не только спящие, но и дохлые, а значит, и съедобные. Прилив на этой эфемерной суше подтоплял его обитателей, и проснувшиеся нерпы начали медленно сползать в море. Орланы, как бессменные часовые, терпели до конца. Уже давно уполз последний тюлень, а птицы все стояли в прибывающей воде, сначала приподнимая лапы, потом расправили и подняли крылья и наконец, когда вода дошла им до «пояса», взлетели.
Крачки не воспринимали остров как сушу и летали над курчавыми зарослями стланика как над гребнями волн. На острове крачек ждали поморники. Они сидели группами на травянистых гривках. Как только поморники чувствовали позывы голода, они расправляли свои длинные крылья и сразу же приобретали силуэт хищной птицы. Поморник не спеша летел с неестественным для такого довольно крупного животного каким-то просящим щебетанием к ближайшей возвращающейся с моря крачке. Крачка пыталась тревожно кричать, но клюв у нее был занят рыбой, и полноценного зова о помощи не получалось. За ней неотступно следовал поморник, и эта пара — белая точка и преследующее ее темное пятно — то проносилась над самыми кустами стлаников, то падала к волнам, то взмывала высоко вверх. Обе птицы, казалось, хорошо знали, чем кончится эта погоня. Крачка как-то нехотя уходила от преследования, поморник с заметной ленцой догонял ее.
Наконец жертва разбоя, видимо решив, что она сопротивлялась положенное время, бросала добычу и вновь летела к морю, на рыбалку. А поморник, сложив крылья, ловко, у самой земли на лету ловил брошенную рыбешку и возвращался на свой наблюдательный пост.
Пустынность ровного пляжа нарушал огромный, как царь-колокол, ржавый и от этого красный, как кремлевская стена, котел старого рыбного заводика. Его бок был изрыт пулевыми оспинами. Видимо, хозяин острова часто не мог сдержаться, чтобы не выстрелить в такую удобную мишень. Соблазнился и я, и кусок ржавчины бурой бабочкой слетел с котла.
Я прошел километра два по побережью. На острове, метрах в трехстах от берега, виднелось какое-то сооружение. Я свернул к нему. На разъеденном бетонном кубическом основании был установлен металлический штырь с прикрепленным к нему силуэтом самолета. На зеленой медной доске, вмурованной в бетон, можно было прочесть следующее:
«На этом месте 22 июля 1936 г. в 13 часов 45 минут в сплошном тумане с исключительным мужеством и мастерством Валерий Чкалов произвел посадку самолета АНТ-25 № 025, закончив первый в истории авиации сверхдальний беспосадочный перелет протяженностью 9374 км, из них 5140 над морями Северного Ледовитого океана и Охотским морем. Время перелета 56 часов 20 минут. Шест установлен в 1936 г. Реставрирован в 1981 г. НАО ДВГУГА».
Я оглядел штырь, бывший, по-видимому, некогда антенной АП-25, пустые бутылки и стреляные гильзы от ракетницы — свидетелей юбилеев славного перелета — и возвратился на берег.
Солнце садилось. Нельзя сказать, что жизнь на побережье била ключом. Я встретил лишь торопливо убегающего по пляжу зуйка, пролетевшего у самого уреза воды мелкого серого буревестника, выброшенного штормом дохлого, основательно объеденного собаками дельфина и плывущее вдалеке судно, расцвеченное огнями, как новогодняя елка. Да еще на матово-сизой, муаровой от ряби поверхности моря периодически беззвучно появлялись гладкие, блестящие спины белух. Скоро серые сумерки съели их белые тела, залив суриком горизонт и смешав к ночи небо с морем.
Пора было возвращаться. Дорожку среди стланика совсем не было видно в зеленой мгле. Лишь редкие белые камушки на тропинке указывали путь.
К вечеру каждый сосновый куст распускался, каждая веточка раскрыла бутоны иголок, вобрав в себя таинственную объемность ночи. И я уже шел сквозь серый, пружинистый, пахнущий смолой и розами колючий туман.
Когда ярким приморским солнечным утром я вышел из своего барака, меня встретили с десяток лаек хозяина острова. Это были разномастные, но все очень крупные псы с огромными медвежьими головами, ободранными в драках ушами и страшно худые. Позже я узнал, что Яша кормил их только зимой, когда собаки таскали нарты. В бесснежный период нарты бездействовали, и лайки стаей голодных волков рыскали по острову в поисках пропитания. После моего появления на Чкалове собаки стали дежурить у становища зверобоев. В некоторые моменты, особенно когда я привык оставаться в одиночестве, десять пар внимательных глаз меня сильно нервировали.
Из окна своего дома я тем же утром увидел Яшу. Он задумчиво постоял у своей избы, потом прошел по тропинке метров пятьдесят и остановился у одинокого креста. Ветерок шевелил цветы росшего рядом шиповника. В утренних лучах пролетающие над Яшей крачки казались розовыми. Яша, качая головой, постоял в раздумье у могилы, медленно опустился на колени и стал гладить невысокий зеленый холмик. Такая сентиментальность нечасто встречалась мне на Дальнем Востоке. Твердо сознавая, что поступаю дурно, подглядывая за человеком в самые интимные моменты его духовной жизни, я тем не менее снял с гвоздя бинокль. Яша продолжал так же ласково водить руками по могильному холмику: он собирал и ел шикшу.
К вечеру, когда я, вернувшись с похода по острову, растопил печку и стал разжаривать на сковородке макароны с тушенкой, в гости пришел хозяин острова. Он был в старой промасленной телогрейке, широченных шерстяных галифе, резиновых сапогах и шапке-ушанке с кожаным верхом. У Яши на подбородке росла седая щетина, редкая, как у всякого монголоида. Лицо его совсем не было похоже на лица нанайцев, ульчей и орочей, которых я привык видеть в Нижнем Приамурье. Яша был из вымирающего племени нивхов.
Выпить у меня не было (точнее, конечно, было, но экспедиция только начиналась, и я решил попридержать свой спиртовой НЗ). Я пригласил Яшу поужинать со мной. Макароны он есть не стал, а от чая не отказался.
Разговор начался по схеме, привычной для меня за многие годы экспедиционных скитаний и общения с местным населением.
Яша, как и другие, спрашивал, откуда я, неужели из самой столицы (странно, но почти все аборигены считают, что все, кто называет себя москвичами, безбожно врут и на самом деле живут в соседней деревне или, на худой конец, в пригороде), зачем я изучаю птиц, почему не исследую лахтаков[23], нерп, белух или в крайнем случае калугу или горбушу.
Я уже привык к такого рода вопросам и последующим рекомендациям такого же плана. В зависимости от географической точки, где происходил разговор, мне советовали заниматься сайгаками, северными оленями, косулями или архарами. Я так же стереотипно отвечал, для чего существует наука орнитология и какие выгоды она приносит народному хозяйству, ну и мне заодно. Постепенно разговор с птичек перешел на остров Чкалов, на залив Счастья, Приамурье, на судьбу Союза и Яши.
Яша был родом из стойбища Коль. Из воспоминаний детства у него остались шаманы с бубнами и медвежий праздник. Он вспоминал, как отец с другими мужчинами рода ходил в море на длинных лодках-гилячках ставить сети на кету и калугу и бить из берданок и карабинов лахтаков и акиб[24]. Он помнил, что давным-давно в поселке на берегу стояла бревенчатая вышка. Во время осеннего хода кеты и горбуши, в сезон, когда за косяками рыбы шла белуха, на наблюдательный пост поднимался человек. Когда белые дельфины приближались, на вышке появлялся знак — красный революционный флажок, и в прибойную волну сталкивались узкие тупоносые лодки, в воду врезались остроклювые весла, и суденышки неслись к вздыхающим зверям.
Селение, где родился Яша, было самое последнее нивхское стойбище — дальше шли земли эвенов. Своеобразный нивхский форпост закалил характер тамошних мужчин. Недаром по всему низовью Амура говорили: «Колинские гиляки — злые гиляки».
В этом поселке Яша научился ловить и разделывать красную рыбу и морского зверя, привык есть морскую капусту — ламинарию, «путь-путь» и «пук» — носовые хрящи живой кеты и горбуши.
Яшина семья перебралась южнее, на остров Удд, в 1936 году, именно тем летом, когда на эту полоску суши сел, вернее, почти упал, огромный самолет.
Летчиков поселили в лучшие дома в колхозе (тогда здесь находились и большой поселок, и рыбоперерабатывающая фабрика). Скоро героев увезли в столицу. Позднее пришла баржа с лесом, прибыли военные чины, и всех колхозников согнали строить длинный деревянный настил, чтобы отремонтированный механиками чкаловский самолет мог свободно, не зарываясь колесами в мокрый гравий, разбежаться и взлететь.
Результатом этого перелета было переименование трех островов — Удда, Лангра и третьего, названия которого сейчас уже никто не помнил, в острова Чкалов, Байдуков и Беляков. Последнему авиатору досталась самая маленькая, округлая, возвышающаяся над морем часть суши. В народе его новое имя не прижилось, и он стал зваться Коврижкой.
Залетные герои не забыли гостеприимства нивхов, и однажды из Николаевска на катере им привезли столичные подарки от отважных авиаторов: женщинам — швейные машинки, мужчинам — винчестеры (вскоре, впрочем, отобранные НКВД).
Яша вырос, повзрослел, и его призвали в армию. Нивха как представителя малой коренной народности оставили служить на родине, и он строил стратегическую лиственничную лежневку от Николаевска до Стасьева, а потом рыл окопы на самом берегу Охотского моря.
От устья Амура до самого Владивостока по берегам Охотского моря, Татарского пролива и Японского моря тянулись линии окопов, подземных галерей, таились спрятанные в прибрежных скалах крепости, по своей мощи намного превосходившие военные укрепления вокруг Москвы. Японцев, которые так и не напали на Советский Союз, ждали и у Стасьева — маленького поселка в заливе Счастья. Там, на морском берегу, в сыром торфянике мне попадались заплывшие траншеи и сгнившие столбы с колючей проволокой. В лесу встречались заросшие толстыми пихтами и елями окопы, глубокие блиндажи и землянки с осевшими бревенчатыми перекрытиями, в которых даже в середине лета не таял лед. Возможно, что их-то и строил Яша.
После службы Яша пробыл дома недолго: началась война, и его призвали снова. Неторопливое существование Яши в заливе Счастья было прервано, и дни стремительно понеслись. Яша, видевший в своей жизни только один большой город — поселок Пуир, попал сначала в Николаевск, а оттуда — в Хабаровск. За четыре месяца Яша окончил военную школу и вышел оттуда пулеметчиком. Появилось у него и новое воинское звание — сержант, которым Яша очень гордился.
Боевое крещение Яша получил под Москвой в ноябре 1941 года. Он был в так называемых сибирских частях.
О начале своей военной карьеры он вспоминал не то чтобы неохотно, но как-то буднично, рассказывая мне о войне как о рыбалке или о промысле морского зверя. Больше всего ему запомнилась не блиндажная жизнь, не разведка боем, не артобстрелы и вообще не немцы, а коварные мартовские морозы, когда пригревающее днем солнце скрывалось к вечеру за горизонтом и на пехотный полк опускалась по-февральски лютая ночь.
Яша прервал свой рассказ, закатал рукав и показал мне след старой раны. На неожиданно белой для монголоида коже розовел шрам.
После госпиталя Яшу за полгода переучили на танкиста — он стал механиком-водителем. Сам Яша рассматривал свою новую военную специальность с чисто практических позиций.
— Когда я служил в пехоте пулеметчиком, было хуже, — говорил он. — Хоть пулемет и стреляет не в пример шибче карабина, но тяжелый, зараза! Поноси-ка его станок в пешем строю! Он тридцать два килограмма весит! А танк сам тебя возит! Красота!
И вообще у Яши был оригинальный, совершенно новый для меня взгляд на Великую Отечественную войну.
— Не будь этого Гитлера, — говорил бывший пулеметчик и гвардии механик-водитель, — я всю жизнь на острове и просидел бы. А так я на своем танке где только не побывал. И Европу посмотрел, и Китай.
Яша и горел в танке, и был легко контужен, сменил машину и командира. На европейском театре военных действий он закончил свой боевой путь на берегу курортного озера Балатон.
В июле 1945 года Яшин полк погрузили в эшелон и повезли туда, откуда он пришел своим ходом на «тридцатьчетверке». Поезд шел стремительно, без остановок. Эшелон достиг столицы, миновал ее и так же безостановочно заспешил на восток, все ближе и ближе к родным местам Яши. Но поезд не довез танкиста до дома, а свернул где-то у Читы на юг и остановился на станции Даурия. Там танкисты разгрузились и маршем дошли до поселка Дурой. Только здесь личному составу объявили, что Советский Союз будет воевать с Японией.
Яшины воспоминания о пребывании на севере Китая были тоже довольно тусклыми. Видимо, война ему порядком надоела, да и маньчжурские леса и сопки были похожи на знакомую дальневосточную тайгу, в отличие от европейских парков и дубрав, что также снижало яркость восприятия.
Я смог вытянуть из него лишь несколько эпизодов, относящихся к этой кампании.
Как только танковый полк занял плацдарм и личный состав был построен на плацу перед машинами для уяснения боевой задачи, командир приказал Яше:
— Старшина Таркун (к тому времени Яша был уже старшиной)! Старшина Таркун, выйти из строя на пять шагов!
Яша шел и думал: «За что же это меня? Награду давать — вроде еще рано (у него было уже 4 медали), взыскание накладывать — пока еще не за что».
Яша сделал свои пять шагов и развернулся лицом к строю. А подполковник разъяснил личному составу, зачем он вызвал Яшу.
— Товарищи бойцы, — сказал командир. — Вот примерно так выглядят японцы, наши противники. Но это не японец, а тунгус (подполковник не слышал про такую национальность — нивхи), наш боевой товарищ. Запомните его и не путайте с самураем. А ты, — он обратился к Яше, — держись своего взвода и ходи все время с друзьями, а то кто-нибудь слишком бдительный тебя пристрелит или будут таскать в штаб как вражеского лазутчика. Встать в строй!
С такими напутствиями 9 августа 1945 года началась Яшина служба в Маньчжурии, а уже 10 августа их полк занял город Хайлар.
Яша ничего не рассказывал мне о военно-этнографической экзотике, о смертниках, прикованных к пулеметам, о людоедских самурайских обычаях, о изощренных пытках с использованием бамбуковых палок. Не говорил он ни об изображении цветка сакуры на самурайских мечах, ни даже о хаси — палочках для еды. Зато он с удовольствием вспоминал о посещении кабаков и публичных домов.
В одном питейном заведении черт дернул попросить у хозяина приглянувшуюся бутылку. Танкиста прельстил не только насыщенно-зеленый цвет жидкости, но и форма бутылки. Сосуд имел облик слона. Нивх уже успел перепробовать в Европе множество крепких напитков. А здесь, в Азии, его потянуло на хоботных.
Дегустация эта вышла Яше боком. Хозяин кабачка, скрытый гоминьдановец, увидев своего соотечественника в форме советского танкиста, не стерпел и что-то тайно подсыпал в Яшино пойло (что-то типа купороса, как говорил мой собеседник). Нивх, выпив слоновой настойки, обжег себе горло и пищевод и попал в госпиталь. Только теперь я понял, почему при разговоре Яша как-то странно сипел.
Кончилась эта история прозаично. Полк уходил из города, а на прощание Яшины боевые товарищи бросили в окно негостеприимному гоминьдановцу противотанковую гранату.
А ровно через два месяца после ее взрыва поправившийся, но навсегда потерявший способность громко говорить Яша распрощался с полком, пересек границу Советского Союза и уже на цивильном транспорте — поезде, пароходе и, наконец, на лодке-гилячке — добрался до дома.
Мы еще долго разговаривали с хозяином острова о войне, потом снова перешли на залив Счастья, коснулись его обитателей, и наконец дело дошло до птиц.
— А у меня несколько птичьих колец есть, — вспомнил Яша. — Они тебе нужны? Пошли ко мне, они у меня дома лежат.
Мы миновали его огород, завешанный рыболовной сеткой от чужих ворон и своих собак, сарай, все стены которого были увешаны красными тушками сушащейся юколы[25], и вошли в низкую избу.
С притолоки единственной комнаты длинными мухоловными бумажками спускались сушащиеся листья морской капусты. Посреди комнаты стоял стол, заставленный грязной посудой. На краю стола лежала единственная в доме, страшно потрепанная книга — «Валерий Чкалов».
Яша пошарил на подоконнике и достал пригоршню алюминиевых колец.
— На, — протянул он мне их. — Только охотинспектору не говори, он давно подозревает, что у меня незарегистрированное ружье есть.
Через неделю я вновь на попутной лодке рыбака, а может, просто браконьера (в устье Амура это всегда одно и то же) плыл среди прядей ползущего с моря тумана на другой остров, в селение, названное в честь друга и соратника Чкалова. Там был магазин.
Возможно, в далекие времена поселок, переименованный позднее в Байдуково, и был центром цивилизации. Сейчас же девять из пятнадцати домов были разрушены, а на единственной улице длиной около двухсот метров четыре кобеля задумчиво обнюхивали суку, а в конце проспекта вопил безмозглый кулик-травник, сообщая всем и каждому, что у него там находится гнездо.
На «набережной» — песчаном берегу — лежала гигантская шестеренка корабельного двигателя. На ней, словно на пуфике, сидели трое пожилых местных жителей тоже из племени нивхов и задумчиво созерцали пасмурное устье Амура. Наше появление не исказило аскетических лиц приморских аксакалов.
— Водки нет, — грустно сообщил рыбак, хотя мы еще не дошли до магазина. — Те трое, что на берегу сидят, дожидаются, когда катер придет, — пояснил он свою прозорливость.
— И долго они так будут сидеть? — полюбопытствовал я у знатока местных обычаев.
— А катер без расписания ходит. Раз в месяц. Вот они и ждут его все время. А что им еще делать? Ну иди отоваривайся, я тебя на улице подожду.
Купив в магазине масла, макарон, банку зеленого горошка, рыбных консервов и подозрительной карамели (сахар на острове был дефицитом по причине его простейшего трансформирования в огненную воду), а также дешевую польскую фланелевую рубашку апельсинового цвета и поседевший от времени томик Плутарха, я вышел на собачий проспект. Свадьба была в разгаре. Браконьер лениво ее комментировал.
Мы вернулись на берег. Один из нивхов, сидевший на шестеренке, оторвался от стального седалища и подошел ко мне.
— Ты со Чкалова? — спросил он.
— Оттуда.
— Как там Яшка, наш председатель?
— Председатель? — насторожился я, почувствовав, что открывается новая страница Яшиной биографии.
И скучающий нивх, временами сглатывая слюну и вглядываясь в пустынный горизонт, поведал мне следующее.
Только через полмесяца Яша добрался от китайской границы до своего поселка. Здесь все было по-прежнему. Низкие морские облака, больше похожие на туман, наползали на берег с Охотского моря. Штормы разбрасывали по бесконечным пляжам бревна, бочки, деревянные ящики, кухтыли с оборванных сетей, а временами — и дохлых дельфинов. Осенью в устье Амура, как в огромную воронку, древний инстинкт загонял серебристые косяки кеты и горбуши, а следом за ними плыли лупоглазые нерпы и тяжело вздыхающие белухи. И люди продолжали рыбачить и охотиться, согласуя свою жизнь с жизнью моря, залива и реки.
От войны на родном Яшином острове остались лишь воспоминания о тяжелом угаре путин да еще туманная молва о фантастическом спецзаказе. За четыре месяца до окончания войны по всем засольным чанам Дальнего Востока по чрезвычайному распоряжению из Центра искали самую большую Красную Рыбу. Через шесть часов после получения приказа огромную чавычу нашли где-то на Камчатке и срочно, на военном самолете, отправили на запад, в Ливадию.
Как говорили, британский премьер-министр, гостивший в Крыму, обронил в присутствии Хозяина несколько слов об этом знаменитом русском деликатесе. И через день ему сделали подарок: два лейтенанта внесли в белый зал Ливадийского дворца поднос, на котором лежала колоссальная рыбина.
После возвращения к родным пенатам Яша пропьянствовал целую неделю. Тяжелый ритуал был прерван председателем колхоза. Бывшего танкиста вызвали в контору и огласили решение, принятое правлением: Яша, как один из немногих имеющий среднее образование и две специальности (правда, обе — военные) и бывший за рубежом, назначался заведующим магазином и продавцом одновременно.
Он успешно проторговал целый год. За это время он пообвык, медленно отходя от цивилизованных благ Восточной Европы к первобытной дикости Дальнего Востока.
Летом он, вспоминая стародавнее приморское существование, ставил аханы[26] на калугу, осенью сетями ловил знаменитую по всему Амуру байдуковскую кету, такую жирную, что ее на сковороде можно было жарить без масла, зимой из-подо льда добывал навагу. А весной, сразу же после ледохода, в Амур шла сладкая, пахнущая свежими огурцами корюшка. Засоленная и провяленная, она давала сто очков вперед знаменитой волжской вобле.
Яша за время военной кампании не забыл, как обращаться с веслом и сетью, помнил основные проходы между лайдами, мог правильно надеть алык на собаку и одним движением ножа распластовать даже самую большую кетину, готовя рыбу к засолке. Но в голове у него уже зрели какие-то свои планы.
Об этом стали поговаривать, когда Яша собрал у своих приятелей восемь собак и купил у старика соседа за бутылку водки сломанные нарты.
Собак он начал интенсивно откармливать юколой и всячески заботился о них (к старости эта привычка, по моим наблюдениям, очень сильно редуцировалась), а нарты починил.
Пошел второй год царствования Яши в магазине. Поздней осенью ветки кедрового стланика, словно почуяв близкие морозы, пригнулись к самой земле. Когда выпал снег, оказалось, что весь невысокий, распластавшийся лес скрылся под белыми сугробами. Именно в это время односельчане, придя однажды в магазин, увидели его открытым настежь. Сам Яша отсутствовал. Продавца заменяло белое полотнище, склеенное из страниц трех школьных тетрадей. На полотнище аршинными буквами хозяин магазина информировал односельчан, что он на месяц отправляется по замерзшему заливу в тайгу, на материк. На охоту. А если кому что надо в магазине, то пусть берет, но деньги платит. Для денег Яша поставил на прилавок пустой бидон — видимо, вспомнив европейские церковные кружки.
Нивхи удивились нововведению — первому в Советском Союзе универсаму и сперва даже не решились зайти внутрь. Послали гонцов к Яшиному дому. Там не было ни его, ни собак. А старик сосед сообщил, что вчера продавец погрузил припасы в нарты, запряг собак и отбыл в неизвестном направлении.
Народу ничего не оставалось делать, как внять призыву Яши и перейти на самообслуживание и саморасчет, вспоминая лозунг «Совесть — лучший контролер».
Эксперимент в Байдукове по введению прогрессивного метода торговли наверняка бы прошел успешно. Зимой селение было изолировано от пришлых людей, а соотечественники относились к бывшему фронтовику с большим уважением и искренне не хотели его подводить.
Но ни Яша, ни его односельчане не учли одного: честными и рассудительными нивхи были только в трезвом состоянии. А в магазине Яши стоял весь зимний запас водки. С него-то местные жители и начали производить закупки, а потом и просто изъятие товаров. Байдуковцы уже после первой распитой тут же в магазине бутылки водки забывали опускать деньги в кассу-бидон.
Председатель колхоза тоже не проявил должной бдительности и спохватился только после того, как на улицах поселка во множестве стали появляться бесчувственные тела односельчан. Спешно назначенный заместитель Яши был поражен. Пьяные нивхи помародерствовали на славу, украв кроме водки массу товара, в том числе и единственный на острове велосипед.
В общем, когда радостный после удачной охоты Яша на сытых собаках приехал в поселок, он только и успел похвастаться соседу трофеями — лисьими и соболиными шкурками, как его во второй раз в жизни повезли в Хабаровск. На этот раз под конвоем.
Факт преступной халатности был налицо. Яшке грозил весьма реальный срок, заметно превышающий его военную эпопею. Но все обернулось иначе.
Материалы Яшиного дела попали к какому-то ненормальному следователю, который отнесся к продавцу по-человечески. Яша рассказал ему о своей фронтовой судьбе. Следователь, оказывается, тоже воевал в Маньчжурии. По документам он знал о Яшиных ранениях и наградах. Представлял он и жизнь на Байдукове. И белый человек понял азиата. Он сказал:
— Ну вот что, Яков Степанович. Вы, конечно, виноваты. Но советские законы — гуманные законы. Возвращайтесь к себе на остров и живите там. Только, ради Бога, не устраивайте больше коммунизма. Нам до этого еще ох как далеко.
Сказав это, он отпустил Яшу. И продавец вернулся на остров.
— Амнистию дали, — объяснил он председателю колхоза. Естественно, после попытки Яши организовать на острове взаимоотношения «каждому — по потребностям», из-за того что потребности в водке оказались неограниченными, бывшего танкиста к материальным ценностям больше не подпускали.
Яша перебрался на соседний остров Чкалов, устроился там на рыбоперерабатывающую фабрику и женился.
Шли годы. Рыбы в море стало меньше, фабрику закрыли, колхоз распался, а Яша ушел на пенсию. Люди стали покидать Чкалов и селиться в соседних поселках. Жена Яши умерла, и через несколько лет он остался один на острове, в единственном уцелевшем доме у единственного сохранившегося колодца с пресной водой. Поселок разрушился, на месте рыбоперерабатывающей фабрики остались лишь огромные, вкопанные в землю деревянные бочки — засольные чаны, которые заполнялись трупами случайно свалившихся туда лисиц. Да на берегу лежал треснувший ржавый котел, такой огромный, что море ничего не могло с ним сделать: ни унести, ни замыть песком. Яша изредка навещал котел, стрелял в него и смотрел, как отскакивает от проржавевшей стали слоистая ржавчина.
Нивх вернулся на свою наблюдательную шестеренку, а я пошел к стоящим в стороне деревянным домикам, где жили зверобои. Там два оборванных субъекта перебирали огромный невод. Еще двое мужиков пиратского вида точили напильниками ржавые гарпуны. Повсюду валялись канистры и бочки из-под бензина, обрывки сетей и якоря, сваренные из гнутых ломов. У стен сараев рядами стояли лодочные моторы. Собаки грызли обрубленные хвосты белух.
Главарь этой компании, мой давний знакомый, сидел на берегу за дощатым столом и смотрел на море, как мне показалось, тоже в ожидании катера. Но я ошибся: он наблюдал за оранжевым шаром — буем, который качался на волнах метрах в ста от берега. Шар неожиданно дернулся и, как поплавок огромной удочки, ушел под воду.
— Во дает! — прокомментировал поведение буя атаман. — Уж неделю на привязи сидит, а силы в нем еще ого-го! Здорово, Володя! — И он протянул мне руку с таким видом, как будто мы с ним расстались не два года назад, а вчера. — Мы его за хвост привязали и не кормим. Думали, маленько поутихнет, а он все такой же злой. Наверное, все-таки умудряется кету ловить, сейчас как раз ход начинается.
Буй всплыл, и я наконец понял, о ком идет речь, — рядом показалась спина огромной белухи.
— Восемь штук уже поймали, — продолжал бригадир. — Из Владивостока на них заказ пришел. Военные над ними опыты ставят. Каждый день вертолет сюда гоняют. По одной белухе перевозят, в огромной ванне. Они у нас, кроме вот этого, — и он кивнул на буй, — в заливчике сидят, сеткой от моря отгорожены. Мы их каждый день рыбой кормим. Не знаешь, зачем они воякам? И я не знаю. Но большие деньги за каждого зверя платят. Вот мы и подрядились их неводом ловить. А ты откуда? Со Чкалова? Как там Яша, комендант острова? А ведь он вот на этом самом месте когда-то белух тоже ловил. То есть не сам, конечно, а в колхозе. Как их тогда называли — национальный колхоз. И ловили, и сало топили. И на Байдукове, и на Чкалове, и на Петровской Косе, и по всему Охотскому побережью когда-то такие колхозы стояли — вон сколько зверя и рыбы было. А теперь только мы и ловим, да и то план дали — курам на смех: восемь военным, четыре на звероферму — норок кормить. Разве это промысел? Ну а сейчас ты куда? — спросил атаман.
— Хочу добраться до Стасьева. Там мне с неделю поработать надо: жаворонков пострелять.
Бригадир знал меня давно и не удивился, что я целую неделю буду охотиться на такую мелочь.
— А кто тебя повезет?
— Да вот посижу на берегу, — и я кивнул на шестеренку, — подожду, может, какая попутная лодка будет.
— Этак и месяц прождать можно. Давай я тебя подброшу. Все равно сегодня неводить не будем.
Мы погрузились в лодку, и «Прогресс» двинулся в сторону Стасьева. Лодка проходила мимо высокого каменистого, заросшего травой островка. Над его крутыми скалистыми берегами кружились стрижи.
— Знаешь, как этот остров называется? — спросил меня бригадир.
Я сказал, что знаю.
— Правильно, Коврижка. А по картам — остров Белякова. А до 1936 года еще как-то назывался, по-моему Кетморстос. Да ты у Яши спроси. Его, кстати, вот на этой Коврижке лет пять назад в кино снимали.
И зверобой рассказал мне еще один эпизод из жизни хозяина острова.
В стародавние времена нивхи ежегодно устраивали медвежий праздник. Они покупали у нанайцев или эвенов зверя, держали его в неволе и досыта кормили. А осенью устраивали особое действо, во время которого восхваляли медведя, их предка и родственника, просили у него удачи на охоте и отсылали его к богам, убивая стрелой из лука. После этого зверя свежевали, варили и съедали, как бы всем родом причащаясь телу праотца.
Московские киношники, прослышав об этом обряде, очень захотели снять фильм из жизни нивхов, и обязательно — медвежий праздник. Они приехали в низовья Амура, набрали по поселкам массовку, причем вместе с нивхами попались якуты, нанайцы, ульчи, двое татар, кореец и даже один туркмен. Где-то в зверинце документалисты взяли напрокат за приличную сумму медведя. Все было готово для праздника: и остров Коврижка, живописно возвышающийся над волнами, и массовка, и медведь. Не было только старейшины, знатока обрядов. Режиссер уже хотел было лететь в Хабаровск за консультантом, но кто-то из массовки вспомнил, что живущий на соседнем острове Яша сам в детстве принимал участие в медвежьем празднике и наверняка знает, что надо делать.
Яшу срочно доставили на Коврижку. Его для большей экзотики обрядили в перья, обглоданные кости, бусы из медвежьих когтей и клыков, дали в руки реквизит — большой бубен, а для раскованности налили стакан водки. И бывший пулеметчик, бывший водитель танка, бывший директор магазина и бывший строитель коммунизма на отдельно взятом острове, будучи безобразно пьяным, беспорядочно ударяя в бубен, затянул песню, слышанную им в молодости в маньчжурском публичном доме.
По замыслу режиссера в кульминационных кадрах переодетый в шамана Яша должен был взять лук, наложить стрелу, прицелиться и выстрелить якобы в медведя. А дальше, после затемнения, по сценарию шли кадры нивхского карнавала вокруг убитого зверя (медвежью шкуру на этот случай режиссер припас заранее).
Но Яша нарушил все творческие планы режиссера. Он, нетрезвый, совершенно не умея пользоваться спортивным луком, который протянул ему помреж, очень ловко расстрелял несчастного казенного медведя из заранее припасенной двустволки.
Московские кинематографисты онемели. Зато массовка быстро сообразила, что делать дальше. И уже через час освежеванный зверь жарился на огромном костре.
Два дня режиссер, оператор, помреж и остальные москвичи, а также Яша и вся массовка пьянствовали на острове, причащаясь столичной водкой и медвежьим мясом.
Протрезвевший в Москве режиссер вырезал из картины расстрел медведя как слишком натуралистическую сцену, а маньчжурскую песню заменил траурным маршем Шопена. Но пляшущего с бубном Яшу оставил.
Мы добрались до Стасьева. С десяток черных домов выстроились корявой шеренгой вдоль берега залива. Все строения для пущей экономии тепла были обиты толью, как и мое жилище на Чкалове. От этого весь поселок очень походил на зону. В огородах росли чахлые кустики никогда не плодоносящей смородины и бесхлорофилльные побеги картошки. Единственная улица упиралась в площадь, которую окружали склад, магазин (его легко было определить по лежащим на задворках кучам пустых бутылок и штабелю деревянных ящиков), клуб, в котором не стихал стук бильярдных шаров, баня, сельсовет и почта с симпатичной заведующей — метиской.
Однообразие жизни в этом населенном пункте скрашивали периодические приливы, доходившие до самых домов, неугомонный нрав председателя сельсовета (я с ним быстро познакомился), который ласково звал своих подопечных «менингитными» и разъезжал по населенному пункту размером чуть больше гектара на безжалостно тарахтящем мотоцикле, ежемесячный завоз водки (большой праздник), еженедельный прилет вертолета с почтой (просто праздник), ежегодное прибавление в семействе электромонтера (нейтральное событие), осенняя путина (всенародное сезонное явление). В последнем случае из города по раскисшей от дождей, построенной еще Яшей лиственничной лежневке приезжали на машинах браконьеры, милиция и рыбинспекция. Первые ловили рыбу, остальные — их, но все привозили водку, которая частично растворялась и в желудках стасьевцев.
Прожив несколько дней в этом «национальном» поселке, я искал там хоть что-нибудь этнографическое: лодку, сеть, гарпун, нарты, одежду или украшения — хоть какие-то следы культуры древнего приморского народа. Но ничего не было. Все этнографические экспонаты давно находились в музеях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска.
Русский председатель правления, однажды услышав мои стенания, сказал:
— На окраине села нивх живет. Он недавно нож отковал. Говорит, что по старинным образцам. Хочешь посмотреть? Мне с ним надо кое о чем потолковать, а ты нож поглядишь, а заодно посмотришь, как они здесь живут.
Мы вошли в сумрачные сени окраинного дома. В углу на крюке висело полтуши калуги. Отсутствие в Стасьеве постоянного электричества, а значит, и холодильников превращало всякую свежую рыбу уже через сутки в собачий и свиной корм. Председатель и я, миновав полутемную прихожую, полную висящих на стене телогреек, рыжих клеенчатых рыболовецких костюмов и стоящих резиновых сапог, вошли в небольшую кухню.
— Петя, ты дома? — громко спросил председатель.
— Дома, — ответил голос из комнаты, — заходи.
Мы вошли в комнату. Интерьер ее был скромным: под низким черным потолком отслаивались куски штукатурки, на бревенчатых стенах топорщились лоскуты обоев, на полу, у занавешенного какой-то тряпкой окна, на длинных тонких ножках стоял цветной телевизор и показывал программу «Время». В другом конце комнаты стояла кровать, под которой была насыпана куча картошки. На панцирной сетке лежал мужчина в телогрейке, шапке-ушанке и охотничьих сапогах с раскатанными, поднятыми до бедер голенищами. Мужчина курил и смотрел телевизор.
Председатель поговорил с горизонтально расположенным Петей о приливе и завтрашней рыбалке.
— Вот Володя, кстати, хотел посмотреть, какие ты ножи делаешь. Все пристает ко мне, хочу, мол, посмотреть настоящий нивхский нож. Покажи!
Петя нехотя встал с кровати, вышел в сени и принес оттуда нож в ножнах из нерпичьей шкуры. Он и вправду был хорош, из отличной стали, зеркально отшлифованный, на деревянной, с красивым узором ручке. Точная копия американской модели «Скиннер», фотография которой была в прошлогоднем журнале «Охота».
— Вот так они здесь и живут, — выйдя на улицу, сказал мне председатель. — А ты говоришь «этнография»! Испортил их белый человек. Им теперь только водка да телевизор нужны. А когда водки много, то и телевизора не надо. Петя — он хоть что-то делает. Но, пожалуй, таких нивхов, которые старинные ремесла знали, здесь не осталось. Об обычаях вообще не говорю. Русские пришли — все исчезло. Им ведь и зарплату сейчас платят только за то, что они гиляки. И рыбу красную дают ловить, и нерпу бить. А русским, которые здесь же родились, не дают. Нацией не вышли. А нивхи рыбу ловят и русским на водку меняют. Вот тебе и этнография.
Темнело. Сизигийный прилив подошел к самому поселку. Невидимые дикие утки крякали прямо из кустов смородины. Председатель вскочил в седло своего мотоцикла и умчался к недалекому сельсовету.
В полночь, по обычаю почти всех небольших автономных дальневосточных поселков, стих дизель местной электростанции. После минуты кромешной тьмы повсюду в окнах стали зажигаться уютные огни керосиновых ламп. К отделению связи с банками беловатой браги потянулись поклонники почтальонши. В клубе бильярдные шары продолжали трещать при свечах. С залива зычно закричала гагара. Кто-то, еще не усыпленный телевизором, вышел на улицу и, включив транзистор, быстро поймал «Голос Америки». Ночным патрулем прогрохотал на своем мотоцикле неугомонный председатель, обрызгивая желтым светом фары редких обывателей, жмущихся к черным домам. Над островом Чкалов дрожало зарево, освещая снизу тугие багровые завитки дыма: там городские браконьеры спьяну зажгли кедровый стланик.
Через неделю я на очередной попутной лодке выбирался из залива. Когда она проходила мимо Чкалова, я увидел черные, обугленные, лишенные хвои и просвечивающие насквозь кусты кедрового стланика. Сгорел и весь шиповник. И поэтому, когда мы пристали у Яшиного дома (я хотел проститься с хозяином), оказалось, что остров больше не благоухал сосновой смолой и розами. Сладкий запах пожарища стелился над землей, смешиваясь с вечным морским йодистым ароматом. Лишь поморники все так же гоняли крачек над почерневшим островом. Дом Яши был закрыт.
Голодные собаки сидели под стеной сарая и смотрели на висящую юколу.
Через час мы проходили мимо Байдукова, мимо становища зверобоев, мимо ныряющего на волнах оранжевого поплавка, мимо огромной, лежащей на самом берегу шестеренки, на которой по-прежнему сидели нивхи, высматривая долгожданный катер. Среди них я увидел и Яшу и помахал ему рукой. Но он не заметил меня — вместе с другими стариками он вглядывался в устье Амура.
СНЕЖИНКА
Рукоятка семафора в ходовой рубке небольшого корабля гидрологической службы была сдвинута в положение «Самый полный». Город приближался. В наступающем вечере неярко запульсировал маяк, бело-желтые гирлянды огней вдруг повисли над набережной, а на улицах заметались бледные лучи автомобильных фар. Судно уже прошло мимо порта, мимо доков, мимо пограничного катера с зачехленной круглой башенкой, из-под дырявого брезента торчал тонкий ствол скорострельной пушки.
Редкие вечерние зеваки долго судачили на пирсе: корабль гидрологов, спешивший в город, неожиданно замедлил ход, развернулся на 180° и быстро исчез в тени нависающей над Амуром сопки. На гребнях тянущихся за ним невидимых волн осколками драгоценных камней отсвечивали габаритные огни: слева — изумрудами, справа — рубинами. А от причала, одновременно тронувшись с места, ушли в город две машины.
День выдался ясный: Сахалин и материк были одинаково хорошо видны. Судно гидрологической службы стояло на якоре. Шел прилив. Одинокие чайки с криком летали вокруг корабля, изредка присаживаясь на воду. Команда и пассажиры собирались на обед в кают-компании. Появился и пунктуальный Геннадий Борисович — московский гость, изучающий соленость и насыщенность кислородом воды в устье Амура. Это был довольно молодой старший научный сотрудник, кандидат наук с признаками формирования солидного брюшка и приятной, но немного сальной улыбкой, эмоциональными жестами коротеньких ручек и шутками, которые всегда нравились матросам.
Команда, не сговариваясь, ждала, пока будут заняты два свободных места. Геннадий Борисович высказал двусмысленное предположение о причине задержки его подопечных, вызвав тем самым легкое ржание матросов, и, достав из кармана крохотный блокнотик, стал что-то писать мелким аккуратным почерком на глянцевых страничках: он старался никогда не терять времени.
Наконец две молоденькие лаборантки Геннадия Николаевича: Оля — высокая сероглазая шатенка астенически готического облика и более приземленная блондинка Наташа — вошли в кают-компанию. Кок из огромной кастрюли налил каждому по тарелке бордового борща.
— Очень нежная говядина, — проворковала Наташа, выпутав ложкой из полупрозрачных капустных прядей кусок темного мяса.
Вся команда дружно засмеялась, как будто она рассказала отличный анекдот. Наташа покраснела, не зная, что и подумать. Геннадий Борисович, доедавший свою порцию, многозначительно улыбнулся.
— А что я такого сказала? — стала допытываться Наташа у своего начальника.
Кандидат наук поблагодарил кока за поданное второе блюдо — огромный кусок жареной рыбы, подцепил его вилкой, внимательно осмотрел со всех сторон и сказал лаборантке:
— Вы, дорогая, к Степану Сергеевичу лучше обратитесь. — И гидролог сладко улыбнулся через стол старпому — плотному человеку с коричневым от загара лицом, вечно шелушащимся носом и сталинскими усами. — Это он заведует снабжением. По-моему, ему совсем недавно досталась прекрасная туша. И очень дешево. Я подозреваю, даже даром. Вы, Наташа, после обеда попросите Степана Сергеевича открыть судовой холодильник. Очень познавательно. Возможно, там и хвост «коров» остался. Да, а рыбу ешьте аккуратнее. — И он положил на край своей тарелки предмет, похожий на увеличенную копию снежинки, искусно выточенную из слоновой кости, — изящную белую звезду с тонкими, острыми, как грани сюрикена, лучами.
Старпом нервно заерзал и сердито посмотрел в сторону двух братьев-механиков.
В этот момент один из них, Трофим, сутуловатый человек, с легкой животной грустью смотревший на Наташу и поэтому не замечавший устрашающих гримас старпома, отправил себе в рот приличный кусок жаркого, поперхнулся и закашлял.
Плоское тусклое солнце плавало в тумане у самой воды рядом с темным профилем бакена. Корабль, укутанный густой белой пеленой, был едва различим. Юра, второй механик гидрологического судна, потянул толстую капроновую веревку. Прозрачные капли, догоняя друг друга, неслышно заторопились по ней вниз к ленивым утренним волнам.
— Есть, — сказал он брату. — Ух, и здоровая! Помогай выбирать. Да осторожней! Если дернет — лодку перевернет! Топор достань, он под сиденьем.
Они вдвоем стали медленно выбирать ахан и складывать его на дно лодки. В одном месте шахматный строй ячей был нарушен. Из глубины всплыл безобразный клубок перекрученных толстых веревок, похожих на макароны, сваренные начинающей женой. В обрамлении этого макраме медленно поднялась из глубины огромная рыбья голова с длинным носом-рострумом, бессмысленными крошечными цинковыми глазками и тонкими светлыми червячками — усиками.
— Вот она, телка, — прошептал Юра. — На весь рейс хватит. Он медленно поднял топор, примерился и резко ударил обухом по голове калуги. Рыба в ответ слабо изогнулась и замерла.
— Все, — сказал Юра. — Скорей давай конец, а то утонет.
Оглушенная рыба медленно открыла огромную пасть. Юра быстро сунул ей в рот капроновую веревку и стал проталкивать ее, чтобы она показалась из-под жаберной крышки. В этот момент хрящевые беззубые челюсти умирающей калуги неторопливо, как ворота шлюза, сомкнулись. Рука Юры словно попала между резиновыми валиками стиральной машины. А рыба стала медленно погружаться, стаскивая человека за борт. Механик уперся левой рукой в борт лодки, брат схватил его за плечи.
— Да не тяни ты так, руку оторвешь, держусь я пока. Ты лучше отойди к другому борту, а то видишь, какой крен. Вот так. Выбирай ахан, а потом заводи мотор и давай на малых к кораблю, а я вместо буксира буду. — И он болезненно улыбнулся.
К счастью, пасть рыбы так же неспешно раскрылась. Юра выдернул руку, тут же сунул ее в воду и, вытащив торчащий из-под жабры конец веревки, закрепил его на кормовой утке.
— Все, — сказал он. — Теперь не утонет. Поехали. Вытащив спутанный ахан, братья завели мотор, и лодка двинулась к еле видимому в утреннем тумане силуэту корабля.
— А мне Наташка больше нравится, — продолжил утренний разговор Трофим.
— Обе хорошенькие, — ответил Юра, закуривая. — Профессор не дурак, в лаборантках разбирается, это ему по штату положено.
— Здоровая? — спросил сверху голос невидимого в тумане старпома, когда лодка глухо ткнулась в борт судна.
— Пару центнеров, наверное, потянет, — откликнулся Юра. — Крюк давай.
Тонкая стрела крана повисла над водой, заскрипели тали, и серая туша рыбы плавно взмыла вверх. Капли с ее хвоста быстро застучали по «Крыму», затем кран перенес на борт судна и лодку.
— Юр, пойди включи насос, — сказал старпом. Утром он не щурился, и в углах его глаз виднелись светлые морщинки. — Мы ее сейчас по-быстрому разделаем, в холодильник перетащим и палубу помоем. А то девицы скоро проснутся, станут охать да ахать, а потом глядь — и в городе сболтнут. А ведь знаешь, как начальник рыбинспекции капитана «любит»: наше судно для него — все равно что кость в горле. Чует, что мы всегда с рыбой, а поймать не может.
— Эй, обожди потрошить, — остановил старпом Трофима, видя, что тот, взяв нож, уже примеривается к рыбьему брюху.
— Ты что, не знаешь, как осетровых разделывают? Сначала жучки надо срезать, да аккуратней, чтобы ни одной не осталось. Вот так.
Вытащив из ножен свой нож с длинным, узким клинком, изящной текстолитовой ручкой — подарок гостившего у него токаря киевского номерного завода, старпом присел на корточки, провел лезвием по серому боку рыбы и аккуратно снял полоску кожи, на которой, как бусы на нитке, повисли тонкие, с острыми шипами костяные бляшки-жучки. Под срезом засветился бледно-желтый жир.
— Вот так. Понял? Тогда давай действуй. Только аккуратней. Эти жучки — хуже, чем рыбьи кости, не дай Бог кто подавится. А я пойду холодильник подготовлю.
Корабль задрожал — где-то внутри заработал двигатель, и из лежащего на палубе шланга потекла теплая вода. Когда пришли Юра и старпом, рыбина была уже очищена от бляшек. Калугу выпотрошили (она оказалась без икры), разрезали тушу на куски и отнесли их в судовой холодильник, а внутренности вывалили за борт. На палубе осталась огромная усатая рыбья голова, плавающая в луже крови.
— А это, — сказал старпом, срезая с внутренней стороны жаберных крышек темное, совсем не рыбного цвета мясо, — это на сегодняшний борщ. Гиляки так его и зовут — морская говядина. Совсем рыбного запаха не имеет.
После этой операции голова полетела за борт. У корабля, азартно крича, появилась первая чайка и сразу села на воду.
Проснувшиеся лаборантки вышли на палубу и увидели обычную утреннюю уборку судна. Строгий старпом внимательно следил, как матросы старательно драили блестящую, политую водой палубу, на которой не было ни пятнышка грязи. Сквозь легкую пелену растворяющегося тумана темнел сахалинский берег. Чайки, неумолчно галдя, летали у корабля над самой водой, что-то склевывая с поверхности.
— Хлеба, дайте ему корку черного хлеба, пусть прожует, а потом проглотит — верное народное средство против рыбьих костей, — говорила Наташа.
— Да это же не кость, а жучка калуги! Лучше надо было рыбу чистить, я же говорил ему, — огрызнулся старпом.
— Оленька, подайте, пожалуйста, мне ложку, — попросил многоопытный Геннадий Борисович свою лаборантку и усадил несчастного, сразу же осунувшегося и еще более сгорбившегося Трофима против света. Он заставил потерпевшего открыть рот, придавил ему ложкой язык и долго вглядывался в глубь горла.
— Глубоко сидит, не достать: шипами в стенки горла уперлась. Придется к доктору ехать (он употребил сухопутное слово) — к хирургу. Далеко до города? — спросил он капитана.
— Пять часов хода.
— Продержится, только горло опухнет и от кашля он изведется. Но идти (он вспомнил правильное выражение) надо — дело серьезное. Эх вы, калужатники, — в сердцах сказал Геннадий Борисович, обращаясь к команде. — Позвали бы меня, я бы ее сам разделал. И гораздо чище.
Старпом и капитан, пожилой мужчина с добротной лысиной, обрамленной венчиком седых волос, отошли в сторону — обсудить ситуацию.
— Значит, так, Сергеич, — начал капитан, — пусть радист даст радиограмму, чтобы к пирсу машину «Скорой» прислали. Придется и диагноз сказать, а больница в городе одна, так что через час об этой несчастной жучке и в рыбинспекции знать будут: «доброхотов» у меня везде хватает. И начальство узнает тоже. Ну, эти братья-механики! Уж точно, лучше бы профессор калугу освежевал. В городе будем говорить, что какая-то лодка без номеров к нам подошла и мужик кусок калуги продал. Вот так. Только рыбу и аханы придется выбросить, тогда, может, отбояримся. А этих братьев-механиков я на берег спишу! Тоже мне, не могли как следует рыбу разделать. И ты хорош — не проследил! Перед профессором стыдно: он из Москвы — и то знает, а мы всю жизнь здесь браконьерим — и вроде как ничего не умеем. Сергеич, — продолжал капитан, — ты холодильник сам проверь. Чтобы там ни крови, ни хвостов, ни этих долбаных жучек не было. Да и лодку тоже проверь. А за этим туберкулезником, — и капитан кивнул в сторону кашляющей каюты, — пусть лаборантки присматривают.
— Ты чего, Сергеич? — говорил через полчаса механик Юра, когда чайки закружились над скрывшимся под водой последним куском калужатины. — Ты чего? Я ведь этот ахан целую зиму вязал. Еле капроновых веревок для него достал, и вдруг — выбрасывать! Да я его так на корабле спрячу — ни одна сухопутная крыса не найдет. Или у самого города в приметном месте утоплю, а потом достану.
— Брат тебе свяжет, когда из больницы выйдет, — отвечал безжалостный Сергеич, переваливая через борт два мешка — один мокрый, там лежала сеть, в которую попалась злополучная калуга, другой сухой, запасной, еще не бывший в деле.
— Трофима на берег спишут, — докончил мысль старпом. — Вот он и будет там вязать. И из лодки выбрось, — его голос погрустнел, — там в носу мой ахан лежит.
Корабль снялся с якоря и взял курс на город. Чайки, конвоировавшие судно, убедившись, что запасы калужатины кончились, вскоре отстали. Кок на камбузе готовил на ужин невинное блюдо: картошку с рыбными консервами.
Из каюты по-прежнему доносились резкий надсадный кашель и слабые стоны. Матросы сидели в кают-компании тихо, как будто корабль вез покойника. Только в машинном отделении отчаянно матерился Юра, переживавший потерю аханов. Капитан, бессменно стоящий за штурвалом почти пять часов, болезненно морщился при каждом новом приступе кашля. Казалось, легкие человека сейчас лопнут от напряжения.
Внезапно за переборкой наступила тишина. Смолк посторонний звук, несколько часов терзавший всю команду. Люди, сидевшие в кают-компании, переглянулись. Капитан вытер вспотевшую лысину, отдал штурвал старпому и вышел на палубу. Дверь злополучной каюты открылась, и из нее, покачиваясь, вышел Трофим. Увидав капитана, он виновато втянул голову в плечи, вымученно улыбнулся и протянул руку. На ладони лежала злополучная «снежинка». Капитан посмотрел на Трофима, на жучку, пригладил ладонью свою лысину, ободряюще похлопал механика по плечу и пошел в ходовую рубку.
Промасленный Юра вылез из машинного отделения и тоже навестил Трофима, но был он с ним недолго. Оля и Наташа стыдливо прикрыли соседнюю дверь, когда Юра возвращался назад, в свой пропахший соляром гремящий железный погреб. Наоборот, другая дверь распахнулась, и Геннадий Борисович с интересом прослушал монолог проходящего мимо механика и даже, наверное, узнал что-то новое, так как сделал пометки в своей крохотной записной книжке, с которой не расставался никогда.
А виновник конфуза лаборанток, лингвистических открытий Геннадия Борисовича, душевного облегчения всей команды уже сидел в кают-компании, пил теплый чай и морщился при каждом глотке.
Редкие зеваки, торчащие на вечернем пирсе, еще долго судачили между собой: силуэт торопящегося к городу судна неожиданно развернулся и исчез в сумерках, оставляя на невидимых волнах осколки драгоценных камней — справа изумрудов, слева — рубинов. А две машины — белый «рафик» с красным крестом на борту и защитного цвета «газик» без опознавательных знаков, но с номером, который был хорошо знаком окрестным браконьерам, одновременно тронулись с места и ушли от причала.
ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
— Ну вот, Володя, располагайся в новом доме. Не маловат? — спросил Боря, знакомый егерь, снимая висячий замок с дверей.
Последнюю фразу я правильно расценил как шутку. В огромном помещении охотничьей базы, куда мы вошли, запросто могло разместиться два взвода охотников. Правильные ряды расставленных повсюду двухъярусных кроватей, застеленных серыми и синими казенными одеялами, удручающе напоминали казарму. Посередине стояла огромная печь. Боря, коренной дальневосточник, очень солидный человек для своих двадцати семи лет, имел своими предками корейцев и узбеков, и поэтому его принимали за своего от Армении до Якутии.
— Нравится? — спросил Боря, явно довольный своим владением. — Лучшая база района. И самая большая, — повторил он с гордостью. — Здесь сам Орлов любит охотиться. Бросай рюкзак, занимай любую кровать. Пойдем, я тебе хозяйство покажу.
Мы вышли на улицу.
— Это сортир, — начал Боря обзорную экскурсию. — В прошлом году его ураган повалил. Как раз в сезон охоты. Хорошо, в нем никого не было. Это помойка. — Он указал на огромный деревянный короб, из которого веселой стайкой выпорхнули местные овсянки, тут же меня заинтересовавшие, и неизвестно откуда залетевшие воробьи: ведь до поселка, откуда привез меня Боря, было около пятидесяти километров.
— Это дрова. — Боря подвел меня к сложенной у стены поленнице. Откуда Боря приволок такую гигантскую лиственницу, было для меня загадкой. Каждое полено было в половину человеческого роста и около метра в диаметре. — Дрова у тебя есть, — удовлетворенно произнес Боря, глядя на чудовищные кряжи. — В тамбуре и в доме под кроватями сухие лежат. А если не хватит — поколешь. Вот колун. — И Боря показал инструмент. — Однако пошли в дом, поговорим о главном.
Но мы задержались на крыльце. Боря пошарил в своем мокром рюкзаке и достал оттуда хороший кусок подсоленной калужатины и повесил его на гвоздь под крышей.
— Это тебе на первое время, — сказал Боря, брезгливо вытирая руки о штаны. — А то ведь, как всегда, супами из пакетов будешь питаться.
Мы снова зашли в дом.
— Располагайся, — сказал Боря, — осмотрись, а я сейчас. Я стал распаковывать рюкзак. Тем временем Боря, судя по раздававшимся снаружи звукам, вытаскивал что-то тяжелое из лодки. Дверь открылась, и Боря, отдуваясь, затащил на середину комнаты огромный бидон. Я сразу понял, что в нем находилось.
— Вот самое главное, — удовлетворенно произнес Боря, садясь на бидон и похлопывая его по округлому боку. — Брагу поставил. Тебе все равно печь топить, так что присматривай за ней. Мы ее вот здесь определим. — И Боря, поднатужившись, подкатил бидон к печке. — Ты уж, пожалуйста, проследи. Когда печка протопится — отодвигай, а на ночь ставь поближе. В этом деле главное не только время, но и правильный температурный режим. Ну вот и все. Через неделю навещу. Поехал я, а то отлив пойдет, и не выйду и из речки.
Я остался на крыльце и посмотрел, как Борина синяя вязаная шапочка мелькает по извилинам протоки — густой бордюр травы по берегам скрывал мчащуюся к морю лодку.
Я дождался, когда рев мотора стихнет, и более тщательно осмотрел свои владения. Для этого я достал из рюкзака бинокль и по приставной лестнице взобрался на крышу. Дом стоял посреди обширной, совершенно ровной заболоченной равнины. Вдалеке серела вода залива. Я направил бинокль туда и увидел двигающуюся точку — Боря успел-таки до отлива проскочить устье.
Долину с трех сторон окружали далекие гряды сопок. Повсюду среди низкой травы лежали многочисленные озерки, на которых осенью останавливались пролетные утки. Для охот-хозяйства и для базы действительно было выбрано отличное место.
Я посидел на крыше еще некоторое время, наметил те места, куда мне надо было сходить в первую очередь, спустился по лестнице на землю и стал устраиваться.
Было начало августа. Стояла удивительная погода. Синело небо, дул легкий теплый ветерок, светило нежаркое солнце. Комары по причине близкой осени отсутствовали. До открытия охоты было еще далеко, и я наслаждался бархатным сезоном в полном одиночестве. На этой точке мне надо было собрать серию сверчков — небольших пестрых птичек. Сверчки, когда молчали, были абсолютно незаметными, так как держались в густых зарослях. А во время пения забирались на вершины кустов и этим выдавали себя. Однако делали они это только на вечерней заре. Поэтому весь день у меня был свободный. Я поздно вставал (хочется привычно продолжить — одевался, но это было не так, ведь я по причине теплой погоды и полного отсутствия комаров и людей нередко ходил в костюме Адама), купался в речке (после воды, которая содержала попавшую из болот торфяную взвесь, я нещадно чесался), разжигал печку и, пока она нагревалась, занимался физкультурой — колол дрова.
Сначала я целый день не мог решиться на это — такими огромными и непоколебимыми казались мне приготовленные Борей колоды. Наконец я выбрал самое маленькое полено, еле поднял его, поставил «на попа», изо всей силы размахнулся колуном, ударил точно по центру и безнадежно «засадил» лезвие. Минут десять я возился с колуном, освобождая его из плена, после чего нанес второй удар с тем же результатом.
Только через час я приспособился к этим дровам. Оказывается, надо было бить не по центру, а по самому ее краю. И дело пошло! С первого же удара от полена отлетела ровная, словно отпиленная, плаха, за ней — другая, и через пять минут я расколол всю колоду. Довольно тяжелая работа превратилась в удовольствие. Я пересчитал Борин запас дров и решил, что каждое утро буду колоть не больше трех, чтобы подольше наслаждаться этим процессом.
На завтрак я варил калужатину, кипятил чай и никогда не забывал отодвинуть от раскалившейся стенки Борин бидон.
Потом я бродил по долине, вернее, по сложным лабиринтам узких гривок, отделяющих друг от друга великое множество разнокалиберных озер, озерков и просто луж самой невероятной формы.
На них водилось множество птиц. Из густой травы я несколько раз выпугивал выпей. На озерах гнездились утки, чайки, крачки и поганки. Иногда я, пробираясь по травяному бордюру, чуть не наступал на затаившегося в траве пастушка, который с поросячьим визгом вылетал из-под ног и, пролетев несколько метров, неуклюже свесив длинные ноги, падал в траву и удирал пешком. По сухим гривкам кочевали жаворонки, трясогузки и овсянки, над лугами изредка пролетал орлан, коршун или лунь. На одном озерке я нашел десяток линных[27], не летающих селезней кряквы. Птицы, увидев меня, выскочили на противоположной стороне озерка на берег, по широкой, вероятно, ими же протоптанной дорожке быстро пересекли гривку и, оказавшись на крупном озере, сбились в стайку на его середине.
Для того чтобы изучить и другие виды птиц, я добирался почти до сопок. Там луга кончались и начинались настоящие болота со всеми их прелестями — с топями, сплавинами и запахом сероводорода. Зато здесь на редких, довольно сухих торфяных холмах кудахтали белые куропатки, а на голубичные поляны прилетали покормиться стаи кроншнепов.
Я возвращался домой, обедал, заполнял дневники, обрабатывал добытых птиц (последнее я делал редко, так как из этих мест у меня уже были сборы) и ждал вечерней зорьки — времени, когда начнется настоящая охота.
За полчаса до захода солнца я в боевой выкладке — то есть с ружьем, биноклем и полными карманами патронов — торопился к невысоким ивовым кустам — туда, где водились сверчки. Гнездовой сезон этих птиц давно закончился, но самцы по инерции пели, хотя делали это они только вечером и всего около получаса, причем один от другого находился не ближе ста метров, к тому же птицы были очень осторожные и подпускали охотника метров на пятьдесят — на предел дальнего выстрела. Из устья Амура совсем не было сборов этих невзрачных птиц, а кроме того, здесь встречалась масса гибридных сверчков — то есть это были чрезвычайно ценные орнитологические трофеи. Все это делало охоту на сверчков чрезвычайно увлекательной. Приходилось красться к поющему сверчку так же осторожно, как к токующему глухарю, прячась в зарослях и замирая, когда сидящий на вершине невысокого куста певец замолкал и настороженно осматривался. Сколько раз я, желая сократить дистанцию до ценного научного трофея, делал еще один (увы, лишний) шаг — и испуганный сверчок камнем, словно получив заряд дроби, падал под куст и больше не появлялся. Но на лугу были и другие сверчки, и я, помня, что вечерний ток скоро закончится, бежал к его соседу и, приблизившись на нужную дистанцию, начинал красться, стараясь восстановить дыхание.
Ночи были страшно темные, безлунные и безветренные и такие тихие, что я через толстые стены Бориной базы слышал свист крыльев тронувшихся к югу уток и перекличку мигрирующих куликов. В непроглядном мраке огромного помещения от затухающего последнего уголька поддувала чуть поблескивал алюминиевый бок бидона да раз в минуту белела стена против окна, куда падал отсвет сахалинского маяка.
Так прошла неделя. В коробку был тщательно упакован уникальный орнитологический материал — хорошая серия сверчков. Точка была отработана. Можно было ехать дальше. И я поехал.
В урочный срок — ровно через семь дней, как и было обещано, — появился Боря. Он был не один. В его лодке находились пассажиры, а кроме того, за его «Прогрессом» шла «Казанка-2М», также полная народу. Все вылезли на берег и познакомились со мной. Настроение у всех было явно приподнятое. Боря, не говоря лишних слов, прошел в помещение охотбазы. Я поспешил за ним. Боря бросил беглый взгляд на мое разложенное барахло и направился к бидону.
— Все делал, как я велел? — подозрительно спросил он, открывая крышку. — Не сварил, не переохладил? Печку топил каждый день?
Я сказал, что делал все по инструкции. Боря заглянул внутрь бидона на обильную пену, плавающую сверху. Потом взял кружку, черпанул противного цвета жидкости и отпил хороший глоток.
— Молодец, — похвалил он меня. — Температурный режим выдержал правильно. Сейчас мы ее оприходуем. Ведь сегодня праздник — День железнодорожника. Собирайся. Поедем.
— Куда поедем? — с удивлением спросил я, вспомнив, что до ближайшей железной дороги около пятисот километров, но ожидая, что весь банкет состоится именно здесь, на базе.
— На остров, где людей поменьше, — объяснил мне Боря. Я не стал перечить местному жителю, не стал говорить ему, что на базе я неделю проходил почти все время в костюме Адама и никого этим не удивил, просто потому, что удивлять было некого. Я быстро собрал рюкзак и самолично спрятал ценную коробку со сверчками в носовой люк — самое безопасное, а главное — самое сухое место на любой моторной лодке.
— Да, чуть не забыл, — сказал сдавленным голосом Боря, загружая в «Прогресс» тяжеленный бидон. — Рыбаки на острове белух поймали. Они их в заливчике держат. Вертолета из Владивостока ждут. Туда их повезут, на военно-морскую базу. А пока они на острове сидят. В заливчике. Их каждый вечер неводом на берег вытаскивают и насильно горбушей кормят. А то от голода сдохнут. А ведь за каждую белуху вояки огромные деньги платят. Не желаешь посмотреть, как их кормить будут? И сфотографируешь заодно. Мы успеем. — Боря посмотрел на часы. — Их по расписанию ровно в семь вечера кормят. Так что все успеем — и попраздновать, и белух посмотреть. Поехали.
Я в последний раз оглядел свое пристанище, надел рюкзак и вышел наружу.
Все мужики сгрудились в одной лодке вокруг Бориного бидона. Кружка с мутной брагой ходила по кругу. Мужики пили и хвалили меня.
— Что значит научный работник! — говорил один. — Какую брагу сделал! У нас такая никогда не выходит. Терпения не хватает. А Вовка вон что сделал.
— Да, — важно произнес Боря, — температурный режим он выдержал точно. Как ему говорил. Все, поехали.
Мужик, у которого была общественная кружка, выплеснул остатки браги в реку. По воде поплыли цветные разводы, словно в кружке был бензин. Но на это, по-моему, никто не обратил внимания.
В заливе штормило, и мы только через час добрались до крошечного поселка на острове. Я думал, что праздничные события развернутся именно здесь, в населенном пункте, состоящем из здания радиостанции, магазина, одного жилого и нескольких развалившихся домов и стоящего на отшибе лагеря зверобоев. Но ошибся.
— Выгружайтесь, — приказал Боря. — Я пойду за машиной. И еще кое к кому зайти надо. Пойдешь со мной? — обратился он ко мне.
Я согласился.
Мы пошли к ближайшему дому.
— Тут гармонист живет, — сказал Боря. — Как же на празднике и без музыки? Обязательно музыку надо. Вот мы сейчас Егорыча и прихватим. А кроме того, он большой любитель животных. Да ты сейчас сам увидишь.
Мы без стука вошли в дом. В нос шибануло запахом скотного двора.
— Вот они, животные, — удовлетворенно произнес Боря и открыл следующую дверь.
В комнате было совершенно пусто. То есть там совсем отсутствовала мебель. Пол был обильно завален сеном. По нему резво скакали несколько десятков кроликов. Коровником пахло именно от них.
— Вот они, животные, — уже с некоторым раздражением повторил Боря. — А вот и хозяин. Здорово, Егорыч, — обратился он к мужику, вошедшему в комнату. В руках у Егорыча была огромная голова калуги, которую он, отбросив кроликов сапогом и расчистив таким образом посреди комнаты свободное место, положил на пол.
— Витамины, — объяснил он нам. — И белок. А также фосфор. Ешьте, родимые. — И Егорыч погладил первого подвернувшегося под руку зверька.
— Поедешь с нами? — спросил Боря, уже с отвращением разглядывая комнатный зверинец.
— Конечно, поеду, — ответил Егорыч, шагнув в соседнюю комнату и быстро вернувшись с объемистым футляром гармони. — Пошли.
— Ты хоть навоз от кроликов убираешь? — спросил Боря Егорыча на улице.
— А как же! — обиделся Егорыч. — Каждую неделю. А куда едем?
— На заездок. Меня у лодки подождите, я за машиной схожу.
Уже знакомый с нравами и обычаями жителей Нижнего Приамурья, я знал, что отдых у них почему-то обязательно ассоциируется с длительным и часто неудобным перемещением в пространстве. В принципе Боре с товарищами можно было бы отойти от поселка метров на пятьсот в тайгу, и там, даже по дальневосточным понятиям, начиналась такая глухомань, что в собутыльники к ним мог запросто напроситься медведь. Так вот нет же, брагу ставили в пятидесяти километрах от поселка — на охотбазе, а распивать ее приехали сюда — на этот Богом забытый остров. Но полуразвалившийся поселок, в котором постоянно обитали только радист, шофер и любитель кроликов, а временно — промысловики морзверя, по-видимому, тоже мешал как следует «оттянуться» Боре. Но он был отменным организатором, и из-за развалившегося барака выполз грузовик с крытым кузовом. Увеличивавшаяся за счет местных жителей толпа резво полезла в кузов.
Боря самолично загрузил в кузов свой бидон и гармонь и помог забраться туда любителю кроликов. Потом он подошел ко мне.
— Забирайся, — приказал начальник, — поедем с нами, повеселимся.
— А как же белухи? — напомнил ему я. — Ведь их скоро кормить должны.
— Успеем, обернемся. Мы быстро, посидим на свежем воздухе и мигом назад, — уверенно сказал Боря. — Залив, где они сидят, здесь недалеко, километрах в двух от поселка. Ты его увидишь — мы мимо проезжать будем. А на обратном пути прямо у него и остановимся. Вот ты на них тогда посмотришь и сфотографируешь. Фотоаппарат не забыл? Их кормить будут в семь часов. — И Боря посмотрел на часы. — У нас в распоряжении три с половиной часа. Забирайся.
И я полез в кузов.
Грузовик, мягко переваливаясь, пошел по песчаной дороге острова. В маленькое окно, забранное поцарапанным плексигласом, мне в качающемся, словно в хороший шторм, грузовике удавалось разглядеть кусты кедрового стланика, прибрежные лагуны (в одной из которых и сидели белухи), серое Охотское море и наваленные на берегу стволы плавника — в общем, привычная и безрадостная картина.
К моему удивлению, грузовик ехал долго. По моим расчетам, от поселка мы удалились километров на восемь. Наше путешествие закончилось у какого-то убогого, крытого драным толем балагана — летнего становища рыбаков.
Все вылезли из машины. Было пасмурно, с моря дул неуютный ветерок. Я с грустью вспомнил родную, теплую, обжитую мной охотбазу. Но всем остальным приехавшим место, по-видимому, понравилось. Здесь они могли наконец насладиться слиянием с природой.
На засиженный птицами, стоящий под открытым небом стол был водружен пресловутый бидон, трехлитровая банка красной икры, две бутылки водки, крупноблочно нарезанный хлеб, единственная ложка и три кружки. Мужики торопливо наполнили сосуды беловатой непрозрачной пенящейся жидкостью и быстро их опорожнили.
— Удалась, — похвалил Борю Егорыч. — В самый раз.
Но Боря был честным человеком и не стал пожинать чужие плоды.
— Это все Володя, — сказал он, ставя кружку как раз на след пребывания чайки. — Это он целую неделю выдерживал температурный режим.
— Молодец, — похвалил и меня любитель кроликов и тут же обратился к Боре: — Ну-ка дай мне инструмент. — И неожиданно заревел под гармонь: — «Самое синее в мире, Черное море мое!»
Остальные нестройными голосами подхватили. Отдых начался. Я отхлебнул из кружки противной браги, заел эту гадость бутербродом с икрой и пошел бродить по берегу, временами посматривая на часы и рассчитывая крайний срок, когда машина должна была покинуть лагерь, для того чтобы я смог посмотреть на кормежку зверей. Я вернулся к балагану. Музыка гремела по-прежнему, но на гармони играл уже другой. Егорыч же лежал под кустом кедрового стланика и храпел. Я всухомятку съел еще один бутерброд и покинул веселившихся.
Временами я возвращался к лагерю. Праздник шел по хорошо отработанной схеме. Предыдущий музыкант в бесчувственном состоянии обязательно лежал в зарослях низкорослой кедровой сосны и храпел. Рядом располагались такие же нестойкие путешественники. Зато другие, более выносливые или уже протрезвевшие мужики по-прежнему сидели за столом, осушали кружки и пели под неутихающую гармонь. Очередной гармонист со товарищи наконец набирал свою порцию браги и попадал под кедровый куст. Оттуда вылезала отдохнувшая смена, и поэтому музыка не прерывалась ни на минуту. Песни были в основном из репертуара Кобзона, Пугачевой и Сенчиной. Изредка попадался Эдуард Хиль.
То один, то другой сидевший за столом, увидев меня, прерывал пение, долго вглядывался в циферблат часов, произносил:
— Володя, смотри не опоздай! Белух кормят ровно в семь, — и снова продолжать вокализировать.
Так прошло часа три. Вернувшись очередной раз с прогулки по окрестностям балагана, я поймал удивительно удачный для отъезда момент, когда вся компания сидела за столом, а под кустом кедрового стланика никого не было. Все молча смотрели на неприветливое море. Лишь неугомонный любитель кроликов орал, растягивая мехи инструмента: «Самое синее в мире, Охотское море мое!»
Воспользовавшись общим сбором, я напомнил Боре о белухах. Народ посидел еще немного за столом, дождался, пока гармонист смолкнет, и полез в кузов машины.
Грузовик остановился. Я достал из рюкзака фотоаппарат и с нетерпением открыл заднюю дверцу кузова. Открывшаяся взорам картина поразила всех путешественников. Вокруг машины плескалось Охотское море, недавно воспетое местным скотоводом. До берега было метров тридцать. Все отдыхающие с матом стали вылезать из грузовика и торопливо шагать по мелководью к суше. Последним из кузова вылез гармонист. Он пожертвовал морской стихии свой инструмент, зато спас бидон. Собравшиеся на берегу отдыхающие отхлебывали прямо из горловины и молча смотрели на грузовик, стоящий в студеной воде. Дверь кабины открылась. Из нее сначала вышел ругающийся Боря, а затем молча вывалился водитель и, сильно кренясь из стороны в сторону, побрел к толпе мрачно наблюдающих за ним мужиков. Водитель достиг берега, обернулся лицом к морю, к тонущему в приливе грузовику, раскинул руки, как Христос над городом Рио-де-Жанейро, и упал навзничь.
— Дальше не проедем, — объяснил он очевидный факт. — Идите все... — он сделал нетрезвую паузу, — ...за трактором. — И заснул.
Услышав это, я быстро накинул рюкзак на плечо и заспешил к заливу. Мне предстояло пройти за час около пяти километров — тогда я успевал. Но идти по песку было трудно, и я опоздал. Белух покормили без меня. У залива уже никого не было. На песке виднелись следы от невода, мелкая чешуя горбуши, следы резиновых сапог и один отпечаток огромной хвостовой лопасти белухи. Я отвернул голенища болотников и залез в неглубокий водоем. Рядом с моими сапогами на мелководье медленно живыми торпедами плавали сытые дельфины. В воде их было видно не очень хорошо, но я на всякий случай сделал несколько снимков.
Не торопясь я направился к поселку, у которого стояла Борина лодка. Надо мной с криком кружили алеутские крачки — наверное, у них на ближайшей гривке были гнезда. Из поселка к побережью двигалась какая-то черная точка. Я приложил к глазам бинокль. Трактор шел на выручку грузовику.
ВТОРОЕ ИМЯ
Пошел прилив, и морская вода в устье небольшой речки, смешиваясь с речной, заструилась, будто воздух над нагретым солнцем полем. Прилив медленно тащил в реку рваные куски ламинарии и нежные пучки бурых водорослей. Крупные красноперки плавали почти у самого берега, жадно хватая поплывшие перья ощипанного вчера на берегу крохаля, по дну промелькнула тень невидимой камбалы, у противоположного берега разошлись круги от прошедшего вверх косячка горбуши. Вынырнувшая молодая нерпа, увидев человека и собаку, с громким плеском скрылась под водой. Туман, висевший с утра над берегом, раздул ветерок, светило солнце, и в затишье, там, где был поставлен лагерь, даже припекало.
Пожилой эвен-оленевод собирался к своим приятелям — старателям, участок которых был неподалеку. У него сломался лодочный мотор, к тому же он давно хотел выпить. Он зарезал и разделал одного из своих оленей, отогнал стадо к соседу и стал переоборудовать «Казанку», чтобы на ней без мотора можно было добраться до цели.
Вайда — низкорослая годовалая лайка дикого волчьего окраса с вытянутой лисьей мордой и раскосыми азиатскими глазами — лежала на холодном гравии и никак не могла понять, чем же занимается Хозяин, наблюдая, как он ошкуривает и отесывает тонкие лиственничные жерди. Потом Хозяин вытащил и расстелил на берегу большой кусок полиэтилена, подгнившее брезентовое полотнище и грязное шерстяное одеяло. Хозяин присел перед этим богатством, закурил и надолго задумался. Он бросил сигарету, со вздохом свернул брезент и полиэтилен и принялся что-то мастерить из одеяла, лиственничных жердей и веревок.
Через два часа Вайда увидела, как преобразилась их лодка. В середине «Казанки» на двух мачтах было натянуто грязно-голубое в клеточку полотнище старого одеяла. Вайда с недоверием рассматривала их лодку — ей все еще не верилось, что Хозяин рискнет выйти на ней в море. Хозяин дождался, пока прилив поднял стоящую на берегу лодку, и начал грузить вещи. В носовой отсек — бардачок — он положил две оленьи ноги — будущую плату за починку мотора — и мешок с продуктами, все запахи которых забивал нестерпимый запах перца. Хозяин поставил на дно лодки два бачка для бензина, не забыл про двустволку с самодельным прикладом, маленький чайник и котелок. Напоследок Хозяин положил в лодку старое оленье седло, заменявшее ему лодочное сиденье, и сломанный «Ветерок», который он собирался починить у соседей-старателей, обитающих на берегу моря в тридцати километрах от его стойбища.
Собака, с недоверием и опаской поглядывая на клетчатый парус, забралась в лодку. Хозяин мельком глянул на тлеющий костер, на остовы палаток старого стойбища и веслом оттолкнул лодку от берега.
В самом устье на отмели шумел слабый накат. Хозяин взял левее, где было поглубже, и через несколько секунд их лодку мягко закачало на плавной морской волне. Вдоль берега дул свежий ветерок. Парус надулся, Хозяин сел за руль, и «Казанка» заскользила на восток.
Вайда сначала очень нервничала и даже рычала на синее клетчатое полотнище, которое шевелилось под порывами ветра, но, поняв, что изобретение Хозяина вполне безобидно, вскоре улеглась на носу и стала смотреть вперед, иногда приподнимая ухо, когда парус приглушенно хлопал.
А Хозяин сидел на корме на оленьем седле и правил веслом, невозмутимо наблюдая, как медленно проплывают мимо берега. Почти беззвучное движение лодки сопровождалось лишь легким всхлипыванием воды за кормой, мягким шепотом одеяла, редким стуком деревянного весла об алюминиевый борт лодки, пронзительным криком чаек, изредка пролетавших над лодкой, да легким свистом взлетающих из-под самого носа серых птиц, которых Хозяин называл морскими курочками. Однажды, когда они проплывали мимо скалистого берега, у лодки вынырнула угольно-черная птица с белыми косицами над глазами и ярким красным плоским клювом — топорик. Он, наверное, объелся рыбы, так как никак не мог взлететь. Топорик долго разбегался по воде, отчаянно молотя по морской поверхности лапами и крыльями. Птица, казалось, вот-вот взлетит, но она неизменно в последний момент «спотыкалась» о волну, теряла скорость и заново начинала разбег.
Лодка пошла вдоль берега. Справа долго тянулась скучная серая гравийная коса, засыпанная ошкуренными морскими штормами стволами плавника — упавшими где-то далеко, может быть за сотни километров, в таежные реки деревьями, Бог знает сколько путешествовавшими по морю, пока наконец прихотливое сочетание шторма, ветра и морского течения не определило для каждого место вечной стоянки.
Вайда дождалась, пока на берегу не мелькнет среди серого гравия и серебристых стволов плавника ярко-малиновое пятно — там, запутавшись капроновыми веревками за комель гигантского тополя, лежал пластиковый японский буй, оторвавшийся от сети. Вайда, сопровождавшая Хозяина по берегу, знала, что буй был безнадежно порван медведем.
Вайда задремала. Она проснулась, когда сквозь сон услышала знакомый металлический звук — Хозяин доставал ружье. Собака встала и оглянулась. Бросив руль, Хозяин на корме торопливо вставлял в патронники два патрона. Собака посмотрела по сторонам в надежде увидеть каменушку, крохаля или турпана, плывущего где-нибудь поблизости. Однако птиц нигде не было видно. Зато совсем рядом с лодкой из воды показались два черных плавника, узких и длинных, как крылья буревестников.
Хозяин вскинул ружье и выстрелил в скрывающуюся под водой спину касатки. Дельфины скрылись, но через несколько секунд один плавник вспорол воду у самого борта лодки. Хозяин привстал и снова поднял ружье. Но в это время со стороны другого борта из моря будто встала одинокая черная волна. Лодку сильно тряхнуло, будто она наскочила на огромный, но мягкий валун. Вайда испуганно ткнулась в ноги Хозяина. Тот выпустил из рук ружье, которое с грохотом упало на дно лодки, и вывалился за борт.
Вайда запрыгнула на корму. Хозяин был совсем рядом. Он ухватился за весло, служившее рулем, но то выскочило из уключины, и ровный, не стихающий ветер медленно потащил никем не управляемую лодку на восток.
— Вайда! — в последний раз услышала собака имя, данное ей Хозяином.
Сбоку от лодки снова вырос страшный плавник. Сука забилась в угол. Удара не последовало, но лайка нутром почувствовала, как огромное тело касатки проходит в нескольких сантиметрах от днища лодки.
Когда собака опасливо приподняла голову над бортом, море по-прежнему было пустынным: ни Хозяина, ни касаток нигде не было видно. Лишь у самого борта свистела серая морская курочка.
Неуправляемую лодку развернуло бортом к ветру, и синее одеяло повисло словно на бельевой веревке. «Казанка» стала медленно удаляться от берега.
Собака, наверное, часа два с лаем бегала по лодке, вскакивая то на нос, то на корму, и все всматривалась туда, где исчез ее Хозяин. Устав, она села на мокрые доски днища, прижалась к пахнущему сыромятной кожей, дымом и Хозяином оленьему седлу и тихонько завыла от страха.
Лодку с лайкой таскало по заливу Охотского моря около недели. Сначала собаке было очень страшно, особенно по ночам, когда морские волны иногда вспыхивали голубоватыми искрами и из-за борта слышались непонятные всхлипывания, вздохи и всплески. Но уже через два дня другие, более сильные и острые чувства — голод, а еще больше — жажда заглушили страх. Небольшая лужица желанной влаги поблескивала и перекатывалась под стланями, но как ни старалась лайка просунуть свою узкую мордочку сквозь дощатый настил, сколько она ни вытягивала язык, ей никак не удавалось напиться.
Из носового отсека аппетитно пахло подтухающей олениной. Несчастное животное целыми днями царапало лапами плотно закрытую алюминиевую дверцу и, устав, отчаянно выло.
Однажды течение проносило лодку мимо небольшого островка. Обезумевшая от голода и жажды собака почти решилась прыгнуть в море и плыть к земле, но быстрое течение протащило лодку дальше, островок стал уменьшаться, и собака осталась в лодке.
Через полторы недели после того как утонул Хозяин, погода испортилась. Подул ветер. Сначала он нагнал туман, потом небо затянуло низкими облаками, и посыпался мелкий дождь. И уже через час промокшая собака смогла напиться пресной воды из-под стланей. Потом ветер усилился, на море сначала появились барашки, а потом начался шторм. Волны нечасто, но с удручающей регулярностью перехлестывали через борт. Сначала вода под стланями сделалась непригодной для питья, а потом ее набралось столько, что, когда лодка накренялась, волна в лодке накатывалась на собаку. Внутри «Казанки» плавали бачки и оленье седло. Лайка пыталась спастись на носу, но там было так скользко от морских брызг, что собака чуть не упала за борт.
К вечеру лайка впервые за десять дней увидела наконец материковый берег, вернее, она сначала услышала ревущий накат.
Штормовые волны перенесли полузатопленное суденышко через прибрежную отмель, а потом соленая водяная стена накрыла «Казанку». Собака перемахнула через борт и поплыла к берегу. Волна дважды стаскивала лайку со скользкой гальки и относила назад. Наконец третий ревущий белопенный вал вытолкнул лайку на землю. Обессилевшая собака не могла бежать, а лишь быстро отошла от прибойной полосы и, сделав слабую попытку отряхнуться, легла на мокрый гравий и стала смотреть, как волны у самого берега треплют лодку, которая принесла ей столько несчастья. Над «Казанкой» нелепо колыхалось промокшее, отяжелевшее, но так и не сорванное ветром синее одеяло.
Она полежала на земле, отдохнула и побрела вверх по берегу. За песчаной косой чернела тайга. Там лайка нашла ручей, вволю напилась и заснула под корнями поваленной елки.
Утром собака проснулась, долго пила из ручья, а потом пошла на берег.
С моря по-прежнему дул ветер и плыли туманные полосы, но волны стали меньше. Выброшенная ночью штормом на берег лодка стояла далеко от полосы прибоя.
Несмотря на усталость, собака побежала к «Казанке», как будто это был ее родной дом.
Днище лодки оказалось неповрежденным, и поэтому в ней, как в огромном корыте, плавало оленье седло и бензиновые бачки. С одеяла-паруса, тяжело висящего на мачтах, капала вода. Собака с вожделением понюхала запертый бардачок, в котором вовсю тухли две оленьих ноги — предполагаемая плата Хозяина за ремонт «Ветерка», и пошла вдоль берега в надежде найти что-нибудь съестное.
Лайка брела вдоль нескончаемого валика выброшенной штормом бурой морской травы. Собака несколько раз находила дохлых крабов, которых еще не успели обнаружить чайки или вороны. Лайка с жадностью разгрызала панцири и ела сладковатое мясо. Собака побродила по берегу и двинулась к лесу. Сразу же на опушке заверещал бурундук. Она посмотрела на маленькую полосатую белку, которых Хозяин, когда был в хорошем настроении, сбивал для нее палкой с дерева или даже, приучая к будущей охоте, стрелял. Собака знала, что с дерева она бурундука не добудет, и, немного полаяв на него, пошла дальше в тайгу.
Ельник был старый, весь заваленный упавшими деревьями. Весь мох был выбит неширокими тропками. Лайка пошла по одной из них, и та привела ее к вывороченному еловому корню. Под его навесом на земле были довольно аккуратно разложены для просушки стебли травы, а уже высохшее сено было забито между корней упавшего дерева. И от травы, и от сена пахло чем-то очень вкусным. В это время из соседней норки раздался резкий писк, и оттуда выскочил короткохвостый, серый, круглоухий зверек. Собака бросилась за ним. Но сытая пищуха была проворней измученной голодной лайки и успела юркнуть в ближайшую норку. Корабельная жизнь приучила собаку к терпению, и она больше часа просидела у норы и все-таки дождалась, когда пищуха решила проверить свой стожок. Вот тогда-то лайка и задавила ее и первый раз за десять дней сытно поела. Она еще долго сидела у других нор, но пищух там или не было вовсе, или они были чересчур осторожными. И лайка побрела на берег, к своему дому — к выброшенной штормом лодке.
Она вырыла у носа лодки ямку — там, куда не падали капли моросящего дождя, свернулась в этом гнезде калачиком и заснула.
Под самое утро собаке приснилось, что она снова в лодке в штормовом море и что волны с ужасным грохотом и ревом колотят о металлические борта. Собака от страха проснулась. Она была на суше, на твердой земле, но рев продолжался, а нависающий над ней нос «Казанки» дрожал от страшных ударов. Лайка выскочила из-под лодки и изо всех сил бросилась прочь. За ней, хрустя гравием, погнался кто-то большой и лохматый, но вскоре отстал. Собака, не чуя за собой погони, обернулась. Огромный медведь, кажущийся еще большим в серых утренних сумерках, возвращался к лодке.
Собака с безопасного расстояния залаяла на обидчика, но медведь только на мгновение поднял голову и снова занялся лодкой: тухлое мясо для зверя было гораздо предпочтительнее маленькой, дрожащей от голода и страха лайки.
Медведь отодрал алюминиевую дверцу, добрался до оленьей ноги и съел ее. Затем насытившийся зверь вытащил и второе бедро оленя. Однако его он есть не стал, а отнес по гравийной косе метров за триста, спрятал в углублении и завалил стволами плавника. Зверь около минуты как бы в раздумье постоял у своей кладовой, посмотрел на далекий силуэт собаки и побрел в тайгу.
Лайка дождалась, пока зверь скроется в лесу, и пошла сначала к своему разоренному дому, а потом и к спрятанной оленине. Бревна, натасканные медведем, были тяжелые, поэтому собаке удалось лишь с одной стороны сделать подкоп и отгрызть небольшой кусок.
Медведь пришел на следующую ночь и доел всю оленину. Зверь еще несколько ночей (а однажды даже днем) наведывался к лодке, пытался поймать собаку, шарил по «Казанке» в поисках съестного и, не найдя больше ничего, разгрыз оленье седло, сломал мачты, порвал парус из одеяла и наконец перевернул лодку вверх днищем.
Больше он не интересовался лодкой и лишь изредка, проходя по своей прибрежной патрульной тропе, навещал «Казанку» и обнюхивал ее.
Пока медведь воевал с лодкой, собака жила в лесу и спала на стожке пищухи, а когда он наконец исчез, она возвратилась к своему жилью. Лайка подрыла под бортом лодки лаз (а на случай прихода медведя сделала еще один запасной ход) и затащила под «Казанку» разорванный синий парус. Так у собаки появилась металлическая конура — свой дом.
Собака быстро привыкла к нему. Ее не беспокоило постоянное шуршание прибоя, шелест мелкого приморского дождя по алюминиевой крыше, ни близкие крики чаек, а иногда — и мягкая поступь перепончатых лап птицы по днищу перевернутой лодки. Жизнь текла мирно, и лишь однажды знакомый медведь, подойдя к «Казанке», запустил в лаз когтистую мохнатую лапу и попытался поймать лайку. Но она успела выскочить через запасной ход.
Каждый день собака с утра выбиралась из-под «Казанки» и уходила на охоту. Сначала она проходила несколько километров вдоль берега и собирала выброшенных прибоем крабов. Потом она переваливала через галечный увал и шла в ельник охотиться на пищух. Это было почти безнадежное занятие, потому что ловкие зверьки прекрасно ориентировались в своих лабиринтах троп, нор и ходов. Однако раз в два дня ей все-таки удавалось подкараулить и задавить какую-нибудь неосторожную молодую пищуху.
Однажды она брела несколько часов вдоль берега моря и вышла к устью речки, очень похожей на ту, которую они покинули с Хозяином. Там она нашла дохлую горбушу и съела ее. Рядом с устьем на небольшой неглубокой старице плавала утка и несколько утят-пуховичков. Лайка подумала, что это легкая добыча, и бросилась ловить их. Птенцы тонко запищали и разбежались по воде в разные стороны, а утка, волоча крыло, стала перелетать с одного края старицы на другой. Но утята плавали чуть быстрее, чем собака. Через час лайка выбралась из воды и с досадой смотрела, как весь выводок собрался у дальнего, безопасного конца своего родного водоема вокруг сердито крякающей мамаши. Собака так измучилась этой неудачной охотой, что еле доплелась до лодки и спала под ней весь следующий день, выйдя только один раз — попить.
Так прошло полмесяца. Лайка слабела. Она больше не ходила в тайгу за пищухами, ограничившись походами вдоль берега моря, которые изо дня в день становились короче.
На этих охотничьих тропах кроме дохлых крабов изредка попадались и другие животные. Однажды она набрела на косячок мелких серебристых рыбешек, толпившихся около берега. Лайка знала, что в воде рыбу не поймать, и прошла мимо. Но сзади нее послышался какой-то странный звук, заставивший ее обернуться. Слабая прибойная волна вынесла весь косячок на берег, и рыбки, сверкая серебристыми боками, извиваясь, прыгали на влажном песке. Лайка бросилась к ним, но следующая волна смыла рыбок в море. Голодная собака подождала, и другой косячок выбросило на берег метрах в десяти от нее. На этот раз лайка была порасторопней и успела схватить несколько рыбок. Собака в тот день попала на икромет мойвы и наелась досыта.
На другой день лайка снова пошла на берег в надежде на успешную рыбалку. Но икромет закончился, и она нашла только одну мертвую рыбку. Зато на своей охотничьей тропе, идущей вдоль самого уреза воды, она встретила идущую навстречу лису, также собирающую съедобные выбросы моря. Собака залаяла на нее, но лиса не испугалась, а только обежала собаку и продолжила свой путь.
На кормовой тропе случались и неприятные истории. Однажды на морском берегу на нее напали два белоплечих орлана. Жертва для них была крупновата, но, вероятно, птицы чувствовали, что собака обессилела, и долго гоняли ее по берегу, пока лайке не удалось добежать до тайги. Встретила она на берегу и своего знакомого медведя. И этот тоже погнался за ней. Чувствовалось, что медведь всерьез преследует ее, как вполне реальную обессилевшую жертву. Лайке еле-еле удалось спастись. Сделав большой крюк по тайге, она вернулась к лодке только через несколько часов и, обессиленная, заснула под ней. Собака почувствовала, что в следующий раз ей убежать уже не удастся.
Однажды под вечер она услышала далекий неясный шум, еле-еле пробивающийся сквозь безостановочный рокот прибоя. Лайка медленно вылезла из-под лодки. Было безветренно. Далеко над морем ползли обрывки тумана, почему-то принявшие облик огромных медуз. Шум лодки (теперь собака не сомневалась, что это была именно лодка) постепенно нарастал, но самого судна видно не было.
Лайка забралась на алюминиевую крышу своего жилища и просидела там около получаса, прежде чем различила у самого горизонта еле двигающуюся точку, а спустя еще полчаса увидела, что это большая моторная лодка, вернее катер, приближается к берегу. Катер направился к соседней бухточке, но сидевшие в нем люди заметили перевернутую, лежащую на берегу «Казанку». Тогда он резко сменил курс и вскоре ткнулся носом прямо напротив жилья собаки.
В катере сидели трое людей. Один из них первым выскочил на гравий и, разматывая длинную веревку, оттащил далеко на берег якорь. За ним вылезли остальные. Собака залаяла. Трое мужиков, видимо ранее не замечавшие ее, разом оглянулись и двинулись к «Казанке».
Запах незнакомцев был чужим, не тунгусским, и хотя лайка страшно скучала по Хозяину и вообще по человеческому обществу, но сейчас она бросилась прочь.
Мужики подошли к «Казанке» и стали рассматривать жилище собаки. Пока двое разглядывали погрызенное медведем седло, третий обошел лодку, заглянул в лаз, прорытый лайкой, и позвал своих товарищей. Все трое, взявшись за борт, перевернули «Казанку». Собака, видя, как снова рушат ее дом, горестно завыла. Двое обернулись на ее вой, а третий нагнулся и что-то поднял с земли. Лайка увидела, что это было ружье Хозяина.
Люди еще долго копошились вокруг лодки. Они рассматривали засыпанный песком «Ветерок», бачки из-под бензина, кружки и миски Хозяина, обломки мачт и синее одеяло, послужившее и парусом и подстилкой для собаки, нашли и следы зубов и когтей медведя на алюминиевой дверце бардачка. Потом они все обернулись, посмотрели на собаку и стали ей свистеть. Но она снова залаяла, а когда один из них двинулся к ней, побежала к тайге.
Лайка недолго отсиживалась в лесу. С берега до нее донесся почти забытый запах костра и безумно аппетитный аромат чего-то, варящегося в котелке.
И собака, роняя слюну, пошла на берег. Ее лодка была перевернута вверх дном, в стороне, метрах в ста на берегу, стоял катер пришельцев, виднелась большая брезентовая палатка. Рядом с ней горел костер. Над костром висели котелки. Ветер дул от их лагеря и доносил до собаки давно забытые запахи дыма и вареного мяса — горячей человеческой еды.
Лайка прокралась к своей лодке и стала молча наблюдать за людьми. Те сняли котелки с костра, из одного разлили варево по мискам, чокнулись кружками, выпили и стали жадно есть.
Вскоре пришельцы закончили греметь ложками, разлили по кружкам чай и закурили. Наконец один из них вспомнил о собаке. Он взял недоеденные куски, свистнул и бросил их в сторону лайки. Собака сначала было рванулась к угощению, но страх перед чужаками, которые сломали ее дом и забрали ружье Хозяина, оказался сильнее голода, и лайка вернулась к «Казанке». Мужик посвистел ей еще, потом бросил папиросу, собрал со стола объедки, взял котелок и пошел к собаке.
Та бросилась прочь. Человек подошел к ее жилищу, перевернул сапогом миску Хозяина, вылил туда суп из котелка и бросил объедки. Человек еще раз посвистел собаке. Та уже не убегала, но, стоя метрах в пятидесяти от него, протяжно, с подвыванием залаяла.
— Ах ты, шельма! — проворчал мужик и вернулся к костру.
Так у собаки появилось новое имя.
Шельма дождалась, пока мужик дошел до костра, налил себе в кружку чаю и закурил. Только после этого она начала опасливо подбираться к своей лодке. Но на последних метрах голод пересилил страх, и Шельма побежала к оставленной ей миске.
Темнело. Гости забирались в палатку. Сытая собака затрусила к ручью — напиться. Когда она пробегала мимо палатки, ее позвали.
— Шельма, иди сюда, — произнес уже знакомый голос человека, который кормил ее. Но лайка, обогнув палатку, поспешила к воде.
Когда она вернулась, у костра никого не было. Шельма по гривке, там, где был песок, прокралась к самому лагерю. Из палатки слышался разговор мужиков и тянуло папиросным дымом. Шельма нашла у костра корку хлеба и половину вареной картошки, мгновенно их проглотила и пошла к себе домой.
Сытая собака спала долго. Разбудил ее рев лодочного мотора. Шельма выскочила из-под «Казанки». Катер с людьми отходил от берега. Шельма, забыв про страх, с воем бросилась к воде, чувствуя, что снова остается одна на берегу. Человек, который вчера кормил ее, что-то крикнул. Лодка тронулась, набрала скорость, пошла вдоль берега и скоро скрылась за мысом.
Шельма еще долго лаяла, стоя на берегу. Наконец она развернулась и побрела к лагерю. Палатка стояла на прежнем месте. Вход в нее был плотно зашнурован. Рядом стояла бочка, в которой, судя по запаху, был бензин, и алюминиевая фляга, пахнущая ее ручьем. Недалеко от гаснущего костра Шельма нашла миску с обглоданными гусиными костями. Рядом стояла консервная банка с пресной водой. О Шельме позаботились.
Собака сгрызла все кости и пошла к жилью путешественников. Из щелей в зашнурованной брезентовой двери так аппетитно тянуло хлебом, что Шельма не удержалась и стала царапать брезент, но вскоре прекратила это тщетное занятие.
Приехавшие вечером мужики, казалось, ничуть не удивились собаке, которая лаяла на них, находясь не у перевернутой «Казанки», а около палатки. Люди выглядели очень усталыми. Один из них прошел к бочке, налил в банку бензина, плеснул его на наспех сваленные дрова, бросил туда горящую спичку и, когда бензиновое пламя улеглось и занялись поленья, повесил над ним чайник. Люди торопливо попили чаю. Один из мужчин залез в палатку и, вернувшись оттуда с куском хлеба, сел на бревно и стал жевать. Потом, вспомнив, посмотрел на собаку, отломил половину и бросил ей. Кусок упал метрах в пяти от него.
— Ешь, Шельма, не бойся, — сказал человек устало.
Собака осторожно подошла, взяла хлеб, отбежала в сторону, легла, проглотила хлеб и стала наблюдать за путешественниками. Они тем временем соорудили из толстых жердей вешала и принялись таскать из лодки темные куски мяса и развешивать их на жердях. Один из них срезал хороший шмат мяса, положил его в котелок, залил водой и поставил на огонь.
Через некоторое время все трое собрались у костра в ожидании, когда сварится мясо. Шельма издали наблюдала за ними. Один из гостей писал что-то в блокноте, второй начал потрошить маленькую птичку, третий отчищал от бурой ржавчины ружье Хозяина.
Наконец мясо сварилось. Мужики оставили свои дела, разложили варево по мискам и стали ужинать. Тот же мужик, что кормил лайку прежде, подошел к собачьей миске и положил туда хороший кусок вареного мяса. Шельма отошла от человека всего на несколько шагов, но стала есть только тогда, когда тот повернулся к ней спиной и пошел к костру.
Какой-то запах, исходивший и от варева, и от лодки, и от мужиков, и, самое главное, от жердей, на которых висело мясо, не давал ей покоя. И только когда она приблизилась к костру, у которого человек на бревне раскладывал десяток огромных когтей, она вспомнила этот запах — запах ее знакомого медведя.
Вечером собака сама подошла к лагерю, легла у палатки и дала себя погладить. Человек, который кормил ее, провел ладонью по спине Шельмы. Сквозь густую шкуру лайки легко прощупывались ребра и позвоночник. У крестца в «талии» собака была настолько тощая, что ее можно было перехватить ладонью. Шельма, когда ее гладили, дрожала всем телом, но не уходила.
Человек сходил к «Казанке», принес синее одеяло и положил у стены палатки, там, где был брезентовый навес от дождя.
На следующее утро Шельма спокойно с берега наблюдала, как отчаливает катер. А вечером, весело помахивая хвостом, Шельма у палатки встречала людей. Экспедиция увеличилась на одну живую душу.
Палатка простояла на берегу несколько дней. За этот срок Шельма научилась различать всех троих членов экспедиции не только по характеру, голосу и запаху, но и узнала, чем каждый из них занимается, и даже запомнила, как кого зовут, так как люди называли друг друга по именам. Первого, того, кто кормил Шельму и больше других заботился о ней, звали Володя. Он был большой, бородатый и очень любил лазать на высокие деревья. Второй, Коля, обращал на нее меньше внимания, хотя иногда давал ей какое-нибудь лакомство — кусочек сахару, конфету и горбушку белого хлеба. Этот Коля все время ходил с ружьем, стрелял крошечных птиц, но не варил их, а обдирал с них шкуру. Шельма недолюбливала его, потому что он однажды перетянул ее по спине хворостиной за то, что она хотела съесть одну застреленную им птицу. Третий участник экспедиции, Паша, был небольшого роста. Он совсем не обращал внимания на Шельму, только иногда бросал ей пустые банки из-под тушенки. Паша почти все время проводил в лодке. Чаще всего там он ремонтировал мотор, читал книгу или просто спал.
Однажды после завтрака люди стали стаскивать все вещи в катер, начиная от бочек с бензином и заканчивая посудой, продуктами и несъеденными кусками медвежьего мяса.
Шельма поняла, что люди уезжают навсегда, только тогда, когда один из них приподнял и отнес ее в сторону, чтобы она не мешала сворачивать палатку.
Люди уже были в лодке, уже был поднят якорь и запущен двигатель, а Шельма все стояла на берегу.
— Поехали? — спросил Паша, сидевший за баранкой катера. — Шельму берем?
— А как же, — сказал Володя. — Не зря же мы ее столько кормили, чтобы снова здесь оставить на голодную смерть. Вон как она на нас смотрит. Шельма, иди сюда! — крикнул он стоящей у самой воды собаке. — Поплыли!
Но Шельма, хотя и страшилась вновь остаться в одиночестве на безлюдном берегу, еще больше боялась снова оказаться в лодке в открытом море.
Володя выбрался на берег, легко взял Шельму на руки и пошел к катеру. Но обезумевшая от ужаса собака вырвалась и убежала. Тогда Володя ножом отрезал от выброшенного штормом, лежащего на берегу тонкого каната кусок, сделал из него петлю, подошел к испуганно присевшей Шельме, надел ей ошейник и затащил лайку в катер.
Когда Шельма увидела, что берег с ее алюминиевой конурой удаляется, она завыла и попыталась выпрыгнуть за борт. Тогда ее привязали. Шельма легла на дно, заползла под сиденье и тихонько заскулила. Паша дал полный газ, и катер понесся вдоль берега.
На море был штиль, и вскоре Шельма перестала скулить и задремала, убаюканная плавным бегом «Амура» по пологим морским волнам.
Она проснулась от того, что ее сначала прижало к стене, а потом над ней загремели выстрелы. Шельма вскочила. Лодка, закладывая крутые виражи, кружила на небольшом пятачке. Водитель лихорадочно крутил штурвал, а Володя, широко расставив ноги, чтобы не упасть на очередном вираже, торопливо перезаряжал ружье и палил по стае плывущих турпанов. Две утки неподвижно лежали на зеленой поверхности моря, а третья — подранок — плавала рядом с лодкой.
Врожденный охотничий инстинкт заглушил страхи Шельмы и перед лодкой, и перед морем. Собака не раздумывая перемахнула за борт, в ледяную воду Охотского моря — доставать подранка.
Но поводок, которым Шельма была привязана к стрингеру[28], натянулся, и собаку потащило к корме — под винт. Коля успел ножом полоснуть по японской веревке, и через секунду освобожденная Шельма плыла далеко за кормой. Лайка, прижав уши, высоко держа голову и не обращая внимания на крики сидящих в лодке, торопливо поплыла к бьющейся в агонии утке, кружившей на поверхности и оставлявшей за собой в зеленоватой морской воде яркий кровавый след.
Шельму втащили в лодку. Только тогда она отпустила утку. Путешественники еще раз подивились ее худобе — мокрая шерсть прилипла к телу собаки, на котором явственно проступили все ребра.
Шельма энергично отряхнулась (новые хозяева наградили ее теми же словами, которые употреблял в похожих ситуациях Хозяин), обнюхала турпана, забралась на нос катера — больше она не боялась ни моря, ни лодки и помнила только об охоте.
Охотники собрали с поверхности моря турпанов и снова поплыли вдоль берега.
Шельма легла на дно катера, под сиденье, там, где для нее заботливо постелили кусок синего одеяла.
Она вылезла оттуда, когда катер сбавил ход. Люди оживленно о чем-то переговаривались, жестикулировали и показывали руками на что-то, чего пока не видела Шельма.
Она недоуменно оглянулась на сидевших в лодке людей. Те, не обращая внимания на собаку, напряженно всматривались в горизонт. Неожиданно все трое вскочили, а один схватил фотоаппарат. Впереди и чуть вправо по борту из воды плавно вырос огромный серый холм, над морем поплыло облако тумана. Через секунду спина кита скрылась, зато на мгновение появился огромный серп его хвостового плавника.
Лодка еще немного покружилась вокруг того места, где скрылся кит, но тот больше не показывался. И экспедиция отправилась дальше. И катер снова пошел вдоль берега — к далекому пока еще устью Амура. Шельма забралась в лодку и снова задремала.
Была еще одна остановка. Люди в лодке не тянулись ни к ружьям, ни к фотоаппаратам, а спокойно смотрели на море. Шельма лениво подняла голову над бортом. Совсем рядом из воды медленно всплыл огромный черный и длинный, как крыло буревестника, плавник, пронесся несколько метров над волнами и исчез в глубине.
Шельма с воем заметалась по катеру. Люди с удивлением посмотрели на нее. Сначала ее пытались успокоить словами, потом Коля перетянул ее по спине веревкой. Но собака все бегала по катеру, лая в ту сторону, где скрылся плавник касатки. Володя с Пашей перебросились несколькими словами, и водитель дал полный газ.
Катер давно миновал страшное место, а Шельма все никак не могла успокоиться: беспрестанно вскакивала на корму и отчаянно лаяла на растворяющийся за судном пенный след.
Через час катер приблизился к берегу и ткнулся носом у ствола большой лиственницы, на вершине которой чернело огромное гнездо. В гнезде снизу был виден большущий птенец, а взрослые орланы, сверкая белыми «погонами», кружили высоко в небе. Увидев громадных птиц, Шельма испуганно прижалась к ногам Коли, вспомнив, как они однажды едва не догнали ее, обессилевшую, на берегу моря.
Шельма со злорадством ожидала, что люди убьют орланов и разорят их гнездо. Но Паша остался в лодке, а Коля с ружьем куда-то побрел по берегу. Володя же, надев на сапоги стальные когти, неуклюже заковылял к лиственнице и быстро стал карабкаться вверх. Из гнезда раздался хриплый клекот, и вниз спланировал громадный, оперившийся, но еще плохо летающий птенец.
Шельма с лаем бросилась к нему. Птенчик размером с индюка при ее приближении упал на спину, раскинул крылья, выставил в сторону Шельмы когтистые лапы и угрожающе раскрыл клюв. Шельма отскочила и пыталась атаковать с другой стороны. Но птенец успел повернуться, и перед собачьей мордой вновь оказались огромные лапы, вооруженные мощными когтями.
— Паша, отгони Шельму, а то она орлана сожрет! — закричал сверху мотористу Володя.
— Это вряд ли, — сказал Паша. — Скорее, он ее, — но из лодки вылез и посадил собаку на поводок.
— Подожди, не уходи, — раздался голос с дерева. — Я веревку с мешком спущу, а ты туда птенца запихай. Надо его снова в гнездо посадить.
Паша ловко накинул на голову птенца свою куртку, схватил за ноги и крылья и затолкал орлана в спущенный мешок.
— Майна, — сказал он невидимому, скрытому лиственничной кроной Володе, отвязал Шельму и пошел к катеру. Но Шельма просидела под деревом полчаса, дожидаясь, пока Володя промерит гнездо и птенца, окольцует его, возьмет у него пробы крови и спустится вниз.
Прошла неделя. Гнезда орланов на берегу попадались часто, и все это повторялось с регулярным однообразием.
Шельма сначала терпеливо дожидалась Володю, сидя под деревом, но вскоре ей это надоело, и она стала ходить с Колей, но только до того момента, пока ему зачем-то не понадобились совершенно крошечные кулички, обитающие только на грязевой отмели. Она прошла с ним около двух километров по хлюпающей жиже, Коля застрелил своего куличка, и они возвратились назад. Хотя Шельма уже несколько отъелась на харчах путешественников, но так вымоталась, что больше на такую охоту никогда не ходила.
Катер после месяца автономного плавания вдоль совершенно безлюдных побережий Охотского моря приближался к первому лежащему на его пути поселку — временному жилищу рыбаков.
Катер причалил к этому форпосту цивилизации. Шельма впервые в своей жизни видела большие жилища, сделанные из бревен. По берегу ползла железная коробка, рыча так же, как лодка. «Урал» подъехал к самой воде, зацепил катер тросами и вытащил его на берег — за линию прилива.
Поселок, на взгляд Шельмы, мало отличался от знакомого ей стойбища. Такая же грязь и масса разбросанных бесхозных вещей. Как и в стойбище, где она родилась, здесь повсюду валялись сухие, изгрызенные собаками кетины у палатки, а также кухтыли и обрывки сетей. На самом берегу моря лежала огромная рыбья голова с длинным носом и маленькими усиками. Там, где жила Шельма, такую рыбу не ловили. Однако в поселке кроме этих привычных для Шельмы предметов повсюду были разбросаны какие-то ржавые механизмы и машины, тросы, якоря и пустые бочки.
Шельме было страшновато в этом поселке, среди огромных домов, механических коробок и незнакомых собак. Сучка жалась к резиновым сапогам Володи, который что-то рассказывал водителю «Урала». Разговор, вероятно, шел о Шельме, так как водитель с интересом посмотрел на нее и погладил лайку.
Вечером палатку не ставили. Экспедиция пошла в дом. Хотела пойти туда и Шельма. Но ко всем собакам в поселке относились одинаково, какой-то незнакомый мужик, торопясь в тепло с мелкого, холодного, сеющего приморского дождика, отпихнул сидевшую под дверью Шельму сапогом.
Лайка побрела к катеру. Она не смогла забраться внутрь — борта были очень высокими, к тому же судно сверху было прикрыто брезентом. И Шельма второй раз за это лето выкопала яму под своим плавучим домом, забралась туда и заснула.
В полночь из дома вывалилась толпа людей, среди которых Шельма узнала и своих знакомых. От всех них пахло так же, как однажды пахло от Хозяина, когда к нему в гости приезжал сосед. Тогда Хозяин особенно сильно побил ее. Шельма вспомнила об этом и поглубже забилась под лодку.
Люди шумно разделись, забрались в Охотское море и с криками стали там купаться. Легкий ветер гнал с моря слабый туман. Берег еле освещался желтым светом единственного стоящего у одного из домов фонаря. В море белели тела купальщиков. Шельма подняла голову, посмотрела на них, поежилась и плотнее свернулась калачиком.
Мы довезли собаку до самого Николаевска-на-Амуре. Что с ней случилось впоследствии, я точно не знаю. Одни рассказывали, что Шельма, не привычная к городской жизни, попала под машину. Другие утверждали, что лайку подобрала одна пожилая одинокая женщина и Шельма стала настоящей избалованной горожанкой, раскормленной, толстой сукой. Наконец, знакомый промысловик говорил, что Шельма живет именно у него и каждый сезон он с нею охотится. Охотник не мог нахвалиться лайкой, рассказывая, как собака прекрасно находит и облаивает и соболей, и белок, и сохатых, а из самой холодной воды приносит застреленных уток. У лайки были только два недостатка — она побаивалась медведей, а кроме того, настолько азартно ловила пищух, что охотник был вынужден не промышлять в тех местах, где сеноставки водились в изобилии.
РЕГАТА
Первую пока еще сухопутную ночь орнитологическая экспедиция в составе двух человек, намеревавшихся сплавляться по одному из притоков Амура, коротала на очень жестких скамейках железнодорожного вокзала города Молодежного. Рядом с нами на полу расположилось целое семейство, вернее, женская часть большого цыганского рода. Мы с завистью наблюдали, как солидные матроны положили на не очень чистый кафельный пол тюфяки, а сверху, как и заведено в добропорядочных домах, постелили простыни и одеяла. Цыганки, поголовно страдающие хронической беременностью, степенно улеглись. Стали засыпать и мы. Неожиданно спокойной ночи нам пожелала симпатичная женщина-милиционер. Она обходила дозором свои вокзальные владения, обнаружила двух сонных орнитологов и подошла к самому солидному из нас — к Коле. Солидных в нашей стране традиционно принимают за начальников (поэтому на всей территории бывшего Союза меня всегда считали «шестеркой»).
— Деньги есть? — прошептала женщина хорошо поставленным голосом суфлера, ночного грабителя или сводницы.
— Есть, — таким же тоном отвечал мой коллега, специалист по водоплавающим птицам.
— Где? — интимно поинтересовалась очаровательная сотрудница МВД.
— Здесь. — Коля коснулся бокового кармана куртки.
— Переложи во внутренний!
Коля повиновался. Она внимательно проследила за перемещением экспедиционной наличности и, поблескивая звездочками, скрылась в вокзальном полумраке. Мы поглядели вслед ладному милиционеру и, поерзав на жестких скамейках и найдя приемлемые позиции, задремали.
Проснулись мы среди ночи от негромкого пыхтения и повизгивания. Первая версия посторонних звуков сразу же отпала: все цыганки спали в буквальном смысле этого слова. Жгучие брюнетки томно ворочались под одеялами в объятиях одного лишь Морфея. Зато рядом со спящим женским батальоном возились их отпрыски — полуголые дети полка. Два черноглазых пацаненка на кафельном полу увлеченно разламывали пластмассовую куклу. Кукла была пребольшая — почти с них ростом — и совершенно голая. Цыганята успели оторвать у нее одну руку и, вереща как обезьянки, отчленяли оставшиеся конечности. Кукла смотрела на юных палачей грустными голубыми глазами святой мученицы. Коля цыкнул на цыганят, и они продолжали играть в застенок молча. Спал я плохо. Снился мне китайский сад пыток.
Ольховка, куда мы прибыли на следующий день, была наполовину заселена староверами и располагалась на берегу реки. По ней мы и хотели сплавиться до самого устья, делая остановки и изучая птиц.
Для этого путешествия мы из Москвы захватили большую надувную лодку иностранного производства с морским именем «Мистраль». Все остальное: мотор, бачок и бочку бензина — мы рассчитывали приобрести в этом поселке с древесным названием. Коля говорил, что у него там был знакомый, который с удовольствием продал бы нам мотор. Но я сомневался. И не напрасно.
Очень скоро выяснилось, что этот знакомый уехал, обещанного лодочного мотора у него все равно не было и достать его в Ольховке, кажется, нет никакой возможности. Зато мы познакомились с вертолетчиками и лесными пожарными, и они отдали нам хороший крепкий сарай, куда мы перетащили свои вещи и стали там жить. Погода стояла прекрасная, в поселковой столовой кормили очень вкусно и дешево, к тому же там была симпатичная раздатчица. Душевные пожарные ежедневно топили баню, в комнатушке у сторожа никогда не выключался телевизор, и если бы не досадная необходимость сплавляться вниз по реке, а заодно по мере движения исследовать орнитофауну, можно было считать, что экспедиция проходит успешно. Но в наших дневниках пока еще не было ни одной записи, посвященной птицам. Зато страницы пестрели названиями улиц, номерами домов и именами проживающих там владельцев моторов, бочек и бачков.
Однажды я в отчаянии ходил по порядком надоевшему населенному пункту и уже отработанным взглядом сельского вора или гастролирующего казановы заглядывал за все заборы в надежде увидеть стоящий у стены сарая лодочный мотор, а рядом — хозяина, желающего его продать. У дверей одного из домов я обнаружил, вероятно, никому не нужный, слегка помятый, но вполне целый бензобак, взял его с собой и пошел дальше. И незаметно для себя оказался на берегу реки. Там на перевернутой вверх дном дырявой «Казанке» сидел Коля в компании с бородатым мужиком, на котором была старинного покроя длинная косоворотка, подпоясанная тонким кушачком, галифе и сапоги с голенищами гармошкой. Между ними лежала хорошая горка черемши, краюха серого хлеба и стояла наполовину пустая трехлитровая банка с мутно-фиолетовой брагой, так как староверы обычно пытаются облагородить эту гадость (тщетно, замечу) голубикой. И вообще они не пьют не с членами своей общины. Но до определенной дозы. Видимо, эта доза и была уже введена в организмы обоих собутыльников. Я в душе рассердился на Колю: мне приходится весь день бродить по жаркому поселку и клянчить мотор, а он в это время отдыхает в холодке, на берегу реки. Я подошел и поздоровался.
— Здорово были, — солидно отозвался мужик.
— Как дела? — спросил Коля.
— Да вот, Бог бачок послал, — ответил я.
— Не упоминай имя Господа всуе, — строго заметил, погрозив мне пальцем, бородатый мужик и разлил фиолетовую жидкость по кружкам, которых неожиданным образом оказалось три.
Я присел на «Казанку», получив свою порцию черемши, хлеба и браги, и стал смотреть на реку и слушать беседующих. Потом, чтобы как-то перевести разговор от тонкостей древлеправославной веры к мирскому, то есть к мотору, бочке и бензину, я для затравки разговора похвалил фиолетовую брагу.
— Это что! — охотно переменил тему разговора старовер. — Вот ниже по течению дежурный водомерного поста живет. Громыко. Нет, это у него не кличка, а фамилия такая. А жена у него Росомаха. А это как раз кличка. Так вот они отличную бражку ставят. Вкусная, как мускат, не чета этой. — И он с отвращением допил свою кружку. — Будете у него в гостях (сомнительно, конечно, что мы когда-нибудь доберемся до него, мотора-то у нас не было!), передавайте ему привет из Ольховки. — Старовер вытер тыльной стороной ладони рот и снова обратился к Коле: — Двуперстие же означает, — и он сложил пальцы, — двуединство божественной и человеческой природы Бога нашего Иисуса Христа, распятого на кресте. — И он перекрестился. — А вы креститесь троицей — трехперстием. А ведь Святого Духа-то не распинали, распинали только Богочеловека! И выходит, что ваше — это греческая ересь, кукиш, печать антихриста!
Не надо быть философом, чтобы прийти к известному заключению: почти все в природе имеет свой конец. Имела конец и наша беседа с ортодоксом. Когда к концу банки мне показалось, что нам придется сплавляться на «Мистрале» без мотора, выяснилось, что старовер и есть тот самый давно искомый продавец «Вихря».
Купленный нами мотор среди массы недостатков имел одно неоспоримое достоинство: он мог толкать лодку по течению реки. Кроме того, у вертолетчиков нам удалось купить и двухсотлитровую бочку бензина.
И вот я стою в «восьмерке», прижатый к стене нашей бочкой, и, нарушая все инструкции, фотографирую сквозь открытый иллюминатор гибкое тело реки, оплывающей серые гравийные косы.
Вертолетчики, как и обещали, высадили нас недалеко, километрах в шестидесяти от поселка, перебросив через грандиозную природную плотину — циклопический завал из принесенных паводком стволов деревьев. Вертолет улетел, оставив нас на косе с кучей тюков, рюкзаков, каких-то ящиков и досок, предусмотрительно набранных Колей в поселке. На месте нашего десантирования мы разбили лагерь, в котором для акклиматизации к таежным дебрям и норову реки прожили несколько дней, вспоминая блага цивилизации: баню, брагу старовера, телевизор, дешевую столовую и очаровательную раздатчицу.
Однако лето шло, птички пели, работа и река торопили. Поэтому прежде всего мы исследовали окрестности с орнитологическими целями, а в свободное время занимались наладкой мотора.
В один из таких испытательных заплывов Коля доверил мотор мне. Плавание проходило успешно. Но вдруг наше оранжевое судно сбавило скорость. Коля обернулся ко мне, зачем-то протянул отвертку на текстолитовой ручке и крикнул:
— Искры нет! А может, у верхней свечи контакт отошел! Попробуй поправь его!
Я взял отвертку в правую руку, перевалился над кормой и пальцами левой, свободной руки покрутил отсыревший лейкопластырь, которым был примотан проводок к свече. И в тот же миг мотор заревел сильнее, а мир вокруг меня разительно переменился: все покрылось мелкой дрожью, как на экране испорченного телевизора, — и река, и прибрежные кусты, и лодка, и недоуменное лицо Коли. Я слышал, как из моей ладони выпала и стукнулась о деревянный пол «Мистраля» отвертка. Я наконец разжал пальцы на свече. Окружающие предметы вновь обрели свои четкие контуры.
— Поправил, — сказал я Коле. — Искра есть.
Мой товарищ впервые видел такой способ индикации тока напряжением несколько тысяч вольт (честно говоря, и я это делал впервые). После этого случая Коля доверял мне только весла. Сам же специалист по водоплавающим был заправским механиком с большим экспедиционным опытом. Общение с нашим мотором он начинал с ругательств по поводу отсутствия каких-то важных деталей. Потом он протирал мотор тряпочкой, выжигал свечи на костре и оказывал ему другие знаки внимания. Но когда мотор капризничал, объявлял каникулы и не заводился, Коля бил его ногами.
Однажды Коля в спокойной речной заводи в последний раз решил проверить готовность лодки и мотора к регате. Он оттолкнул «Мистраль» от берега; я в качестве зрителя остался в лагере. Коля проделал все предварительные операции: неторопливо накачал бензин, намотал на маховик стартерную веревку, привстал, как метатель молота, и, разворачиваясь всем корпусом, дернул конец. Все дальнейшее произошло очень быстро. Мотор заревел, и лодка рванулась, как бычок на родео, выпущенный из загона (это Коля случайно поставил мотор на «скорость»). Мой товарищ протянул руку — сбросить обороты, но почему-то резко отдернул ее назад, потерял равновесие и как-то буднично, без суеты свалился за борт.
Лодка без седока показала удивительную резвость. Мотор заложило в сторону, и посудина, вместо того чтобы двигаться по прямой, развернулась и пошла прямо на незадачливого механика. Тот едва успел нырнуть, а надувное корыто пронеслось над ним и снова повторило боевой заход.
Я беспомощно бегал по берегу. «Мистраль» еще раз попытался задавить ныряющего Колю, но не рассчитал и на крутом вираже врезался в прибрежный ивовый куст. Коля вплавь добрался до лодки, влез в нее, заглушил мотор и несколько раз ударил его ногой.
Потом он объяснил мне свое неожиданное желание искупаться: в разогревшемся на солнце «Вихре» приползшая с берега гадюка принимала воздушные ванны. Она-то и встретилась с Колей, когда тот протянул руку — сбросить обороты.
На следующий день мы упаковали в лодку все вещи, закатили туда и бочку с бензином. Я выстрогал из ствола ивы тонкое длинное древко и прибил к нему деревянные дощечки, добытые из Колиного ящика, — получилось отличное весло.
И вот груженое изделие, произведенное в единой тогда Югославии, отчалило. Оттолкнувшись от берега, я навалился коленом на упругий оранжевый баллон лодки, тщательно ополоснул сапог, а течение уже подхватило «Мистраль», стало медленно удаляться наше кострище, показался невидимый раньше мыс.
Коля дернул серый от стертого алюминия конец стартера, воспитанный мотор сразу же оглушительно заревел, и «Мистраль», оставляя за собой выгнутый петушиный хвост белой пены, понесся вниз по реке.
Однако Коля даже при помощи мата и ударов ногами не смог отрегулировать карбюратор «Вихря», и из него веселым фонтанчиком все время изливался бензин. Поэтому капитан привязал к карбюратору тонкую резиновую трубочку, другой конец которой был опущен в горлышко бутылки. И теперь, когда мотор работал, из него в предусмотрительно подставленную тару веселой самогонной струйкой текло сэкономленное горючее.
Нарядный «Мистраль» резво шел по реке. Иногда он сбивался с плавного галопа и переходил на дробную рысь на перекатах, там, где волны. Вперед, как копье с широким наконечником, направлялось мое самодельное весло.
Под ровной кожей речной поверхности играли невидимые водяные мускулы. Они то прижимали лодку к берегу, то цеплялись за винт, то выворачивали в сторону мотор. На одном из поворотов подводная струя ударила лодку в бок. Коля резко крутанул ручку газа, «Мистраль» сбавил ход, стал бортом к течению и попал под высокий водяной вал. Мотор, глотнув воздухозаборником живительной влаги, оглушительно чихнул и замолчал. В наступившей тишине удивительно уютно шумела река.
Коля оценил результат аварии, ласково похлопал по почти полной бутылке набежавшего бензина и сообщил мне, что мы сегодня дальше плыть будем на веслах до первого удобного и по возможности живописного места.
Через пару часов мы увидели то, что искали. Из-за поворота высокого берега медленно выплыл остов полуобгоревшего дома. Чуть поодаль огромным надгробным памятником стоял цельнометаллический железнодорожный контейнер. Других строений не наблюдалось.
— Здесь и остановимся, — бодро заявил Коля, указывая на мрачное пожарище.
Мы причалили и пошли к обугленным развалинам. Рядом с остовом дома зияли три глубокие ямы.
— Новый дом хотели заложить или погреб рыли? Подозрительно все это, — задумчиво бормотал Коля, ходя по разоренному огнем и шанцевым инструментом хутору и прихватывая несколько обугленных досок для костра. — Что-то здесь не так, вот попомни мои слова, есть в этом что-то криминальное.
Не успел Коля втолкнуть округлую, прокопченную физиономию котелка в оранжевый частокол пламени, как из-за поворота реки вывернул «Крым». «Рыбинспекция» — было красиво написано белыми буквами на его синем борту. Лодка ткнулась в песок рядом с «Мистралем».
— Так, — строго сказал рыбинспектор, вылезший из «Крыма». — Туристы, что ли? А, экспедиция, — более уважительно произнес он, просматривая наши командировочные удостоверения. — Орнитологи. По птицам, значит. И рыбу небось ловите? Сетки есть?
Мы дружно солгали.
— Смотрите у меня, с сетками поймаю — штраф платить будете. Точно не ловите? А то горбуша уже на нерест пошла, все браконьеры на реке. Ухи хотят попробовать из первой рыбы в сезоне. Вот я их и гоняю. Так, значит, вы не ловите?
— Нет, нет! — уже вполне искренне заверили мы его. (Мы не ловили просто потому, что еще не успели.)
— Ну, раз рыбы у вас нет, тогда держите. — Он поднял со дна своей лодки пару горбуш и бросил их нам на берег. — Птичек своих стреляйте, — продолжал он, подкачивая бензин в мотор. — Можете и лося прихватить. Их знаете сколько по берегу ходит! Подстрелите его, мясо посолите или тушенку сделайте, вам до самого устья и хватит. В общем, отдыхайте, ребята! Только рыбу — ни-ни. Не могу, вечереет, самое время службу нести, — отклонил он наше предложение поужинать вместе и оттолкнулся веслом.
«Рыбинспекция» с воем исчезла.
Мы только надломили ложками рассыпчатые розово-кремовые куски сварившейся горбуши, как еще одна лодка причалила рядом с «Мистралем». Оранжевый цвет действовал на речников как аттрактант[29]. Вновь прибывший «Прогресс» был темно-зеленым. В нем сидели двое мужиков. На борту лодки не менее красивым шрифтом было написано «Охотинспекция». Природу на реке охраняли как следует.
— Что, орнитологи? — спросил вылезший из лодки охот-инспектор. Он имел очень грозное лицо, а на поясе у него болталась кобура. — Птичек стрелять будете? — продолжал вопрошать он: беспроволочный телеграф на реке работал отменно. — А разрешение есть?
Разрешение у нас было, и охотинспектор стал его изучать. Тем временем подошел его напарник. Он был помоложе, не столь свирепого вида и, по всей вероятности, был подчиненным первого. Все эти недостатки он компенсировал своим нарядом: кроме пистолета и огромного ножа в ножнах, висевших у него на поясе, в руках у него был и карабин.
— Только на птиц? — спросил начальник, возвращая Коле красивую бумажку. — А на лосей?
На лосей у нас разрешения не было.
— Смотрите, — наставительно сказала охотинспекция. — Лосей не стреляйте! Поймаю — ружья отниму и уголовное дело заведу!
Мы, ожидая, что события будут развиваться по известному сценарию, наивно полагали, что охранники после этих слов, следуя русской пословице «Что охраняю, то и имею», вытащат из лодки лосиную ляжку и подарят ее нам. Но мы были несколько разочарованы, когда наши гости извлекли из «Прогресса» только полиэтиленовый пакет, полный редиски, огромную буханку круглого белого хлеба и две бутылки вина.
— Ну, орнитологи, налетай на амгуньские яблочки! — сказал старший и высыпал на расстеленную газету редиску, раскрашенную в цвет польского флага.
— Что же вы, ребята, сеток не захватили? — спросил он после пятиминутной паузы, заполненной звоном кружек с нежной брусничной настойкой производства единственного на реке завода, жеванием упоительно вкусного хлеба, хрустом молодого редиса и смакованием нежного мяса сварившейся горбуши. Мы еще раз подивились скорости распространения информации по реке.
— Зря, зря вы сеток не взяли, — продолжал начальник. — Первая рыба как раз на нерест пошла. Я вам сетчонку оставлю. Ловит не очень хорошо: старая, уже дырявая. Но вам хватит. По ведерку икры домой привезете. Только лосей ни-ни!
Скоро разговор переключился с охраны животного мира на другие темы. Мы спросили, кто здесь жил раньше, в сгоревшем доме.
— А, старик один. Его убили, а дом сожгли, — просто разрушил иллюзию царящей вокруг идиллии охотинспектор. — Сожгли, — повторил он. — Для отвода глаз, значит. Мол, несчастный случай. А по слухам, у старика водилось аж три карабина. Вот за них и порешили. Ямы видели? Это милиция копала, все погреба перерыла. И под домом тоже копали. Черт-те откуда бульдозер на барже привозили. Искали, значит, но не нашли карабинов-то. Дело ясное, карабины взяли, старика кокнули, а дом сожгли — мол, сам сгорел. Ну ничего, — помолчав, продолжил охотинспектор. — У старика два сына да племянник остались. А карабины эти все равно здесь когда-нибудь «всплывут». Вот родственники и разберутся безо всякой милиции.
Вспоминая о мгновенном распространении информации по реке, мы в это поверили и не позавидовали похитителям карабинов.
— Конечно, из-за этих карабинов дед лакомым кусочком был, — продолжал начальник природоохранного патруля. — Во-первых, жил на отшибе, во-вторых, столько оружия имел. Это не отшельник, тот ниже по течению обитает. Если встретитесь с ним, привет передавайте. Мы его иногда навещаем, подкармливаем. Интересный дед, дореволюционный. Из дворян. Он до сих пор все слова с твердым знаком пишет. Ей-богу! Только к нему особенно не доберешься — он в стороне от реки, на озере живет. Сначала по протоке надо ехать, потом по озеру. А оно мелкое и все водорослями заросло. По нему не то что на лодке — и на оморочке[30] не протолкаешься. Хотя вы на своей красавице можете попытаться. Так вот на этом озере и живет отшельник. Только брать у него нечего — одна скрипка да кошка. А контейнер, — ответил на наш вопрос инспектор, — один городской чудак на плашкоуте[31] привез. Сейчас его нет, он только в отпуск приезжает. Там у него нары, можете переночевать. Только темно — окошка нет. Ну ладно, спасибо за угощение и за компанию. — И инспектора направились к своей лодке.
— Пора ехать — темнеет, самая работа у нас. Вот вам. — И начальник бросил на берег холщовый мешок с сеткой. — По ведерку икры домой привезете. А то как же в Москву без дальневосточного гостинца? Только лосей не стрелять — Боже упаси!
Охотинспекция уплыла по своим делам, а мы остались на берегу с подарками: сеткой, горбушей и нехорошими мыслями об убитом старике.
Коля поставил палатку на берегу, у лодки, а я, взяв спальный мешок, пошел в контейнер. Тусклый огонек свечки осветил железные стены моего ночлега, узкие нары и прошлогоднее сено на полу. Дверь закрылась со зловещим скрежетом засовов камеры Шлиссельбургского замка. Я разделся, забрался в спальник и потушил свечку. Тонкая фиолетовая полоска ночного неба светилась там, где створки смыкались неплотно. Оглушающая тишина стояла внутри этого металлического короба. Лишь капли вечерней росы, падающие с нависающей ивы, выводили по железной крыше четкий звуковой узор размером в три четверти, как будто легкая пара двигалась в медленном вальсе.
Сон у меня был такой же темный и глухой, как мой каземат. Утром я никак не мог сообразить, где нахожусь. В камере царил полумрак. Щель между створками, длинная и узкая, как ножевой разрез, ослепительно горела бело-голубым цветом. Падающие капли выстукивали по крыше моего бомбоубежища веселый фокстрот, постоянно сбиваясь с ритма. Я встал, толкнул дверь, и она, как бы жалея об ускользающей жертве, со скрежетом раскрылась.
Над невидимой рекой текла вторая, туманная река, а по ее поверхности медленно скользил бледно-красный шар утреннего солнца. Внизу чернела палатка моего товарища. Все спало в этот благодатный час, кроме птичек, из-за которых я каждый день был обречен на ранние подъемы.
У самого берега на веточке ивы сидел, втянув голову в плечи, задумчивый зимородок. Иногда он что-то вспоминал (я думаю — что-нибудь из гастрономической сферы), приподнимал голову, как бы икая и сглатывая слюну, дергал крошечным хвостиком и снова впадал в созерцание реки. В тумане, рядом с плавающим солнцем, пролетели три белолобых гуся, явно не гнездящихся и потому вполне съедобных. Но ружье было в контейнере, и гуси благополучно скрылись.
На самом берегу, рядом с Колиной палаткой, истошно вопили, деля стратегически важный мысок, два кулика-перевозчика.
Соседняя вырубка была словно перевита толстой медной проволокой — длинными изогнутыми стеблями свидины — кустарника, которым в Москве украшают парки. Из самой чащи этого проволочного заграждения пела птица. Голос у нее был такой четкий и ясный, что ему мог позавидовать любой диктор. Сибирский сверчок уже, наверное, в тысячный раз за сегодняшнее утро произносил неизменную фразу, в которой всем местным охотникам, рыбакам и прочим озабоченным любителям природы почему-то слышалось одно и то же: «Пропить, переспать!» Я послушал этого неугомонного пернатого жизнелюба, взял ружье и пошел на маршрут, продираясь сквозь свидину. Милое растение, используемое в Центральной России в качестве прихотливого декоративного кустарника, здесь, на родной почве, настолько обнаглело и переплелось, что его заросли по своей непроходимости могли быть сравнимы лишь с кедровым стлаником.
Сибирский сверчок, ежесекундно напоминая мне жизнерадостной, четкой песней о своих алкогольных и сексуальных пристрастиях, ровно выдерживал расстояние между нами в десять метров, всегда оставаясь невидимым. Где-то здесь, в ужасных медно-красных дебрях свидины, находилось гнездо.
Мошки, которых этим летом было в избытке, не поспевали за мной и плелись в арьергарде, с трудом протискиваясь сквозь кустарник. Лишь когда я останавливался, усталые насекомые догоняли меня и сыпались на капюшон штормовки мелким дождем. На полянах к ним присоединялись комары. Но через несколько секунд кровососущие твари оттеснялись мелкими лесными мухами, которые вились вокруг меня в токовом полете, спариваясь друг с другом, а заодно пытаясь копулировать с попадающими под горячую руку мошками и комарами. Те не были приверженцами межвидовых половых извращений, и я под защитой очень сексуальных насекомых, отчаявшись найти такого же сибирского сверчка, продолжал брести сквозь заросли свидины.
На одинокой высокой лиственнице, стоящей на поляне, мелькнула какая-то довольно крупная неяркая птица. Я поднял бинокль. Странно, но я никак не мог даже при помощи оптического прибора определить ее вид. Птица плотно прижималась к ветвям и, прячась за стволом, почти незаметно короткими рывками, как гигантская вертишейка, передвигалась в кроне.
Я вспомнил, что на Дальнем Востоке орнитологи изредка встречали тропических пернатых, залетающих с юга. Поэтому я снял с плеча ружье и стал красться к лиственнице. До дерева оставалось метров шестьдесят, а у меня от предвкушения будущего уникального экспоната коллекции зоомузея случился азартный озноб, знакомый охотникам: задрожали руки, заколотилось сердце и перехватило дыхание. Птица тоже не выдержала и слетела с дерева. Я вскинул ружье. Хотя мушка плясала так, словно стрелок старался сразу поразить полнеба, я нажал на курок. В момент выстрела (конечно, неудачного) я увидел, что это была обыкновенная кукушка. Она, притаившись в лиственнице, высматривала птичье гнездо, может быть, даже моего знакомого сверчка, чтобы подложить туда свое яйцо.
Я присел на кочку, унял дрожь в членах, вынул из ствола стреляную гильзу, заложил новый патрон и побрел дальше.
Через два часа, преодолев всего около полутора километров кустарниковых заграждений, я вышел к пересохшей протоке и по этой широкой каменистой дороге в лесу с омутками, в которых клубились головастики, добрался до нашего лагеря.
Коля уже встал и готовил завтрак. Перевозчики были безжалостно изгнаны им с мыска и верещали где-то в стороне. В затончике плавала буханка хлеба, выброшенная моим товарищем по причине буйной поросли пенициллина. Она двигалась по непредсказуемой траектории броуновского движения: рыбы, окружившие хлеб плотным кольцом, толкали его со всех сторон. Иногда коврига проплывала в одну сторону на целый метр: это какой-нибудь огромный чебак, забравшись в уже проеденную хлебную пещерку, отрывал куски и толкал буханку вперед.
Мы прожили на пожарище несколько дней. Я все-таки застрелил сверчка, а Коля отрегулировал мотор и опробовал сетку охотинспектора. После этого мы покинули стоянку. Лодка отошла от берега, и назойливые, почти не кусающие, но неприятно щупающие тебя какими-то двусмысленными прикосновениями мошки были сметены набежавшим ветром.
И снова оранжевый «Мистраль», подхваченный течением и подгоняемый жадным до бензина мотором, летит вниз, к устью, туда, где прозрачные струи реки впадают в мутные воды Амура. Текучая вода повела нас по слаломной трассе петляющей реки, на скорости показывая достопримечательности, как бы торопливо листая глянцевые страницы какого-то фантастического номера «Нью-Джиогрэфик». Беззвучно (из-за грохота мотора) падал на крутом склоне сопки ствол подгнившей лиственницы, на скалах трепетали белые флажки горных маков, светились изящные ярко-лимонные красодневы, пестрели пошлые из-за своего цвета и многочисленности саранки.
Река справа и слева принимала притоки. Стекающие с сопок, они наполняли ее чистейшими струями, а сочащиеся из болот окрашивали воду раствором крепкого чая. И сносимые течением клубы коричневого цвета с прозрачными прожилками, словно огромные жидкие сердолики, долго не растворялись в общем речном потоке.
В омутках от лодок уходили в сторону овальные, широкоспинные, как пираньи, сиги, на перекатах вверх по течению шли косячками горбуши, приподнимая телами прозрачное покрывало воды и изредка распарывая его хвостами на белые лоскуты.
Навстречу нам шла не только рыба, но и разнообразные суда, которые нас очень нервировали. «Мистраль» на реке казался необычным судном, и все старались поближе его рассмотреть, совершенно не задумываясь о последствиях.
Вот из-за очередного поворота выползла небольшая баржа. В силу своей уникальной гидродинамики она тащила за кормой девятый вал. Я струхнул: эта уж точно нас утопит. К тому же капитан настолько заинтересовался нашим суденышком, что явно намеревался пройти впритык с «Мистралем», чтобы получше рассмотреть надувное чудо.
— Утонем! — крикнул я Коле, наблюдая, как неумолимо надвигается баржа, окрыленная страшными волнами. Коля сбросил обороты, прижал лодку к берегу, а я замахал руками. Странно, но капитан вошел в наше положение и отреагировал адекватно. Он тоже сбавил ход, как Нептун укротив подвластные ему волны, и баржа на малых оборотах стала подкрадываться к нам, чтобы толпившийся на носу экипаж мог полнее насладиться зрелищем резинового изделия, которое яркой игрушкой плясало на воде. Удовлетворившись созерцанием нашей необыкновенной посудины, капитан дал прощальный гудок, и мы разошлись.
Через два часа после этого случая «Мистраль» ткнулся своей мягкой лаптеобразной мордой в песок рядом с двумя обшарпанными «Казанками» и длинным, долбленным из громадного тополевого ствола батом. На корме бата сидел тунгус. Он курил дешевую сигарету и со свойственной только азиатам и буддистам отрешенностью смотрел на реку. Европеоидные же мужики стояли у «Казанок» и о чем-то спорили. Когда мы вылезли из «Мистраля», дискуссия прервалась, и они подошли к нашей лодке.
Возникла стихийная пресс-конференция о нашей лодке. Сначала шел стандартный для всякого речника набор вопросов: скорость, грузоподъемность, как проходит мели, не боится ли волны и ветра. В конце следовало привычное для нас заключение, что «Мистраль» конечно же не дойдет до устья, а пропорет свои баллоны камнем на перекате или о корягу. А если мы все-таки доберемся до низовий реки, то уж там наше судно перевернет хорошей волной, а мы, естественно, утонем.
Попыхивая сигаретой, подошел тунгус. Он был одет в современную униформу всех орочей, нанайцев, нивхов и ульчей, которых я когда-либо встречал на Дальнем Востоке: шапка-ушанка (вне зависимости от времени года), телогрейка, невероятно грязные штаны и резиновые охотничьи сапоги с обязательно раскатанными до самых бедер голенищами.
Абориген с тем же безразличием, с которым он до этого созерцал реку, рассмотрел и нашу лодку.
Его появление снова оживило спор. Как оказалось, мужики до нашего прибытия разговаривали именно о туземце. Вскоре нам стало ясно, что все они — местные браконьеры, собравшиеся на реке отметить свой ежегодный браконьерский праздник «Первая уха из горбуши». Единственным из этой компании честным рыбаком был как раз тунгус. Ему, как представителю малой народности Дальнего Востока, выдавали разрешение на ловлю лососевых. И он, легально занимаясь этим, только что утопил свою сетчонку в реке. А впереди был ход осенней рыбы, которую в основном и запасали на зиму.
Тунгус слушал рассказ о себе в изложении сердобольных браконьеров, курил, изредка поддакивал, но с таким видом, как будто это его не касалось.
Наконец мужики прекратили соболезновать и дискутировать и, оставив нас с тунгусом у «Мистраля», погрузились в свои лодки и стали курсировать вдоль берега, прочесывая дно маленькими якорьками-кошками. Пока они бороздили амгуньские волны, невозмутимый тунгус похлопал «Мистраль» по слегка одряхлевшим от вечерней прохлады бокам.
— Хорошая лодка, — одобрительно сказал он. — Легкая, как оморочка. Только шибко яркая, к сохатому на такой не подобраться.
Я на Дальнем Востоке видел много легких лодочек под названием «оморочка» — из стекловолокна, пропитанного эпоксидной смолой, из тонких кедровых досок, из листового алюминия, из цельного ствола тополя, даже из распиленных топливных баков истребителей.
А от меланхоличного тунгуса я услышал рассказ, вернее, инструкцию, как надо изготавливать настоящие оморочки и чем они отличаются от многочисленных суррогатов, придуманных белым человеком.
Киль делается из елки, причем надо подобрать дерево с загнутым корнем — будущим носом лодки. На шпангоуты идут обработанные, согнутые дугой сосновые или, лучше, кедровые ветки. С целой, не поврежденной ни дятлами, ни морозобоинами, ни трутовиками, ни короедами березы в мае с помощью деревянных клиньев снимают кору. Ее кроят и прикрепляют к каркасу корнями лиственницы, а швы обрабатывают еловой смолой.
В общем, совершенно неожиданно для меня на берегу дальневосточной реки со всхлипываниями и мычаниями, иноязычным для повествователя матом, постоянным разжиганием тухнущего «Дымка» и периодическим произнесением тунгусского слова «однако» был сделан вольный пересказ седьмой главы «Песни о Гайавате», которую (я руку мог отдать на отсечение) ни мой собеседник, ни его родственники не читали ни в подлиннике, ни в прекрасном переводе Бунина. Об этом, в частности, свидетельствовало и то, что в рассказе тунгуса не было упомянуто ни о звездах, сделанных из ежиных иголок, раскрашенных разноцветным соком ягод и украшающих белоснежную грудь пироги, ни о других декоративных излишествах, хотя ежи в местном лесу водились, там же росли и ягоды. Белоснежную грудь пироги, то есть оморочки по тунгусской технологии, надо было прокоптить над костром, чтобы она приобрела приятный грязно-серый цвет. И уже в такой лодке можно было по воде незаметно подкрасться к сохатому, который на зорях заходил в реку пощипать водяной лютик.
Я слушал его повествование и дивился такому конвергентному сходству эпического корабела Гайаваты с орлиными перьями на затылке и вполне живого, конкретного, одетого в телогрейку тунгуса: оба они до мелочей одинаково сооружали один — в Северной Америке пирогу, другой — на Дальнем Востоке оморочку.
Рыбаки наконец выловили сетку тунгуса, а потом, сделав замет собственной снастью, вытащили из реки с десяток горбуш.
Уха из горбуши под ту же местную настойку «Брусничная» была так же вкусна и в компании браконьеров, как и в обществе охотинспекторов.
За ужином все разговоры по-прежнему вращались вокруг реки и ее обитателей. Упоминалась недобрыми словами рыбинспекция, удивленно говорили о староверах и дворянине-отшельнике, с сожалением — о сгоревшем деде и с уважением — о семье мастеров по браге, жившей на водомерном посту. Вскоре, впрочем, тема сменилась: насытившийся Коля красноречиво рассказывал подробности из личной жизни многих звезд столичной эстрады, в том числе и о разводе Аллы Пугачевой.
После этого один из наиболее активных спасателей тунгусской сетки объявил, что надо отметить счастливое освобождение Аллы Борисовны, а также акт помощи малым народам Дальнего Востока, первую уху из горбуши и грядущий День рыбака. Он подошел к своей лодке и достал из кубрика толстую палку финской колбасы, упакованную в полиэтилен.
Я, честно говоря, обрадовался появлению деликатеса, хотя, на мой взгляд, салями можно было подать и на закуску. Остальные рыбаки почему-то приуныли и по совершенно непонятным для меня причинам стали увещевать своего товарища отметить праздник более скромно.
— Вась, не надо, оставь это, — говорили они. — Давай как-нибудь в другой раз.
Мне очень хотелось колбасы, поэтому я не понимал сытых браконьеров. Но, к счастью, Вася был упрям и неугомонен. Он ножом распорол полиэтиленовую оболочку. К моему удивлению, внутри вместо вишневой палки салями оказался серый картонный цилиндр. Я разочаровался отсутствием деликатеса, но все же с интересом наблюдал за Васиными манипуляциями и за все более грустнеющими лицами остальных браконьеров. Лишь тунгус по-прежнему безучастно курил сигарету, смотрел на реку, периодически повторяя (вероятно, после брусничной настойки) слово «однако». Вася тем временем достал из кубрика и короткую железную трубу, вставил туда «колбасу», укрепил всю конструкцию на борту лодки и дернул за крысиный хвостик веревочки, торчащей снизу картонного цилиндра. Раздался довольно громкий выстрел — обещанный салют Васи.
Однако меня продолжали смущать физиономии остальных рыбаков: выражение обреченности и томительного ожидания у них все усиливалось. Кроме того, Васины компаньоны подняли головы к небу. Посмотрели наверх и мы.
В чистом вечернем небе плыло плоскодонное, тупоносое и круглозадое, как одинокая баржа, облако. Под его серым, словно суриком крашенным днищем стайкой рыбок резвились стрижи, а мы по этой аналогии были раками и крабами. Наверху неожиданно расцвело белое облачко, словно небесная баржа напоролась на мину, потом раздался оглушительный, заложивший уши гром, будто дали залп главные орудия линкора. Стрижи врассыпную бросились к земле. С карканьем снялась с ивового куста растрепанная, отходившая ко сну ворона, с берега заорала очумевшая цапля, а вода в реке забурлила: это шарахнулись вглубь плавающие у самой поверхности чебаки.
Мы поблагодарили за ужин, отдельно — тунгуса за рассказ о пироге, затейника Васю — за развлечение, и поплыли дальше.
Солнце живописно повисло над прибрежными тридцатиметровыми осинами, у которых крона осталась только на верхушках. Светило, показав нам весьма правдоподобную мистификацию «Закат в тропиках», ушло за горизонт. Река после взрыва давно успокоилась и стала ровной и гладкой, как пол в танцзале. Свеча верхнего цилиндра все-таки слегка барахлила, и лодка шла как хорошая скаковая лошадь — ровным тягучим галопом, пересекая невидимые преграды из натянутых поперек реки полос теплого и холодного воздуха, пробиваясь через колючие, бьющие по щекам тучки мятущихся над водой комариков.
Берега жили своей обычной жизнью. Но грохочущий галоп лодки не позволял нам насладиться ее звуками. Чайки, скопы и коршуны, днем висевшие над рекой, к вечеру исчезли. Впереди лодки взлетали невидимые на фоне темных берегов утки, заметные лишь по длинным взволнованным следам на водной глади. Перепархивал через реку запоздалый дрозд, и уже вылетели на охоту козодои, легко крутящие над водой фигуры высшего пилотажа. Коля посветил на одного такого аса фонариком, и глаза птицы загорелись ярким желто-оранжевым огнем.
Быстро темнело, но светлая, ровная, лишь иногда в выбоинах мелких водоворотов лента реки хорошо еще просматривалась в обрамлении прибрежных кустов.
Речные духи, видимо решив, что такое скоростное плавание в глубоких сумерках не представляет для нас особых трудностей, усложнили контур. Из заводей, затончиков и холодных проток они выпустили туманы. Легкое вечернее дыхание реки заставило их медленно двигаться, делиться на части, спускаться к самой воде, подниматься вверх, соединяться в готические замки, античные храмы, романские базилики, складываться в мосты, аркады, переходы и виадуки. И вскоре над рекой появился сложнейший призрачный город со сказочной архитектурой, в котором ежесекундно происходили бесшумные обвалы балок и перекрытий и целых зданий. Там плавно оседали, вздымая туманную пыль, стены домов и башен, а рядом из развалин новые стрельчатые арки тянулись друг к другу и сращивались в ажурные купола.
Мы летели сквозь эти фантастические кварталы, пробивая носом «Мистраля» накрепко запертые ворота, многометровые крепостные стены, попадали на площади, где стояли удивительные статуи, в фонтанах поблескивала настоящая вода, а вверху темнело настоящее небо с мерцающими звездами, и неслись дальше по призрачным бульварам, иногда врываясь в здания, продолжали свой путь через бесконечную анфиладу комнат и залов. Чтобы окончательно сбить нас с толку и убедить, что все эти фантомы реальны, духи водной стихии — создатели изощренных декораций — запустили туда летучих мышей. Зверьки были с ними в сговоре и очень натурально отскакивали от призрачных стен, словно от настоящих.
Темный силуэт средневекового замка на высоком обрывистом берегу с окошком, горевшим тусклым вишневым светом, казался частью этих ирреальных конструкций. Но мы не поверили и, заглушив мотор, причалили к черной стене крутого берега.
Сверху, из замка, послышался лай собак, потом звук шагов и шорох сползающих вниз по тропинке камней. К нам двинулась путеводная звездочка — лучик карманного фонарика: страж замка — дежурный водомерного поста, к которому у нас были рекомендации староверов, — спускался к реке. Чудесная полуночная регата закончилась. Невидимые наяды, русалки и ундины, плескаясь, перешептываясь и хихикая, разбирали и растворяли ненужные теперь глыбы тумана и разгоняли рукокрылых.
Хозяин поста провел нас в темную комнату. Там мы на ощупь достали из рюкзаков спальники и, не ужиная, заснули.
Утром мы встали поздно. Пока хозяйка — как мы догадались, именно она звалась Росомаха, — юркая, невысокая, худощавая, довольно молодая шатенка с лицом, в котором едва улавливались азиатские черты, собирала на стол, сам хозяин, Громыко, неторопливый, крестьянского вида мужик с коротко стриженной шевелюрой седеющих волос, повел нас на небольшую экскурсию по своему хутору.
Селение располагалось на ухоженной поляне, окруженной добротным забором из лиственничного жердняка. Рядом с домом, как каре, построенное для парада, зеленела приличная картофельная плантация, досадно нарушаемая редкими, не вовремя зацветшими растениями. Рядом побатальонно стояли кусты смородины, и тугие буреющие кисти свешивались как аксельбанты. За домом возвышалась застекленная теплица — сельскохозяйственный архаизм, так как все огородники в районе выращивали помидоры и огурцы под полиэтиленовой пленкой. Под стеклянной крышей в зоне очень рискованного земледелия Хабаровского края, там, где основным овощем была картошка, а основным фруктом — редис, у Громыко цвели пятнадцать сортов роз, желтели лимоны, свешивались полиловевшие гроздья винограда, а в самом углу в деревянной, покрашенной зеленой масляной краской кадке росло небольшое деревце, усеянное бело-восковыми звездочками цветов с тонким ароматом орхидей — в Нижнем Приамурье я впервые увидел, как цветет субтропическое растение фейхоа.
Мы вернулись в дом. В большой горнице, пустой и чистой, как жилище японца, стоял стол, стулья, черный телефон, в разных углах — две кровати, над которыми белыми кливерами свешивались из-под высокого потолка марлевые пологи. Кроме того, посреди комнаты, как обозначение географического центра, располагалась тридцатилитровая алюминиевая канистра.
Хозяйка позвала всех завтракать. Мы с Колей, расслабившись первой ночевкой в настоящем доме, совершили единственную ошибку, достав из рюкзака заветные гостинцы, призванные вещественно оформить знакомство: шоколадку «Аленка» и бутылку водки разлива города Молодежного.
— Ух ты, да вы с подарками! — удивленно-обрадованно воскликнули хозяева. — Ну и у нас кое-что есть.
И они почему-то кивнули на канистру.
Бутылка опорожнилась быстро, причем хозяйка отнюдь не обращала внимания на шоколадку, зато зорко следила за тем, чтобы ей наливали вровень со всеми. Она выпила последнюю порцию и, с грустью посмотрев на пустое донышко сосуда, на нетронутую «Аленку», приказала мужу:
— А теперь давай кваску, ребята кваску хотят.
— А готов ли? — засомневался тот.
— Готов, готов, — успокоила мужа Росомаха, — наливай.
Громыко открыл крышку тридцатилитровой канистры, до краев наполненной мутной, беловатой, пузырящейся жидкостью, разлил по кружкам первую порцию и с удовольствием ополовинил свою.
— Пробуй, — сказал он мне, сладко щурясь, — не хуже крымского муската.
Я попробовал. Было гораздо хуже.
Мы с Колей и не подозревали, что наше случайное появление приблизило начало тридцатилитрового фестиваля в доме водомерного смотрителя. Судя по спелости продукта, праздник должен был спонтанно начаться дня через два. Мы же со своей бутылкой оказались просто желанными катализаторами.
После второй кружки народного напитка в поведении всех четверых, сидящих за столом, произошли заметные перемены. Коля перестал отвечать на вопросы, и улыбка не сходила с его лица. Мне так хотелось спать, будто меня опоили снотворным. Только огромным усилием воли я не позволял глазам сомкнуться. Кроме того, я, в отличие от Коли, мог иногда кивать головой и произносить слово «да». Поэтому, к моему несчастью, Громыко с Росомахой обрели во мне единственного слушателя. Брага действовала на них по-иному, она раскрепостила их речевые центры, и каждый стал рассказывать мне историю своей жизни. Не знаю, как это называется в оперном пении, когда два исполнителя одновременно поют каждый свою партию. Бывает очень красиво, но слов разобрать ни в коем случае нельзя. Здесь было то же самое, за исключением первого положения. Но вскоре я адаптировался: перестал слушать хозяйку и все внимание переключил на Громыко.
Сначала он объявил, что министр иностранных дел — его родной дядя. После этого он достал шесть своих сберкнижек и заставил меня на листочке в столбик суммировать вклады, коими он обладал. Получилось приличное число. Потом на свет появились с десяток удостоверений Громыко — от телефониста до механизатора. С ними я тоже должен был ознакомиться. Напоследок хозяин достал семейный альбом. Альбом был толстый, обтянутый красным бархатом.
Тематика этого архива в фотографиях была поразительной. В красном томе Громыко собрал снимки всех своих родственников, на похоронах которых он присутствовал. Не знаю, кто делал ему эти фотографии, может быть, он сам, но все сюжеты были скомпонованы по единому плану: похоронная процессия (несколько кадров), покойник в гробу (общий план, анфас, в профиль), родственники у гроба, родственники у могилы, родственники за поминальным столом.
Уже сильно нетрезвый Громыко, медленно, любовно переворачивая тяжелые картонные страницы, давал каждому снимку подробные объяснения. Рядом с ним, ни на минуту не прерываясь, верещала о своем Росомаха. Коля, находясь в блаженно сивушной эйфории, все так же молча и бессмысленно улыбался.
Тематика альбома, неизменность каждого сюжета, бесконечность и монотонность рассказа Громыко наконец сломили меня. Я не выдержал, и глаза мои закрылись. Но я помнил, что нахожусь в гостях, и поэтому пальцами разлепил веки. Я отвернулся от Громыко, читающего свой бесконечный поминальный список, и перевел взгляд на Росомаху, пытаясь прислушаться к ее рассказу.
Неожиданно сюжетная линия ее повествования оказалась настолько интересной, что уже через пару минут я смотрел на женщину широко открытыми глазами и даже останавливал рассказчицу на некоторых местах с просьбой изложить побольше конкретных деталей.
Росомаха рассказывала о поселке, в котором она бывала очень редко и поэтому рассматривала каждое его посещение как выезд за границу. Ее нетрезвый, а поэтому очень красноречивый и откровенный монолог как раз и был посвящен «путевым заметкам». Они, вероятно, касались различных аспектов ближнего зарубежья, но я удачно «включился», отвлекшись от покойницкой темы, когда хозяйка приступила к описанию посещения поселковой бани. При этом от пытливого взгляда лесного жителя Росомахи не ускользнула ни одна деталь местных обольстительниц. Кроме природной наблюдательности Росомаха обладала хотя и грубовато-физиологическим, но бойким, сочным слогом, так что я с удовольствием прослушал дайджест, посвященный детальному экстерьеру и топографии поселковых красавиц. Живое, образное повествование Росомахи активизировало даже Колю, и он, перестав улыбаться, пробурчал что-то одобрительное о «птичках».
— Птички здесь есть, — подхватила, быстро переменив тему, общительная хозяйка, — и в лесу, и на реке, а особенно много их на озере. Там и гуси живут. Озеро мелкое, на лодке не проплывешь, вот их никто и не тревожит, а тамошний дед-отшельник их не стреляет. У него и ружья-то нет, одна скрипка. Мы с хозяином к нему раз в месяц ездим — продукты привозим, а то помрет.
Коля, услышав рассказ Росомахи о своих любимых водоплавающих, успел расспросить у нее, где находится это озеро.
— Мы тебе потом подробно расскажем, — заверила Колю Росомаха, черпая из бездонного бидона, — и схему нарисуем.
— Обязательно схему нарисуем, — поддакнул Громыко, — вы туда съездите, гусей посмотрите и деду кваску отвезете. — И он похлопал по канистре. — Завтра.
Потом Громыко сделал речевую паузу с бульканьем, поглощая очередную порцию браги. Присоединилась к нему и Росомаха. Я воспользовался этим и, пробурчав что-то о неотложных полевых исследованиях, взял ружье, бинокль, прихватил Колю, и мы вышли из дома.
Уже через полчаса у меня прошел хмель, и я обнаружил на дереве гнездо. Я оставил Колю и ружье на земле, а сам полез на елку. Но гнездо оказалось пустым, прошлогодним. Когда я спустился на землю, то обнаружил спящего Колю, наконец-то побежденного демоном браги.
Только к вечеру мы вернулись на хутор. В доме, где еще утром царила идиллически пасторальная жизнь двух супругов, этаких дальневосточных Филемона и Бавкиды, наступили перемены столь разительные, что я ощутил укол совести, увидев воочию, как порок пьянства разъедает этот тихий уголок.
Наш небольшой полулитровый детонатор привел в действие тридцатилитровые разрушительные силы, до поры замкнутые в алюминиевой канистре.
Хозяйка из-под полога что-то невнятно бормотала о своей загубленной молодости. Сам же Громыко спал на полу, обняв руками драгоценный альбом. На столе стояла пустая кружка, которую, как сердцевину цветка ромашки, окружали аккуратно разложенные лепестки сберкнижек, удостоверений и дольки разломанной, но так и не съеденной «Аленки». Рядом с этим натюрмортом беспрестанно звонил черный старомодный телефонный аппарат.
Мы так и не дождались конца этой потрясающей пьянки. Хозяева совершенно не мешали нам обитать в их доме, бродить по окрестностям и изучать птиц. Единственное, что нас лимитировало, так это дефицит хлеба и картошки. Все привезенные нами булки были в первый же день съедены Громыко с Росомахой. Предусмотрительно посоленная браконьерская рыба тоже кончилась. Лося мы, несмотря на уговоры рыбинспектора, так и не застрелили.
А продукты на хуторе были в изобилии. Мы через окно сарая рассмотрели бурты прошлогодней картошки. Рядом на бетонном полу стояло с десяток трехлитровых банок, заполненных кусками соленого сала. Но на двери сарая висел замок, а окно было слишком узким, да и к тому же забрано решеткой. Сами же хозяева питались только брагой — исключительно калорийным продуктом.
Однажды Громыко в очередной раз не успел вовремя приложиться к кружке и, таким образом, продлить сладкие грезы и поэтому вспомнил о нас — о том, что мы не кормлены и не поены. Он налил нам по кружке все того же отвратительного напитка, а на закуску выкатил из-под стола литровую банку красной икры. После этого он, выпив очередную порцию, впал в сивушную эйфорию и попытался рассказать мне следующий сюжет из бесконечного похоронного альбома.
Мы взяли банку икры, недоеденную «Аленку», еще раз окинули взглядом распластавшееся на полу тело Громыко, шевелящуюся под пологом хозяйку и, прослушав очередную канареечную трель служебного телефона, покинули гостеприимный кров.
Через час «Мистраль» крутился по указанной Росомахой извилистой протоке, а еще через полчаса мы вышли к небольшому, длиной около двух километров, озеру, берега которого часто обступал невысокий лиственничник. Озеро было, как нас и предупреждали, мелководное. Его поверхность устилал сплошной ковер из мелких, очень красивых, пряно пахнущих желтых цветов растения со странным названием «болотоцветник щитолистный», небольших белых цветов местной кувшинки и зелено-багряных круглых ковриков плавающих на поверхности листьев водяного ореха — чилима.
На берегу стояло с десяток покосившихся домов — старый заброшенный поселок. Щебечущие ласточки залетали через выбитые окна в пустые комнаты с обвалившейся штукатуркой и прогнившими полами. Единственное помещение, годное для жилья, в котором останавливались попавшие на озеро бродяги, было мерзостно, как всякое временное, не имеющее постоянного хозяина пристанище. Оно располагалось в бывшей кухне одного из домов. Окно было наглухо заколочено досками, в полуразвалившейся печке серел конус никогда не выгребавшейся золы, на трехногой кровати лежали неописуемого цвета матрац и лоснящаяся телогрейка. Весь пол был обильно орошен соляром и покрыт толстым слоем пыли с какой-то шерстью, нитками и клочками бумаги. На стене болталась грязноватая страница из журнала «Работница» с фотографией Софи Лорен.
Мы посмотрели на эту мерзость запустения и вышли наружу. Во дворе дома, как бы довершая безрадостный интерьер временного жилья, тоскливо стонали раскачиваемые ветром детские качели. Через болото к лесу шла старая, утонувшая в зарослях багульника узкоколейка. В стороне высилась деревянная вышка, опутанная снизу рыжими кружевами колючей проволоки. На другом берегу озера белела крыша одинокого дома. Там, вероятно, и жил отшельник.
Мы поплыли к нему. Но уже через двести метров чистая вода закончилась; впереди шли сплошные заросли болото-цветника, чилима и кувшинки. Белые и желтые цветы, сидевшие на длинных стебельках, бились о резиновые баллоны «Мистраля» и наматывались на винт. Коля заглушил мотор. Я взялся за весло, но грести было невозможно: гибкие, душистые венки оплетали его, лопатки вязли в илистом дне, и лодка крутилась на месте.
Коля посмотрел на обмотанные цветами весла и начал раздеваться. Наконец он полностью разоблачился, залез в мелкий, чуть выше колена водоем и стал толкать лодку. Я последовал его примеру, и мы вместе, упираясь в деревянный транец[32] «Мистраля», пошли по теплой воде к далекому дому. Его белая крыша, размытая висящим над озером маревом, дрожала, как далекое пламя.
Идти было тяжело: ноги проваливались в мягкий ил. Из-под ступней ползли, щекоча икры, стайки пузырьков. Поэтому мы стали двигаться так: сильно толкали лодку, цеплялись за нее и вытягивали ноги. «Мистраль» по инерции протаскивал нас на несколько метров, а водяные растения пробегали по нашим телам упругими бутонами кувшинок, прохладными листьями болотоцветника и нежнейшими прядями пузырчатки; иногда по телу прокатывался плывущий навстречу эластичный головастик.
Через час мы преодолели озеро. До берега оставалось около сотни метров. Коля отпустил лодку и остановился. Я, не заметив этого, толкнул «Мистраль» вперед и поплыл один, но вскоре спохватился и оглянулся. Мой голый, увитый цветочными гирляндами товарищ стоял как индус, совершающий омовение в Ганге.
В озере неподалеку от берега бродила лосиха. Она щипала побеги водяных растений. Зверь повернул голову, увидел обмотанного цветами Колю, в изумлении открыл рот и замер. На губах животного висели стебли пузырчатки. Лосиха, оценив мужественного Колю, медленно пошла к берегу. С ее намокшей шкуры стекали струйки воды. Какой-то странный звон сопровождал движение лосихи. Зверь прошел через синий прибрежный бордюр цветущих ирисов и легкой рысью, все так же металлически позвякивая, двинулся к лесу и скрылся среди лиственниц.
Мы добрались до двух бревен, олицетворяющих причал, и там оделись. Этот процесс сопровождался звуками скрипки, доносившимися из стоящего у самой воды белого домика. Это было не радио, играл настоящий, «живой» инструмент. Мы переглянулись и подошли к дому. Коля, придерживая на плече ружье, постучал.
Скрипка смолкла, и через некоторое время дверь открылась. На пороге стоял невысокий худощавый дедок с коротко стриженной серебристой бородкой и седыми, зачесанными назад волосами.
— Здравствуйте, Алексей Алексеевич, — произнес Коля имя, которое ему назвал старовер из Ольховки. — Вы, говорят, хорошо знаете, какие птицы на этом острове живут. Орнитологи мы, по птицам то есть специализируемся, из Москвы, это Володя, а я Коля, — наконец представил нас мой товарищ.
— Ну что ж, заходите, орнитологи, — сказал хозяин домика. Мы прошли в прихожую, где у стены почему-то стоял меч с метровым широким выщербленным лезвием и грубой деревянной рукояткой.
— А говорили, что у него никакого оружия нет, — шепнул мне Коля, ставя рядом с мечом свой бокфлинт. — Зачем он ему? От волков отбиваться, что ли?
Вид зазубренного, но не ржавого клинка, до блеска затертой рукоятки свидетельствовал о том, что инструмент часто бывает в деле. Мне на ум пришла мысль, что хозяин аккуратного домика кроме игры на скрипке имеет и еще одно хобби. Например, рубит головы случайным гостям.
Мы прошли в небольшую чистую комнату с недавно беленными стенами и потолком. На старом комоде лежал закрытый футляр скрипки, в углу стояла заправленная шерстяным одеялом кровать. От массивной, кубически располагавшейся на полу маячной батареи тянулись проводки к висевшей под потолком автомобильной лампочке. На столе лежала Библия, на подставке стояла фотография. Я пригляделся — это был портрет генерала Брусилова.
— Садитесь, господа орнитологи, — сказал Алексей Алексеевич. — Так чем могу служить?
Мы присели.
— Говорят, у вас на озере сухоносы живут, — сразу начал разговор Коля о своих любимых гусях.
Пепельно-серая кошка неторопливо подошла к отшельнику и стала тереться о его ноги.
— Не знаю, кого вы имеете в виду, — отвечал Алексей Алексеевич. — Орланы здесь гнездятся. А на Глухой протоке гуси селятся.
— Так это, наверно, и есть сухоносы, — заволновался Коля.
— Не знаю, не знаю, как они называются, видел только, что клюв у них черный и шея сзади темная, а спереди светлая.
— Сухоносы, — обрадовался Коля. — А где эта протока, мы бы хотели сами на них посмотреть. Нет, нет, мы их стрелять не будем, ведь они краснокнижные.
— Одну минуточку. — Хозяин достал школьную тетрадь. — Я сейчас вам все подробно изображу.
Коля протянул ему свою шариковую ручку.
— Благодарствую, не пользуюсь, — вежливо отказался Алексей Алексеевич и достал из стола чернильницу и ручку со стальным пером.
— Это озеро, — начал отшельник, и перо плавной линией очертило контуры водоема. — Это мое жилище. — На берегу он несколькими точными движениями обозначил свой домик. — Вот так вы добирались до озера. — И извилистая протока зазмеилась от реки. — Тут старый лагерь. — Появилась наклоненная вышка. — А вот это Глухая протока, где я видел гусей. — На линии возникли силуэты птиц.
Алексей Алексеевич закончил рисунок и под каждым изображением сделал для большей ясности надписи.
Мы с Колей зачарованно смотрели на прекрасно выполненный чертеж, а особенно на почерк отшельника. Каждую деталь своего рисунка он сопроводил таким красивым полууставом, которым не стыдно было писать челобитную царю.
Коля сказал ему об этом.
— Гимназия, знаете ли, многое дает, — произнес каллиграфист. — Нет, не прав был Антон Павлович, когда в своих рассказах ругал гимназию. Вот ваши гуси здесь и живут, — возвратился Алексей Алексеевич к началу разговора. — Как, вы сказали, они называются?
— Сухоносы, — повторил Коля, любуясь чудесным почерком. — Цигнопсис цигноидес.
— Странное название, — сказал Алексей Алексеевич. — По-моему, они совсем на лебедей не похожи. Ведь «цигнус» в переводе с латинского означает «лебедь». Ну да ладно. В конечном счете это право первоописателя, какое имя этому виду присвоить.
— Мы пойдем, — сказал Коля. Академичность обстановки его явно угнетала. — Посмотрим гусей.
— Извольте, — не удерживал нас хозяин, беря кошку на руки.
Мы встали, я взял со стола план озера, а Коля, когда проходил через прихожую, — свое ружье.
— Нет, это не мое оружие, я здесь никого не боюсь, — сказал Алексей Алексеевич, заметив, что мой взгляд задержался на стальном клинке, прислоненном к стене. — Это смотрители водомерного поста забыли, когда мне в последний раз продукты привозили. Они вот такими штуками — в мое время они в Новом Свете назывались, по-моему, мачете — просеки под телефонными линиями поддерживают, кусты вырубают.
Мы вышли на крыльцо. Озеро, все в желтых и белых цветах, лежало перед нами. Над водой, сверкая огромным желтым клювом, проплыл орлан. На темных крыльях птицы виднелись широкие белые «погоны». От этих полос возникала иллюзия, что крылья этого хищника неестественно вывернуты вперед. Сзади нас, от леса, раздался конский топот и металлическое бряканье. Мы с Колей оглянулись. Прямо к домику с лихим ямщицким перезвоном мчалась знакомая лосиха. Я заметил, как рука моего товарища, вероятно вспомнившего рыбинспектора, заскользила по рукоятке ружья.
— Сиротка! — ласково улыбнулся Алексей Алексеевич затормозившему возле нас зверю.
Лосиха подошла вплотную и обнюхала протянутую отшельником руку. На шее животного был широкий брезентовый ошейник, на котором болтался колокольчик, изготовленный из поршня автомобильного мотора.
— Я ее в лесу нашел, — пояснил Алексей Алексеевич, — малышкой. Ее мать кто-то убил. Поэтому и имя у нее такое — Сиротка. Пришлось мне ее приютить. А чтобы Сиротку никто не застрелил, я ей вот такой колокольчик сделал. — И он тронул поршень. — Но здесь никого постороннего не бывает, — улыбнувшись, продолжил старик, — только знакомые. И они, кстати, напрямик через озеро не плавают, а на оморочках вдоль самого берега пробираются. И вы так попробуйте, там водорослей нет. Прощайте!
Мы с Колей, сверяясь с каллиграфическим планом, добрались до Глухой протоки. Гуси заметили яркий «Мистраль» раньше, чем мы их. Нам лишь издали удалось рассмотреть в бинокли, как два выводка сухоносов быстро подплыли к берегу и, пробежав с десяток метров по отмели, скрылись в прибрежной траве. Но Коля все равно был доволен: озеро отшельника было новым, ранее неизвестным местом, где встречались эти исчезающие птицы.
Специалист по пластинчатоклювым завел мотор, и «Мистраль» медленно, на малом газу двинулся вдоль берега к далекой вышке, туда, где был выход из озера.
Через два часа мы снова заскользили вниз по реке. Мы приближались к устью, и признаков цивилизации становилось все больше. По берегам реки попадались не только зимовья, поселения староверов или водомерные посты, но даже поселки с магазинами, в которых мы покупали продукты.
Наше прибытие в очередной центр цивилизации — в заказник — сопровождалось небывалой жарой. Кордон заказника был небольшим, всего три дома покинутой деревни, в которой теперь и обитали егеря. После недолгих переговоров, сопровождавшихся демонстрацией командировок, нам показали место коновязи для лодки и пустой дом, где мы могли бы поселиться. Изба для гостей была хотя и чистым, но довольно безликим жилищем. Ее обыденность несколько скрашивал вход через окно (дверь почему-то была намертво заколочена), росший у входа огромный куст сладкой, с обертоном хинной горечи жимолости и полиэтиленовой пленкой, заменяющей стекла, отчего внутри дома даже в яркий солнечный день казалось, что на улице пасмурно.
Досуг наш скрашивал резвый бычок-трехлеток, который периодически выскакивал из кустов с нешуточными намерениями забодать кого-нибудь из небольшой московской экспедиции. Скотина никак не реагировала на бросаемые в нее камни. Но при удачном попадании утроба быка глухо гудела.
Стояла страшная жара, и весь день мы отлеживались в пасмурной избе, изредка выползая наружу набрать жимолости и добрести до колодца, настолько глубокого, что в его недрах голубела не растаявшая с зимы наледь. Мы доставали ведро воды, в которой вместе со щепочками плавали невидимые, звенящие о жесть льдинки. Из сока ягод и ледяной воды мы делали зуболомный напиток и вновь забирались в прохладное жилище.
Иногда я ходил на реку купаться. При такой жаре термонаводка мошек не работала. Насекомые лишь случайно садились на теплокровный организм и растерянно ползали по нему, не причиняя вреда. Зато, когда я, поплавав, вылезал на берег, насекомые, обладающие дублирующей химической системой наведения, сразу же облепляли меня в таком количестве, что розовая пена, оставшаяся за курсирующим по телу куском мыла, постепенно становилась серой от тонущих в ней мошек.
Однажды, когда я вот так умывался, используя двукрылых в качестве абразивного материала, неподалеку на песчаном берегу появились купальщики: девочка-подросток, дочка одного из егерей, и уже знакомый мне бык. Странно, но девочку абсолютно не кусали мошки, а кроме того, скотина вела себя с дамой совсем иначе, чем с нами. Бычок, явно играя, делал вид, что идет в атаку, наклонял рогатую голову, прыгал по мелководью и подбегал к девчонке. Та, смеясь, визжала, брызгала на него. Бычок фыркал и, бороздя подгрудком поверхность реки, отскакивал в сторону и снова притворно нападал.
Наконец животное присмирело и подошло к подружке. Воистину в то лето мне везло на мифологию: бычок подогнул передние ноги и лег на дно, высоко подняв голову, чтобы вода не заливала ноздри. Отроковица села на его широкую спину, и он, неожиданно гордо и величаво, понес наездницу на берег.
К вечеру посвежело, подошла грозовая туча, дождем которой прибило пламя огромного, разведенного егерями на окраине поселка костра, навевающего дым с каким-то непонятным влекуще-сладковатым ароматом.
Ночью егеря несли службу, изгоняя из заповедной акватории браконьеров, промышляющих горбушу. Слышались выстрелы, крики, рев моторов и стук алюминиевых бортов лодок; темноту прорезали взлетающие ракеты.
К утру все стихло. Коля сходил к начальнику этого природоохранного острога и договорился, что нас, сирых и безмоторных («Вихрь», не выдержав очередной экзекуции, проведенной капитаном, окончательно развалился), прокатят по заказнику на казенном катере.
Мы погрузились на «Амур» (настоящий корабль после нашего «Мистраля»), и один из егерей помчал нас по протоке. Вскоре, за третьим поворотом, показалась медленно уходящая от заказника «Казанка». В ней сидели, испуганно оглядываясь, двое молодых людей. Егерь, рассмотрев эту лодку, обернулся к нам и вежливо спросил:
— Ребята, вы не будете возражать, если мы задержимся с экскурсией на час-полтора?
Мы отвечали, что нет, ничего, нам спешить некуда.
— Вот и славненько, — совсем по-ленински обрадовался егерь, — для вас эта задержка ничего не значит, а у меня неотложное дело появилось.
С этими словами он дал полный газ и с разгона носом катера вмазал в борт уползающей «Казанки». У нее заглох мотор, а ловкий егерь схватил носовой конец и быстро завязал его на кормовой утке «Амура». После этого он развернул катер, и мы двинулись с буксируемым судном назад, к кордону. Самое удивительное, что два молодых человека не только не протестовали, но еще больше понурились. И, как выяснилось, было от чего.
На берегу нас встречал весь штат кордона, и среди них — самый страшный главный егерь: высокий пузатый краснорожий мужик с таким огромным револьвером, которые можно видеть лишь в фильмах про Дикий Запад.
Пленников выгрузили. Один из них при этом споткнулся и упал на берегу, а наш вежливый возница веслом очень неласково понуждал его подняться, изображая из орудия гребли бильярдный кий и находя соответствующие аналоги на теле арестанта.
— Не хотели мирно разойтись, — сказал страшный егерь, — придется с вами по-другому разговаривать.
И он поднял свой кольт. Коля побледнел. А начальник подошел к трофейной «Казанке» и, расходуя раритетные патроны, добытые, наверно, в историческом музее, несколько раз выстрелил в дно. Лодка стала медленно тонуть.
— Пошли в кутузку, — сказал он пленникам, — а ты, — обратился губернатор кордона к водителю «Амура», — вызови по рации милицию. Пусть приезжают. Скажи — наркоманов поймали.
Соседний поселок, стоящий ниже по течению, с недавнего времени был поражен новомодным недугом: там завелись наркоманы. В заказнике, у самого кордона, с незапамятных времен (то есть с той поры, когда здесь была настоящая деревня) располагался конопляник. Одичавшая «травка» и привлекла любителей зелья. Егеря скашивали ее, сжигали (теперь мы поняли, чем пах дым вчерашнего костра) и еще загодя заворачивали любителей марихуаны прочь от кордона, обращаясь с ними гораздо жестче, чем с «родными» браконьерами. У тех же, кто все же прорывался к чудом сохранившимся росткам, они отнимали лодки и, накостыляв, отпускали на все четыре стороны (до поселка было тридцать километров таежного бездорожья).
Встретившиеся нам наркоманы были наглыми даже по дальневосточным понятиям: они не только не убрались восвояси, но, надрав конопли, ночью прокрались на свою арестованную «Казанку» и попытались скрыться с контрабандным грузом. Поэтому-то их и сдали милиции.
Через час после этих событий мы с Колей все-таки поехали осматривать заказник. А еще через два дня все тот же егерь к вечеру довез нас, все вещи и свернутый «Мистраль» до устьевого поселка, откуда в город ходили рейсовые теплоходы.
Мы с экспедиционным барахлом расположились на дебаркадере. Судно приходило поздно, и у нас было много времени. У самого берега чернело дощатое здание рыбоперерабатывающего цеха. Рабочий день закончился, и пестрые стайки студенток, пригнанных на летнюю трудовую практику, как работницы табачной фабрики в первом акте «Кармен», выходили из ворот. Их дожидались кавалеры, одетые, правда, не так нарядно, как их испанские двойники: в телогрейки, резиновые сапоги и почему-то в вязаные женские шапочки.
На берегу лежали сшитые из тонких досок лодочки, раскрашенные в яркие карнавальные цвета. Дверь стоящего на набережной двухэтажного дома открылась, и из нее вышел молодой человек, одетый иначе, чем другие кавалеры: он был в джинсах, легкой рубашке и модных полуботинках. Он спустился к берегу, закурил сигарету, одной рукой подхватил салатового цвета лодочку, другой взял шест и, сделав несколько шагов до берега, аккуратно опустил игрушечное суденышко на воду. Молодой человек оттолкнулся шестом и поплыл стоя, как гондольер в Венеции. Плыл он недолго — метров двадцать, до ближайшей вешки. Гондольер подцепил привязанный к ней десятиметровый кусок рыболовной сетки, элегантно, не вынимая сигареты изо рта и держа сетку несколько на отлете, чтобы не забрызгать рубашку, перебрал снасть и, небрежно бросив улов — пару горбуш — на дно лодки, так же картинно направился к берегу. Дома его, вероятно, ждали невыключенный магнитофон, все та же бутылка брусничной наливки, студентка и стоящая на газовой плите сковородка, на которой уже было растоплено масло. А навстречу молодому человеку в желтой лодочке плыла к своей сетке пожилая домохозяйка в халате и шлепанцах. Ее дома ждало то же самое, за исключением магнитофона и студентки.
Рыбный колорит чувствовался в поселке повсюду. Запах свежей горбуши, не заглушенный даже мощной отечественной парфюмерией, исходил от гуляющих студенток; стираные нитяные белые перчатки, в которых они обрабатывали рыбу, гирляндами висели на бельевых веревках. По улице явно в гости шел одинокий мужик. В одной руке у него была трехлитровая банка мутной браги, в другой — серо-розовое колесо — поперечный срез огромной калуги.
Вечерело. На широкой, набравшей силу к устью реке медленно двигались темные силуэты катеров, уже высвеченные желтыми, красными и зелеными огнями. Выше по течению остались перекаты, косы, завалы, пороги, странные встречи, удивительные знакомства, туманные рассветы, звездные ночи и темные от ночных костров берега.
Далеко-далеко, у самого горизонта, синели сопки. Где-то там, за многими излучинами, находился наркотический кордон, еще дальше, на хуторе, наверное, уже допили свою бездонную канистру Громыко и Росомаха, в стороне, на озере, играла скрипка, гоготали гуси и звенел колокольчик Сиротки, а еще дальше мечтательный тунгус все так же смотрел на воду, и кому-то салютовал затейник Вася.
А дальше... дальше просто струилась река, по которой целый месяц плыла наша небольшая экспедиция. Мы молча смотрели, как сумерки густеют над теми местами, куда мы больше никогда не вернемся.
СОДЕРЖАНИЕ
Николай Дроздов. Энтузиаст экспедиционной жизни......5
ЛЯГУШКА НА СТЕНЕ
Предисловие .............................. 9
Гнездо стенолаза ............................ 12
Флинт .................................. 19
Наум ...................................26
Один день во Вьетнаме .......................33
Каникулы на юге ...........................46
Блоха ...................................70
Дорога на Север ............................99
Сельдяной полосатик .........................126
Учеты ...................................146
Лягушка на стене ...........................163
Бархатный сезон ............................172
Желтые трясогузки ..........................187
Тугур — река рыбная .........................198
Таська .................................. 211
Четыре ночи медового месяца ...................219
Таежное жилье .............................236
Батя ....................................244
Пять и шесть ..............................255
Лыжи ...................................269
Лисица ..................................277
Яблоки ..................................281
Лучшая ножка Парижа........................293
Залив Счастья .............................317
Хозяин острова .............................328
Снежинка ................................350
Правильный температурный режим ................358
Второе имя ...............................370
Регата ...................................390
К ЧИТАТЕЛЯМ!
Издательство просит отзывы об этой книге
и Ваши предложения по «Зеленой серии»
присылать по адресу:
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 376
Издательство АРМАДА
Бабенко В. Г.
Лягушка на стене. / Худож. Н. Строганова. — М.: АРМАДА, 1998. — 426 с.: ил. — (Зеленая серия).
ISBN 5-7632-0744-0
Автор книги «Лягушка на стене» Владимир Бабенко, профессиональный зоолог, долго проработавший в МГУ им. М. В. Ломоносова (ныне преподает в МПГУ). Во время своих дальних командировок ему приходилось наблюдать самых разных животных. Однако эта книга посвящена не только лягушкам, птицам и зверям. В экспедициях зоологи встречаются также и с людьми — лесниками, егерями, охотоведами, рыбаками, браконьерами и прочими скитальцами. Такие встречи, как правило, связаны с неординарными личностями, с интересными событиями, с неожиданными приключениями. Это, так сказать, побочный продукт экспедиционной работы, впечатления, имеющие косвенное отношение к зоологии. На их основе автор и написал книгу, показав работу людей редкой специальности — зоологов-полевиков и поведав, что с ними случается во время путешествий.
О научной работе зоологов говорят монографии, книги, статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывался и что остается «за кадром», известно немногим. И этому тоже посвящена книга «Лягушка на стене». Некоторые из рассказов веселые, другие грустные, третьи драматичные. В общем, так, как бывает в экспедициях, да и в обычной жизни тоже.
УДК 82-311.8(02)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44я5
РЕДАКЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Литературно-художественное издание
Зеленая серия
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ БАБЕНКО
ЛЯГУШКА НА СТЕНЕ
Ответственный редактор
К. А. Залесов
Редактор
В. А. Патрикова
Художественный редактор
В. В. Голубева
Технический редактор
Л. В. Синицына
Компьютерная верстка
И. В. Поддубный
Изд. Лицензия ЛР № 040627 от 12.05.93. Формат 84x108 1/32.
Бум. кн.-журн. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,47. Тираж 15 000 экз.
Изд. № 2215. Заказ № 2450.
Издательство АРМАДА
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 37б
Отпечатано в типографии издательства
«Самарский Дом печати»
443086, Самара, просп. Карла Маркса, 201
1
Т е р и о л о г и я (от греч. therion — зверь) — раздел зоологии, изучающий млекопитающих. (Здесь и далее примеч. ред.)
(обратно)2
Х ю й е н К у а н г — средневековый лирический поэт из Вьетнама.
(обратно)3
Б а л о к — небольшой домик в тундре.
(обратно)4
Р а м п е т к а — устаревшее название сачка.
(обратно)5
К а р м и н н ы е — от слова кармин — красный краситель, добываемый из тел бескрылых самок насекомых — кошенили.
(обратно)6
Белый медведь приближается (англ.).
(обратно)7
Маммалогия — раздел зоологии, изучающий млекопитающих.
(обратно)8
Б а р б е к ю — приготовленная на углях говядина, свинина, мясо птицы, рыба.
(обратно)9
ВПК — военно-промышленный комплекс.
(обратно)10
О в е р к и л ь — переворот судна вверх килем.
(обратно)11
ЛАС — лодка авиационная спасательная.
(обратно)12
Р е п е л л е н т — химический препарат, применяемый для отпугивания насекомых.
(обратно)13
СРТ — средний рыболовный траулер.
(обратно)14
К л е в а н т— деревянная застежка на палатке.
(обратно)15
А в и ф а у н а — комплекс обитающих в каком-нибудь месте птиц.
(обратно)16
Б о к ф л и н т — двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов.
(обратно)17
Т е м п е р а — живопись красками, связующим веществом которых служат эмульсии — натуральные (цельное яйцо, желток, соки растений) или искусственные (водный раствор клея с маслом).
(обратно)18
С а н г и н а — карандаши без оправы красно-коричневых тонов (из каолина и оксидов железа).
(обратно)19
А у р и п и г м е н т (от лат. aurum — золото, pigmentum — краска) — минерал класса сульфидов; золотистые или лимонно-желтые кристаллы.
(обратно)20
С и з и г и й н ы е п р и л и в ы (от слова syzygia — соединение, пара) — общее название двух фаз луны: новолуния и полнолуния.
(обратно)21
С е п и я — светло-коричневая краска из чернильного мешка каракатицы (сепии).
(обратно)22
П р и в а д а — приманка.
(обратно)23
Л а х т а к — то же, что морской заяц — морское млекопитающее семейства настоящих тюленей.
(обратно)24
А к и б а — вид тюленя.
(обратно)25
Ю к о л а— вяленая рыба.
(обратно)26
А х а н — крупноячеистая рыболовная сеть.
(обратно)27
Л и н н а я птица — птица во время смены пера.
(обратно)28
С т р и н г е р — продольное ребро жесткости корпуса судна.
(обратно)29
А т т р а к т а н т (от лат. attraco — притягиваю к себе) — природные или синтетические вещества, привлекающие животных, в том числе насекомых.
(обратно)30
О м о р о ч к а — легкая лодочка (одноместная).
(обратно)31
П л а ш к о у т — несамоходное грузовое судно для перевозки грузов на верхней палубе.
(обратно)32
Т р а н е ц — плоский срез кормы шлюпки, яхты или другого судна.
(обратно)

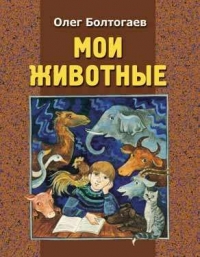

Комментарии к книге «Лягушка на стене», Владимир Григорьевич Бабенко
Всего 0 комментариев