Вирджиния Вулф ЗАМЕТКИ О Д.-Г.ЛОУРЕНСЕ
Чтобы защититься от справедливых упреков в предвзятости и неизбежной неполноте суждений, современному критику лучше всего загодя покаяться в своих грехах, насколько они тебе известны. Так, в качестве предисловия к нижеследующим заметкам, их автор полагает нужным сообщить, что до апреля 1931 года она знала о Д.-Г.Лоуренсе почти исключительно понаслышке, а не из собственного опыта. Он считался своего рода пророком, создателем мистической теории пола, приверженцем и даже изобретателем новой непонятной терминологии, допускающей свободное употребление таких слов, как «солнечное сплетение» и им подобные; и слава за ним шла недобрая. Просто так покорно следовать по его стопам казалось немыслимым и недопустимым. А тому немногому из его писаний, что смогло пробиться сквозь черную завесу дурной славы, не под силу оказалось всерьез возбудить любопытство и развеять зловещую устрашающую тень. Это прежде всего были «Грешники», книга, которая показалась перенасыщенной, горячей, раздушенной; потом «Прусский офицер», от него в памяти ничего не сохранилось, кроме впечатления мускульной силы и надсадной непристойности; потом «Погибшая девушка», сделанная плотно, по-матросски, со множеством точных наблюдений в духе Беннета; два-три очерка о поездках по Италии, великолепных, но фрагментарных и оборванных как бы на полуслове; и, наконец, два сборничка стихов, «Крапивы» и «Ромашки», похожие на надписи на заборе, которые пишут мальчишки, а горничные читают, ужасаются и хихикают.
Тем временем дифирамбы молящихся на Лоуренса становились все восторженнее, фимиамы — гуще, а мистериалъные пляски — замысловатее и упоеннее. Его смерть в прошлом году придала распоясавшимся фанатикам свежие силы; одновременно она вызвала раздражение у респектабельной публики; и досада на поклонников и хулителей, на молебны одних и проклятья других побудила, в конце концов, взяться за «Сыновей и любовников» с тем, чтобы проверить, велика ли на самом деле разница между тем, что представляет собой учитель и как пародируют его ученики.
Именно таков был мой угол зрения, хотя при этом, как нетрудно убедиться, исключаются другие подходы и искажаются другие мерки. Зато сам роман «Сыновья и любовники», рассмотренный с этой стороны, встает перед глазами с удивительной отчетливостью, точно остров из вдруг расступившегося тумана. Он открылся взгляду, резко очерченный, стройный, ясный и твердый как скала, выделанный рукой мастера, который, кем бы он там ни был — пророком или негодяем, бесспорно родился в семье шахтера и вырос в Ноттингеме. Но такая твердость, ясность очертаний, такая восхитительная экономность и тонкость штриха достаточно часто встречаются в наш век умелых романистов. Прозрачность и легкость, с какой писатель может одним мазком наметить и не продолжать, свидетельствует о таланте сильном и проникновенном. Но вслед за этими импрессионистическими зарисовками, дающими представление о жизни Морелов — о том, какие у них кухни, какие блюда они едят, куда сливают воду, какими оборотами речи пользуются, — появляется иное изображение, гораздо более редкое и интересное. Не успеваешь воскликнуть, что эта красочная, выпуклая картина, до того похожая на действительность, и есть, наверно, кусок реальной жизни, как сразу же замечаешь по некоторым признакам — по невыразимому, ослепительному свету, по сумрачным теням, по многозначительности — что в комнате наведен порядок. Кто-то успел поработать до нашего прихода. На первый взгляд здесь все естественно и непроизвольно, словно бы заглядываешь в случайно распахнутую дверь, но потом чувствуешь, что чья-то рука, послушная точнейшему глазомеру, быстро расставила все по местам, и в результате мы видим сцену еще более впечатляющую, волнующую, в каком-то смысле даже более полную жизни, чем сама реальность, — словно художник натянул зеленый занавес, и на его фоне виднее кажется лист, цветок, кувшин. Что же служит Лоуренсу зеленым занавесом, на фоне которого ярче выступают краски? Лоуренса не застанешь врасплох за работой — и это одна из его самых удивительных черт. Слова, картины льются у него беспрерывным потоком, словно он походя наносит их легкой рукой на страницу за страницей. Фразы не несут на себе ни малейших следов обдумывания, кажется, что они появились на свет прямо так, как пришли ему в голову, и ни единого слова не добавлено для стройности. И мы не можем сказать: «Вот эта сцена, этот диалог содержат в скрытом виде идею книги». Странное свойство «Сыновей и любовников» состоит в том, что весь текст как бы слегка колышется и переливается, будто составленный из отдельных блестящих кусков, которые беспрерывно перемещаются, мелькают. Есть антураж, есть характеры, есть и сеть ощущений, объединяющая действующих лиц; но все это не играет самодовлеющей роли, как у Пруста. Здесь нельзя долго разглядывать и упиваться ради упоения, как упиваешься, разглядывая знаменитый боярышник, когда читаешь «В сторону Свана». Нет, здесь всегда есть еще что-то за этим, есть дальний прицел. И от нетерпения, оттого что спешишь скорее дальше, за пределы изображаемого, сцены словно бы сжимаются, сокращаются почти до голой схемы, а характеры высвечиваются фронтально и прямолинейно. На разглядывание дается не больше секунды; надо спешить дальше. Но куда?
Возможно, что к сцене, мало чем связанной с образом героя и с сюжетом и нисколько не похожей на обычные привалы, вершины и свершения на путях обычного романа. Перевести дух, пораскинуть умом, ощутить пределы наших возможностей нам позволено только там, где изображается радость физического бытия. Например, когда Пол и Мириам в риге качаются на канате. Их тела полны жаром, светом, смыслом, чем и заменяется здесь обычное для других книг изображение чувств. Эта сцена у Лоуренса выражает высшую идею — не диалоги, не события, не смерть, не любовь, а именно это: тело молодого мужчины, качающегося в риге на канате.
Но потом приходит неудовлетворенность, Лоуренсу недостает силы придать предмету самодовлеющее значение, и поэтому роман не достигает уровня стабильности. Мир «Сыновей и любовников» находится в процессе непрерывного сцепления и распада. И магнитом, стягивающим разные части, из которых состоит прекрасный, полный жизненных сил Ноттингемский космос, служит как раз пламенеющее человеческое тело, красота, светящаяся в плоти, этот жаркий, обжигающий свет. Вот почему все, что нам показывают, как бы обладает отдельным импульсом и не останавливается ни на миг, чтобы нам было на что опереться взглядом. Все постоянно уплывает под действием сил неудовлетворенности или вновь увиденной красоты, или нового желания, или открывшихся перспектив. Поэтому книга будоражит, раздражает, движется, меняется, бурлит, млеет, томится по недостижимому. Точно не книга, а тело ее героя. И мощь писателя Лоуренса так велика, что весь мир оказывается разломан на куски и раскидан магнетической силой молодого героя, которому никак не удается сложить все части воедино и составить из них целое по своему вкусу.
Этому можно предложить одно простое, пусть и не исчерпывающее объяснение. Пол Морел, как и сам Лоуренс, — сын шахтера. Условия, в которых он живет, его не удовлетворяют. Чуть ли не первое, что он сделал, продав картину, это купил себе вечерний костюм. В отличие от Пруста он не принадлежит к благополучному, устоявшемуся обществу. Он хочет оторваться от своего класса и проникнуть в другой. По его мнению, у среднего класса есть то, чего недостает ему. Честный от природы, он не может удовлетвориться рассуждением своей матери, доказывающей, что простые люди лучше, так как у них жизнь полнее. У представителей средних слоев, считает Лоуренс, есть идеалы; а может быть, не идеалы, а что-то другое, но он тоже хотел бы это иметь. И здесь один из источников его обеспокоенности. Это очень важно. Поскольку Лоуренс, как и его герой, был сыном шахтера и тяготился своим положением, у него и к литературному творчеству был совсем другой подход, чем у тех, кого условия их благополучной жизни вполне устраивали, а значит, особенно и не интересовали.
Лоуренсу определенную направленность придали самые обстоятельства его рождения. Он сразу стал смотреть на мир иначе, не так, как другие, и отсюда — многие особенности его творческой позиции. Ему не свойственно оглядываться на прошлое, изучать разные удивительные черты человеческой психологии; его не интересует литература сама по себе. Все, что он пишет, — не самоцель, а исполнено многозначительности, к чему-то направлено. Если снова сравнивать его с Прустом, убеждаешься, что он никому не подражает, не следует никакой традиции, прошлое и даже настоящее для него существует лишь постольку, поскольку обусловливают будущее. И то, что у него за спиной не стоит литературная традиция, очень сильно сказывается на его творчестве. Мысли западают ему в голову, как с потолка свалившись, и фразы взметываются прямо кверху, мощные и округлые, точно брызги воды, когда в нее бросили камень. В них нет ни единого слова, выбранного за красоту или для улучшения общей архитектоники.
1928




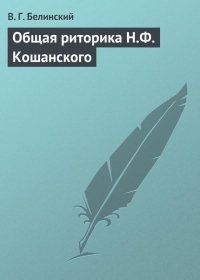

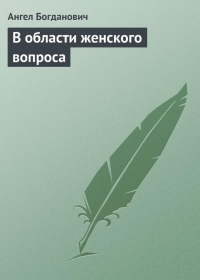
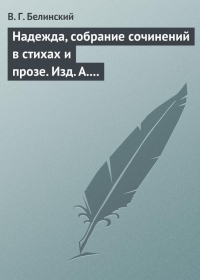
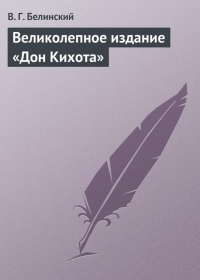

Комментарии к книге «Заметки о Д.-Г.Лоуренсе», Вирджиния Вулф
Всего 0 комментариев