Круг. Альманах артели писателей Книга 6
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА
М. Горький Сорок лет
(Глава из романа).
I.
Готовясь встретить молодого царя, Москва азиатски ярко раскрашивала себя, замазывала слишком уродливые морщины свои, как престарелая вдова, готовясь в новое замужество. Было что-то неистовое и судорожное в стремлении людей закрасить грязь своих жилищ, как будто москвичи, вдруг прозрев, испугались, видя трещины, пятна и другие признаки грязной старости на стенах домов. Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий, акробатически бесстрашно покачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на веревках, которые издали казались тоненькими нитками. На балконах и в окнах домов работали драпировщики, развешивая пестрые ковры, кашмирские шали, создавая пышные рамы для бесчисленных портретов царя, украшая цветами гипсовые бюсты его. Отовсюду лезли в глаза розетки, гирлянды, вензеля и короны, сияли золотом слова «Боже царя храни» и «Славься, славься, наш русский царь»; тысячи национальных флагов свешивались с крыш, торчали изо всех щелей, куда можно было сунуть древко.
Преобладал раздражающий своей яркостью красный цвет; силу его еще более разжигала безличная податливость белого, а угрюмые синие полосы не могли смягчить ослепляющий огонь красного. Там и тут из окон на улицу свешивались куски кумача и это придавало окнам странное выражение, как будто квадратные рты дразнились красными языками. Некоторые дома были так обильно украшены, что, казалось, они вывернулись наизнанку, патриотически хвастливо обнажив мясные и жирные внутренности свои. С восхода солнца и до полуночи на улицах суетились люди, но еще более были обеспокоены птицы, весь день над Москвой реяли стаи галок, голубей, тревожно перелетая из центра города на окраины и обратно; казалось, что в воздухе беспорядочно снуют тысячи черных челноков, ткется ими невидимая ткань. Полиция усердно высылала неблагонадежных, осматривала чердаки домов на тех улицах, по которым должен был проехать царь. Маракуев, плохо притворяясь неверующим в то, что говорит, сообщал: подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым, тем торговцем сырами, из лавки которого в Петербурге на Садовой улице предполагалось взорвать мину под каретой Александра Второго. Кобозев приехал в Москву как представитель заграничной пиротехнической фирмы и в день коронации взорвет Кремль.
— Конечно, это похоже на сказку, — говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль.
Лидия сердито предупредила его:
— Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе.
Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный: шлифованная лысина его торжественно сияла, и так же сияли ярко начищенные сапоги с лакированными голенищами. На плоском лице его улыбки восторга сменялись улыбками смущения; глазки тоже казались начищенными, они теплились, точно огоньки двух лампад, зажженных в емкой душе дяди.
— Ликует Москва, — бормотал он, нервно играя кистями пояса. — Нарядилась боярыней. Умеет Москва ликовать! Подумайте: свыше миллиона аршин кумача истрачено!
И вспоминая, что слишком сильный восторг — неприличен, он высчитывал:
— Двести пятьдесят тысяч рубах; армию одеть можно!
Он пытался показать молодежи, что относится к предстоящему торжеству иронически, но это плохо удавалось ему, он срывался с тона, ирония уступала место пафосу.
— Второй раз увижу, как великий народ встретит своего молодого вождя, — говорил он, отирая влажные глаза, и, спохватившись, насмешливо кривил губы.
— Идолопоклонство, конечно. «Придите, поклонимся и припадем цареви и богу нашему», — н-да! Ну, все-таки надо посмотреть. Не царь интересен, а народ, воплощающий в нем свои чаяния и надежды.
Он звал Диомидова на улицу, но тот нерешительно отказывался:
— Я, знаете, не люблю скопления народа.
— Ну, это, брат, глупости! — возмущался дядя Хрисанф. — Как это — не люблю?
— Видите ли, это не помещается во мне, любовь к народу, — виновато сознавался Диомидов. — Если говорить честно — зачем же мне народ? Я, напротив…
— Ты с ума сходишь! — кричал дядя Хрисанф. — Что ты, чудак? Как это — не помещается? Что это значит — не помещается?
И решительно тащил юношу за собою на шумные улицы. Клим тоже шел, шел и Маракуев, улыбаясь несколько растерянно.
В окнах, балконах часто мелькало гипсовое, слепое лицо царя. Маракуев нашел, что царь — курнос.
— Похож на Сократа в молодости, — заметил дядя Хрисанф.
По улицам озабоченно шагали новенькие полицейские чиновники, покрикивая на маляров, на дворников. Ездили на рослых лошадях необыкновенно большие всадники в шлемах и латах; однообразно круглые лица их казались каменными, тела, от головы до ног, напоминали о самоварах, а ноги были лишние для всадников. Тучи мальчишек сопровождали медных кентавров, неустанно взвизгивая — «ура». Оглушительно кричали и взрослые при виде франтоватых кавалергардов, улан, гусар, раскрашенных так же ярко, как деревянные игрушки кустарей Сергиева посада.
Кричали «ура» четверым монголам, одетым в парчу, идольски неподвижным; сидя в ландо, они косенькими глазками смотрели друг на друга; один из них с вывороченными ноздрями, с незакрытым ртом, белозубый, улыбался мертвой улыбкой, желтое лицо его казалось медным.
— Вот, смотри, — внушал дядя Хрисанф Диомидову, как мальчику, — предки их жгли и грабили Москву, а потомки их кланяются ей.
— Да они не кланяются, они сидят, как совы днем, — пробормотал Диомидов, растрепанный, чумазый, с руками, позолоченными бронзовым порошком; он только утром кончил работать по украшению Кремля.
Особенно восторженно московские люди встречали посла Франции, когда он, окруженный блестящей свитой, ехал на Поклонную гору.
— Видишь? — поучал дядя Хрисанф. — Французы. И они тоже разорили, сожгли Москву, а — вот… Мы зла не помним…
Встретили группу английских офицеров, впереди них автоматически шагал неестественно высокий человек с лицом из трех костей, в белой чалме на длинной голове, со множеством орденов на груди, узкой и плоской.
— Британцев не люблю, — сказал дядя Хрисанф.
Промчался обер-полицмейстер Власовский, держась за пояс кучера, а за ним, окруженный конвоем, торжественно проехал дядя царя, великий князь Сергей. Хрисанф и Диомидов обнажили головы. Самгин тоже невольно поднял к фуражке руку, но Маракуев, отвернувшись в сторону, упрекнул Хрисанфа:
— Не стыдно вам кланяться гомосексуалисту!
— Ура-а! — кричали москвичи. — Ур-ра!
Потом снова скакали взмыленные лошади Власовского, кучер останавливал их на скаку, полицмейстер, стоя, размахивал руками, кричал в окна домов на рабочих, на полицейских и мальчишек, а окричав, валился на сиденье коляски и толчком в спину кучера снова гнал лошадей. Длинные усы его, грозно шевелясь, загибались к затылку.
— Ур-ра! — кричал народ вслед ему, а Диомидов, испуганно мигая, жаловался Климу вполголоса:
— Совсем как безумный. Да и все с ума сошли. Как будто конца света ждут. А город точно разграблен, из окошек все вышвырнуто, висит. И все — безжалостные. Ну, что орут? Какой же это праздник? Это — безумство.
— Сказочное, волшебное безумие, чудак, — поправлял его дядя Хрисанф, обрызганный белой краской, и счастливо смеялся.
— Надо бы торжественно, тихо, — бормотал Диомидов.
Самгин молча соглашался с ним, находя, что хвастливому шуму тщеславной Москвы нехватает каких-то важных нот. Слишком часто и бестолково люди ревели ура, слишком суетились, и было заметно много неуместных шуточек, усмешек. Маракуев, зорко подмечая смешное и глупое, говорил об этом Климу с такой радостью, как будто он сам, Маракуев, создал смешное.
— Смотрите, — указывал он на транспарант, золотые слова которого: «Да будет легок твой путь к славе и счастью России» — заканчивались куском вывески с такими же золотыми словами: «и К°».
Последние дни Маракуев назойливо рассказывал пошловатые анекдоты о действиях администрации, городской думы, купечества, но можно было подозревать, что он сам сочиняет анекдоты, в них чувствовался шарж, сквозь их грубоватость проскальзывало нечто натянутое и унылое.
— Н-да-с, — говорил он Лидии, — народ радуется. А, впрочем, какой же это народ? Народ — там!
Взмахом руки он указывал почему-то на север и крепко гладил ладонью кудрявые волосы свои.
Но хотя Клим Самгин и замечал и слышал много неприятного, оскорбительно неуместного, в нем все-таки возникло волнующее ожидание, что вот сейчас, откуда-то из бесчисленных улиц, туго набитых людьми, явится нечто необычное, изумительное. Он стыдился сознаться себе, что хочет видеть царя, но это желание возрастало как бы против воли его, разжигаемое работой тысяч людей и хвастливой тратой миллионов денег. Этот труд и эта щедрость внушали мысль, что должен явиться человек необыкновенный не только потому, что он — царь, а по предчувствию Москвой каких-то особенных сил и качеств в нем.
— Екатерина Великая скончалась в 1796 году, — вспоминал дядя Хрисанф.
Самгину было ясно, что москвич верит в возможность каких-то великих событий, и ясно было, что это — вера многих тысяч людей. Он тоже чувствовал себя способным поверить: завтра явится необыкновенный и, может быть, грозный человек, которого Россия ожидает целое столетие, и который, быть может, окажется в силе сказать духовно растрепанным, распущенным людям:
«Да что вы озорничаете?»
В день, когда царь переезжал из Петровского дворца в Кремль, Москва напряженно притихла. Народ ее плотно прижали к стенам домов двумя линиями солдат и двумя рядами охраны, созданной из отборно верноподданных обывателей. Солдаты были непоколебимо стойкие, точно выкованы из железа, а охранники в большинстве — благообразные, бородатые люди с очень широкими спинами. Стоя плечо в плечо друг с другом, они ворочали тугими шеями, посматривая на людей сзади себя подозрительно и строго.
— Тиш-ша! — говорили они.
И часто бывало так, что взволнованный ожиданием или чем-то иным неугомонный человек, подталкиваемый их локтями, оказывался затисканным во двор. Это случилось и с Климом. Чернобородый человек посмотрел на него хмурым взглядом темных глаз и через минуту наступил каблуком на пальцы ног Самгина. Дернув ногой, Клим толкнул его коленом в зад, — человек обиделся:
— Вы что же это, господин, безобразите? А еще в очках!
Обиделись еще двое и, не слушая объяснений, ловко и быстро маневрируя, вогнали Клима на двор, где сидели три полицейских солдата, а на земле, у крыльца, громко храпел неказисто одетый и, должно быть, пьяный человек. Через несколько минут втолкнули еще одного молодого, в светлом костюме, с рябым лицом. Втолкнувший сказал солдатам:
— Задержите этого, карманник.
Двое полицейских повели рябого в глубь двора, а третий сказал Климу:
— Сегодня жуликам — лафа!
Затем вогнали во двор человека с альбомом в руках, он топал ногою, тыкал карандашом в грудь солдата и возмущенно кричал:
— Нэ имэеште праву!
Кричал на немецком языке, на французском, по-румынски, но полицейский, отмахнувшись от него, как от дыма, снял с правой руки своей новенькую перчатку и отошел прочь, закуривая папиросу.
— Так — кар-рашо! — угрожающе сказал человек, начиная быстро писать карандашом в альбоме, и прислонился спиной к стене, широко расставив ноги.
Загнали во двор старика, продавца красных воздушных пузырей, огромная гроздь их колебалась над его головой, потом вошел прилично одетый человек с подвязанной черным платком щекою; очень сконфуженный, он, ни на кого не глядя, скрылся в глубине двора, за углом дома. Клим понял его, он тоже чувствовал себя сконфуженно и глупо. Он стоял в тени, за грудой ящиков со стеклами для ламп, и слушал ленивенькую беседу полицейских с карманником.
— Подольск от нас далеко, — рассказывал карманник, вздыхая.
Воробьи прыгали по двору, над окнами сидели голуби, скучно посматривая вниз то одним, то другим рыбьим глазом.
Так и простоял Самгин до поры, пока не раздался торжественный звон бесчисленных колоколов. Загремело потрясающее «ура» тысяч глоток, пронзительно пели фанфары, ревели трубы военного оркестра, трещали барабаны и непрерывно звучал оглушающий вопль:
— Ура-а!
А когда все это неистовое притихло, во двор вошел щеголеватый помощник полицейского пристава, сопровождаемый бритым человеком в темных очках, вошел, спросил у Клима документы, передал их в руку человека в очках, тот посмотрел на бумаги и, кивнув головой в сторону ворот, сухо сказал:
— Можете.
— Я не понимаю, — возмущенно заговорил Самгин, но человек, повернувшись спиною к нему, сказал:
— Вас и не просят понимать.
Клим обиженно вышел на улицу, толпа подхватила его, повлекла за собой и скоро столкнула лицом к лицу с Лютовым.
Владимир Петрович Лютов был в состоянии тяжкого похмелья, шел он, неестественно выпрямясь, как солдат, но покачивался, толкал встречных, нагловато улыбался женщинам и, схватив Клима под руку, крепко прижав ее к своему боку, говорил довольно громко:
— Идем ко мне обедать. Выпьем. Надо, брат, пить. Мы — люди серьезные, нам надобно пить на все средства четырех пятых души. Полной душою жить на Руси — всеми строго воспрещается. Всеми, — полицией, попами, поэтами, прозаиками. А когда пропьем четыре пятых, — будем порнографические картинки собирать и друг другу похабные анекдоты из русской истории рассказывать. Вот — наш проспект жизни.
Лютов был явно настроен на скандал, это очень встревожило Клима, он попробовал вырвать руку, но безуспешно. Тогда он увлек Лютова в один из переулков в Тверской, там встретили извозчика-лихача. Но, усевшись в экипаж, Лютов, глядя на густые толпы оживленного, празднично одетого народа, заговорил еще громче в синюю спину возницы:
— Радуемся, а? Помазок божий встречаем. Он приличных людей в чин идиотов помазал, — ничего! Ликуем. Вот тебе! Исаия ликуй…
— Перестань, — тихо и строго просил Клим.
— Тоска, брат! Гляди: богоносец, народ русский, валом валит угощаться конфетками за счет царя. Умилительно. Конфетки сосать будут потомки ходового московского народа, того, который ходил за Болотниковым, за Отрепьевым, Тушинским вором, за Козьмой Мининым, потом пошел за Михайлой Романовым. Ходил за Степаном Разиным, за Пугачевым… и за Бонапартом готов был итти… Ходовой народ! Только за декабристами и — за людьми Первого Марта не пошел…
Клим смотрел в каменную спину извозчика, соображая: слышит извозчик эту пьяную речь? Но лихач, устойчиво покачиваясь на козлах, вскрикивал, предупреждая и упрекая людей, пересекавших дорогу:
— Берегись, эй! берегись!.. Куда ж ты, братец, лезешь?
Дома Лютова ждали гости: женщина, которая посещала его на даче, и красивый, солидно одетый блондин в очках, с небольшой бородкой.
— Крафт, — сказал он, чрезвычайно любезно пожимая руку Самгина.
Женщина, улыбнувшись неохотной улыбкой, назвала себя именем и фамилией тысяч русских женщин:
— Марья Ивановна.
— Кажется, мы встречались, — напомнил Клим, но она не ответила ему.
Лютов как-то сразу отрезвел, нахмурился и не очень вежливо предложил гостям пообедать. Гости не отказались, а Лютов стал еще более трезв. Сообразив, кто эти люди, Клим незаметно изучал блондина; это был человек очень благовоспитанный. С его бледного, холодноватого лица почти не исчезала улыбка, одинаково любезная для Лютова, горничной и пепельницы. Он растягивал под светлыми усами очень красные губы так заученно точно, что казалось: все волосики на концах его усов каждый раз шевелятся совершенно равномерно. Было в улыбке этой нечто панпсихическое, человек благосклонно награждал ею и хлеб и нож, однако Самгин подозревал скрытым за нею презрение ко всему и ко всем. Ел человек мало, пил осторожно и говорил самые обыкновенные слова, от которых в памяти не оставалось ничего, говорил, что на улицах много народа, что обилие флагов очень украшает город, а мужики и бабы окрестных деревень толпами идут на Ходынское поле. Он, видимо, очень стеснял хозяина. Лютов, в ответ на его улыбки, тоже обязательно и потужно кривил рот, но говорил с ним кратко и сухо. Женщина за все время обеда сказала трижды:
— Благодарю вас!
А дважды:
— Спасибо.
И если б при этом она не улыбалась странной своей улыбкой, можно было бы не заметить, что у нее, как у всех людей, тоже есть лицо.
Как только кончили обедать, Лютов вскочил со стула и спросил:
— Ну-с?
— Пожалуйста, — галантно сказал блондин. Они ушли гуськом; впереди хозяин, за ним блондин, и бесшумно, как по льду, скользила женщина.
— Я — скоро! — обещал Лютов Климу и оставил его размышлять: как это Лютов может вдруг трезветь? Неужели он только искусно притворяется пьяным? И зачем, по каким мотивам он общается с революционерами?
Лютов возвратился минут через двадцать, забегал по столовой, шевеля руками в карманах, поблескивая косыми глазками, кривя губы.
— Народники? — спросил Клим.
— В этом роде.
— Ты что же… помогаешь?
— Надо. Отцы жертвовали на церкви, дети — на революцию. Прыжок — головоломный, но… что же, брат, делать? Жизнь верхней корочки несъедобного каравая, именуемого Россией, можно озаглавить так: «История головоломных прыжков русской интеллигенции». Ведь это только господа патентованные историки обязаны специальностью своей доказывать, что существуют некие преемственность, последовательность и другие ведьмы, а какая у нас преемственность? Прыгай, коли не хочешь задохнуться.
Он остановился среди комнаты и захохотал, выдернув руки из карманов, схватившись за голову.
— Надышали атмосферу! Дьякон прав, чорт! Выпьем, однако. Я тебя таким бордо угощу — затрепещешь! Дуняша!
Сел к столу, потирая руки, покусывая губы. Сказал горничной, какое принести вино, и, растирая темные волосы на щеках, затрещал, заговорил:
— Люблю дьякона, — умный. Храбрый. Жалко его. Третьего дня он сына отвез в больницу и знает, что из больницы повезет его только на кладбище. А он его любит, дьякон. Видел я сына… Весьма пламенный юноша. Вероятно, таков был Сен-Жюст.
Клим слушал его и с удивлением, не веря себе, чувствовал, что сегодня Лютов симпатичен.
«Не потому ли, что я обижен?» — спросил он себя, внутренно усмехаясь и чувствуя, что обида все еще живет в нем, вспоминая двор и небрежное, разрешающее словечко агента охраны:
— Можете.
Пришел Макаров, усталый и угрюмый, сел к столу, жадно, залпом выпил стакан вина.
— Анатомировал девицу, горничную, — начал он рассказывать, глядя в стол. — Украшала дом, вывалилась из окна. Замечательные переломы костей таза. Вдребезг.
— Не надо о покойниках, — попросил Лютов. И, глядя в окно, сказал:
— Я вчера во сне Одиссея видел, каким он изображен на виньетке к первому изданию «Илиады» Гнедича: распахал Одиссей песок и засевает его солью. У меня, Самгин, отец — солдат, под Севастополем воевал, во французов влюблен, «Илиаду» читает, похваливает: вот как в старину благородно воевали! Да…
Остановясь среди комнаты, он взмахнул рукой, хотел еще что-то сказать, но явился дьякон, смешно одетый в старенькую, короткую для его роста поддевку и очень смущенный этим. Макаров стал подшучивать над ним, он усмехнулся уныло и загудел:
— Пришлось снять мундир церкви воинствующей. Надобно привыкать к инобытию. Угости чаем, хозяин.
За чаем выпили коньяку, потом дьякон и Макаров сели играть в шашки, а Лютов забегал по комнате, передергивая плечами, не находя себе места; подбегал к окнам, осторожно выглядывал на улицу и бормотал:
— Идут. Все идут.
Присел к столу и, убавив огонь лампы, закрыл глаза. Самгин, чувствуя, что настроение Лютова заражает его, хотел уйти, но Лютов почему-то очень настойчиво уговорил его остаться ночевать.
— А утром все пойдем на Ходынку, интересно все-таки. Хотя смотреть можно и с крыши. Костя, где у нас подзорная труба?
Клим остался, начали пить красное вино, а потом Лютов и дьякон незаметно исчезли, Макаров начал учиться играть на гитаре, а Клим, охмелев, ушел наверх и лег спать. Утром Макаров, вооруженный медной трубой, разбудил его:
— Что-то случилось на Ходынке, народ бежит оттуда. Я на крышу иду, хочешь?
Самгин не выспался, итти на улицу ему не хотелось, он и на крышу полез неохотно. Оттуда даже невооруженные глаза видели над полем облако серовато-желтого тумана. Макаров, посмотрев в трубу и передавая ее Климу, сказал, сонно щурясь:
— Икра.
Да, поле, накрытое непонятным облаком, казалось смазанным толстым слоем икры, и в темной массе ее, среди мелких, кругленьких зерен, кое-где светились белые, красные пятна, прожилки.
— Красные рубахи, точно раны, — пробормотал Макаров и зевнул воющим звуком. — Должно быть, наврали, никаких событий нет, — продолжал он, помолчав. — Скучно смотреть на концентрированную глупость.
И, приглаживая нечесанные волосы, он сел около печной трубы, говоря:
— А Владимир не ночевал дома; только сейчас явился. Трезвый, однако…
Огромный, пестрый город гудел, ревел, непрерывно звонили сотни колоколов, сухо и дробно стучали колеса экипажей по шишковатым мостовым, все звуки сливались в один, органный, мощный. Черная сеть птиц шумно трепетала над городом, но ни одна из них не летела в сторону Ходынки. Там, далеко, на огромном поле, под грязноватой шапкой тумана, утвердилась плотно спрессованная, икряная масса людей. Она казалась единым телом, и только, очень сильно напрягая зрение, можно было различить чуть заметные колебания икринок; иногда над ними как будто нечто вспухало, но быстро тонуло в их вязкой густоте. Оттуда на крышу тоже притекал шум, но не ликующий шум города, а какой-то зимний, как вой мятели; он плыл медленно, непрерывно, но легко тонул в звоне, грохоте и реве.
Не отрывая глаз от медного ободка трубы, Самгин очарованно смотрел. Неисчислимая толпа напоминала ему крестные ходы, пугавшие его в детстве, многотысячные молебны чудотворной иконе Оранской божией матери; сквозь поток шума звучал в памяти возглас дяди Хрисанфа:
— «Приидите, поклонимся, припадем»…
Он различал, что под тяжестью толпы земля волнообразно зыблется, шарики голов подпрыгивают, точно зерна кофе на горячей сковороде; в этих судорогах было что-то жуткое, а шум постепенно становился похожим на заунывное, но грозное пение неисчислимого хора.
Представилось, что если эта масса внезапно хлынет в город, — улицы не смогут вместить напора темных потоков людей, люди опрокинут дома, растопчут их руины в пыль, сметут весь город, как щетка сметает сор.
Клим стал смотреть на необъятное для глаза нагромождение разнообразных зданий Москвы. Воздух над городом был чист, золотые кресты церквей, отражая солнце, пронзали его острыми лучами, разбрасывая их под рыжими и зелеными квадратами крыш. Город напоминал старое, грязноватое и местами изорванное одеяло, пестро покрытое кусками ситцев. В длинных дырах его копошились небольшие фигурки людей, и казалось, что движение их становится все более тревожным, более бессмысленным; встречаясь, они останавливались, собирались небольшими группами, затем все шли в одну сторону или же быстро бежали прочь друг от друга, как бы испуганные. В одной из трещин города появился синий отряд конных, они вместе с лошадьми подскакивали на мостовой, как резиновые игрушки, над ними качались, точно удилища, тоненькие древка, мелькали в воздухе острия пик, похожие на рыб.
— В сущности, город беззащитен, — сказал Клим, но Макарова уже не было на крыше, он незаметно ушел. По улице над серым булыжником мостовой с громом скакали черные лошади, запряженные в зеленые телеги, сверкали медные головы пожарных, и все это было странно, как сновидение. Клим Самгин спустился с крыши, вошел в дом, в прохладную тишину. Макаров сидел у стола с газетой в руке и читал, прихлебывая крепкий чай.
— Ну, что? — спросил он, не поднимая глаз.
— Не знаю, но как будто…
— Вероятно, драка, — сказал Макаров и щелкнул пальцами по газете. — Какие пошлости пишут…
Минут пять молча пили чай. Клим прислушивался к шарканью и топоту на улице, к веселым и тревожным голосам. Вдруг точно подул неощутимый, однако, сильный ветер и унес весь шум улицы, оставив только тяжелый грохот телеги, звон бубенчиков. Макаров встал, подошел к окну и оттуда сказал громко:
— Ну, вот и разгадка. Смотри.
По улице, раскрашенной флагами, четко шагал толстый, гнедой конь, гривастый, с мохнатыми ногами; шагал, сокрушенно покачивая большой головой, встряхивая длинной чолкой. У дуги шел, обнажив лысую голову, широкоплечий, бородатый извозчик, часть вожжей лежала на плече его, он смотрел под ноги себе, и все люди, останавливаясь, снимали перед ним фуражки, шляпы. С телеги, из-под нового брезента, высунулась и просительно-нищенски тряслась голая по плечо рука, окрашенная в синий и красный цвета, на одном из ее пальцев светилось золотое кольцо. Рядом с рукой качалась рыжеватая, растрепанная коса, а на задке телеги вздрагивала нога в пыльном сапоге, противоестественно свернутая на бок.
— Человек шесть, — пробормотал Макаров. — Ясно, что драка.
Он говорил еще что-то, но, хотя в комнате и на улице было тихо, Клим не понимал его слов, провожая телегу и глядя, как ее медленное движение заставляет встречных людей врастать в панели, обнажать головы. Серые тени испуга являлись на лицах, делая их почти однообразными.
Проехала еще одна старенькая, расхлябанная телега, нагруженная измятыми людьми, эти не были покрыты, одежда на них изорвана в клочья, обнаженные части тел в пыли и грязи. Потом пошли один за другим, но все больше, гуще, нищеподобные люди в лохмотьях, с растрепанными волосами, с опухшими лицами; шли они тихо, на вопросы встречных отвечали кратко и неохотно; многие хромали. Человек с оборванной бородой и синим лицом удавленника шагал, положив правую руку на плечо себе, как извозчик вожжи, левой он поддерживал руку под локоть; он, должно быть, говорил что-то, остатки бороды его тряслись. Большинство искалеченных людей шло по теневой стороне улицы, как будто они стыдились или боялись солнца. И все они казались жидкими, налитыми какой-то мутной влагой; Клим ждал, что на следующем шаге некоторые из них упадут и растекутся по улице грязью. Но они не падали, а все шли, шли, и скоро стало заметно, что встречные, не изломанные люди поворачиваются и шагают в одну сторону с ними. Самгин почувствовал, что это особенно угнетает его.
— Для драки — слишком много, — не своим голосом сказал Макаров. — Пойду, расспрошу…
Самгин пошел с ним. Когда они вышли на улицу, мимо ворот шагал, покачиваясь, большой человек с выпученным животом, в рыжем жилете, в оборванных, по колени, брюках, в руках он нес измятую шляпу и, наклоняя голову, расправлял ее дрожащими пальцами. Остановив его за локоть, Макаров спросил:
— Что случилось?
Человек открыл волосатый рот, посмотрел мутными глазами на Макарова, на Клима, и, махнув рукой, пошел дальше. Но через три шага, волком обернувшись назад, сказал громко:
— Все — виноватые. Все.
— Ответ преступника, — проворчал Макаров и, как мастеровой, сплюнул сквозь зубы.
Пошли какие-то возбужденные и общительные, бестолковые люди, они кричали, завывали, но трудно было понять, что они говорят. Некоторые даже смеялись, лица у них были хитрые и счастливые.
Ехала бугристо-нагруженная зеленая телега пожарной команды, под ее дугою качался и весело звонил колокольчик. Парой рыжих лошадей правил краснолицый солдат в синей рубахе, медная голова его ослепительно сияла. Очень странное впечатление будили у Самгина веселый колокольчик и эта медная башка, сиявшая празднично. За этой телегой ехала другая, третья и еще, и над каждой торжественно возвышалась медная голова.
— Троянцы, — бормотал Макаров.
Клим пораженно провожал глазами одну из телег. На нее был погружен лишний человек, он лежал сверх трупов, аккуратно положенных вдоль телеги, его небрежно взвалили вкось, почти поперек их, и он высунул из-под брезента голые, разномерные руки; одна была коротенькая, торчала деревянно и растопырив пальцы звездой, а другая — длинная, очевидно, сломана в локтевом сгибе; свесившись с телеги, она свободно качалась, и кисть ее, на которой нехватало двух пальцев, была похожа на клешню рака.
— «Камень — дурак. Дерево — дурак», — вспомнил Клим.
— Я больше не могу, — сказал он, идя во двор. За воротами остановился, снял очки, смигнул с глаз пыльную пелену и подумал: — «Зачем же он… он-то зачем пошел? Ему — не следовало…»
Вспомнилась неудачная шутка гимназиста Ивана Дронова:
«Рука — от глагола рушить, разрушать».
Макаров, за воротами, удивленно и вопросительно крикнул:
— Стойте, куда вы?
Вслед за этим он втолкнул во двор Маракуева, без фуражки, с растрепанными волосами, с темным лицом и засохшей, рыжей царапиной от уха к носу. Держался Маракуев неестественно прямо, смотрел на Макарова тусклым взглядом налитых кровью глаз и хрипло спрашивал сквозь зубы:
— Вы — где были? Видели?
В неподвижных глазах его, в деревянной фигуре было что-то страшное, безумное. На нем висел широкий, с чужого плеча, серый измятый пиджак с оторванным карманом, пестренькая, ситцевая рубаха тоже была разорвана на груди; дешевые люстриновые брюки измазаны зеленой краской. Страшнее всего казалась Климу одеревенелость Маракуева, он стоял так напряженно вытянувшись, как будто боялся, что если вынет руки из карманов, наклонит голову или согнет спину, то его тело сломается, рассыплется на куски. Стоял и спрашивал одними и теми же словами:
— Где вы были?
Макаров не ввел, а почти внес его в комнаты, втолкнул в уборную, быстро раздел по пояс и начал мыть. Трудно было нагнуть шею Маракуева под раковиной умывальника, веселый студент, отталкивая Макарова плечом, упрямо не хотел согнуться, упруго выпрямлял спину и мычал:
— Подождите… я сам! Не надо…
Казалось, что он боится воды, точно укушенный бешеной собакой.
— Найди горничную, спроси у нее белье, — командовал Макаров.
Клим покорно ушел, он был рад не смотреть на расплющенного человека. В поисках горничной, переходя из комнаты в комнату, он увидал Лютова, босого, в ночном белье. Лютов стоял у окна, держась за голову. Обернувшись на звук шагов, недоуменно мигая, он спросил, показав на улицу нелепым жестом обеих рук:
— Это — что?
— Случилось какое-то несчастие, — ответил Клим. Слово «несчастие» он произнес не сразу, не твердо, подумав, что надо бы сказать другое слово, но в голове его что-то шумело, шипело, и слова не шли на язык.
Когда он и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване, голый, а Макаров, засучив рукава, покрякивая, массировал ему грудь, живот, бока. Осторожно поворачивая шею, перекатывая по кожаной подушке влажную голову, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду…
— Передавили друг друга. Страшная штука. Вы видели? Чорт… Расползаются с поля люди и оставляют за собой трупы. Заметили вы: пожарные едут с колоколами, едут — и звонят! Я говорю: подвязать надо, нехорошо! Отвечают: нельзя. Идиоты с колокольчиками… Вообще, я скажу…
Он замолчал, закрыл глаза, потом начал снова:
— Впечатление такое, что они все еще давят, растопчут человека и уходят, не оглядываясь на него. Вот это — уходят… удивительно! Идут, как по камням… В меня…
Маракуев приподнял голову, потом, упираясь руками в диван, очень осторожно сел и, усмехаясь совершенно невероятной гримасой, от которой рот его изогнулся серпом, исцарапанное лицо уродливо расплылось, а уши отодвинулись к затылку, сказал:
— В меня — шагали, понимаете? Нет, это… надо испытать. Человек лежит, а на него ставят ноги, как на болотную кочку! Давят… а? Живой человек. Невообразимо.
— Одевайтесь, — сказал Макаров, внимательно присматриваясь к нему и подавая белье.
Сунув голову в рубаху и выглядывая из нее, точно из снежного сугроба, Маракуев продолжал:
— Трупов — сотни. Некоторые лежат, как распятые на земле. А у одной женщины голова затоптана в ямку.
— Зачем вы пошли? — строго спросил Клим, вдруг догадавшись, зачем Маракуев был на Ходынском поле, переряженный в костюм мастерового.
— Я — поговорить… узнать, — ответил студент, покашливая и все более приходя в себя. — Пыли наглотался…
Он встал на ноги, посмотрел неуверенно в пол, снова изогнул рот серпом. Макаров подвел его к столу, усадил, а Лютов сказал, налив полстакана вина:
— Выпейте.
Это было его первое слово. До этого он сидел молча, поставив локти на стол, сжав виски ладонями, и смотрел на Маракуева, как на яркий свет.
Маракуев взял стакан, заглянул в него и поставил на стол, говоря:
— Женщина лежала рядом с каким-то бревном, а голова ее высунулась за конец бревна, и на голову ей ставили ноги. И втоптали. Дайте мне чаю…
Он говорил все охотнее и менее хрипло.
— Я пришел туда в полночь и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке. Как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина… И свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, я думаю. Кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками по лбу, лбами по затылкам. Коленями. Наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало, нет! Я знаю. Я — сам бил, — сказал он, удивленно мигая, и потыкал пальцем в грудь себе. — Куда же деваться? Облеплен людьми со всех сторон. Бил…
Пришел дьякон, только что умывшийся, мокробородый, раскрыл рот, хотел спросить о чем-то, — Лютов, мигнув на Маракуева, зашипел. Но Маракуев молча согнулся над столом, размешивая чай, а Клим Самгин вслух подумал:
— Как ужасно должен чувствовать себя царь.
— Нашел кого пожалеть, — иронически подхватил Лютов, остальные трое не обратили внимания на слова Клима. Макаров, хмурясь, вполголоса рассказывал дьякону а катастрофе.
— По человечеству — жалко, — продолжал Клим, обращаясь к Лютову. — Представь, что на твоей свадьбе случилось бы несчастие…
Это было еще более бестактно. Клим, чувствуя, что у него покраснели уши, мысленно обругал себя и замолчал, ожидая, что скажет Лютов. Но сказал Маракуев.
— Возмущенных — мало! — сказал он, встряхнув головой. — Возмущенных я не видел. Нет. А какой-то… странный человек в белой шляпе собирал добровольцев могилы копать. И меня приглашал. Очень… деловитый. Приглашал так, как будто он давно ждал случая выкопать могилу. И — большую, для многих.
Он выпил чаю, поел, выпил коньяку; его каштановые кудри высохли и распушились, мутные глаза посветлели.
— Чудовищную силу обнаруживали некоторые, — вспоминал он, сосредоточенно глядя в пустой стакан. — Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукою, пальцами, кожу с черепа, не волосы, а — кожу?
— Невозможно, — угрюмо и уверенно повторил Макаров.
— А один… человек сорвал, вцепился ногтями в затылок толстому рядом со мною и вырвал кусок… кость обнажилась. Он, первый, и меня ударил…
— Вам уснуть надо, — сказал Макаров. — Идите-ко…
— Изумительную силу обнаруживали, — покорно следуя за Макаровым, пробормотал студент.
— Как же все это было? — спросил дьякон, стоя у окна.
Ему не ответили. Клим думал: как поступит царь? — и чувствовал, что он впервые думает о царе, как о существе реальном.
— Что же мы делать будем? — снова спросил дьякон, густо подчеркнув местоимение.
— Могилы копать, — проворчал Лютов.
Дьякон посмотрел на него, на Клима, сжал тройную бороду свою в кулак и сказал:
— Господь — ревнив, и мстяй господь, мстяй господь с яростью, господь мстяй супостатам своим и сам истребляй враги своя…
Клим взглянул на него с изумлением: неужели дьякон может и хочет оправдать?
Но тот, качая головой, продолжал:
— Жестокие, сатанинские слова сказал пророк Наум. Вот, юноши, куда посмотрите: кары и мести отлично разработаны у нас, а — награды? О наградах ничего не знаем. Данты, Мильтоны и прочие, вплоть до самого народа нашего, ад расписали подробнейше и прегрозно, а — рай? О рае ничего нам не сказано, одно знаем: там ангелы Саваофу осанну поют.
Внезапно ударив кулаком по столу, он наполнил комнату стеклянной дрожью посуды и, свирепо выкатив глаза, закричал пьяным голосом:
— А — за что осанна? Вопрошаю: за что осанна-то? Вот, юноши, вопрос: за что осанна? И кому же тогда анафема, если ада зиждителю осанну возглашают, а?
— Перестань, — попросил Лютов, махнув на него рукой.
— Нет, погоди: имеем две критики, одну — от тоски по правде, другую — от честолюбия. Христос рожден тоской по правде, а — Саваоф? А если в Гефсиманском-то саду чашу страданий не Саваоф Христу показал, а — Сатана, чтобы посмеяться? Может, это и не чаша была, а кукиш? Юноши, это вам надлежит решить…
Очень быстро вошел Макаров и сказал Климу:
— Он говорит, что видел там дядю Хрисанфа и этого… Диомидова, понимаешь?..
Макаров звучно ударил кулаком по своей ладони, лицо его побледнело.
— Надо узнать, съездить…
— К Лидии, — договорил Клим.
— Едемте вместе. Владимир, пошли за доктором. У Маракуева рвота с кровью.
Идя в прихожую, он зачем-то сообщил:
— Его зовут Петр.
На улице было людно и шумно, но еще шумнее стало, когда вышли на Тверскую. Бесконечно двигалась и гудела толпа оборванных, измятых, грязных людей. Негромкий, но сплошной ропот стоял в воздухе, его разрывали истерические голоса женщин. Люди устало шли против солнца, наклоня головы, как бы чувствуя себя виноватыми. Но часто, когда человек поднимал голову, Самгин видел на истомленном лице выражение тихой радости.
Самгин был утомлен впечатлениями и его уже не волновали все эти скорбные, испуганные, освещенные любопытством и блаженно тупенькие лица, мелькавшие на улице, обильно украшенной трехцветными флагами. Впечатления позволяли Климу хорошо чувствовать свою весомость, реальность. О причине катастрофы не думалось. Да, в сущности, причина была понятна из рассказа Маракуева: люди бросились за «конфетками» и передавили друг друга. Это позволило Климу смотреть на них с высоты экипажа равнодушно и презрительно.
Макаров сидел боком к нему, поставив ногу на подножку пролетки и как бы готовясь спрыгнуть на мостовую. Он ворчал:
— Чорт знает как эти дурацкие флаги режут глаз!
«Вероятно, царь щедро наградит семьи убитых», — соображал Клим, а Макаров, попросив извозчика ехать скорее, вспомнил, что на свадьбе Марии Антуанетты тоже случилось какое-то несчастье.
«Верен себе, — подумал Клим. — И тут у него на первом месте женщина, Людовика точно и не было».
Квартира дяди Хрисанфа была заперта, на двери в кухню тоже висел замок. Макаров потрогал его, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. Он, должно быть, понял запертую квартиру, как признак чего-то дурного; когда вышли из темных сеней на двор, Клим увидал, что лицо Макарова осунулось, побледнело.
— Надо узнать, куда свозят… раненых. Надо объехать больницы. Идем.
— Ты думаешь…
Но Макаров не дал Климу договорить.
— Идем, — грубо сказал он.
До вечера они объехали, обегали десяток больниц, дважды возвращались к железному кулачку замка на двери кухни Хрисанфа. Было уже темно, когда Клим вполголоса предложил съездить на кладбище.
— Ерунда, — резко сказал Макаров. — Ты — молчи.
И через минуту добавил возмущенно:
— Этого не может быть.
У него совершенно неестественно заострились скулы, он двигал челюстью, как бы скрипя зубами, и вертел головою, присматриваясь к суете встревоженных людей. Люди становились все тише, говорили ворчливее, вечер делал их тусклыми.
Настроение Макарова, внушая тревогу за Лидию, подавляло Клима. Он устал физически и, насмотревшись на сотни избитых, изорванных людей, чувствовал себя отравленным, отупевшим.
Они шли пешком, когда из какого-то переулка выехал извозчик, в пролетке сидела растрепанная Варвара, держа шляпку и зонтик на коленях.
— Отчима задавили, — крикнула она, толкая извозчика в спину; Самгину послышалось, что она крикнула это с гордостью.
— Где Лидия? — спросил Макаров прежде, чем успел сделать это Клим. Спрыгнув на панель, девушка механически, но все-таки красивым жестом сунула извозчику деньги и пошла к дому; уже некрасиво размахивая зонтом в одной руке, шляпой в другой, истерически громко она рассказывала:
— Неузнаваем. Нашла по сапогам и перстню, помните? Сердоликовый? Ужас. Лица — нет.
Лицо у нее было оплакано, подбородок дрожал, но Климу казалось, что зеленоватые глаза ее сверкают злобно.
— Где Лидия? — настойчиво повторил Макаров, снова обогнав Клима.
— Ищет Диомидова. Один актер видел его около Александровского вокзала и говорит, что он сошел с ума, Диомидов…
Громкий голос Варвары собирал вокруг нее праздничных людей; человек с тросточкой, в соломенной шляпе, толкая Самгина, заглядывал в лицо девушки, спрашивая:
— Неужели — десять тысяч? И много сумасшедших?
Он снял шляпу и воскликнул почти с восторгом:
— Какое необыкновенное несчастие!
Клим оглянулся: почему Макаров не прогонит этого идиота? Но Макаров исчез.
У себя в комнате Варвара, резкими жестами разбрасывая по столу, по кровати зонтик, шляпу, мокрый комок платка, портмонэ, отрывисто говорила:
— Щека разорвана, язык висит из раны. Я видела не менее трехсот трупов. Больше… Что же это, Самгин? Ведь не могли они сами себя…
Расхаживая по комнате быстро и легко, точно ее ветром носило, она отирала лицо мокрым полотенцем и все искала чего-то, хватая с туалетного стола гребенки, щетки, тотчас же швыряла их на место. Облизывала губы, кусала их.
— Пить, Самгин, страшно хочу пить…
Зрачки ее были расширены и помутнели, опухшие веки, утомленно мигая, становились все более красными. И заплакав, разрывая мокрый от слез платок, она кричала:
— Он был мне ближе матери… такой смешной, милый. И милая его любовь к народу… А они, на кладбище, говорят, что студенты нарыли ям, чтоб возбудить народ против царя. О, боже мой…
Самгин растерялся, он еще не умел утешать плачущих девиц и находил, что Варвара плачет слишком картинно для того, чтоб это было искренно. Но она и сама успокоилась, как только пришла мощная Анфимьевна и ласково, но деловито начала рассказывать:
— Перенесли его в часовенку, а домой не хотят отпускать, очень упрашивали не брать домой Хрисанфа Васильевича. Судите сами, говорят, какие же теперь возможные похороны, когда торжество.
Пригорюнясь, кухарка сказала:
— И верно, Варя, что уж дразнить царя? Бог с ними, со всеми; их грех, их ответ.
Варвара молча кивала головой, попросив чаю, ушла к себе, а через несколько минут явилась в черном платье, причесанная, с лицом хотя и печальным, но успокоенным.
За чаем Клим, посмотрев на часы, беспокойно спросил:
— А как вы думаете: найдет Лидия этого Диомидова?
— Как же я могу знать? — сухо сказала она и пророчески, тоном человека с большим жизненным опытом, заговорила:
— Я не одобряю ее отношение к нему. Она не различает любовь от жалости и ее ждет ужасная ошибка. Диомидов удивляет, его жалко, — но разве можно любить такого? Женщины любят сильных и смелых, этих они любят искренно и долго. Любят, конечно, и людей со странностями. Какой-то ученый немец сказал: «Чтобы быть замеченным, нужно впадать в странности».
Как будто забыв о смерти вотчима, она минут пять критически и придирчиво говорила о Лидии, и Клим понял, что она не любит подругу. Его удивило, как хорошо она до этой минуты прятала антипатию к Лидии, и удивление несколько подняло зеленоглазую девушку в его глазах. Потом она вспомнила, что надо говорить об отчиме, и сказала, что хотя люди его типа — отжившие люди, но все-таки в них есть своеобразная красота.
Клим чувствовал себя все более тревожно, неловко, он понимал, что было бы вообще приличнее и тактичнее по отношению к Лидии, если бы он ходил по улицам, искал ее вместо того, чтоб сидеть здесь и пить чай. Но теперь и уйти неловко.
Было уже темно, когда вбежала Лидия, а Макаров ввел под руку Диомидова. Самгину показалось, что все в комнате вздрогнуло, и опустился потолок. Диомидов шагал, прихрамывая, кисть его левой руки была обернута фуражкой Макарова и подвязана обрывком какой-то тряпки к шее. Не своим голосом он говорил, задыхаясь:
— Я ведь знал, я не хотел…
Светлые его волосы свалялись на голове комьями овечьей шерсти; один глаз затек темной опухолью, а другой, широко раскрытый и мутный, страшно вытаращен. Он был весь в лохмотьях, штанина разорвана поперек, в дыре дрожало голое колено, и эта дрожь круглой кости, обтянутой грязной кожей, была отвратительна.
Макаров бережно усадил его на стул у двери, обычное место Диомидова в этой комнате; бутафор утвердил на полу прыгающую ногу и, стряхивая рукой пыль с головы, сипло зарычал:
— Я говорил: расколоть, раздробить надо, чтобы не давили друг друга. О, Господи!
— Ну-с, что же будем делать? — резко спросил Макаров Лидию. — Горячей воды нужно, белья. Нужно было отвезти его в больницу, а не сюда…
— Молчите! Или — уходите прочь, — крикнула Лидия, убегая в кухню. Ее злой крик заставил Варвару завыть голосом деревенской бабы-кликуши:
— Нужно судить, проклясть, казнить…
Глядя на Диомидова, она схватилась за голову, качалась, сидя на стуле, и топала ногами. Диомидов тоже смотрел на нее вытаращенным взглядом и кричал:
— Каждому — свое пространство! И — не смейте! Никаких приманок! Не надо конфет! Не надо кружек!
Нога его снова начала прыгать, дробно притопывая по полу, колено выскакивало из дыры; он распространял тяжелый запах кала. Макаров придерживал его за плечо и громко, угрюмо говорил Варваре:
— Белья дайте, полотенцев… Что же кричать? Казнят, не беспокойтесь.
— Каждый — отдельно, — выкрикивал Диомидов, из его глаз двумя непрерывными струйками текли слезы.
Вбежала Лидия; оттолкнув Макарова, легко поставив Диомидова на ноги, она повела его в кухню.
— Неужели она сама будет мыть? — спросил Клим, брезгливо сморщив лицо и вздрагивая.
Варвара, встряхнув головою, рассыпала обильные рыжеватые волосы свои по плечам и быстро ушла в комнату вотчима; Самгин, проводив ее взглядом, подумал, что волосы распустить следовало раньше, не в этот момент, а Макаров, открыв окна, бормотал:
— Нашел я их на шоссе. Этот стоит и орет, проповедует: разогнать, рассеять, а Лидия уговаривает его итти с ней… «Ненавижу я всех твоих!» — кричит он…
В городе потрескивало и выло, как будто в огромнейшей печке яростно разгорались сыроватые дрова.
— Интересно, будет ли иллюминация? — соображал Клим.
— Конечно, отменена — что ты? — сердито заметил Макаров.
— Зачем же? — возразил Клим. — Это — развлекает. Было бы глупо, если б отменили.
Макаров промолчал, присев на подоконник, пощипывая усы.
— Диомидов сошел с ума? — спросил Самгин, не без надежды на утвердительный ответ; Макаров ответил не сразу и неутешительно:
— Едва ли. Он из таких типов, которые всю жизнь живут на границе безумия… мне кажется.
В двери появилась Лидия. Она стала, как бы споткнувшись о порог, которого не было; одной рукой схватилась за косяк, другой прикрыла глаза.
— Не могу, — сказала она, покачиваясь, как будто выбирая место куда упасть. Рукава ее блузы закатаны до локтей, с мокрой юбки на пол шлепались капли воды.
— Не могу, — повторила она очень странным тоном, виновато и с явным удивлением.
— Идите, вымойте его, — попросила она, закрыв лицо руками.
— Идем, поможешь, — сказал Макаров Климу.
В кухне на полу, перед большим тазом, сидел голый Диомидов, прижав левую руку ко груди, поддерживая ее правой. С мокрых волос его текла вода, и казалось, что он тает, разлагается. Его очень белая кожа была выпачкана калом, покрыта синяками, изорвана ссадинами. Неверным жестом правой руки он зачерпнул горсть воды, плеснул ее на лицо себе, на опухший глаз; вода потекла по груди, не смывая с нее темных пятен.
— У каждого свое пространство, — бормотал он. — Прочь друг от друга. Я — не игрушка…
— Исаак, — не совсем уместно вспомнил Клим Самгин, но тотчас поправился: — Идоложертвенное мясо.
Кухарка Анфимьевна стояла у плиты, следя, как вода, вытекая из крана, фыркает и брызжет в котел.
— Совсем сбрендил паренек, — неодобрительно сказала она, косясь на Диомидова. — Из простых, а — нежный. С капризом. Взял, да и выплеснул на Лидочку ковш воды…
Самгин услыхал какой-то странный звук, как будто Макаров заскрипел зубами. Сняв тужурку, он осторожно и ловко, как женщина ребенка, начал мыть Диомидова, став пред ним на колени.
И вдруг Самгин почувствовал, что его обожгло возмущение: вот это испорченное тело Лидия будет обнимать, может быть, уже обнимала? Эта мысль тотчас же вытолкнула его из кухни. Он быстро прошел в комнату Варвары, готовясь сказать Лидии какие-то сокрушительные слова.
Лидия сидела на постели, обняв одной рукой Варвару, она заставляла ее нюхать что-то из граненого флакона, огонь лампы окрашивал флакон в радужные цвета.
— Что? — спросила она.
— Моет! — сухо ответил Клим.
— Ему больно?
— Кажется — нет.
— Варя, — сказала Лидия, — я не умею утешать. И, вообще, надо ли утешать? Я не знаю…
— Уйдите, Самгин, — крикнула Варвара, падая боком на постель.
Клим ушел, не сказав Лидии ни слова.
— У нее такое замученное лицо. Может быть, она теперь… излечится.
На тумбах, жирно дымя, пылали огни сальных плошек. Самгин нашел, что иллюминация скудна, и даже в огне есть что-то нерешительное, а шум города недостаточно праздничен, сердит, ворчлив. На Тверском бульваре собрались небольшие группы людей, в одной ожесточенно спорили: будет фейерверк или нет? Кто-то горячо утверждал:
— Будет!
Высокий человек в серой шляпе сказал уверенно и строго:
— Государь император не позволит шуток.
А третий голос старался примирить разногласия:
— Фейерверк отменили на завтра.
— Государь император…
Откуда-то из-за деревьев раздался звонкий крик:
— Он теперь, вот, в дворянском собрании пляшет, государь-то, император-то!
Все посмотрели туда, а двое очень решительно пошли на голос и заставили Клима удалиться прочь.
— Если правда, что царь поехал на бал, значит, он человек с характером. Смелый человек. Диомидов прав…
Он шел к Страстной площади сквозь хаос говора, механически ловя отдельные фразы. Вот кто-то удалым голосом крикнул:
— Эх, думаю, не пропадать же!
— Вероятно, наступил в человека, может быть — в Маракуева, — соображал Клим. Но вообще ему не думалось, как это бывает всегда, если человек слишком перегружен впечатлениями и тяжесть их подавляет мысль. К тому же он был голоден и хотел пить.
У памятника Пушкину кто-то говорил небольшой кучке людей:
— Нет, вы подумайте обо всем порядке нашей жизни, как нами управляют, например?
Самгин взглянул на оратора и по курчавой бороде, по улыбке на мохнатом лице узнал в нем словоохотливого своего соседа по нарам в подвале Якова Платонова.
— Камень — дурак…
На площади его обогнал Поярков, шагавший как журавль. Самгин нехотя окликнул его:
— Куда вы?
Поярков пошел в ногу с ним, говоря вялым голосом, негромко:
— С утра хожу, смотрю, слушаю. Пробовал объяснять. Не доходит. А ведь просто: двинуться всей массой прямо с поля на Кремль и — готово! Кажется, в Брюсселе публика из театра, послушав «Пророка», двинулась и — получила конституцию… Дали.
Остановясь пред дверями маленького ресторана, он предложил:
— Зайдемте в эту «пристань горестных сердец». Мы тут с Маракуевым часто бываем…
Когда Клим рассказал о Маракуеве, Поярков вздохнул:
— Могло быть хуже. Говорят, погибло тысяч пять. Баталия.
Говорил Поярков глухо, лицо его неестественно вытянулось, и Самгину показалось, что он впервые сегодня заметил под унылым, длинным носом Пояркова рыжеватые усы.
«Напрасно он подбородок бреет», — подумал Клим.
— На днях купец, у которого я урок даю, сказал: «Хочется блинов поесть, а знакомые не умирают». Спрашиваю: зачем же нужно вам, чтоб они умирали? «А блин, — говорит, — особенно хорош на поминках». Вероятно, теперь он поест блинов…
Клим ел холодное мясо, запивая его пивом, и, невнимательно слушая вялую речь Пояркова, заглушаемую трактирным шумом, ловил отдельные фразы. Человек в черном костюме, бородатый и толстый, кричал:
— Пользуясь народным несчастием, нельзя под шумок сбывать фальшивые деньги…
— Ловко сказано, — похвалил Поярков. — Хорошо у нас говорят, а живут плохо. Недавно я прочитал у Татьяны Пассек: «Мир праху усопших, которые не сделали в жизни ничего ни хорошего, ни дурного». Как это вам нравится?
— Странно, — ответил Клим с набитым ртом.
Поярков помолчал, выпил пива, потом сказал, вздохнув:
— Тут — какое-то тихое отчаяние…
У стола явился Маракуев, щека его завязана белым платком, из кудрявых волос смешно торчат узел и два беленьких уха.
— Был уверен, что ты здесь, — сказал он Пояркову, присаживаясь к столу.
Наклонясь друг к другу, они перешепнулись.
— Я — мешаю? — спросил Самгин. Поярков искоса взглянул на него и пробормотал:
— Ну, чему же вы можете помешать?
И, вздохнув, продолжал:
— Я, вот, сказал ему, что марксисты хотят листки выпустить, а — мы…
Маракуев перебил его ворчливую речь:
— Вы, Самгин, хорошо знаете Лютова? Интересный тип. И дьякон тоже. Но — как они зверски пьют. Я — до пяти часов вечера спал, а затем они меня поставили на ноги и давай накачивать! Сбежал я и вот все мотаюсь по Москве. Два раза сюда заходил…
Он закашлялся, сморщив лицо, держась за бок.
— Пыли я наглотался — на всю жизнь, — сказал он.
В противоположность Пояркову этот был настроен оживленно и болтливо. Оглядываясь, как человек только что проснувшийся и еще не понимающий — где он? — Маракуев выхватывал из трактирных речей отдельные фразы, словечки и, насмешливо или задумчиво, рассказывал на схваченную тему нечто анекдотическое. Он был немного выпивши, но Клим понимал, что одним этим нельзя объяснить его необычное и даже несколько пугающее настроение.
— Если он рад тому, что остался жив — нелепо радуется… Может быть, он говорит для того, чтоб не думать?
— Душно здесь, братцы, идемте на улицу, — предложил Маракуев.
— Я — домой, — угрюмо сказал Поярков. — С меня хватит.
Климу не хотелось спать, но он хотел бы перешагнуть из мрачной суеты этого дня в область других впечатлений. Он предложил Маракуеву ехать на Воробьевы горы. Маракуев молча кивнул головой.
— А знаете, — сказал он, усевшись в пролетку, — большинство задохнувшихся, растоптанных — из так называемой чистой публики… Городские и — молодежь. Да. Мне это один полицейский врач сказал, родственник мой. Коллеги, медики, тоже говорят. Да я и сам видел. В борьбе за жизнь одолевают те, которые попроще. Действующие инстинктивно…
Он еще бормотал что-то, плохо слышное сквозь треск и дребезг старенького, развинченного экипажа. Кашлял, сморкался, отворачивая лицо в сторону, а когда выехали за город, предложил:
— Пойдемте пешком.
Впереди, на черных холмах, сверкали огни трактиров, сзади, над массой города, развалившейся по невидимой земле, колыхалось розовато-желтое зарево. Клим вдруг вспомнил, что он не рассказал Пояркову о дяде Хрисанфе и Диомидове. Это очень смутило его: как он мог забыть? Но он тотчас же сообразил, что, вот, и Маракуев не спрашивает о Хрисанфе, хотя сам же сказал, что видел его в толпе. Поискав каких-то внушительных слов и не найдя их, Самгин сказал:
— Дядя Хрисанф задавлен, а Диомидов изувечен и, кажется, уже совсем обезумел.
— Нет? — тихонько воскликнул Маракуев, остановился и несколько секунд молча смотрел в лицо Клима, пугливо мигая: — До… до смерти?
Клим кивнул головой, тогда Маракуев сошел с дороги в сторону, остановясь под деревом, прижался к стволу его и сказал:
— Не пойду.
— Вам плохо? — спросил Клим.
— Не удивляйтесь. Не смейтесь, — подавленно и задыхаясь ответил Петр Маракуев. — Нервы, знаете. Я столько видел… Необъяснимо! Какой цинизм. Подлость какая…
Климу показалось, что у веселого студента подгибаются ноги, он поддержал его под локоть, а Маракуев, резким движением руки сорвав повязку с лица, начал отирать ею лоб, виски, щеку, тыкать в глаза себе.
— Чорт, — ведь они оба младенцы! — вскричал он.
— Плачет. Плачет, — повторял Клим про себя. Это было неожиданно, непонятно и удивляло его до немоты. Такой восторженный крикун, неутомимый спорщик и мастер смеяться, крепкий, красивый парень, похожий на удалого, деревенского гармониста, всхлипывает, как женщина, у придорожной канавы, под уродливым деревом, на глазах бесконечно идущих черных людей с папиросками в зубах. Кто-то мохнатый, остановясь на секунду за маленькой нуждой, присмотрелся к Маракуеву и весело крикнул:
— Хватил студент горячего до слез! Эх, и мне бы эстолько…
— Я знаю, что реветь — смешно, — бормотал Маракуев.
Недалеко взвилась, шипя, ракета и с треском лопнула, заглушив восторженное «ура» детей. Затем вспыхнул бенгальский огонь, отсветы его растеклись, лицо Маракуева окрасилось в неестественно белый, ртутный цвет, стало мертвенно зеленым и, наконец, багровым, точно с него содрали кожу.
— Смешно, разумеется, — повторил он, отирая щеки быстрыми жестами зайца. — А тут, видите, иллюминация, дети радуются. Никто не понимает, никто ничего не понимает…
Лохматый человек очутился рядом с Климом и подмигнул ему:
— Нет, они отлично понимают, что народ — дурак, — заговорил он негромко, улыбаясь в знакомую Климу курчавенькую бороду. — Они у нас аптекаря, пустяками умеют лечить.
Маракуев шагнул к нему так быстро, точно хотел ударить.
— Лечат? Кого? — заговорил он громко, как в столовой дяди Хрисанфа, и уже в две, три минуты его окружило человек шесть темных людей. Они стояли молча и механически однообразно повертывали головы то туда, где огненные вихри заставляли трактиры подпрыгивать и падать, появляться и исчезать, то глядя в рот Маракуева.
— Смело говорит, — заметил кто-то за спиною Клима, другой голос равнодушно произнес:
— Студент, что ему? Идем.
Клим Самгин отошел прочь, сообразив, что любой из слушателей Маракуева может схватить его за ворот и отвести в полицию.
Самгин почувствовал себя на крепких ногах. В слезах Маракуева было нечто глубоко удовлетворившее его, он видел, что это слезы настоящие, и они хорошо объясняют уныние Пояркова, утратившего свои аккуратно нарубленные и твердые фразы, удивленное и виноватое лицо Лидии, закрывшей руками гримасу брезгливости, скрип зубов Макарова, — Клим уже не сомневался, что Макаров скрипел зубами, должен был скрипеть.
Все это, обнаруженное людьми внезапно, помимо их воли, было подлинной правдой, и знать ее так же полезно, как полезно было видеть голое, избитое и грязное тело Диомидова.
Клим быстро пошел назад к городу, его окрыляли и подталкивали бойкие мысли:
— Я — сильнее, я не позволю себе плакать среди дороги… и вообще — плакать. Я не заплачу, потому что я не способен насиловать себя. Они скрипят зубами, потому что насилуют себя. Именно поэтому они гримасничают. Это очень слабые люди. Во всех и в каждом скрыто Нехаевское… Нехаевщина, вот!
Зарево над Москвой освещало золотые главы церквей, они поблескивали, точно шлемы равнодушных солдат пожарной команды. Дома похожи на комья земли, распаханной огромнейшим плугом, который, прорезав в земле глубокие борозды, обнаружил в ней золото огня. Самгин ощущал, что и в нем прямолинейно работает честный плуг, вспахивая темные недоумения и тревоги. Человек с палкой в руке, толкнув его, крикнул:
— Ослеп? Ходите, дьяволы…
Толчок и окрик не спугнул, не спутал бойкий ход мысли Самгина.
— Маракуев наверное подружится с курчавым рабочим. Как это глупо мечтать о революции в стране, люди которой тысячами давят друг друга в борьбе за обладание узелком дешевеньких конфект и пряников. Самоубийцы.
Это слово вполне удовлетворительно объясняло Самгину катастрофу, о которой не хотелось думать.
— Раздавили и — любуются фальшфейерами, лживыми огнями. Макаров — прав: люди, это икра. Почему не я сказал это, а — он?.. И Диомидов прав, хотя глуп: людям следует разъединиться, так они виднее и понятней друг другу. И каждый должен иметь место для единоборства. Один на один люди удобнопобеждаемее…
Самгину понравилось слово, он вполголоса повторил его:
— Удобнопобеждаемее… да!
В памяти на секунду возникла неприятная картина: кухня, пьяный рыбак посреди нее на коленях, на полу во все стороны слепо и бестолково расползаются раки, маленький Клим испуганно прижался к стене.
— Раки, это — Лютовы, дьякона и вообще люди ненормальные… Туробоевы, Иноковы. Их, конечно, ждет участь подпольного человека Якова Платоновича. Они и должны погибнуть… как же иначе?
Самгин почувствовал, что люди этого типа сегодня особенно враждебны ему. С ними надобно покончить. Каждый из них требует особой оценки, каждый носит в себе что-то нелепое, неясное. Точно суковатые поленья, они не дкладывались так плотно друг ко другу, как это необходимо для того, чтоб встать выше их. Да, надобно нанизать их на одну какую-то очень прочную нить. Это так же необходимо, как знать ходы каждой фигуры в шахматной игре. С этой точки мысли Самгина скользили в «кутузовщину». Он пошел быстрее, вспомнив, что не в первый раз думает об этом, даже всегда только об этом и думает.
— Эти растрепанные, вывихнутые люди довольно удобно живут в своих шкурах… в своих ролях. Я тоже имею право на удобное место в жизни… — сердито соображал Самгин, чувствуя себя обновленным, независимым.
С этим чувством независимости и устойчивости на другой день вечером он сидел в комнате Лидии, рассказывая ей тоном легкой иронии обо всем, что видел ночью. Лидия была нездорова, ее лихорадило, бисер пота блестел на смуглых висках, но она все-таки крепко куталась пуховой, пензенской шалью, обняв себя за плечи. Ее темные глаза смотрели с недоумением, с испугом. Изредка и как будто насильно она отводила взгляд на свою постель, там вверх грудью лежал Диомидов, высоко подняв брови, глядя в потолок. Здоровая рука его закинута под голову, и пальцы судорожно перебирают венец золотистых волос. Он молчал, а рот его был открыт, и казалось, что избитое лицо его кричало. На нем широкая ночная рубаха, рукава ее сбиты на плечи, точно измятые крылья, незастегнутый ворот обнажает грудь. В его теле было что-то холодное, рыбье, глубокая ссадина на шее заставляла вспоминать о жабрах.
Появлялась Варвара, непричесанная, в ночных туфлях, в измятой блузе; мрачно сверкая глазами, она минуту, две слушала рассказ Клима, исчезала и являлась снова.
— Я не знаю, что делать? — сказала она. — У меня нехватит денег на похороны…
Диомидов приподнял голову, спросил со свистом:
— Разве я умираю?
И закричал, махая рукой:
— Я не умираю! Уйдите… уйдите все!
Варвара и Клим ушли, Лидия осталась, пытаясь успокоить больного, из столовой были слышны его крики:
— Отвезите меня в больницу…
— Не верю я, что он сошел с ума, — громко сказала Варвара. — Не люблю его и не верю…
Пришла Лидия, держась руками за виски, молча села у окна. Клим спросил: что нашел доктор? Лидия посмотрела на него непонимающим взглядом; от синих теней в глазницах ее глаза стали светлее. Клим повторил вопрос.
— Помяты ребра. Вывихнута рука. Но — главное — нервное потрясение… Он всю ночь бредил: не давите меня! Требовал, чтоб разогнали людей дальше друг от друга. Нет, скажи — что же это?
— Навязчивая идея, — сказал Клим.
Девушка снова взглянула на него, не понимая, затем сказала:
— Я — не о том. Не о нем. Впрочем, не знаю, о чем я.
— Он и раньше был ненормален, — настойчиво заметил Самгин.
— Что тут нормально? Что, вот, люди давят друг друга, а потом играют на гармонике? Рядом с нами до утра играли на гармонике.
Вошел Макаров, обвешанный пакетами, исподлобья посмотрел на Лидию:
— Вы — спали?
Не взглянув на него, не ответив, она продолжала пониженным голосом:
— Нормально, это — когда спокойно, да? Но ведь жизнь становится все беспокойнее…
— Нормальный организм требует устранения нездоровых и неприятных раздражений, — сердито заворчал Макаров, развязывая пакеты с бинтами, ватой. — Это — закон биологии. А мы от скуки, от безделья встречаем нездоровые раздражения, как праздники. В том, что некоторые полуидиоты…
Лидия вскочила, подавленно крикнув:
— Не смейте говорить так при мне!
— А без вас — можно?
Она убежала в комнату Варвары.
— Склонность к истерии, — буркнул Макаров вслед ей. — Клим, пойдем, помоги мне поставить компресс.
Диомидов поворачивался под их руками молча, покорно, но Самгин заметил, что пустынные глаза больного не хотят видеть лицо Макарова. А когда Макаров предложил ему выпить ложку брома, Диомидов отвернулся лицом к стене.
— Не стану. Уйдите.
Макаров уговаривал неохотно, глядя в окно, не замечая, что жидкость капает с ложки на плечо Диомидова. Тогда Диомидов приподнял голову и спросил, искривив опухшее лицо:
— За что вы меня мучаете?
— Надо выпить, — равнодушно сказал Макаров.
В глазах больного мелькнули синие искорки. Он проглотил микстуру и плюнул в сторону.
Макаров постоял над ним с минуту, совершенно непохожий на себя, приподняв плечи, сгорбясь, похрустывая пальцами рук, потом, вздохнув, попросил Клима:
— Скажи Лидии, что ночью буду дежурить я…
Ушел. Диомидов лежал, закрыв глаза, но рот его открыт, и лицо снова безмолвно кричало. Можно было подумать: он открыл рот нарочно, потому что знает: от этого лицо становится мертвым и жутким. На улице оглушительно трещали барабаны, мерный топот сотен солдатских ног сотрясал землю. Истерически лаяла испуганная собака. В комнате было неуютно, не прибрано и душно от запаха спирта. На постели Лидии лежит полуидиот.
— Может быть, он и здоровый лежал тут…
Клим вздрогнул, представив тело Лидии в этих холодных, странно белых руках. Он встал и начал ходить по комнате, бесцеремонно топая; он затопал еще сильнее, увидав, что Диомидов повернул к нему свой синеватый нос и открыл глаза, говоря:
— Я не хочу, чтоб он дежурил, пусть Лидия… Я его не люблю…
Клим Самгин подошел к нему и, вытянув шею, грозя кулаком, тихонько сказал:
— Молчи, ты, блаженная вошь!..
Клим в первый раз в жизни испытывал охмеляющее наслаждение злости. Он любовался испуганным лицом Диомидова, его выпученными глазами и судорогой руки, которая тащила из-под головы подушку, в то время как голова притискивала подушку все сильнее.
— Молчи! Слышишь? — повторил он и ушел.
Лидия сидела в столовой на диване, держа в руках газету, но глядя через нее в пол.
— Что он?
— Бредит, — находчиво сказал Клим. — Боится кого-то; бредит о вшах, клопах…
Испугав хоть и плохенького, но все-таки человека, Самгин почувствовал себя сильным. Он сел рядом с Лидией и смело заговорил:
— Лида, голубушка, все это надо бросить, все это выдумано, не нужно и погубит тебя.
— Ш-ш, — прошептала она, подняв руку, опасливо глядя на двери, а он, понизив голос, глядя в ее усталое лицо, продолжал:
— Уйди от больных, театральных, испорченных людей к простой жизни, к простой любви…
Говорил он долго и не совсем ясно понимая, что говорит. По глазам Лидии Клим видел, что она слушает его доверчиво и внимательно. Она даже как бы невольно кивала головой, на щеках ее вспыхивал и гас румянец, иногда она виновато опускала глаза, и все это усиливало его смелость.
— Да, да, — прошептала она. — Но тише! Он казался мне таким — необыкновенным. Но вчера, в грязи… И я не знала, что он — трус. Он ведь трус. Мне его жалко, но… это — не то. Вдруг — не то. Мне очень стыдно. Я, конечно, виновата… я знаю!
Она нерешительно положила руку на плечо ему:
— Я все ошибаюсь. Вот и ты не такой, как я привыкла думать…
Клим попробовал обнять ее, но она, уклонясь, встала и, отшвырнув газету ногой, подошла к двери в комнату Варвары, прислушалась.
Со двора в открытое окно навязчиво лез унылый свист дудок шарманки. Влетел чей-то завистливый и насмешливый крик:
— Эх, и заработают же гробовщики сладкую денежку!
— Спит, должно быть, — тихо сказала Лидия, отходя от двери.
Клим деловито заговорил о том, что Диомидова необходимо отправить в больницу.
— А тебе, Лида, бросить бы школу. Ведь все равно ты не учишься. Лучше иди на курсы. Нам необходимы не актеры, а образованные люди. Ты видишь, в какой дикой стране мы живем.
И он указал рукою на окно, за которым шарманка лениво дудела новую песню.
Лидия задумчиво молчала. Прощаясь с ней, Самгин сказал:
— Ты все-таки помни, что я тебя люблю. Это не налагает на тебя никаких обязательств, но это глубоко и серьезно.
Клим Самгин шагал по улице бодро и не уступая дорогу встречным людям. Иногда его фуражку трогали куски трехцветной флагной материи. Всюду празднично шумели люди, счастливо привыкшие быстро забывать несчастия ближних своих. Самгин посматривал на их оживленные, ликующие лица, праздничные костюмы, и утверждался в своем презрении к ним.
— В животном страхе Диомидова перед людьми есть что-то правильное…
В переулке, пустынном и узком, Клим подумал, что с Лидией и взглядами Прейса можно бы жить очень спокойно и просто.
Но через некоторое время Прейс рассказал Климу о стачке ткачей в Петербурге, рассказал с такой гордостью, как будто он сам организовал эту стачку, и с таким восторгом, как бы говорил о своем личном счастии.
— Вы слышали что-нибудь о «Союзе борьбы»? Так это его работа. Начинается новая эра, Самгин, вы увидите!
И ласково заглядывая бархатными глазами в лицо, он спрашивал:
— А вы все еще изучаете длину путей к цели, да? Так поверьте: путь, которым идет рабочий класс — всего короче. Труднее, но — короче. Насколько я понимаю вас, вы не идеалист и ваш путь, это — трудный, но прямой!
Самгину показалось, что Прейс, всегда говоривший по-русски правильно и чисто, на этот раз говорит с акцентом, а в радости его слышна вражда человека другой расы, обиженного человека, который мстительно хочет для России неприятностей и несчастий.
Всегда было так, что вслед за Прейсом попадался на глаза Маракуев. Эти двое шли сквозь жизнь как бы кругами, и, описывая восьмерки, каждый вращался в своем круге фраз, но в какой-то одной точке круга они сходились. Тут было нечто подозрительное и внушавшее догадку, что словесные столкновения Маракуева и Прейса имеют характер показательный, это — игра для поучения и соблазна других. А Поярков стал молчаливее, спорил меньше, реже играл на гитаре и весь как-то высох, вытянулся. Вероятно, это потому, что Маракуев заметно сближался с Варварой.
На похоронах отчима он вел ее между могил под руку и, наклоняя голову к плечу ее, шептал ей что-то, а она, оглядываясь, взмахивала головой, как голодная лошадь, и на лице ее застыла мрачная, угрожающая гримаса.
Дома у Варвары за чайным столом Маракуев садился рядом с ней, ел мармелад, любимый ею, похлопывал ладонью по растрепанной книжке Кравчинского-Степняка «Подпольная Россия» и молодцевато говорил:
— Нам нужны сотни героев, чтоб поднять народ в бой за свободу.
Самгин завидовал уменью Маракуева говорить с жаром, хотя ему казалось, что этот человек рассказывает прозой всегда одни и те же плохие стихи. Варвара слушает его молча, крепко сжав губы, зеленоватые глаза ее смотрят в медь самовара так, как будто в самоваре сидит некто и любуется ею.
Было очень неприятно наблюдать внимание Лидии к речам Маракуева. Поставив локти на стол, сжимая виски ладонями, она смотрела в круглое лицо студента читающим взглядом, точно в книгу. Клим опасался, что книга интересует ее более, чем следовало бы. Иногда Лидия, слушая рассказы о Софии Перовской, Вере Фигнер, даже раскрывала немножко рот; обнажалась полоска мелких зубов, придавая лицу ее выражение, которое Климу иногда казалось хищным, иногда — неумным.
— Воспитание героинь, — думал он и время от времени находил нужным вставлять в пламенную речь Маракуева охлаждающие фразы:
— Маккавеи погибают не побеждая, а мы должны победить…
Но это ничуть не охлаждало Маракуева, напротив, он вспыхивал еще более ярко.
— Да, победить! — кричал он. — Но — в какой борьбе? В борьбе за пятачек? За то, чтоб люди жили сытее, да?
Карающим жестом он указывал девицам на Клима и взрывался, как фейерверк:
— Он из тех, которые думают, что миром правит только голод, что над нами властвует лишь закон борьбы за кусок хлеба и нет места любви. Материалистам непонятна красота бескорыстного подвига, им смешно святое безумство дон Кихота, смешна Прометеева дерзость, украшающая мир.
Лирический тенор Маракуева раздражающе подвывал, произнося имена Фра-Дольчино, Яна Гуса, Мазаниелло.
— Герострата не забудьте, — сердито сказал Самгин.
Как нередко бывало с ним, он сказал это неожиданно для себя и — удивился, перестал слушать возмущенные крики противника.
— А что, если всем этим прославленным безумцам не чужд геростратизм? — задумался он. — Может быть, многие разрушают храмы только для того, чтоб на развалинах их утвердить свое имя? Конечно, есть и разрушающие храмы для того, чтоб — как Христос — в три дня создать его. Но — не создают.
Маракуев кричал:
— Вы бы послушали, как и что говорит рабочий, которого — помните? — мы встретили…
— Помню, — сказал Клим, — это, когда вы…
Покраснев до ушей, Маракуев подскочил на стуле:
— Да, именно! Когда я плакал, да! Вы, может быть, думаете, что я стыжусь этих слез? Вы плохо думаете.
— Что ж делать? — возразил Клим, пожимая плечами. — Я ведь и не пытаюсь щеголять моими мыслями…
Перекинувшись еще десятком камешков, замолчали, принужденные к этому миролюбивыми замечаниями девиц. Затем Маракуев и Варвара ушли куда-то, а Клим спросил Лидию:
— Что же, она хочет играть роль Перовской?
— Не злись, — сказала Лидия, задумчиво глядя в окно. — Маракуев прав: чтоб жить — нужны герои. Это понимает даже Константин, недавно он сказал: «Ничто не кристаллизуется иначе, как на основе кристалла». Значит, даже соль нуждается в герое.
— Он все еще любит тебя, — сказал Клим, подходя к ней.
— Не понимаю — почему? Он такой… не для этого… Нет, не трогай меня, — сказала она, когда Клим попытался обнять ее. — Не трогай. Мне так жалко Константина, что иногда я ненавижу его за то, что он возбуждает только жалость.
Лидия отошла к зеркалу и, рассматривая лицо свое непонятным Климу взглядом, продолжала тихо:
— Любовь тоже требует героизма. А я — не могу быть героиней. Варвара — может. Для нее любовь — тоже театр. Кто-то, какой-то невидимый зритель спокойно любуется тем, как мучительно любят люди, как они хотят любить. Маракуев говорит, что зритель — это природа. Я — не понимаю… Маракуев тоже, кажется, ничего не понимает, кроме того, что любить — надо.
Клим уже не чувствовал желания коснуться ее тела, это очень беспокоило его.
Было еще не поздно, только что зашло солнце и не погасли красноватые отсветы на главах церквей. С севера надвигалась туча, был слышен гром, как будто по железным крышам домов мягкими лапами лениво ходил медведь.
— Знаешь, — слышал Клим, — я уже давно не верю в бога, но каждый раз, когда чувствую что-нибудь оскорбительное, вижу злое, — вспоминаю о нем. Странно! Право не знаю: что со мной будет?
На эту тему Клим совершенно не умел говорить. Но он заговорил, как только мог убедительно:
— Время требует простой, мужественной работы ради культурного обогащения страны…
И остановился, видя, что девушка, закинув руки за голову, смотрит на него с улыбкой в темных глазах, с улыбкой, которая снова смутила его, как давно уже не смущала.
— Почему ты так смотришь? — пробормотал он.
Лидия ответила очень спокойно:
— Я думаю, что ты не веришь в то, что говоришь.
— Почему же?
Не ответив, она через минуту сказала:
— Будет дождь. И сильный.
Клим догадался, что нужно уйти, а через день, идя к ней, встретил на бульваре Варвару в белой юбке, розовой блузке, с красным пером на шляпе.
— Вы — к нам? — спросила она, и в глазах ее Клим подметил насмешливые искорки. — А я — в Сокольники. Хотите со мной? Лида? Но ведь она вчера уехала домой, разве вы не знаете?
— Уже? — спросил Самгин, искусно скрыв свое смущение и досаду. — Она хотела ехать завтра.
— Мне кажется, что она вовсе не хотела ехать, но ей надоел Диомидов своими записочками и жалобами.
Клим плохо слышал ее птичье щебетанье, заглушаемое треском колес и визгом вагонов трамвая на закруглениях рельс.
— Вы, вероятно, тоже скоро уедете?
— Да, после завтра.
— Зайдете проститься?
— Конечно, — сказал Клим и подумал: — Я бы с тобой, пестрая дура, навеки простился.
В самом деле, пора было ехать домой. Мать писала письма, необычно для нее длинные, осторожно похвалила деловитость и энергию Спивак, сообщала, что Варавка очень занят организацией газеты. И в конце письма еще раз пожаловалась:
«Увеличились и хлопоты по дому с той поры, как умерла Таня Куликова. Это случилось неожиданно и необъяснимо, так иногда, неизвестно почему, разбивается что-нибудь стеклянное, хотя его и не трогаешь. Исповедаться и причаститься она отказалась. В таких людей, как она, предрассудки врастают очень глубоко. Безбожие я считаю предрассудком».
Пред Климом встала бесцветная фигурка человека, который, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, всю жизнь покорно служил людям, чужим ему. Было даже несколько грустно думать о Тане Куликовой, странном существе, которое, не философствуя, не раскрашивая себя словами, бескорыстно заботилось только о том, чтоб людям удобно жилось.
— Вот — христианская натура, — думал он. — Идеально христианская.
Но он тотчас же сообразил, что ему нельзя остановиться на этой эпитафии, ведь животные, — собаки, например, — тоже беззаветно служат людям. Разумеется, люди, подобные Тане, полезнее людей, проповедующих в грязном подвале о глупости камня и дерева, нужнее полоумных Диомидовых, но…
Довести эту мысль до конца он не успел, потому что в коридоре раздались тяжелые шаги, возня и воркующий голос соседа по комнате. Сосед был плотный человек лет тридцати, всегда одетый в черное, черноглазый, синещекий, густые черные усы коротко подстрижены и подчеркнуты толстыми губами очень яркого цвета. Он себя называл «виртуозом на деревянных инструментах», но Самгин никогда не слышал, чтоб человек этот играл на кларнете, гобое или фаготе. Жил черный человек таинственной ночной жизнью; до полудня спал, до вечера шлепал по столу картами и воркующим голосом, негромко пел всегда один и тот же романс:
Что он ходит за мной, Всюду ищет меня?Вечерами он уходил с толстой палкой в руке, надвинув котелок на глаза, и, встречая его в коридоре или на улице, Самгин думал, что такими должны быть агенты тайной полиции и шулера.
Теперь, взглянув в коридор сквозь щель неплотно прикрытой двери, Клим увидал, что черный человек затискивает в комнату свою, как подушку в чемодан, пышную, маленькую сестру квартирохозяйки, затискивает и воркует в нос:
— Что ж вы от меня бегаете, а? Зачем же это бегаете вы от меня?
Клим Самгин протестующе прихлопнул дверь, усмехаясь, сел на кровать, и вдруг его озарила, согрела счастливая догадка:
— Чего же ты от меня бегаешь? — повторил он убеждающие слова «виртуоза на деревянных инструментах».
Через день он поехал домой с твердой уверенностью, что вел себя с Лидией глупо, как гимназист.
«Любовь требует жеста».
Несомненно, что Лидия убежала от него, только этим и можно объяснить ее внезапный отъезд.
Иногда жизнь подсказывает догадки очень своевременно.
II.
Мать, встретив его торопливыми ласками, тотчас же вместе с нарядной Спивак уехала, объяснив, что едет приглашать губернатора на молебен по случаю открытия школы.
В столовой за завтраком сидел Варавка в синем с золотом китайском халате, в татарской лиловой тюбитейке, сидел, играя бородой, озабоченно фыркал и говорил:
— Мы живем в треугольнике крайностей.
Против него твердо поместился, разложив локти по столу, пожилой, лысоватый человек с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу, одетый в серый пиджак, в цветной рубашке «фантазия», с черным шнурком вместо галстука. Он сосредоточенно кушал и молчал. Варавка, назвав длинную двойную фамилию, прибавил:
— Наш редактор.
И продолжал, как всегда, не затрудняясь в поисках слов:
— Стороны треугольника: бюрократизм, возрождающееся народничество и марксизм в его трактовке рабочего вопроса…
— Совершенно согласен, — сказал редактор, склонив голову; кисточки шнурка выскочили из-за жилета и повисли над тарелкой, редактор торопливо тупенькими красными пальцами заткнул их на место.
Кушал он очень интересно и с великой осторожностью. Внимательно следил, чтоб куски холодного мяса и ветчины были равномерны, тщательно обрезывал ножом излишек их, пронзал вилкой оба куска и, прежде чем положить их в рот, на широкие, тупые зубы, поднимал вилку на уровень очков, испытующе осматривал двуцветные кусочки. Даже огурец он кушал с великой осторожностью, как рыбу, точно ожидая встретить в огурце кость. Жевал медленно; серые волосы на скулах его вставали дыбом, на подбородке шевелилась тугая, коротенькая борода, подстриженная аккуратно. Он вызывал впечатление крепкого, надежного человека, который привык и умеет делать все так же осторожно и уверенно, как он ест.
С багрового лица Варавки веселые медвежьи глазки благосклонно разглядывали высокий гладкий лоб, солидно сиявшую лысину, густые, серые и неподвижные брови. Климу казалось, что самое замечательное на обширном лице редактора — его нижняя, обиженно отвисшая губа лиловатого цвета. Эта странная губа придавала плюшевому лицу капризное выражение, с такой обиженной губой сидят среди взрослых дети, уверенные в том, что они наказаны несправедливо. Говорил редактор не спеша, очень внятно, немного заикаясь, пред гласными он как бы ставил апостроф:
— Зн'ачит: «Р'усские В'едомости» б'ез их академизма и, как вы сказали, с максимумом живого отношения к истинно культурным нуждам края?
— Вот, во-от! — сказал Варавка и понюхал воздух.
Где-то очень близко, точно из пушки выстрелили в деревянный дом, — грохнуло и оглушительно затрещало, редактор неодобрительно взглянул в окно и сообщил:
— Слишком дождливое лето.
Клим встал, закрыл окна, в стекла начал буйно хлестать ливень; в мокром шуме Клим слышал четкие слова:
— Фельетонист у нас будет опытный, это — Робинзон, известность. Нужен литературный критик, человек здорового ума. Необходима борьба с болезненными течениями в современной литературе. Вот такого сотрудника — не вижу.
Варавка подмигнул Климу и спросил:
— А? Клим?
Самгин молча пожал плечами, ему показалось, что губа редактора отвисла еще более обиженно.
Подали кофе. Сквозь гул грома и сердитый плеск дождя наверху раздались звуки рояля.
— Ну-ко, попробуй! — говорил Варавка.
— Подумаю, — тихо ответил Клим.
Все уже было не интересно и не нужно, Варавка, редактор, дождь и гром. Некая сила, поднимая, влекла наверх. Когда он вышел в прихожую, зеркало показало ему побледневшее лицо, сухое и сердитое. Он снял очки, крепко растерев ладонями щеки, нашел, что лицо стало мягче, лиричнее.
Лидия сидела у рояля, играя «Песнь Сольвейг».
— О, приехал? — сказала она, протянув руку.
Вся в белом, странно маленькая, она улыбалась. Самгин почувствовал, что рука ее неестественно горяча и дрожит, темные глаза смотрят ласково. Ворот блузы расстегнут и глубоко обнажает смуглую грудь.
— В грозу музыка особенно волнует, — говорила Лидия, не отнимая руки.
Она говорила и еще что-то, но Клим не слышал. Он необыкновенно легко поднял ее со стула и обнял, спросив глухо и строго:
— Почему ты вдруг уехала?
Спросить он хотел что-то другое, но не нашел слов, он действовал, как в густой темноте. Лидия отшатнулась, он обнял ее крепче, стал целовать плечи, грудь.
— Не смей, — говорила она, отталкивая его руками, коленями. — Не смей же…
Она вырвалась. Клим, покачнувшись, сел к роялю, согнулся над клавиатурой, в нем ходили волны сотрясающей дрожи, он ждал, что упадет в обморок. Лидия была где-то далеко сзади него, он слышал ее возмущенный голос, стук руки по столу.
— Я ее безумно люблю, — убеждал он себя. — Безумно, — настаивал он, как бы споря с кем-то.
Потом он почувствовал ее легкую руку на голове своей, услышал тревожный вопрос:
— Что с тобой?
— Я не знаю, — ответил он, снова охватив ее талию руками, и прижался щекою к бедру.
— О, боже мой, — тихо сказала Лидия, уже не пытаясь освободиться, напротив, она как будто плотнее подвинулась к нему, хотя это было невозможно.
— Что же будет, Лида? — спросил Клим.
Осторожно разжав его руки, она пошла прочь. Самгин пьяными глазами проводил ее сквозь туман. В комнате, где жила ее мать, она остановилась, опустив руки вдоль тела, наклонив голову, точно молясь. Дождь хлестал в окна все яростнее, были слышны захлебывающиеся звуки воды, стекавшей по водосточной трубе.
— Уйди, пожалуйста, — сказала Лидия. Самгин встал и пошел к ней, казалось, что она просит уйти не его.
— Я же прошу тебя — уйди!
То, что произошло после этих слов, было легко, просто и заняло удивительно мало времени, как будто несколько секунд. Стоя у окна, Самгин с изумлением вспоминал, как он поднял девушку на руки, а она, опрокидываясь спиной на постель, сжимала уши и виски его ладонями, говорила что-то и смотрела в глаза его ослепляющим взглядом.
Теперь, вот, она стоит перед зеркалом, поправляя костюм, прическу, руки ее дрожат, глаза в отражении зеркала широко раскрыты, неподвижны и налиты испугом. Она кусала губы, точно сдерживая боль или слезы.
— Милая, — прошептал Клим в зеркало, не находя в себе ни радости, ни гордости, не чувствуя, что Лидия стала ближе ему, и не понимая, как надобно вести себя, что следует говорить. Он видел, что ошибся, — Лидия смотрит на себя не с испугом, а вопросительно, с изумлением. Он подошел к ней, обнял.
— Пусти, — сказала она и начала оправлять измятые подушки.
Тогда он снова стал у окна, глядя сквозь густую завесу дождя, как трясутся листья деревьев, а по железу крыши флигеля прыгают серые шарики.
— Я — настойчив, хотел и достиг, — соображал он, чувствуя необходимость утешить себя чем-нибудь.
— Ты — иди, — сказала Лидия, глядя на постель все тем же озабоченным и спрашивающим взглядом. Самгин ушел, молча поцеловав ее руку.
Все произошло не так, как он воображал. Он чувствовал себя обманутым.
— Но — чего я ждал? — спросил он. — Только того, что это будет непохоже на испытанное с Маргаритой и Нехаевой?
И — утешил себя:
— Может быть, и будет…
Но не надолго утешил, в следующую минуту явилась обидная мысль:
— Она мне точно милостыню подала…
И в десятый раз он вспомнил:
«Да был ли мальчик-то? Может — мальчика-то и не было?».
Придя к себе, он запер дверь, лег и пролежал до вечернего чая, а когда вышел в столовую, там, как часовой, ходила Спивак, тонкая и стройная после родов, с пополневшей грудью. Она поздоровалась с ласковым равнодушием старой знакомой, нашла, что Клим сильно похудел, и продолжала говорить Вере Петровне, сидевшей у самовара:
— Семнадцать девиц и девять мальчиков, а нам необходимы тридцать учеников…
С плеч ее по руке до кисти струилась легкая ткань жемчужного цвета, кожа рук, просвечивая сквозь нее, казалась масляной. Она была несравнимо красивее Лидии, и это раздражало Клима. Раздражал докторальный и деловой тон ее, книжная речь и то, что она, будучи моложе Веры Петровны лет на пятнадцать, говорила с нею, как старшая. Когда мать спросила Клима, предлагал ли ему Варавка взять в газете отдел критики и библиографии, она заговорила, не ожидая, что скажет Клим:
— Помните? Это и моя идея. У вас все данные для такой роли: критическое умонастроение, сдерживаемое осторожностью суждений, и хороший вкус.
Она сказала это ласково и серьезно, но в построении ее фразы Климу почудилась усмешка.
— Да, да, — согласилась мать, кивая головой и облизывая кончиком языка поблекшие губы, а Клим, рассматривая помолодевшее лицо Спивак, думал:
— Что ей нужно от меня? Почему это мать так подружилась с нею?
В окно хлынул розоватый поток солнечного света, Спивак закрыла глаза, откинула голову и замолчала, улыбаясь. Стало слышно, что Лидия играет. Клим тоже молчал, глядя в окно на дымно-красные облака. Все было неясно, кроме одного: необходимо жениться на Лидии.
— Кажется, я поторопился, — вдруг сказал он себе, почувствовав, что в его решении жениться есть что-то вынужденное. Он едва не сказал:
— Я — ошибся.
Он мог бы сказать это, ибо уже не находил в себе того влечения к Лидии, которое так долго и хотя не сильно, однако, настойчиво волновало его.
Лидия не пришла пить чай, не явилась и ужинать. В течение двух дней Самгин сидел дома, напряженно ожидая, что вот в следующую минуту Лидия придет к нему или позовет его к себе. Решимости самому пойти к ней у него не было и был предлог не ходить: Лидия объявила, что она нездорова, обед и чай подавали для нее наверх.
— Это нездоровье, вероятно, обычный припадок мизантропии, — сказала мать, вздохнув.
— Странные характеры наблюдаю я у современной молодежи, — продолжала она, посыпая клубнику сахаром. — Мы жили проще, веселее. Те из нас, кто шел в революцию, шли со стихами, а не с цифрами…
— Ну, матушка, цифры не хуже стихов, — проворчал Варавка. — Стишками болото не осушишь…
Хлебнув вина, он прищурился, пополоскал рот, проглотил вино и, подумав, сказал:
— А молодежь, действительно… кисловата! У музыкантов, во флигеле, бывает этот знакомый твой, Клим… как его?
— Иноков.
— Вот. Странный парень. Никогда не видал человека, который в такой мере чувствовал бы себя чужим всему и всем. Иностранец.
И пытливо, с остренькой улыбочкой в глазах посмотрев на Клима, он спросил:
— А ты себя иностранцем не чувствуешь?
— В государстве, где возможны Ходынки… — начал Клим сердито, потому что и мать и Варавка надоели ему.
В эту минуту и явилась Лидия в странном, золотистого цвета халатике, который напомнил Климу одеяния женщин на картинах Габриэля Росетти. Она была настроена несвойственно ей оживленно, подшучивая над своим нездоровьем, приласкалась к отцу, очень охотно рассказала Вере Петровне, что халатик прислан ей Алиной из Парижа. Оживление ее показалось Климу подозрительным и усилило состояние напряженности, в котором он прожил эти два дня, он стал ждать, что Лидия скажет или сделает что-нибудь необыкновенное, может быть — скандальное. Но, как всегда, она почти не обращала внимания на него и, лишь уходя к себе наверх, шепнула:
— Не запирай дверь.
Унизительно было Климу сознаться, что этот шопот испугал его, но испугался он так, что у него задрожали ноги, он даже покачнулся, точно от удара. Он был уверен, что ночью между ним и Лидией произойдет что-то драматическое, убийственное для него. С этой уверенностью он и ушел к себе, как приговоренный на пытку.
Лидия заставила ждать ее долго, почти до рассвета. Вначале ночь была светлая, но душная, в раскрытые окна из сада вливались потоки влажных запахов земли, трав, цветов. Потом луна исчезла, но воздух стал еще более влажен, окрасился в темносинюю муть. Клим Самгин, полуодетый, сидел у окна, прислушиваясь к тишине, вздрагивая от непонятных звуков ночи. Несколько раз он с надеждой говорил себе:
— Не придет. Раздумала.
Но Лидия пришла. Когда бесшумно открылась дверь, и на пороге встала белая фигура, он поднялся, двинулся навстречу ей и услышал сердитый шопот:
— Закрой окно, закрой!
Комната наполнилась непроницаемой тьмой, и Лидия исчезла в ней. Самгин, протянув руки, поискал ее, не нашел и зажег спичку.
— Не надо! Не смей! Не надо огня, — услышал он.
Он успел разглядеть, что Лидия сидит на постели, торопливо выпутываясь из своего халата, изломанно мелькают ее руки, он подошел к ней, опустился на колени.
— Скорей! Скорей! — шептала она.
Невидимая в темноте, она вела себя безумно и бесстыдно. Кусала плечи его, стонала и требовала, задыхаясь:
— Я хочу испытать… испытать…
Она будила его чувственность, как опытная женщина, жаднее, чем деловитая и механически-ловкая Маргарита, яростнее, чем голодная, бессильная Нехаева. Иногда он чувствовал, что сейчас потеряет сознание, и, может быть, у него остановится сердце. Был момент, когда ему казалось, что она плачет, ее неестественно горячее тело несколько минут вздрагивало как бы от сдержанных и беззвучных рыданий. Но он не был уверен, что это так и есть, хотя после этого она перестала настойчиво шептать в уши его:
— Испытать… испытать…
Он не помнил, когда она ушла, уснул, точно убитый, и весь следующий день прожил как во сне, веря и не веря в то, что было. Он понимал лишь одно: в эту ночь им пережито необыкновенное, неизведанное, но не то, чего он ждал, и не так, как представлялось ему. Через несколько таких же бурных ночей он убедился в этом.
В объятиях его Лидия ни на минуту не забывалась. Она не сказала ему ни одного из тех милых слов радости, которыми так богата была Нехаева. Хотя Маргарита наслаждалась ласками грубо, но и в ней было что-то певучее, благодарное. Лидия любила, закрыв глаза, неутолимо, но безрадостно и нахмурясь. Сердитая складка разрезала ее высокий лоб, она уклонялась от поцелуев, крепко сжимая губы, отворачивая лицо в сторону. И когда она взмахивала длинными ресницами, Клим видел в темных глазах ее обжигающий, неприятный блеск. Все это уже не смущало его, не охлаждало сладострастия, а с каждым свиданием только больше разжигало. Но все более смущали и мешали ему назойливые расспросы Лидии. Сначала ее вопросы только забавляли своей наивностью, Клим посмеивался, вспоминая грубую пряность средневековых новелл. Постепенно эта наивность принимала характер цинизма, и Клим стал чувствовать за словами девушки упрямое стремление догадаться о чем-то ему неведомом и не интересном. Ему хотелось думать, что неприличное любопытство Лидии вычитано ею из французских книг, что она скоро устанет, замолчит. Но Лидия не уставала, требовательно глядя в глаза его, выспрашивала горячим шопотом:
— Что ты чувствуешь? Ты не можешь жить, не желая чувствовать этого, не можешь, да?
Он посоветовал:
— Любить надо безмолвно.
— Чтобы не лгать? — спросила она.
— Молчание — не ложь.
— Тогда оно — трусость, — сказала Лидия и начала снова допрашивать: — Когда тебе хорошо, — это помогает тебе понять меня как-то особенно? Что-нибудь изменилось во мне для тебя?
— Конечно, — ответил Клим и пожалел об этом, потому что она спросила:
— Как же? Что?
На эти вопросы он не умел ответить и с досадой, чувствуя, что это неуменье умаляет его в глазах девушки, думал:
— Может быть она для того и спрашивает, чтобы принизить его до себя?
— Брось, пожалуйста, — сказал он неласково. — Это — неуместные вопросы. И — детские.
— Так что ж? Мы с тобою бывшие дети.
Клим стал замечать в ней нечто похожее на бесплодные мудрствования, которыми он сам однажды болел. Порою она, вдруг впадая в полуобморочное состояние, неподвижно и молча лежала минуту, две, пять. В эти минуты он отдыхал и укреплялся в мысли, что Лидия — ненормальна, что ее безумства служат только предисловием к разговорам. Ласкала она исступленно, казалось даже, что она порою насилует, истязает себя. Но после этих припадков Клим видел, что глаза ее смотрят на него недружелюбно или вопросительно, и все чаще он подмечал в ее зрачках злые искры. Тогда, чтоб погасить эти искры, Клим Самгин тоже несколько насильно и сознательно начинал снова ласкать ее. А порою у него возникало желание сделать ей больно, отомстить за эти злые искры. Было неловко вспоминать, что когда-то она казалась ему бесплотной, невесомой. Он стал думать, что именно с этой девушкой хотелось ему создать какие-то особенные отношения глубокой, сердечной дружбы, — что именно она и только она поможет ему найти себя, остановиться на чем-то прочном. Да, не любви ее, странной и жуткой, искал он, а — дружбы. И вот он теперь обманут. В ответ на попытки заинтересовать ее своими чувствованиями, мыслями, он встречает молчание, а иногда усмешку, которая, обижая, гасила его речи в самом начале.
Ему казалось, что Лидия сама боится своих усмешек и злого огонька в своих глазах. Когда он зажигал огонь, она требовала:
— Погаси.
И в темноте он слышал ее шопот.
— И это — все? Для всех — одно: для поэтов, извозчиков, собак?
— Послушай, — говорил Клим. — Ты — декадентка. Это у тебя — болезненное…
— Но, Клим, не может же быть, чтоб это удовлетворяло тебя? Не может быть, чтоб ради этого погибали Ромео, Вертеры, Юлия и Манон!
— Я — не романтик, — ворчал Самгин и повторял ей: — Это у тебя дегенеративное.
Тогда она спрашивала:
— Я — жалкая, да? Мне чего-то нехватает? Скажи, чего у меня нет?
— Простоты, — отвечал Самгин, не умея ответить иначе.
— Той, что у кошек?
Он не решился сказать ей:
— Тем, что у кошек, ты обладаешь в избытке.
Неистово и даже озлобленно лаская ее, он мысленно внушал:
— Заплачь. Заплачь.
Она стонала, но не плакала, и Клим снова едва сдерживал желание оскорбить, унизить ее до слез.
Однажды, в темноте, она стала назойливо расспрашивать его: что испытал он, впервые обладая женщиной? Подумав, Клим ответил:
— Страх. И — стыд. А — ты? Там, наверху?
— Боль и отвращение, — тотчас же ответила она. — Страшное я почувствовала здесь, когда сама пришла к тебе.
Помолчав и отодвинувшись от него, она сказала:
— Это было даже и не страшно, а — больше. Это — как умирать. Наверное так чувствуют в последнюю минуту жизни, когда уже нет боли, а — падение. Полет в неизвестное, в непонятное.
И снова помолчав, она прошептала:
— И был момент, когда во мне что-то умерло, погибло. Какие-то надежды. Я — не знаю. Потом — презрение к себе. Не жалость. Нет, презрение. От этого я плакала, помнишь?
Жалея, что не видит лица ее, Клим тоже долго молчал, прежде чем найти и сказать ей неглупые слова:
— Это у тебя — не любовь, а исследование любви.
Она тихо и покорно прошептала:
— Обними меня. Крепче.
Несколько дней она вела себя смиренно, ни о чем не спрашивая и даже как будто сдержаннее в ласках, а затем Самгин снова услыхал в темноте ее горячий, царапающий шопот:
— Но согласись, что ведь этого мало для человека!
— Чего же тебе надо? — хотел спросить Клим, но, сдержав возмущение свое, не спросил.
Он чувствовал, что «этого» ему вполне достаточно и что все было бы хорошо, если б Лидия молчала. Ее ласки не пресыщали. Он сам удивлялся тому, что находил в себе силу для такой бурной жизни, и понимал, что силу эту дает ему Лидия, ее всегда странно горячее и неутомимое тело. Он уже начинал гордиться своей физической выносливостью и думал, что если б рассказать Макарову об этих ночах, чудак не поверил бы ему. Эти ночи совершенно поглотили его. Озабоченный желанием укротить словесный бунт Лидии, сделать ее проще, удобнее, он не думал ни о чем, кроме нее, и хотел только одного: чтоб она забыла свои нелепые вопросы, не сдабривала раздражающе-мутным ядом его медовый месяц.
Она не укрощалась, хотя сердитые огоньки в ее глазах сверкали как будто уже менее часто. И расспрашивала она не так назойливо, но у нее возникло новое настроение. Оно обнаружилось как-то сразу. Среди ночи она, вскочив с постели, подбежала к окну, раскрыла его и полуголая села на подоконник.
— Ты простудишься, свежо, — предупредил Клим.
— Какая тоска! — ответила она довольно громко. — Какая тоска в этих ночах, в этой немоте сонной земли и в небе. Я чувствую себя в яме… в пропасти.
«Ну, вот, теперь она воображает себя падшим ангелом», — подумал Самгин.
Его томило предчувствие тяжелых неприятностей, порою внезапно вспыхивала боязнь, что Лидия устанет и оттолкнет его, а иногда он сам хотел этого. Уже не один раз он замечал, что к нему возвращается робость пред Лидией и почти всегда вслед за этим ему хотелось резко оборвать ее, отомстить ей за то, что он робеет пред нею. Он видел себя поглупевшим и плохо понимал, что творится вокруг его. Да и не легко было понять значение той суматохи, которую неутомимо разжигал и раздувал Варавка. Почти ежедневно вечерами столовую наполняли новые для Клима люди, и, размахивая короткими руками, играя седеющей бородой, Варавка внушал им:
— Бестактнейшее вмешательство Витте в стачку ткачей придало стачке политический характер. Правительство как бы убеждает рабочих, что теория классовой борьбы есть — факт, а не выдумка социалистов, — понимаете?
Редактор молча и согласно кивал шлифованной головой, и лиловая губа его отвисала еще более обиженно.
Человек в бархатной куртке, с пышным бантом на шее, с большим носом дятла и чахоточными пятнами на желтых щеках, негромко ворчал:
— Классовая борьба — не утопия, если у одного собственный дом, а у другого только туберкулез.
Знакомясь с Климом, он протянул ему потную руку и, заглянув в лицо лихорадочными глазами, спросил:
— Нароков, Робинзон, — слышали?
Он был непоседлив; часто и стремительно вскакивал; хмурясь, смотрел на черные часы свои, закручивая реденькую бородку штопором, совал ее в изъеденные зубы, прикрыв глаза, болезненно сокращал кожу лица иронической улыбкой и широко раздувал ноздри, как бы отвергая некий неприятный ему запах. При второй встрече с Климом он сообщил ему, что за фельетоны Робинзона одна газета была закрыта, другая приостановлена на три месяца, несколько газет получили «предостережение», и во всех городах, где он работал, его врагами всегда являлись губернаторы.
— Мой товарищ, статистик, — недавно помер в тюрьме от тифа, — прозвал меня: «Бич губернаторов».
Трудно было понять, шутит он или серьезно говорит.
Клим сразу подметил в нем неприятную черту: человек этот рассматривал всех людей сквозь ресницы, насмешливо и враждебно.
Глубоко в кресле сидел компаньон Варавки по изданию газеты — Павлин Савельевич Радеев, собственник двух паровых мельниц, кругленький, с лицом татарина, вставленным в аккуратно подстриженную бородку, с ласковыми, умными глазами под выпуклым лбом. Варавка, видимо, очень уважал его, посматривая в татарское лицо вопросительно и ожидающе. В ответ на возмущение Варавки политическим цинизмом Константина Победоносцева Радеев сказал:
— Клоп тем и счастлив, что скверно пахнет.
Это была первая фраза, которую Клим услыхал из уст Радеева. Она тем более удивила его, что была сказана как-то так странно, что совсем не сливалась с плотной, солидной фигуркой мельника и его тугим, крепким лицом воскового или, вернее, медового цвета. Голосок у него был бескрасочный, слабый, говорил он на «о», с некоторой натугой, как говорят после длительной болезни.
— Это не с вас ли Боборыкин писал амбарного Сократа, «Василия Теркина»? — бесцеремонно спросил его Робинзон.
— Плохое сочинение, однако ж не без правды, — ответил Радеев, держа на животе пухлые ручки и крутя большие пальцы один вокруг другого. — Не с меня, конечно, а, полагаю, с натуры все-таки. И среди купечества народились некоторые размышляющие.
Самгин сначала подумал, что этот купец, должно быть, хитер и жесток. Когда заговорили о мощах Серафима Саровского, Радеев, вздохнув, сказал:
— Ой, не доведет нас до добра это сочинение мертвых праведников, а тем паче — живых. И ведь делаем-то мы это не по охоте, не по нужде, а по привычке, право, так! Лучше бы согласиться на том, что все — грешны, да и жить всем в одно грешное, земное дело.
Говорить он любил и явно хвастался тем, что может свободно говорить обо всем своими словами. Прислушавшись к его бесцветному голоску, к тихоньким, круглым словам, Самгин открыл в Радееве нечто приятное и примиряющее с ним.
— Вы, Тимофей Степанович, правильно примечаете: в молодом нашем поколении велик назревает раскол. Надо ли сердиться на это? — спросил он, улыбаясь янтарными глазками, и сам же ответил в сторону редактора: — А, пожалуй, не надо бы. Мне, вот, кажется, что для государства нашего весьма полезно столкновение тех, кои веруют по Герцену и славянофилам с опорой на Николая Чудотворца в лице мужичка, с теми, кои хотят веровать по Гегелю и Марксу с опорою на Дарвина.
Он передохнул, быстрее заиграл пальчиками и обласкал редактора улыбочкой, редактор подобрал нижнюю губу, а верхнюю вытянул по прямой линии, от этого лицо его стало короче, но шире и тоже как бы улыбнулось, за стеклами очков пошевелились бесформенные, мутные пятна.
— Это, конечно, главная линия раскола, — продолжал Радеев еще более певуче и мягко. — Но намечается и еще одна, тоже полезная: заметны юноши, которые учатся рассуждать не только лишь о печалях народа, а и о судьбах Российского государства, о великом Сибирском пути к Тихому океану и о прочем, столь же интересном.
Сделав паузу, должно быть, для того, чтоб люди вдумались в значительность сказанного им, мельник пошаркал по полу короткими ножками и продолжал:
— Индивидуалистическое настроение некоторых тоже не бесполезно, может быть, под ним прячется Сократово углубление в самого себя и оборона против софистов. Нет, молодежь у нас интересно растет и много обещает. Весьма примечательно, что упрямая проповедь Льва Толстого не находит среди юношей учеников и апостолов, не находит, как видим.
— Да, — сказал редактор и, сняв очки, обнаружил под ними кроткие глаза с расплывшимися зрачками сиреневого цвета.
Радеева всегда слушали внимательно, Варавка особенно впивался острым взглядом в медовое лицо мельника, в крепенькие, пиявистые губы его.
— Отлично мельник оники катает, — сказал он, масляно улыбаясь. — Зверски детская душа!
Клим Самгин отметил у Варавки и Радеева нечто общее: у Варавки были руки коротки, у мельника смешно коротенькие ножки.
А Иноков сказал о Радееве:
— Интересно посмотреть на него в бане; голый, он, вероятно, на самовар похож.
Иноков только что явился откуда-то из Оренбурга, из Тургайской области, был в Красноводске, был в Персии. Чудаковато одетый в парусину, серый, весь как бы пропыленный до костей, в сандалиях на босу ногу, в широкополой, соломенной шляпе, длинноволосый, он стал похож на оживший портрет Робинзона Крузо с обложки дешевого издания этого Евангелия непобедимых. Шагая по столовой журавлиным шагом, он сдирал ногтем беленьким чешуйки кожи с обожженного носа и решительно говорил:
— Все эти башкиры, калмыки — зря обременяют землю. Работать не умеют, учиться не способны. Отжившие люди. Персы — тоже.
Радеев смотрел на него благосклонно и шевелил гладко причесанными бровями, а Варавка подзадоривал:
— Что ж, по-вашему, куда их? Перебить? Голодом выморить?
— Осенние листья, — твердил Иноков, фыркая носом, как бы выдувая горячую пыль степи.
— Осенние листья, — мысленно повторял Клим, наблюдая непонятных ему людей и находя, что они сдвинуты чем-то со своих естественных позиций. Каждый из них, для того чтоб быть более ясным, требовал каких-то добавлений, исправлений. И таких людей мелькало пред ним все больше. Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных.
Сверху спускалась Лидия. Она садилась в угол, за роялью, и чужими глазами смотрела оттуда, кутая, по привычке, грудь свою газовым шарфом. Шарф был синий, от него на нижнюю часть лица ее ложились неприятные тени. Клим был доволен, что она молчит, чувствуя, что если б она заговорила, он стал бы возражать ей. Днем и при людях он не любил ее.
Мать вела себя с гостями важно, улыбалась им снисходительно, в ее поведении было нечто несвойственное ей, натянутое и печальное.
— Кушайте, — угощала она редактора, Инокова, Робинзона и одним пальцем подвигала им тарелки с хлебом, маслом, сыром, вазочки с вареньем. Называя Спивак Лизой, она переглядывалась с нею взглядом единомышленницы. А Спивак оживленно спорила со всеми, с Иноковым чаще других, вероятно, потому, что он ходил вокруг нее, как теленок, привязанный за веревку на кол.
Спивак чувствовала себя скорее хозяйкой, чем гостьей, и это заставляло Клима подозрительно наблюдать за нею.
Когда все чужие исчезали, Спивак гуляла с Лидией в саду или сидела наверху у нее. Они о чем-то горячо говорили, и Климу всегда хотелось незаметно подслушать — о чем?
— Посмотрите, интересно! — говорила она Климу и совала ему желтенькие книжки Рене Думика, Пеллисье, Франса.
«Что это она — воспитывает меня?» — соображал Самгин, вспоминая, как Нехаева тоже дарила ему репродукции с картин прерафаелитов, Рошгросса, Стука, Клингера и стихи декадентов.
«Каждый пытается навязать тебе что-нибудь свое, чтоб ты стал похож на него и тем понятнее ему. А я никому ничего не навязываю», — думал он с гордостью, но очень внимательно вслушивался в суждения Спивак о литературе, и ему нравилось, как она говорит о новой русской поэзии:
— Эти молодые люди очень спешат освободиться от гуманитарной традиции русской литературы. В сущности они пока только переводят и переписывают парижских поэтов, затем доброжелательно критикуют друг друга, говоря по поводу мелких литературных краж о великих событиях русской литературы. Мне кажется, что после Тютчева несколько невежественно восхищаться декадентами с Монмартра.
Изредка, осторожной походкой битого кота, в кабинет Варавки приходил Иван Дронов с портфелем подмышкой, чистенько одетый и в неестественно скрипучих ботинках. Он здоровался с Климом, как подчиненный с сыном строгого начальника, делая на курносом лице фальшиво-скромную мину.
— Как живешь? — спросил Самгин.
— Не плохо, благодарю вас, — ответил Дронов, сильно подчеркнув местоимение и этим смутил Клима. Дальше оба говорили на «вы», а, прощаясь, Дронов сообщил:
— Маргарита просила кланяться; она теперь учит рукоделию в монастырской школе.
— Да? — сказал Самгин.
— Да. Я с нею часто встречаюсь.
«Для чего он сказал мне это?» — обеспокоенно подумал Самгин, провожая его взглядом через очки, исподлобья.
И тотчас же забыл о Дронове. Лидия поглощала все его мысли, внушая все более тягостную тревогу. Ясно, что она — не та девушка, какой он воображал ее. Не та. Все более обаятельная физически, она уже начинала относиться к нему с обидным снисхождением, и не однажды он слышал в ее расспросах иронию:
— Ну, скажи, что же изменилось в тебе?
Он хотел сказать:
«Ничего».
Мог бы сказать:
«Я понял, что ошибся».
Но у него не было решимости сказать правду, да не было и уверенности, что это — правда и что нужно сказать ее. Он ответил:
— Рано говорить об этом.
— Во мне — ничего не изменилось, — подсказывала ему Лидия шопотом, и ее шопот в ночной, душной темноте становился его кошмаром. Было что-то особенно угнетающее в том, что она ставит нелепые вопросы свои именно шопотом, как бы сама стыдясь их, а вопросы ее звучали все бесстыдней. Однажды, когда он говорил ей что-то успокаивающее, она остановила его:
— Подожди — откуда это?
Подумала и нашла:
— Это из книги Стендаля «О любви».
Вскочив с постели, она быстро прошла по комнате, по густым и важным теням деревьев на полу. Ноги ее, в черных чулках, странно сливались с тенями, по рубашке, голубовато окрашенной лунным светом, тоже скользили тени; казалось, что она без ног и летит. Посмотрев в окно, она остановилась пред зеркалом, строго нахмурив брови. Она так часто и внимательно рассматривала себя в зеркале, что Клим находил это и странным и смешным. Стоит, закусив губы, подняв брови, и гладит грудь, живот, бедра. Кроме ее нагого тела в зеркале отражалась стена, оклеенная темными обоями, и было очень неприятно видеть Лидию удвоенной: одна, живая, покачивается на полу, другая скользит по неподвижной пустоте зеркала.
Клим неласково спросил ее:
— Ты думаешь, что уже беременна?
Руки ее опустились вдоль тела, она быстро обернулась, спросила испуганно:
— Что-о?
И присев на стул, сказала жалобным шопотом:
— Но ведь не всегда же родятся дети! И ведь еще нет шести недель…
— Ты что же? Боишься родить? — спросил Клим, с удовольствием дразня ее. — И при чем тут недели?
Она, не ответив, поспешно начала одеваться.
— А, помнишь, хотела мальчика и девочку?
Одевалась она так быстро, как будто хотела скорее спрятать себя.
— Хотела? — бормотала она. — Я не помню.
— Тебе было тогда лет десять.
— Теперь мальчики и девочки не нравятся мне.
И, согнувшись, надевая туфли, она сказала:
— Не все имеют право родить детей.
— Ух, какая философия!
— Да, — продолжала она, подойдя к постели. — Не все. Если ты пишешь плохие книги или картины, это ведь не так уж вредно, а за плохих детей следует наказывать.
Клим возмутился:
— Откуда у тебя эти старческие выдумки? Смешно слышать. Это Спивак говорит?
Она ушла легкой своей походкой, осторожно ступая на пальцы ног. Нехватало только, чтоб она приподняла юбку, тогда было бы похоже, что она идет по грязной улице.
Клим видел, что все чаще и с непонятной быстротою между ним и Лидией возникают неприятные беседы, но устранить это он не умел.
Как-то, отвечая на один из обычных ее вопросов, он небрежно посоветовал ей:
— Прочти «Гигиену брака», есть такая книжка, или возьми учебник акушерства.
Лидия села на постели, обняв колена свои, положив на них подбородок, и спросила:
— По-твоему, все сводится к акушерству? Зачем же тогда стихи? Что вызывает стихи?
— Это уж ты спроси у Макарова.
Усмехаясь, он прибавил:
— Маракуев очень удачно назвал Макарова «Провансальским трубадуром из Кривоколенного переулка».
Лидия повернулась к нему и, разглаживая острым ногтем мизинца брови его, сказала:
— Плохо ты говоришь. И всегда как будто сдаешь экзамен.
— Так и есть, — ответил Клим. — Потому что ты все допрашиваешь.
Голос ее зазвучал двумя нотами, как в детстве:
— Я часто соглашаюсь с тобой, но это для того, чтоб не спорить. С тобой можно обо всем спорить, но я знаю, что это бесполезно. Ты — скользкий… И у тебя нет слов, дорогих тебе.
— Не понимаю, зачем ты говоришь это, — проворчал Самгин, догадываясь, что наступает какой-то решительный момент.
— Зачем говорю? — переспросила она после паузы. — В одной оперетке поют: «Любовь? Что такое — любовь?» Я думаю об этом с тринадцати лет, с того дня, когда впервые почувствовала себя женщиной. Это было очень оскорбительно. Я не умею думать ни о чем, кроме этого.
Самгину показалось, что она говорит растерянно, виновато. Захотелось видеть лицо ее. Он зажег спичку, но Лидия, как всегда, сказала с раздражением, закрыв лицо ладонью:
— Не надо огня.
— Ты любишь играть в темную, — пошутил Клим и — раскаялся: глупо.
В саду шумел ветер, листья шаркали по стеклам, о ставни дробно стучали ветки, и был слышен еще какой-то непонятный, вздыхающий звук, как будто маленькая собака подвывала сквозь сон. Этот звук, вливаясь в шопот Лидии, придавал ее словам тон горестный.
— Не надо лгать друг другу, — слышал Самгин. — Лгут для того, чтоб удобнее жить, а я не ищу удобств, пойми это! Я не знаю, чего хочу. Может быть, ты прав: во мне есть что-то старое, от этого я и не люблю ничего, и все кажется мне неверным, не таким, как надо.
Впервые за все время связи с нею Клим услыхал в ее словах нечто понятное и родственное ему.
— Да, — сказал он, — многое выдумано, это я знаю.
И первый раз ему захотелось как-то особенно приласкать Лидию, растрогать ее до слез, до необыкновенных признаний, чтоб она обнажила свою душу так же легко, как привыкла обнажать бунтующее тело. Он был уверен, что сейчас скажет нечто ошеломляюще простое и мудрое, выжмет из всего, что испытано им, горький, но целебный сок для себя и для нее.
— Мне, вот, кажется, что счастливые люди, это — не молодые, а — пьяные, — продолжала она шептать. — Вы все не понимали Диомидова, думая, что он безумен, а он сказал удивительно: «Может быть, бог выдуман, но церкви — есть, а надо, чтобы были только бог и человек, каменных церквей не надо. Существующее — стесняет», — сказал он.
— Анархизм полуидиота, — торопливо молвил Клим. — Я знаю это, слышал: «дерево — дурак, камень — дурак» и прочее… чепуха!
Он чувствовал, что в нем вспухают значительнейшие мысли. Но для выражения их память злокозненно подсказывала чужие слова, вероятно, уже знакомые Лидии. В поисках своих слов и желая остановить шопот Лидии, Самгин положил руку на плечо ее, но она так быстро опустила плечо, что его рука соскользнула к локтю, а когда он сжал локоть, Лидия потребовала:
— Пусти.
— Почему?
— Я ухожу.
И ушла, оставив его, как всегда, в темноте, в тишине. Нередко бывало так, что она внезапно уходила, как бы испуганная его словами, но на этот раз ее бегство было особенно обидно, она увлекла за собой, как тень свою, все, что он хотел сказать ей. Соскочив с постели, Клим открыл окно, в комнату ворвался ветер, внес запах пыли, начал сердито перелистывать страницы книги на столе и помог Самгину возмутиться.
— Завтра объяснюсь с нею, — решил он, закрыв окно и ложась в постель. — Довольно капризов, болтовни…
Ему казалось, что настроение Лидии становится совершенно неуловимым и он уже называл его двуличным. Второй раз он замечал, что даже и физически Лидия двоится: снова, сквозь знакомые черты лица ее, проступает скрытое за ними другое лицо, чуждое ему. Ею вдруг овладевали припадки нежности к отцу, к Вере Петровне и припадки какой-то институтской влюбленности в Елизавету Спивак. Бывали дни, когда она смотрела на всех людей не своими глазами, мягко, участливо и с такой грустью, что Клим тревожно думал: вот сейчас она начнет каяться, нелепо расскажет о своем романе с ним и заплачет черными слезами. Ему очень нравились черные слезы, он находил, что это одна из его хороших выдумок.
Он особенно недоумевал, наблюдая, как заботливо Лидия ухаживает за его матерью, которая говорила с нею все-таки точно из милости, докторально, а смотрела не в лицо девушки, а в лоб или через голову ее.
Но вдруг эти ухаживания разрешились неожиданной и почти грубой выходкой. Как-то вечером, в столовой за чаем, Вера Петровна снисходительно поучала Лидию:
— Право критики основано или на твердой вере, или на точном знании. Я не чувствую твоих верований, а твои знания, согласись, недостаточны…
Лидия, не дослушав, задумчиво проговорила:
— Кучер Михаил кричит на людей, а сам не видит, куда нужно ехать, и всегда боишься, что он задавит кого-нибудь. Он уже совсем плохо видит. Почему вы не хотите полечить его?
Вопросительно взглянув на Варавку, Вера Петровна пожала плечами, а Варавка пробормотал:
— Лечить? Ему шестьдесят четыре года… От этого не вылечишь.
Лидия ушла, а через несколько минут явилась в саду, оживленно разговаривая со Спивак, и Клим слышал ее вопрос:
— А почему я должна исправлять чужие ошибки?
Иногда Клим чувствовал, что Лидия относится к нему так сухо и натянуто, как будто он оказался виноват в чем-то пред нею и хотя уже прощен, однако, простить его было нелегко.
Вспомнив все это, он подумал еще раз:
«Да, завтра же объяснюсь».
Утром, за чаем, Варавка, вытряхивая из бороды крошки хлеба, сообщил Климу:
— Сегодня знакомлю редакцию с культурными силами города. На семьдесят тысяч жителей оказалось четырнадцать сил, н-да, брат! Три силы состоят под гласным надзором полиции, а остальные, наверное, почти все под негласным. Зер комиш…
Задумался, выжал в свой стакан чая половинку лимона и сказал, вздохнув:
— Государство наше воистину, брат, оригинальнейшее государство, головка у него не по корпусу — мала. Послал Лидию на дачу приглашать писателя Катина. Что же ты, будешь критику писать, а?
— Попробую, — ответил Клим.
Вечер с четырнадцатью силами напомнил ему субботние заседания вокруг кулебяки у дяди Хрисанфа.
Сильно постаревший адвокат Гусев отрастил живот и, напирая им на хрупкую фигурку Спивака, вяло возмущался распространением в армии балалаек:
— Свирель, рожок, гусли, — вот истинно-народные инструменты. Наш народ — лирик, балалайка не отвечает духу его…
Спивак, глядя в грудь его черными стеклами очков, робко ответил:
— Я думаю, что это не правда, а привычка говорить: народное вместо — плохое.
И обратился к жене:
— Я пойду послушаю: не плачет ли?
Он убежал, а Гусев начал доказывать статистику Костину, человеку с пухлым, бабьим лицом:
— Я, конечно, согласен, что Александр Третий был глупый царь, но все-таки он указал нам правильный путь погружения в национальность.
Статистик, известный всему городу своей привычкой сидеть в тюрьме, добродушно посмеивался, перечисляя:
— Церковно-приходские школы, водочная монополия…
Вмешался Робинзон:
— Уж если погружаться в национальность, так нельзя и балалайку отрицать.
Костин, перебивая Робинзона, выкрикивал:
— Вся эта политика всовывания соломинок в колеса истории…
Угрюмо усмехаясь, Иноков сказал Климу:
— Тюремный сиделец говорит об истории, точно верный раб о своей барыне…
Иноков был зловеще одет в черную, суконную рубаху, подпоясанную широким ремнем, черные брюки его заправлены в сапоги; он очень похудел и, разглядывая всех сердитыми глазами, часто, вместе с Робинзоном, подходил к столу с водками. И всегда за ними боком, точно краб, шел редактор. Клим дважды слышал, как он говорил фельетонисту вполголоса:
— Вы, Нароков, не очень налегайте, вам — вредно.
У стола командовал писатель Катин. Он — не постарел, только на висках явились седенькие язычки волос и на упругих щечках узоры красных жилок. Он мячиком катался из угла в угол, ловил людей, тащил их к водке и оживленно, тенорком, подшучивал над редактором:
— Растрясем обывателя, Максимыч? Взбучим? Ты только марксизма не пущай! Не пустишь? То-то! Я — старовер…
И закусывая, жмурясь от восторга, говорил:
— Нет, это все-таки гриб фабричный, не вдохновляет! А вот сестра жены моей научилась грибы мариновать — знаменито!
Помощник Гусева, молодой адвокат Правдин, застегнутый в ловко сшитую визитку, причесанный и душистый, как парикмахер, внушал Томилину и Костину:
— Неоспоримые нормы права…
Томилин усмехался медной усмешкой, а Костин, ласково потирая свои неестественно развитые ягодицы, возражал мягким тенорком:
— Вот в этих нормах ваших и спрятаны все основы социального консерватизма.
Вдова нотариуса Козакова, бывшая курсистка, деятельница по внешкольному воспитанию, женщина в пенснэ, с красивым и строгим лицом, доказывала редактору, что теории Песталоцци и Фребеля неприменимы в России.
— У нас есть Пирогов, есть…
Робинзон перебил ее, напомнив, что Пирогов рекомендовал сечь детей, и стал декламировать стихи Добролюбова:
Но не тем сечением обычным, Как секут повсюду дураков, А таким, какое счел приличным Николай Иванович Пирогов.— Стихи — скверные, а в Европе везде секут детей, — решительно заявила Козакова.
Доктор Любомудров усумнился:
— Везде ли? И, кажется, не секут, а бьют линейкой по рукам.
— И — секут, — настаивала Козакова. — И в Англии секут.
Одетый в синий пиджак мохнатого драпа, в тяжелые брюки, низко опустившиеся на тупоносые сапоги, Томилин ходил по столовой, как по базару, отирал платком сильно потевшее, рыжее лицо, присматривался, прислушивался и лишь изредка бросал снисходительно коротенькие фразы. Когда Правдин, страстный театрал, крикнул кому-то:
— Позвольте, это предрассудок, что театр — школа, театр — зрелище! — Томилин сказал, усмехаясь:
— Вся жизнь — зрелище.
Капитан Горталов, бывший воспитатель в кадетском корпусе, которому запретили деятельность педагога, солидный краевед, талантливый цветовод и огородник, худощавый, жилистый, с горячими глазами, доказывал редактору, что протуберанцы являются результатом падения твердых тел на солнце и расплескивания его массы, а у чайного стола крепко сидел Радеев и говорил дамам:
— Будучи несколько, — впрочем, весьма немного, — начитан и зная Европу, я нахожу, что в лице интеллигенции своей Россия создала нечто совершенно исключительное и огромной ценности. Наши земские врачи, статистики, сельские учителя, писатели и вообще духовного дела люди сокровище необыкновенное…
— Шутит? Иронизирует? — догадывался Клим Самгин, слушая гладенький, слабый голосок.
Капитан Горталов парадным шагом солдата подошел к Радееву, протянул ему длинную руку:
— Правильная оценка. Прекрасная идея. Моя идея. И поэтому: русская интеллигенция должна понять себя, как некое единое целое. Именно. Как, примерно, орден иоаннитов, иезуитов, да! Интеллигенция вся должна стать единой партией, а не дробиться! Это внушается нам всем ходом современности. Это должно бы внушать нам и чувство самосохранения. У нас нет друзей, мы — чужестранцы. Да. Бюрократы и капиталисты порабощают нас. Для народа мы — чудаки, чужие люди.
— Верно, — чужие! — лирически воскликнул писатель Катин, уже несколько охмелевший.
В словах капитана было что-то барабанное, голос его оглушал. Радеев, кивая головой, осторожно отодвигался вместе со стулом и бормотал:
— Тут нужна поправочка…
Пришел Спивак, наклонился к жене и сказал:
— Спит. Крепко спит.
Все эти люди нимало не интересовали Клима, еще раз воскрешая в памяти детское впечатление: пойманные пьяным рыбаком раки, хрустя хвостами, расползаются во все стороны по полу кухни. Равнодушно слушая их речи, уклоняясь от участия в спорах, он присматривался к Инокову. Ему не понравилось, что Иноков ездил с Лидией на дачу приглашать писателя Катина, не нравилось, что этот грубый парень так фамильярно раскачивается между Лидией и Спивак, наклоняясь с усмешечкой то к одной, то к другой. В начале вечера с такой же усмешечкой Иноков подошел к нему и спросил:
— Выставили из университета?
Неожиданность и форма вопроса ошеломили Клима, он взглянул в неудачное лицо парня вопросительно.
— Бунтовали? — снова спросил тот, а когда Клим сказал ему, что он в этот семестр не учился, Иноков бесцеремонно поставил третий вопрос:
— Из осторожности не учились?
— Причем тут осторожность? — сухо осведомился Клим.
— Чтоб не попасть в историю, — объяснил Иноков и повернулся спиною.
А через несколько минут он рассказывал Вере Петровне, Лидии и Спивак:
— Прошло месяца два, возвратился он из Парижа, встретил меня на улице, зовет: приходите, мы с женой замечательную вещь купили! Пришел я, хочу сесть, а он пододвигает мне странного вида легкий стульчик на тонких, золоченых ножках, с бархатным сидением: садитесь, пожалуйста! Я отказываюсь, опасаясь, как бы не сломать столь изящную штуку, — нет! Садитесь — просит! Сел я, и вдруг подо мною музыка заиграла что-то очень веселое. Сижу, чувствую, что покраснел, а он с женою оба смотрят на меня счастливыми глазами и смеются, рады, как дети! Встал я, музыка умолкла. Нет, говорю, это мне не нравится, я привык музыку слушать ушами. Обиделись.
Этот грубый рассказ, рассмешив мать и Спивак, заставил и Лидию усмехнуться, а Самгин подумал, что Иноков ловко играет простодушного, на самом же деле он, должно быть, хитер и зол. Вот он говорит, поблескивая холодными глазами:
— Да, съездили люди в самый великолепный город Европы, нашли там самую пошлую вещь, купили и — рады. А вот, — он подал Спивак папиросницу, — вот это сделал и подарил мне один чахоточный столяр, женатый, четверо детей.
Папиросницей восхищались. Клим тоже взял ее в руки, она была сделана из корневища можжевельника, на крышке ее мастер искусно вырезал маленького чортика, чортик сидел на кочке и тонкой камышинкой дразнил цаплю.
— Двое суток, день и ночь резал, — говорил Иноков, потирая лоб и вопросительно поглядывая на всех. — Тут, между музыкальным стульчиком и этой штукой, есть что-то, чего я не могу понять. Я, вообще, многого не понимаю.
Он широко усмехнулся, потряс головой и закурил папиросу, а горящую спичку погасил, сжав ее пальцами, и уже потом бросил ее на чайное блюдечко.
— Сначала ты смотришь на вещи, а потом они на тебя. Ты на них — с интересом, а они — требовательно: отгадай, чего мы стоим? Не денежно, а душевно. Пойду, выпью водки…
Самгин пошел за ним. У стола с закусками было тесно и ораторствовал Варавка со стаканом вина в одной руке, а другою положив бороду на плечо и придерживая ее там:
— Студенческие беспорядки, это — выражение оппозиционности эмоциональной. В юности люди кажутся сами себе талантливыми, и эта кажимость позволяет им думать, что ими управляют бездарности.
Он отхлебнул глоток вина и продолжал, повысив голос:
— А так как власть у нас, действительно, бездарна, то эмоциональная оппозиционность нашей молодежи тем самым очень оправдывается. Мы были бы и смирнее и умнее, будь наши государственные люди талантливы, как, например, в Англии. Но — государственных талантов у нас — нет. И вот мы поднимаем на щитах даже такого, как Витте.
Бесцеремонно растолкав людей, Иноков прошел к столу и там, наливая водку, сказал вполголоса Климу:
— Здорово сделан отчим ваш. А кто этот рыжий?
— Бывший учитель мой, философ.
— Болван, должно быть.
Самгин хотел рассердиться, но видя, что Иноков жует сыр, как баран траву, решил, что сердиться бесполезно.
— А где Сомова? — спросил он.
— Не знаю, — равнодушно ответил Иноков. — Кажется, в Казани на акушерских курсах. Я ведь с ней разошелся. Она все заботится о конституции, о революции. А я еще не знаю, нужна ли революция…
— Экий нахал, — подумал Самгин, слушая глуховатый, ворчливый голос.
— Если революции хотят ради сытости, я — против, потому что сытый я хуже себя голодного.
Клим соображал: как бы сконфузить, разоблачить хитрого бродягу, который так ловко играет роль простодушного парня? Но раньше, чем он успел придумать что-нибудь, Иноков сказал, легонько ударив его по плечу:
— Интересно мне знать, Самгин, о чем вы думаете, когда у вас делается такое щучье лицо?
Клим, нахмурясь, отодвинулся, а Иноков, смазывая кусок ржаного хлеба маслом, раздумчиво продолжал:
— С неделю тому назад сижу я в городском саду с милой девицей, поздно уже, тихо, луна катится в небе, облака бегут, листья падают с деревьев в тень и свет на земле; девица, подруга детских дней моих, проститутка-одиночка, тоскует, жалуется, кается, вообще роман, как следует ему быть. Я — утешаю ее: брось, говорю, перестань! Покаяния двери легко открываются, да что толку?.. Хотите выпить? Ну, а я выпью.
Прищурив левый глаз, он выпил и сунул в рот маленький кусочек хлеба с маслом, это не помешало ему говорить:
— Вдруг — идете вы с таким вот щучьим лицом, как сейчас. Эх, думаю, пожалуй, не то говорю я Анюте, а вот этот знает, что надо сказать! Что бы вы, Самгин, сказали такой девице, а?
— Вероятно, то же, что и вы, — любезно ответил Клим, чувствуя, что у него пропало желание разоблачать хитрости Инокова.
— То же? — переспросил Иноков. — Не верю. Нет, у вас что-то есть про себя, должно быть что-то…
Клим улыбнулся, сообразив, что в этом случае улыбка будет значительнее слов, а Иноков снова протянул руку к бутылке, но отмахнулся от нее и пошел к дамам.
— Женолюбив, — подумал Клим, но уже снисходительно.
Как прежде, он часто встречал Инокова на улицах, на берегу реки среди грузчиков или в стороне от людей. Стоит вкопанно в песок по щиколотку, жует соломину, перекусывает ее, выплевывая кусочки, или курит и, задумчиво прищурив глаза, смотрит на муравьиную работу людей. Всегда он почему-то испачкан пылью, а широкая, мятая шляпа делает его похожим на факельщика. Видел его выходящим из пивной рядом с Дроновым, Дронов, хихикая, делал правой рукой круглые жесты, как бы таская за волосы кого-то невидимого, а Иноков сказал:
— Вот именно. Может быть, это только кажется, что толчемся на месте, а в самом-то деле восходим куда-то по спирали.
На улице он говорил так же громко и бесцеремонно, как в комнате, и разглядывал встречных людей в упор, точно заплутавшийся, который ищет: кого спросить, куда ему итти?
Нельзя было понять, почему Спивак всегда подчеркивает Инокова, почему мать и Варавка явно симпатизируют ему, а Лидия часами беседует с ним в саду и дружелюбно улыбается? Вот и сейчас улыбается, стоя у окна пред Иноковым, присевшим на подоконник с папиросой в руке.
— Да, с нею необходимо объясниться…
Он сделал это на следующий день; тотчас же после завтрака пошел к ней наверх и застал ее одетой к выходу в пальто, шляпке, с зонтиком в руках; мелкий дождь лизал стекла окон.
— Куда это ты?
— В канцелярию губернатора, за паспортом.
Она улыбнулась.
— Как ты смешно удивился. Ведь я тебе сказала, что Алина зовет меня в Париж, и отец отпустил…
— Это неправда! — гневно возразил Клим, чувствуя, что у него дрожат ноги. — Ты ни слова не говорила мне… впервые слышу! Что ты делаешь? — возмущенно спросил он.
Лидия присела на стул, бросив зонт на диван; ее смуглое, очень истощенное лицо растерянно улыбалось, в глазах ее Клим видел искреннее изумление.
— Как это странно! — тихо заговорила она, глядя в лицо его и мигая. — Я была уверена, что сказала тебе… что читала письмо Алины… Ты не забыл?..
Клим отрицательно покачал головой, а она встала и, шагая по комнате, сказала:
— Видишь ли, как это случилось, — я всегда так много с тобой говорю и спорю, когда я одна, что, мне кажется, ты все знаешь… все понял.
— Я бы тоже поехал с тобой, — пробормотал Клим, не веря ей.
— А университет? Тебе уже пора ехать в Москву… Нет, как это странно вышло у меня! Говорю тебе, — я была уверена…
— Но когда же мы обвенчаемся? — спросил Клим сердито и не глядя на нее.
— Что-о? — спросила она, остановясь. — Разве ты… разве мы должны? — услыхал он ее тревожный шопот.
Она стояла пред ним, широко открыв глаза, у нее дрожали губы и лицо было красное.
— Почему венчаться? Ведь я не беременна…
Это прозвучало так обиженно, как будто было сказано не ею. Она ушла, оставив его в пустой, не прибранной комнате, в тишине, почти не нарушаемой робким шорохом дождя. Внезапное решение Лидии уехать, а особенно ее испуг в ответ на вопрос о женитьбе так обескуражили Клима, что он даже не сразу обиделся. И лишь посидев минуту, две в состоянии подавленности, сорвал очки с носа и, до боли крепко пощипывая усы, начал шагать по комнате, возмущенно соображая:
— Разрыв?
Он тотчас же напомнил себе, что ведь и сам думал о возможности разрыва этой связи.
— Да, думал! Но — только в минуты, когда она истязала меня нелепыми вопросами. Думал, но не хотел, я не хочу терять ее.
Остановясь перед зеркалом, он воскликнул:
— И уж если разрыв, так инициатива должна была исходить от меня, а не от нее.
Он оглянулся, ему показалось, что он сказал эти слова вслух очень громко. Горничная, спокойно вытиравшая стол, убедила его, что он кричал мысленно. В зеркале он видел лицо свое бледным, близорукие глаза растерянно мигали. Он торопливо надел очки, быстро сбежал в свою комнату и лег, сжимая виски ладонями, закусив губы.
Через полчаса он убедил себя, что его особенно оскорбляет то, что он не мог заставить Лидию рыдать от восторга, благодарно целовать руки его, изумленно шептать нежные слова, как это делала Нехаева. Ни одного раза, ни на минуту не дала ему Лидия насладиться гордостью мужчины, который дает женщине счастье. Ему было бы легче порвать связь с нею, если бы он испытал это наслаждение.
— Ни одной искренней ласки не дала она мне, — думал Клим, с негодованием вспоминая, что ласки Лидии служили для нее только материалом для исследования их.
— Нитчше прав: к женщине надо подходить с плетью в руке. Следовало бы прибавить: с конфектой в другой.
Постепенно успокаиваясь, он подумал, что связь с нею, уже и теперь тревожная, в дальнейшем стала бы невыносимой, ненавистной. Вероятно, Лидия, в нелепых поисках чего-то, якобы скрытого за физиологией пола, стала бы изменять ему.
— Макаров говорил, что Дон-Жуан — не романтик, а искатель неведомых, неиспытанных ощущений, и что такой же страстью к поискам неиспытанного, вероятно, болеют многие женщины, например — Жорж Занд, — размышлял Самгин. — Макаров, впрочем, не называл эту страсть болезнью, а Туробоев назвал ее «духовным вампиризмом». Макаров говорил, что женщина полусознательно стремится раскрыть мужчину до последней черты, чтоб понять источник его власти над нею, понять, чем он победил ее в древности.
Клим Самгин крепко закрыл глаза и обругал Макарова:
— Идиот. Что может быть глупее романтика, изучающего гинекологию? Насколько проще и естественнее Кутузов, который так легко и быстро отнял у Дмитрия Марину, Иноков, отказавшийся от Сомовой, как только он увидал, что ему скучно с ней.
Мысли Самгина принимали все более воинственный характер. Он усиленно заботился обострить их, потому что за мыслями у него возникало смутное сознание серьезнейшего проигрыша. И не только Лидия проиграна, потеряна, а еще что-то, более важное для него. Но об этом он не хотел думать и как только услышал, что Лидия возвратилась, решительно пошел объясняться с нею. Уж если она хочет разойтись, так пусть признает себя виновной в разрыве и попросит прощения…
Лидия писала письмо, сидя за столом в своей маленькой комнате. Она молча взглянула на Клима через плечо и вопросительно подняла очень густые, но легкие брови.
— Нам следует поговорить, — сказал Клим, садясь к столу.
Положив перо, она подняла руки над головой, потянулась и спросила:
— О чем?
— Необходимо, — сказал Клим, стараясь смотреть в лицо ее строгим взглядом.
Сегодня она была особенно похожа на цыганку: обильные, курчавые волосы, которые она никогда не могла причесать гладко, суховатое, смуглое лицо с горячим взглядом темных глаз и длинными ресницами, загнутыми вверх, тонкий нос и гибкая фигура в юбке цвета бордо, узкие плечи, окутанные оранжевой шалью с голубыми цветами.
Раньше чем Самгин успел найти достаточно веские слова для начала своей речи, Лидия начала тихо и серьезно:
— Мы говорили так много…
— Позволь! Нельзя обращаться с человеком так, как ты со мной, — внушительно заговорил Самгин. — Что значит это неожиданное решение — в Париж?
Но она, не слушая его, продолжала таким тоном, как будто ей было тридцать лет:
— Кроме того, я беседовала с тобою, когда, уходя от тебя, оставалась одна. Я — честно говорила и за тебя… честнее, чем ты сам мог бы сказать. Да, поверь мне! Ты ведь не очень… храбр. Поэтому ты и сказал, что «любить надо молча». А я хочу говорить, кричать, хочу понять. Ты советовал мне читать «Учебник акушерства»…
— Не будь злопамятна, — сказал Самгин.
Лидия усмехнулась, спрашивая:
— Разве ты со зла советовал мне читать «Гигиену брака»? Но я не читала эту книгу, в ней ведь наверное не объяснено, почему именно я нужна тебе для твоей любви? Это — глупый вопрос? У меня есть другие глупее этого. Вероятно, ты прав: я дегенератка, декадентка и не гожусь для здорового, уравновешенного человека. Мне казалось, что я найду в тебе человека, который поможет… впрочем, я не знаю, чего ждала от тебя.
Она встала, выпрямилась, глядя в окно, на облака цвета грязного льда, а Самгин сердито сказал:
— Ведь и я тоже… думал, что ты будешь хорошим другом мне…
Задумчиво глядя на него, она продолжала тише:
— Ты посмотри, как все это быстро… точно стружка вспыхнула… — и — нет!
Смуглое лицо ее потемнело, она отвела взгляд от лица Клима и встала, выпрямилась.
Самгин тоже встал, ожидая слов, обидных для него.
— Не радостно жить, ничего не понимая, в каком-то тумане, где изредка, на минуту вспыхивает жгучий огонек.
— Ты очень мало знаешь, — сказал он, вздохнув, постукивая пальцами по колену. Нет, Лидия не позволяла обидеться на нее, сказать ей какие-то резкие слова.
— А что нужно знать? — спросила она.
— Надобно учиться.
— Да? Всю жизнь чувствовать себя школьницей?
Усмехнулась, глядя в окно, в пестрое небо.
— Мне кажется, что все, что я уже знаю — не нужно знать. Но все-таки я попробую учиться, — слышал он задумчивые слова. — Не в Москве, суетливой, а, может быть, в Петербурге. А в Париж нужно ехать, потому что там Алина, и ей — плохо. Ты ведь знаешь, что я люблю ее…
— За что? — хотел спросить Самгин, но вошла горничная и попросила Лидию сойти вниз, к Варавке.
С лестницы сошли рядом и молча. Клим постоял в прихожей, глядя, как по стене вытянулись на вешалке различные пальто, было в них нечто, напоминающее толпу нищих на церковной паперти, безголовых нищих.
— Нет, все это не так, не договорено, — решил он и, придя в свою комнату, сел писать письмо Лидии. Писал долго, но, прочитав исписанные листки, нашел, что его послание сочинили двое людей, одинаково не похожие на него: один неудачно и грубо вышучивал Лидию, другой жалобно и неумело оправдывал в чем-то себя.
— Но я же ни в чем не виноват пред нею, — возмутился он, изорвал письмо и тотчас решил, что уедет в Нижний-Новгород, на Всероссийскую выставку. Неожиданно уедет, как это делает Лидия, и уедет прежде, чем она соберется за границу. Это заставит ее понять, что он не огорчен разрывом. А, может быть, она поймет, что ему тяжело, изменит свое решение и поедет с ним?
Но когда он сказал Лидии, что послезавтра уезжает, она заметила очень равнодушно:
— Как хорошо, что у нас это вышло без драматических сцен. Я ведь думала, что сцены будут.
Обняв, она крепко поцеловала его в губы.
— Мы расстаемся друзьями? Потом встретимся снова, более умные, да? И, может быть, иначе посмотрим друг на друга?
Клим был несколько тронут или удивлен и словами ее и слезинками в уголках глаз, он сказал тихонько, упрашивая:
— Не лучше ли тебе ехать со мной?
— Нет! — сказала она решительно. — Нет, не надо! Ты помешаешь мне.
И быстро вытерла глаза. Опасаясь, что он скажет ей нечто неуместное, Клим тоже быстро поцеловал ее сухую, горячую руку. Потом, расхаживая по своей комнате, он соображал:
— В сущности, она несчастная, вот что. Пустоцвет. Бездушна она. Умствует, но не чувствует…
Остановился среди комнаты, снял очки и, раскачивая их, оглядываясь, подумал почти вслух:
— Но — как быстро разыгралось все это. Действительно, как стружки сгорели.
Он чувствовал себя растерявшимся, но в то же время чувствовал, что для него наступили дни отдыха, в котором он уже нуждался.
III.
Через несколько дней Клим Самгин подъезжал к Нижнему-Новгороду. Версты за три до вокзала поезд, туго набитый людьми, покатился медленно, как будто машинист хотел, чтоб пассажиры лучше рассмотрели на унылом поле, среди желтых лысин песка и грязно-зеленых островов дерна, пестрое скопление новеньких, разнообразно-вычурных построек.
Рядом с рельсами, несколько ниже насыпи, ослепительно сияло на солнце здание машинного отдела, построенное из железа и стекла, похожее формой на огромное корыто, опрокинутое вверх дном; сквозь стекла было видно, что внутри здания медленно двигается сборище металлических чудовищ, толкают друг друга пленные звери из железа. Полукольцом изогнулся одноэтажный павильон сельского хозяйства, украшенный деревянной резьбой в том русском стиле, который выдумал немец Ропет. Возвышалось, подавляя друг друга, еще много капризно разбросанных построек необыкновенной архитектуры, некоторые из них напоминали о приятном искусстве кондитера, и, точно гигантский кусок сахара, выделялся из пестрой их толпы белый особняк художественного отдела. Сверкал и плавился на солнце двуглавый золотой орел на вышке царского павильона, построенного в стиле теремов, какие изображаются на картинках детских сказок. А над золотым орлом в голубоватом воздухе вздулся серый пузырь воздушного шара, привязанный на длинной веревке.
Неспешное движение поезда заставляло этот городок медленно кружиться: казалось, что все его необыкновенные постройки вращаются вокруг невидимой точки, сменяют места свои, заслоняя друг друга, скользят между песчаных дорожек и небольших площадей. Это впечатление спутанного хоровода, ленивой, но мощной толкотни, усиливали игрушечные фигурки людей, осторожно шагавших между зданий, по изогнутым путям; людей было немного и лишь редкие из них торопливо разбегались в разных направлениях, большинство же вызывало мысль о заплутавшихся, ищущих. Люди казались менее подвижны, чем здания, здания показывали и прятали их за углами своими.
Это полусказочное впечатление тихого, но могучего хоровода осталось у Самгина почти на все время его жизни в странном городе, построенном на краю бесплодного, печального поля, которое вдали замкнула синеватая щетина соснового леса — «Савелова грива» — и за невидимой Окой — «Дятловы горы», где, среди зелени садов, прятались домики и церкви Нижнего-Новгорода.
Остановясь в одной из деревянных, наскоро сшитых гостиниц, в которой все скрипело, потрескивало и в каждом звуке чувствовалось что-то судорожное, Самгин быстро вымылся, переоделся, выпил стакан теплого чая и тотчас пошел на выставку; до нее было не более трехсот шагов.
Возвратился он к вечеру, ослепленный, оглушенный, чувствуя себя так, точно побывал в далекой, неведомой ему стране. Но это ощущение насыщенности не тяготило, а, как бы расширяя Клима, настойчиво требовало формы и обещало наградить большой радостью, которую он уже смутно чувствовал.
Оформилась она не скоро, в один из ненастных дней не очень ласкового лета. Клим лежал на постели, кутаясь в жидкое одеяло, набросив сверх него пальто. Хлестал по гулким крышам сердитый дождь, гремел гром, сотрясая здание гостиницы, в щели окон свистел и фыркал мокрый ветер. В трех местах с потолка на пол равномерно падали тяжелые капли воды, от которой исходил запах клеевой краски и болотной гнили.
Клим Самгин видел, что пред ним развернулась огромная, фантастически-богатая страна, бытия которой он не подозревал; страна разнообразнейшего труда, вот — она собрала продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой. Можно думать, что красивенькие здания намеренно построены на унылом поле, о бок с бедной и грязной слободой, уродливо-безличные жилища которой скучно рассеяны по песку, намытому Волгой и Окой, и откуда в хмурые дни, когда с Волги дул горячий «низовой» ветер, летела серая, колючая пыль.
В этом соседстве богатства страны и бедности каких-то людишек ее как будто был скрыт хвастливый намек:
— Живем — плохо, а работаем — вот как хорошо!
Не так нарядно и хвастливо, но еще более убедительно кричала о богатстве страны ярмарка. Приземистые, однообразно желтые ряды ее каменных лавок, открыв широкие пасти дверей, показывали в пещерном сумраке груды разнообразно обработанных металлов, груды полотен, ситца, шерстяных материй. Блестел цветисто расписанный фарфор, сияли зеркала, отражая все, что двигалось мимо них, рядом с торговлей церковной утварью торговали искусно граненым стеклом, а напротив огромных витрин, тесно заставленных бокалами и рюмками, блестел фаянс, приспособленный для уборных. В этом соседстве церковного с домашним Клим Самгин благосклонно отметил размашистое бесстыдство торговли.
Людей на ярмарке было больше, чем на выставке, вели они себя свободнее, шумнее и все казались служащими торговле с радостью. Поражало разнообразие типов, обилие иностранцев, инородцев, тепло одетых жителей Востока, слух ловил чужую речь, глаз — необыкновенные фигуры и лица. Среди русских нередко встречались сухощавые бородачи, неприятно напоминавшие дьякона, и тогда Самгин не надолго, на минуты, но тревожно вспоминал, что такую могучую страну хотят перестроить на свой лад люди о трех пальцах, расстриженные дьякона, истерические пьяницы, веселые студенты, каков Маракуев и прочие. Поярков, которого Клим считал бесцветным, изящный, солидненький Прейс, который, наверно, будет профессором, эти двое не беспокоили Клима. Самоуверенный, цифролюбивый Кутузов поблек в памяти, да Клим и не любил думать о нем.
Глядя в деревянный, из палубной рейки, потолок, он следил, как по щелям стекает вода и, собираясь в стеклянные крупные шарики, падает на пол, образуя лужи.
Вспоминался блеск холодного оружия из Златоуста; щиты ножей, вилок, ножниц и замков из Павлова, Вачи, Ворсмы; в павильоне военно-морском, орнаментированном ружейными патронами, саблями и штыками, показывали длинногорлую, чистенькую пушку из Мотовилихи, блестящую и холодную, как рыба. Коренастый, точно из бронзы вылитый матрос, поглаживая синий подбородок, подкручивая черные усы, снисходительно и смешно объяснял публике:
— Этое орудие зарьяжается с этого места, вот этим снарьядом, который вам даже не поднять, и палит в данном направлении по цели, значить — по врагу. Господин, не тыкайте палочкой, нельзя!
Блестела золотая парча, как ржаное поле в июльский вечер на закате солнца, полосы глазета напоминали о голубоватом свете лунных ночей зимы, разноцветные материи — осеннюю расцветку лесов; поэтические сравнения эти явились у Клима после того, как он побывал в отделе живописи, где «объясняющий господин», лобастый, длинноволосый и тощий, с развинченным телом, восторженно рассказывая публике о пейзаже Нестерова, Левитана, назвал Русь парчевой, ситцевой и наконец:
— Чудесно вышитой по бархату земному шелками разноцветными, рукою величайшего из художников — божьей рукой.
Клим испытал гордость патриота, рассматривая в павильоне Средней Азии грубые подделки немцев под русскую парчу для Хивы и Бухары, под яркие ситцы Морозовых и цветистый фарфор Кузнецовых.
Игрушки и машины, колокола и экипажи, работы ювелиров и рояли, цветистый казанский сафьян, такой ласковый наощупь, горы сахара, огромные кучи пеньковых веревок и просмоленных канатов, часовня, построенная из стеариновых свеч, изумительной красоты меха Сорокоумовского и железо с Урала, кладки ароматного мыла, отлично дубленые кожи, изделия из щетины, — пред этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей и, глядя на грандиозный труд своей родины, несколько смущали Самгина, охлаждая молчанием своим его возвышенное настроение.
Редко слышал он возгласы восторга, а если они раздавались, то чаще всего из уст женщин пред витринами текстильщиков и посудников, парфюмеров, ювелиров и меховщиков. Впрочем, можно было думать, что большинство людей немело от обилия впечатлений. Но иногда Климу казалось, что только похвалы женщин звучат искренней радостью, а в суждениях мужчин неудачно скрыта зависть. Он даже подумал, что, быть может, Макаров прав: женщина лучше мужчины понимает, что все в мире — для нее.
Его патриотическое чувство особенно высоко поднималось, когда он встречал группы инородцев, собравшихся на праздник властвующей над ними нации от Белого моря до Каспийского и Черного и от Гельсингфорса до Владивостока. Медленно шли хивинцы, бухарцы и толстые сарты, чьи плавные движения казались вялыми тем людям, которые не знали, что быстрота — свойство дьявола. Изнеженные персы с раскрашенными бородами стояли у клумбы цветов, высокий старик с оранжевой бородой и пурпурными ногтями, указывая на цветы длинным пальцем холеной руки, мерно, как бы читая стихи, говорил что-то почтительно окружавшей его свите. Уродливо большой перстень с рубином сверкал на пальце, привлекая к себе очарованный взгляд худенького человека в черном, косо срезанном каракулевом колпаке. Не отрывая от рубина мокреньких, красных глаз, человек шевелил толстыми губами и, казалось, боялся, что камень выскочит из тяжелой золотой оправы.
Часто встречались благообразные казанские татары и татары-крымчаки, похожие на румын-музыкантов, шумно бегали грузины и армяне, не торопясь шагали хмурые, белесые финны, строители трамвая и фуникулеров в городе. У павильона архангельской железной дороги, выстроенного в стиле древних церквей Северного края Саввой Мамонтовым, меценатом и строителем этой дороги, жило семейство курносых самоедов, показывая публике моржа, который обитал в пристроенном к павильону бассейне и, будто бы, в минуты благодушного настроения говорил:
— Благодарю, Савва!
В кошомной юрте сидели на корточках девять человек киргиз чугунного цвета; семеро из них с великой силой дули в длинные трубы из какого-то глухого к музыке дерева; юноша, с невероятно широким переносьем и черными глазами где-то около ушей, дремотно бил в бубен, а игрушечно маленький старичок с лицом, обросшим зеленоватым мохом, ребячливо колотил руками по котлу, обтянутому кожей осла. Иногда он широко открывал беззубый рот, зашитый волосами реденьких усов, и минуты две-три тянул тонким, режущим уши горловым голосом:
— Иё-ё-ы-ы-йо-э-э-о-ы-ы-ы…
Владимирские пастухи-рожечники, с аскетическими лицами святых и глазами хищных птиц, превосходно играли на рожках русские песни, а на другой эстраде, против военно-морского павильона, чернобородый красавец Главач дирижировал странной пьесой, которая называлась в программе «Музыкой небесных сфер». Эту пьесу Главач играл раза по три в день, публика очень любила ее, а люди пытливого ума бегали в павильон слушать, как тихая музыка звучит в стальном жерле длинной пушки.
— Замечательный акустический феномен, — сообщил Климу какой-то очень любезный и женоподобный человек с красивыми глазами. Самгин не верил, что пушка может отзываться на «Музыку небесных сфер», но, настроенный благодушно, соблазнился и пошел слушать пушку. Ничего не услыхав в ее холодной дыре, он почувствовал себя очень глупо и решил не подчиняться голосу народа, восхвалявшему Орину Федосову, сказательницу древних былин северного края.
Ежедневно, в час вечерней службы во храмах, к деревянным кладкам, на которых висели колокола Оконишникова и других заводов, подходил пожилой человек в поддевке, в теплой фуражке. Обнажив лысый череп, формой похожий на дыню, он трижды крестился, глядя в небо свирепо расширенными глазами; глаза у него были белые и пустые, как у слепого. Затем он в пояс кланялся зрителям и слушателям, ожидавшим его, влезал на кладку и раскачивал пятипудовый язык большого колокола. Важно плыли мягко бухающие, сочные вздохи чуткой меди; казалось, что железный черный язык ожил и сам, своею силою качает ее, жадно лижет медь, а звонарь безуспешно ловит его длинными руками, не может поймать и, в отчаянии, бьет своим лысым черепом о край колокола.
Наконец ему удавалось остановить раскачавшийся язык, тогда он переходил на другую кладку, к маленьким колоколам и, черный, начинал судорожно дергать руками и ногами, вызванивая «Славься, славься, наш русский царь». Дергался звонарь так, что, казалось, — он висит в петле невидимой веревки, хочет освободиться от нее, мотает головой, сухое, длинное лицо его пухнет, наливается кровью, но чем дальше, тем более звучно славословит царя послушная медь колоколов. Отзвонив, он вытирал потный череп, мокрое лицо большим платком в синюю и белую клетку, снова смотрел в небо страшными, белыми глазами, кланялся публике и уходил, не отвечая на похвалы, на вопросы. Говорили, что его пришибло какое-то горе, и он дал обет молчания до конца дней своих.
Клим Самгин несколько раз смотрел на звонаря и вдруг заметил, что звонарь похож на Дьякона. С этой минуты он стал думать, что звонарь совершил какое-то преступление и вот — молча кается. Климу захотелось видеть Дьякона на месте звонаря.
А вообще Самгин жил в тихом умилении пред обилием и разнообразием вещей, товаров, созданных руками вот этих разнообразно простеньких человечков, которые, не спеша, ходят по дорожкам, посыпанным чистеньким песком, скромно рассматривают продукты трудов своих, негромко похваливают видимое, а больше того вдумчиво молчат. И Самгин начинал чувствовать себя виноватым в чем-то пред тихими человечками, он смотрел на них дружелюбно, даже с оттенком почтения к их внешней незначительности, за которой скрыта сказочная, воссозидающая сила.
— Вот — университет, — думал он, взвешивая свои впечатления. — Познание России — вот главнейшая, живая наука.
Ему очень мешал Иноков, нелепая фигура которого в широкой разлетайке, в шляпе факельщика, издали обращала на себя внимание, мелькая всюду, точно фантастическая и голодная птица в поисках пищи. Иноков сильно возмужал, щеки его обрастали мелкими колечками темных волос, это несколько смягчало его скуластое и пестрое, грубоватое лицо.
Отказаться от встреч с Иноковым Клим не решался, потому что этот мало приятный парень так же, как брат Дмитрий, много знал и мог толково рассказать о кустарных промыслах, рыбоводстве, химической промышленности, судоходном деле. Это было полезно Самгину, но речи Инокова всегда несколько понижали его благодушное и умиленное настроение.
— Есть во всех этих прелестях что-то… вдовье, — говорил Иноков. — Знаете: пожилая и, будто, не очень умная вдова, сомнительной красы, хвастается приданым, мужчину соблазнить на брак хочет…
Как бы решая сложную задачу, он закусывал губы, рот его вытягивался в тонкую линию.
Затем ворчливо ругался:
— Черти неуклюжие! Придумали устроить выставку сокровищ своих на песке и болоте. С одной стороны — выставка, с другой — ярмарка, а в середине — развеселое Кунавино село, где из трех домов два набиты нищими и речными ворами, а один — публичными девками.
Когда Самгин восхищался развитием текстильной промышленности, Иноков указывал, что деревня одевается все хуже и по качеству и по краскам материи, что хлопок возят из Средней Азии в Москву, чтоб, переработав его в товар, отправить обратно в Среднюю Азию. Указывал, что, несмотря на обилие лесов на Руси, бумагу миллионами пудов покупают в Финляндии.
— Кедра на Урале — сколько хочешь, графита — тоже, а карандашей делать не умеем.
Еще более неприятно было слушать рассказы Инокова о каких-то неудачных изобретателях:
— Были в сельско-хозяйственном? — спрашивал он, насмешливо кривя губы. — Там один русский гений велосипед выставил, как раз такой, на каких англичане еще в восемнадцатом веке пробовали ездить. А другой осел пианино состряпал: все сам сделал, клавиатуру, струны, две трети струн, конечно, жильные. Гремит эта музыка, точно старый тарантас. Какой-то бывший нотариус экспонирует хлопушку, оводов на лошадях бить, хлопушка прикрепляется к передней оси телеги и шлепает лошадь, ну, лошадь, конечно, бесится. В леса дремучие прятать бы дураков, а мы их всенародно показываем.
Самгин ежедневно завтракал с ним в шведском картонном домике у входа на выставку, Иноков скромно питался куском ветчины, ел много хлеба, выпивал бутылку черного пива и, поглаживая лицо свое ладонью, точно стирая с него веснушки, рассказывал:
— Панно какого-то Врубеля, художника, видимо, большой силы, отказались принять на выставку. Я в живописи ничего не понимаю, а силу везде понимаю. Савва Мамонтов построил для Врубеля отдельный сарайчик вне границ выставки, вон там — видите? Вход бесплатный, но публика плохо посещает сарайчик даже и в те дни, когда там поет хор оперы Мамонтова. Я там часто сижу и смотрю: на одной стене — «Принцесса Греза», а на другой — Микула Селянинович и Вольга. Очень странно. Один газетчик посмотрел в кулак на Грезу, на Микулу и сказал: — «Политика. Альянс франко-рюсс. Не сочувствую. Искусство должно быть свободно от политики».
Иноков нехотя усмехнулся, но тотчас стер усмешку губ рукою. Он постоянно сообщал Климу различные новости:
— Витте приехал. Вчера идет с инженером Кази и Квинтилиана цитирует: «Легче сделать больше, чем столько». Самодовольный мужик. Привозит рабочих встречать царя. Здешних, должно быть, мало или не надеюся на них. Впрочем, вербуют и в Сормове и в Нижнем, у Доброва-Набгольц.
— Вы как относитесь к царю? — спросил Клим.
Иноков взглянул на него удивленно.
— Никогда не думал об этом.
Клим Самгин ждал царя с тревогой, которая даже смущала его, но которую он не мог скрыть от себя. Он чувствовал, что ему необходимо видеть человека, возглавляющего огромную, богатую Русь, страну, населенную каким-то скользким народом, о котором трудно сказать что-нибудь определенное, трудно потому, что в этот народ слишком обильно вкраплены какие-то озорниковатые люди. Была у Самгина смутная надежда, что в ту минуту, когда он увидит царя, все пережитое, передуманное им получит окончательное завершение. Возможно, что эта встреча будет иметь значение того первого луча солнца, которым начинается день, или того последнего луча, за которым землю ласково обнимает теплая ночь лета. Может быть, Диомидов прав: молодой царь недюжинный человек, не таков, каким был его отец. Он, так смело разрушивший чаяния людей, которые хотят ограничить его власть, может быть, обладает характером более решительным, чем характер его деда. Да, возможно, что Николай Второй способен стоять один против всех, и молодая рука его достаточно сильна, чтоб вооружиться дубинкой Петра Великого и крикнуть на людей:
— Да что вы озорничаете?
Дня на два Иноков оттолкнул его в сторону от этих мыслей.
— Не хотите слышать Орину Федосову? — изумленно спросил он. — Но ведь она чудо!
— Я не охотник до чудес, — сказал Самгин, вспомнив о пушке и «музыке небесных сфер». Но Иноков, размахивая рукою, возбужденно говорил:
— Против нее — все это — хлам!
И, схватив Клима за рукав пиджака, продолжал:
— Помните «Матерей» во второй части Фауста? Но они там говорят что-то бредовое, а эта… Нет, идемте!
Клим впервые видел Инокова в таком настроении и, заинтересованный этим, пошел с ним в зал, где читали лекции, доклады, и Главач отлично играл на органе.
— Увидите, — это чудо, — повторил Иноков.
На эстраду вышел большой, бородатый человек, в длинном и точно из листового железа склепанном пиджаке. Гулким голосом он начал говорить, как говорят люди, показывающие дрессированных обезьян и тюленей.
— Я, — говорил он, — я-я-я, — все чаще повторял он, делая руками движения пловца. — Я написал предисловие. Книга продается у входа. Она неграмотна. Знает на память около тридцати тысяч стихов… я… Больше, чем в Илиаде. Профессор Жданов… Когда я… Профессор Барсов…
— Ничего, — успокоительно сказал Иноков, — этот — всегда глуп.
На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным, круглым лицом и улыбчивыми, детскими глазами.
Клим взглянул на Инокова сердито, уверенный, что снова, как пред пушкой, должен будет почувствовать себя дураком. Но лицо Инокова светилось хмельной радостью, он неистово хлопал ладонями и бормотал:
— Ах, ты, милая…
Это было смешно, Самгин несколько смягчился и, решив претерпеть нечто в течение десятка минут, он, вынув часы, наклонил голову. И тотчас быстро вскинул ее, — с эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские, старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов, было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое. Магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть с часами в руке. Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть, с какими лицами слушают люди кривобокую старушку. Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом, добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.
Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старя женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле, на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышно было и страх и печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери.
Минутами Климу казалось, что он один в зале, больше никого нет, может быть, и этой доброй ведьмы нет, а сквозь шумок за пределами зала, из прожитых веков, поистине чудесно долетает до него оживший голос героической древности.
— Ну, что? — торжественно спросил Иноков, расширенное радостной улыбкой лицо его осовело, глаза были влажны.
— Удивительно, — ответил Клим.
— То ли еще будет! Заметьте: она не актриса, не играет людей, а — людьми играет.
Эти странные слова Клим не понял, но вспомнил их, когда Федосова начала сказывать о ссоре рязанского мужика Ильи Муромца с киевским князем Владимиром. Самгин, снова очарованный, смотрел на колдовское, всеми морщинами говорящее лицо, ласкаемый мягким блеском неугасимых глаз. Умом он понимал, что ведь матерой богатырь из села Карачарова, будучи прогневан избалованным князем, не так, не этим голосом говорил, и, конечно, в зорких степных глазах его не могло быть такой острой иронической усмешечки, отдаленно напоминавшей хитренькие и мудрые искорки глаз историка Василия Ключевского.
Но, вспомнив о безжалостном учении, Самгин вдруг и уже не умом, а всем существом своим согласился, что вот эта плохо сшитая ситцевая кукла и есть самая подлинная история правды добра и правды зла, которая и должна и умеет говорить о прошлом так, как сказывает олонецкая кривобокая старуха, одинаково любовно и мудро о гневе и о нежности, о неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах детей, обо всем, что есть жизнь. И, может быть, вот так же певуче лаская людей, одинаково обаятельным голосом, — говорит ли она о правде или о выдумке, — скажет история когда-то и о том, как жил на земле человек Клим Самгин.
Затем Самгин почувствовал, что никогда еще не был он таким хорошим, умным и почти до слез несчастным, как в этот странный час, в рядах людей, до немоты очарованных старой, милой ведьмой, явившейся из древних сказок в действительность, хвастливо построенную наскоро и напоказ.
Чувствовать себя необыкновенным, каким он никогда не был, Климу мешал Иноков. В коротких перерывах между сказами Федосовой, когда она, отдыхая, облизывала темные губы кончиком языка, поглаживала кривой бок, дергала концы головного платочка, подвязанного под ее подбородком, похожим на шляпку гриба, когда она, покачиваясь в бок, улыбалась и кивала головой восторженно кричавшему народу, — в эти минуты Иноков разбивал настроение Клима, неистово хлопая ладонями и крича рыдающим голосом.
— Спасибо-о! Бабушка, милая — спасибо-о!
Он был возбужден, как пьяный, подскакивал на стуле, оглушительно сморкался, топал ногами, разлетайка сползла с его плеч, и он топтал ее.
Остаток дня Клим прожил в состоянии отчуждения от действительности, память настойчиво подсказывала древние слова и стихи, перед глазами качалась кукольная фигурка, плавала мягкая, ватная рука, играли морщины на добром и умном лице, улыбались большие, очень ясные глаза.
А через три дня утром он стоял на ярмарке в толпе, окружившей часовню, на которой поднимали флаг, открывая всероссийское торжище. Иноков сказал, что он постарается провести его на выставку в тот час, когда там будет царь, однако, это едва ли удастся, но что наверное царь посетит Главный дом ярмарки, и лучше посмотреть на него там.
Напротив Самгина, вправо и влево от него, двумя бесконечными линиями стояли крепкие, рослые, не плохо одетые люди, некоторые — в новых поддевках и кафтанах, большинство — в пиджаках. Там и тут резко выделялись красные пятна кумачовых рубах, лоснились на солнце плисовые шаровары, блестели голенища ярко начищенных сапог. Клим впервые видел так близко и в такой массе народ, о котором он с детства столь много слышал споров и читал десятки печальных повестей о его трудной жизни. Он рассматривал сотни лохматых, гладко причесанных и лысых голов, курносые, бородатые, здоровые лица, такие солидные, с хорошими глазами, ласковыми и строгими, добрыми и умными. Люди эти стояли смирно, плотно друг к другу, и широкие груди их сливались в одну грудь. Было ясно, что это тот самый великий русский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, красиво разбросанные там, на унылом поле. Да, это именно он отсеял и выставил вперед лучших своих людей, и хорошо, что все другие люди, щеголеватее одетые, но более мелкие, не столь видные, покорно стали за спиной людей труда, уступив им первое место. Чем более всматривался Клим в людей первого ряда, тем более повышалось приятно волнующее уважение к ним. Совершенно невозможно было представить, что такие простые, скромные люди, спокойно уверенные в своей силе, могут пойти за веселыми студентами и какими-то полоумными честолюбцами.
Эти люди настолько скромны, что некоторых из них принуждены выдвигать, вытаскивать вперед, что и делали могучий, усатый полицейский чиновник в золотых очках и какой-то прыткий, тонконогий человек в соломенной шляпе с трехцветной лентой на ней. Они, медленно идя вдоль стены людей, ласково покрикивали то один, то другой:
— Лысый, подайся вперед!
— Ты что, великан прячешься? Стань здесь.
— Серьга в ухе — сюда!
Прыткий человек, взглянув на Клима, дотронулся до плеча его перчаткой:
— Немножко назад, молодой человек!
Парень с серебряной серьгой в ухе легко, тараном плеча своего отодвинул Самгина за спину себе и сказал негромко, сипло:
— В очках и отсюда увидишь.
Но из-за его широкой спины ничего нельзя было видеть.
Самгин попытался стать между ним и лысым бородачом, но парень, выставив необоримый локоть, спросил:
— Куда?
И посоветовал:
— Стой на своем месте!
Клим подчинился.
«Да, — подумал он. — Этот всякого сможет поставить на место».
И спросил:
— Вы откуда?
Человек с серьгой в ухе поворотил тугую шею, наклонил красное лицо с черными усами.
— Из второй части, — сказал он.
— Рабочий?
— Топорник.
Самгин помолчал, подумал и снова спросил:
— Почему же вы не в форме?
Человек с серьгой в ухе не ответил. Вместо него словоохотливо заговорил его сосед, стройный красавец в желтой шелковой рубахе:
— Рабочих, мастеровщину, показывать не будут. Это выставка не для их брата. Ежели мастеровой не за работой, так он — пьяный, а царю пьяных показывать не к чему.
— Верно, — сказал кто-то очень громко. — Безобразие наше ему не интересно.
Сердито вмешался лысый великан:
— Различать надо: кто рабочий, кто — мастеровой. Вот я рабочий от Вукола Морозова, нас тут девяносто человек. Да Никольской мануфактуры есть.
Завязалась неторопливая беседа, и вскоре Клим узнал, что человек в желтой рубахе — танцор и певец из хора Сниткина, любимого по Волге, а сосед танцора — охотник на медведей, лесной сторож из удельных лесов, чернобородый, коренастый, с круглыми глазами филина.
Чувствуя, что беседа этих случайный людей тяготит его, Самгин пожелал переменить место и боком проскользнул вперед между пожарным и танцором. Но пожарный тяжелой рукой схватил его за плечо, оттолкнул назад и сказал поучительно:
— Гулять нельзя, видишь, все стоят?
Танцор, взглянув на Клима с усмешкой, объяснил:
— Сегодня публике внимания не оказывают.
— Чу, едет!
Чей-то командующий голос крикнул:
— Трескин! Чтобы не смели лазить по крышам!
Все замолчали, подтянулись, прислушиваясь, глядя на Оку, на темную полосу моста, где две линии игрушечно-маленьких людей размахивали тонкими руками и, срывая головы с своих плеч, играли ими, подкидывая вверх. Был слышен колокольный звон, особенно внушительно гудел колокол собора в Кремле, и вместе с медным гулом возрастал, быстро накатываясь все ближе, другой, рычащий. Клим слышал, как в Москве, встречая царя, толпа ревела «ура», но тогда этот рев не волновал его, обидно загнанного во двор вместе с пьяным и карманником. А сегодня он чувствовал, что волнение даже покачивает его и темнит глаза.
Можно было подумать, что этот могучий рев влечет за собой отряд быстро скакавших полицейских, цоканье подков по булыжнику не заглушало, а усиливало рев. Отряд ловко дробился, через каждые десять, двадцать шагов от него отскакивал верховой и, ставя лошадь свою боком к людям, втискивал их на панель, отталкивал за часовню, к незастроенному берегу Оки.
Из плотной стены людей по ту сторону улицы, из-за толстого крупа лошади тяжело вылез звонарь с выставки и в три шага достиг середины мостовой. К нему тотчас же подбежали двое, вскрикивая испуганно и смешно:
— Куда, чорт? Куда, харя?
Но звонарь, отталкивая людей левой рукой, поднял в небо свирепые глаза и, широко размахивая правой, трижды перекрестил дорогу.
— Ишь, ты, — благосклонно воскликнул ткач.
Звонаря торопливо затискали в толпу, а теплая фуражка его осталась на камнях мостовой.
Самгину казалось, что воздух темнеет, сжимаемый мощным воем тысяч людей, воем, который приближался, как невидимая глазу туча, стирая все звуки, поглотив звон колоколов и крики медных труб военного оркестра на площади у Главного дома. Когда этот вой и рев накатился на Клима, он оглушил его, приподнял вверх и тоже заставил орать во всю силу легких:
— Ура!
Народ подпрыгивал, размахивая руками, швырял в воздух фуражки, шапки. Кричал он так, что было совершенно не слышно, как пара бойких лошадей губернатора Баранова бьет копытами по булыжнику. Губернатор торчал в экипаже, поставив колено на сиденье его, глядя назад, размахивая фуражкой, был он стального цвета, отчаянный и героический, золотые бляшки орденов блестели на его выпуклой груди.
За ним, в некотором расстоянии, рысью мчалась тройка белых лошадей. От серебряной сбруи ее летели белые искры. Лошади топали беззвучно, широкий экипаж катился неслышно; было странно видеть, что лошади перебирают двенадцатью ногами, потому что казалось: экипаж царя скользил по воздуху, оторванный от земли могучим криком восторга.
Клим Самгин почувствовал, что на какой-то момент все вокруг — и сам он тоже — оторвалось от земли и летит по воздуху в вихре стихийного рева.
Царь, маленький, меньше губернатора, голубовато-серый, мягко подскакивал на краешке сидения экипажа, одной рукой упирался в колено, а другую механически поднимая к фуражке, равномерно кивал головой направо, налево и улыбался, глядя в бесчисленные, кругло-открытые, зубастые рты, в красные от натуги лица. Он был очень молодой, чистенький, с красивым мягким лицом, а улыбался виновато.
Да, он улыбался именно виновато, мягкой улыбкой Диомидова. И глаза его были такие же, сапфировые. И если б ему сбрить маленькую, светлую бородку, он стал бы совершенно таким, как Диомидов.
Он пролетел, сопровождаемый тысячеголовым ревом, такой же рев и встречал его. Мчались и еще какие-то экипажи, блестели мундиры и ордена, но уже было слышно, что лошади бьют подковами, колеса катятся по камню, и все вообще опустилось на землю.
На дороге снова встал звонарь, тяжелыми взмахами руки он крестил воздух вслед экипажам, люди обходили его, как столб. Краснорожий человек в сером пиджаке наклонился, поднял фуражку и подал ее звонарю. Тогда звонарь, ударив ею по колену, широкими шагами пошел по средине мостовой.
Глаза Клима, жадно поглотив царя, все еще видели его серую фигуру и на красивеньком лице — виноватую улыбку. Самгин чувствовал, что эта улыбка лишила его надежды и опечалила до слез. Слезы явились у него раньше, но это были слезы радости, которая охватила и подняла над землею всех людей. А теперь вслед царю и затихавшему вдали крику Клим плакал слезами печали и обиды.
Невозможно было помириться с тем, что царь похож на Диомидова, недопустима была виноватая улыбка на лице владыки стомиллионного народа. И непонятно было, чем мог этот молодой, красивенький и мягкий человек вызвать столь потрясающий рев?
Безвольно и удрученно Самгин двигался в толпе людей, почему-то вдруг шумно повеселевших, слышал их оживленные голоса:
— В старину на колени стали бы…
— Эй, наши, айда пиво пить!
За спиною Клима кто-то звонко восхищался:
— Ну, до чего же просто бьют!
— Кого?
— Всякого.
Солидный голос внушительно сказал:
— Критиков и надобно бить.
— Роман, сколько дал за сапоги?
О царе не говорили, только одну фразу поймал Самгин:
— Трудно ему будет с нами.
Это сказал коренастый парень, должно быть, красильщик материй, руки его были окрашены густо-синей краской. Шел он, ведя под руку аккуратненького старичка, дерзко расталкивая людей и кричал на них:
— Шагай!
Но и этот, может быть, не о царе говорил.
«А что, если все эти люди тоже чувствуют себя обманутыми и лишь искусно скрывают это?» — подумал Клим.
Остроглазый человек заглянул в лицо его и недоверчиво спросил:
— Чего же вы плачете, молодой барин? Какая же у вас причина сегодня плакать?
Самгин сконфуженно вытер глаза, ускорил шаг и свернул в одну из улиц Кунавина, сплошь занятую публичными домами. Почти в каждом окне, чередуясь с трехцветными полосами флагов, торчали полуодетые женщины, показывая голые плечи, груди, цинически перекликаясь из окна в окно. И кроме флагов все в улице было так обычно, как будто ничего не случилось, а царь и восторг народа — сон.
«Нет, Диомидов ошибся, — думал Клим, наняв извозчика на выставку. — Этот царь едва ли решится крикнуть, как горбатенькая девочка».
У входа на выставку Клима встретил Иноков.
— Можно пройти, — торопливо сказал он. — Жаль, опоздали вы.
Иноков постригся, побрил щеки и, заменив разлетайку дешевеньким костюмом мышиного цвета, стал незаметен, как всякий приличный человек. Только веснушки на лице выступили еще более резко, а в остальном он почти ничем не отличался от всех других, несколько однообразно приличных людей. Их было немного, на выставке они очень интересовались архитектурой построек, посматривали на крыши, заглядывали в окна, за углы павильонов и любезно улыбались друг другу.
— Охранники? — шопотом спросил Клим.
— Вероятно, не все, — сердито и неуместно громко ответил Иноков, он шел, держа шляпу в руке, нахмурясь, глядя в землю.
— Тут уже разыграли водевиль, — говорил он. — При входе в царский павильон государя встретили гридни, знает — эдакие русские лепообразные отроки в белых кафтанах с серебром, в белых, высоких шапках, с секирами в руках; говорят, это древний литератор Дмитрий Григорович придумал их. Стояли они в два ряда, царь спрашивает одного: «Ваша фамилия?» «Набгольц». Он — другого: «Элухен». Он — третьего: «Дитмар». Четвертый оказался Шульце. Царь усмехнулся, прошел мимо нескольких молча; видит, некая курносая рожа уставилась на него с обожанием, улыбнулся роже: «А ваша фамилия?» А рожа ему как рявкнет басом: «Антор!» Это рожа так сокращенно счета трактирные подписывала, а настоящие имя и фамилия ее Андрей Торсуев.
Иноков рассказывал это вполголоса, неохотно и задумчиво.
— Это — правда? — недоверчиво спросил Самгин.
— Ну, конечно. Уж если глупо, значит — правда.
Клим замолчал, вспомнив пожарного и танцора, которых он принял за рабочих.
Приличные люди вдруг остолбенели, сняв шляпы. Из павильона химической промышленности вышел царь в сопровождении трех министров: Воронцова-Дашкова, Ванновского и Витте. Царь шел медленно, играя перчаткой, и слушал, что говорил ему министр двора, легонько дергая его за рукав и указывая на павильон виноделия, невысокий холм, обложенный дерном. Издали и на земле царь показался Климу еще меньше, чем он был в экипаже. Ему, видимо, не хотелось спускаться в павильон Воронцова, он, отвернув лицо в сторону и улыбаясь смущенно, говорил что-то военному министру, одетому в штатское и с палочкой в руке.
Они, трое, стояли вплоть друг к другу, а на них, с высоты тяжелого тела своего, смотрел широкоплечий Витте, в плечи его небрежно и наскоро была воткнута маленькая голова с незаметным носиком и негустой, мордовской бородкой. Он смотрел на маленького в сравнении с ним царя и таких же небольших министров, озабоченно оттопырив губы, спрятав глаза под буграми бровей, смотрел на них и на золотые часы, таявшие в руке его. Самгину бросилось в глаза, как плотно и крепко прижал Витте к земле длинные и широкие ступни своих тяжелых ног.
В нескольких шагах от этой группы почтительно остановились молодцеватый, сухой и колючий губернатор Баранов и седобородый комиссар отдела художественной промышленности Григорович, который делал рукою в воздухе широкие круги и шевелил пальцами, точно соля землю или сея что-то. Тесной, немой группой стояли комиссары отделов, какие-то солидные люди в орденах, большой человек с лицом хитрого мужика, одетый в кафтан, шитый золотом.
— Николай Бугров, миллионер, — сказал Иноков. — Его зовут удельным князем нижегородским. А это — Савва Мамонтов.
Из павильона Северного края быстро шел плотный, лысоватый человек с белой бородкой и веселым розовым лицом, шел и, смеясь, отмахивался от «объясняющего господина», лобастого и длинноволосого.
— Пустяки, милейший, сущие пустяки, громко сказал он, заставив губернатора Баранова строго посмотреть в его сторону. Все приличные люди тоже обратили на него внимание. Посмотрел и царь все с той же виноватой улыбкой, а Воронцов-Дашков все еще дергал его за рукав, возмущая этим Клима.
«Адашев», — вспомнил он и пожелал министру участь наставника Ивана Грозного.
На выставке было тихо и скучно, как в ненастные будни. По-будничному свистели паровозы на вагонном дворе, скрежетали рельсы на стрелках, бухали буфера и уныло пели рожки стрелочников.
День, с утра яркий, тоже заскучал, небо заволокли ровным слоем сероватые, жидкие облака, солнце прикрытое ими, стало по-зимнему, тускло-белым, и рассеянный свет его утомлял глаза. Пестрота построек поблекла, неподвижно и обесцвеченно висели бесчисленные флаги, приличные люди шагали вяло. А голубоватая скромная фигура царя, потемнев, стала еще менее заметной на фоне крупных, солидных людей, одетых в черное и в мундиры, шитые золотом, украшенные бляшками орденов.
Царь медленно шел к военно-морскому отделу впереди этих людей, но казалось, что они толкают его. Вот губернатор Баранов гибко наклонился, поднял что-то с земли, из-под ног царя, и швырнул в сторону.
— Ну, довольно с вас? — спросил Иноков, усмехаясь.
Самгин молча кивнул головой. Он чувствовал себя физически усталым, хотел есть, и ему было грустно. Такую грусть он испытывал в детстве, когда ему дарили с рождественской елки не ту вещь, которую он хотел иметь.
— Знаете, на кого царь похож? — спросил Иноков.
Клим безмолвно взглянул в лицо его, ожидая грубости. Но Иноков сказал задумчиво:
— На Бальзаминова, одетого офицером.
— Исаак, — пробормотал Самгин.
— Что?
— Исаак, — повторил Клим громче и с досадой, которую не мог сдержать.
— Ах, да, это из библии, — вспомнил Иноков. — Ну, а кто же тогда Авраам?
— Не знаю.
— Странное сравнение, — усмехнулся Иноков и заговорил, вздохнув: — Корреспонденций моих не печатают. Редактор, старый мерин, пишет мне, что я слишком подчеркиваю отрицательные стороны, а это не нравится цензору. Учит: всякая критика должна исходить из некоторой общей идеи и опираться на нее. А чорт ее найдет, эту общую идею!
Клим перестал слушать его ворчливую речь, думая о молодом человеке, одетом в голубовато-серый мундир, о его смущенной улыбке. Что сказал бы этот человек, если б пред ним поставить Кутузова, Дьякона, Лютова? Да, какой силы слова он мог бы сказать этим людям? И Самгин вспомнил — не насмешливо, как всегда вспоминал, а — с горечью:
«Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»
Но, перегруженный впечатлениями, он вообще как будто разучился думать; замер паучек, который ткет паутину мысли. Хотелось поехать домой, на дачу, отдохнуть.
Но ехать нельзя было. Варавка телеграммой просил подождать его приезда.
И дожидаясь Варавку, Клим Самгин увидел хозяина.
Это был человек среднего роста, одетый в широкие, длинные одежды той неуловимой окраски, какую принимают листья деревьев поздней осенью, когда они уже испытали ожоги мороза. Легкие, как тени, одежды эти прикрывали сухое, костлявое тело старика с двуцветным лицом, сквозь тускло-желтую кожу лица проступали коричневые пятна какой-то древней ржавчины. Каменное лицо это удлиняла серая бородка. Волосы ее легко было сосчитать, кустики таких же сереньких волос торчали в углах рта, опускаясь книзу, нижняя губа, тоже цвета ржавчины, брезгливо висла, а над нею — неровный ряд желтых, как янтарь, зубов. Глаза его косо приподняты к вискам, уши, острые, точно у зверя, плотно прижаты к черепу, он в шляпе с шариками и шнурками, шляпа делала человека похожим на жреца какой-то неведомой церкви. Казалось, что зрачки его узких глаз не круглы и не гладки, как у всех обыкновенных людей, а слеплены из мелких острых кристалликов. И как с портрета, написанного искусным художником, глаза эти следили за Климом неуклонно, с какой бы точки он ни смотрел на древний, оживший портрет. Бархатные, тупоносые сапоги на уродливо толстых подошвах, должно быть, были очень тяжелы, но человек шагал бесшумно, его ноги, не поднимаясь от земли, скользили по ней, как по маслу или по стеклу.
За ним почтительно двигалась группа людей, среди которых было четверо китайцев в национальных костюмах, скучно шел молодцеватый губернатор Баранов рядом с генералом Фабрициусом, комиссаром павильона кабинета царя, где были выставлены сокровища Нерчинских и Алтайских рудников, драгоценные камни, самородки золота. Люди с орденами и без орденов почтительно, тесной группой, тоже шли сзади странного посетителя.
Плывущей своей походкой этот важный человек переходил из одного здания в другое, каменное лицо его было неподвижно, только чуть-чуть вздрагивали широкие ноздри монгольского носа и сокращалась брезгливая губа, но ее движение было заметно лишь потому, что щетинились серые волосы в углах рта.
— Ли-Хунг-Чанг, — шептали люди друг другу. — Ли-Хунг-Чанг.
И, почтительно кланяясь, отскакивали. На людей знаменитый человек Китая не смотрел, вещи он оглядывал на ходу и, лишь пред некоторыми останавливаясь на секунды, на минуту, раздувал ноздри, шевелил усами.
Руки его лежали на животе, спрятанные в широкие рукава, но иногда, видимо, по догадке, или повинуясь неуловимому знаку, один из китайцев тихо начинал говорить с комиссаром отдела, а потом, еще более понизив голос, говорил Ли-Хунг-Чангу, преклонив голову, не глядя в лицо его.
В отделе военно-морском он говорил ему о пушке; старый китаец, стоя неподвижно и боком к ней, покосился на нее несколько секунд — и поплыл дальше.
Генерал Фабрициус, расправив запорожские усы, выступил вперед высокого гостя и жестом военачальника указал ему на павильон царя.
Ли-Хунг-Чанг остановился. Китаец-переводчик начал суетливо вертеться, кланяться и шептать что-то, разводя руками, улыбаясь.
— Нельзя итти впереди него? — громко спросил осанистый человек со множеством орденов, спросил и усмехнулся. — Ну, а рядом с ним — можно? Как? Тоже нельзя? Никому?
— Так точно, ваше превосходительство! — ответил кто-то голосом извозчика-лихача.
Осанистый человек докрасна надул щеки, подумал и сказал на французском языке:
— Спросите переводчика: кто же имеет право итти рядом с ним?
Все замолчали. Потом голос лихача сказал, но уже не громко:
— Переводчик говорит, ваше превосходительство, что он не знает; может быть, ваш, т. е. наш — император, говорит он.
Осанистый человек коснулся орденов на груди своей и пробормотал сердито:
— Действительно… церемонии!
Генерал Фабрициус пошел сзади Ли-Хунг-Чанга, тоже покраснев и дергая себя за усы.
В павильоне Алтая Ли-Хунг-Чанг остановился пред витриной цветных камней, пошевелил усами, переводчик тотчас же попросил открыть витрину. А когда подняли ее тяжелое стекло, старый китаец, не торопясь, освободил из рукава руку, рукав как будто сам, своею силой, взъехал к локтю, тонкие, когтистые пальцы старческой железной руки опустились в витрину, сковырнули с белой пластинки мрамора кристалл изумруда — гордость павильона; Ли-Хунг-Чанг поднял камень на уровень своего глаза, перенес его к другому и, чуть заметно кивнув головой, спрятал руку с камнем в рукав.
— Он его берет себе, — любезно улыбаясь, объяснил переводчик этот жест.
Генерал Фабрициус, побледнев, забормотал:
— Но, позвольте! Я ж не имею права делать подарки!
Знаменитый китаец уже выплыл из двери павильона и шел к выходу с выставки.
— Ли-Хунг-Чанг, — негромко говорили люди друг другу и низко кланялись человеку, похожему на древнего мага. — Ли-Хунг-Чанг!
День был неприятный. Тревожно метался ветер, раздувая песок дороги, выскакивая из-за углов. В небе суетились мелко изорванные облака, точно заботясь как можно лучше осветить странную фигуру китайца.
Всеволод Иванов Блаженный Ананий
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Воробей опустился на яблоню. Веточка качнулась, и несколько осенних листьев лениво скользнуло на землю. Воробей взглянул боком, напуганно — и полетел. Перед степью, у крапивной канавы, голубели березы. Воробей, все еще испуганно, прорезал строгий их ряд. Из канавы, вслед за ним, порхнула стайка воробьев. Они метались — вверх, вниз. Сердце у Саши замерло, он остановился.
Ночью над садом пронесся ветер, сшиб много яблок. Уже месяц, как в степи, от засухи, над трактом постоянно плыла пелена желтой пыли. Небо было пустынно. Снились облака. Ночью небо походило на тучу, усеянную звездами. Земля окостенела, и упавшие яблоки помялись. И тогда Марья Александровна, мачеха Саши, наняла Ольку, дочь банковского сторожа. Олька хоть и славилась смиренной своей жизнью, но крепкие и легкие глаза ее у всех вызывали беспокойство. Олька сбирала яблоки в большую корзину. Дно корзины было устлано березовыми ветками. В корзине привезли недавно из степных озер карасей. Марья Александровна гордилась своим садом. «Яблоки всегда запахом рыбу пересилят», — сказала она, и они, точно, пересилили.
Саша долго смотрел на березы. Бездействие редко тяготило его. Он не замечал людей, жалующихся на страдания от бездействия. Но в этот нестерпимо яркий день, когда матовые дыбы берез как бы неподвижно стремились к нему, — ему подумалось, что хорошо б иметь утомительнейшую работу, после которой спалось бы без конца. Грузные шаги Ольки привлекли его. Влекомая ею корзина шипела по сухой траве. Он наклонился, выбрал яблоко, березовый лист прилип к нему. Помнится, он удивился, что яблоко теплое, и эта теплота как бы мутит его. Он даже хотел положить яблоко обратно. Толстые и короткие пальцы девки, опускавшие в корзину яблоки, тоже почувствовали теплоту яблок. По стволу яблони снизу вверх полз розоватый жучок. Девка медленно (она тоже стыдилась яблок) отклонила свое тело от корзины. Легкий взгляд ее тупо остановился на сашином рте. Затем веки сжали ресницы, выцветшие, чуть-чуть запыленные. Зубы ее обнажились столь стремительно и напряженно, что Саша, перекидывавший из одной руки в другую, уронил яблоко. И Олька, тряся дрожащими руками и, видимо, особенно стыдясь их, кинулась к нему. Она хотела его поцеловать! Сашино лицо улыбнулось растерянно и сонно. И тогда неодолимая плотская злость овладела ею. Побелевшие и оттого еще более короткие пальцы ее прикрыли ему глаза (или он сам зажмурился), он упал на траву. Девка, упираясь быстро дышущим животом ему в колени, схватила его за подтяжки. И вот это-то движение показалось ему чрезвычайно обидным, Сашенька взвизгнул, рванулся. Девка дышала все сильнее и сильнее, волосы у него слиплись, и он понял, что готов для всего, на всяческие страдания, — он заплакал крупными и обильными слезами. Он не мог остановить своих слез, он дрожал. Но девка поняла его по-своему. Неподвижно, побагровев, глядела она ему в лицо, и щеки ее скривились так, словно она хотела плюнуть ему в глаза… и лишь сухие губы ее не пускали слюну. Саша потянулся было за фуражкой, но, увидав эти губы, опустил руку и побежал.
Сад был неподвижен и сух. Трава колола ноги. У крыльца дома ему встретился отец. Он пришел со службы, а жена сказала: «Яблоки опадают, и для сбора их нанята Олька, надо понаблюдать — не ворует ли». Ипполит Селифантьевич получил жалованье, и в такой превосходный день ему не хотелось думать о людях дурное. Он сказал, что на реке клев, надо спешить на рыбалку. Солнце струилось по волосяной леске, задерживаясь на выцветшей краске пробкового поплавка. Саша схватил отца за руку. Рука слабая, вся в хороших морщинах, давно знакомых, жестянку, приготовленную для червей, держит неудобно и трогательно! Отец стоял перед ним, его отец, с седыми усами и веселым взглядом, твердо знавший, что жизнь пустяки, легкое дело, хотя есть и войны, и сейчас гремят революции. Что ж, на земле много ошибок! Ипполиту Селифантьевичу подумалось, что надо б взять с собой на рыбалку сына, но с сыном нужно разговаривать, а разговаривать, как большинство отцов, он не научился. Он сказал ласковым и уверенным голосом: «Гуляешь? Гуляй, гуляй, да не загуливайся! Ну и благодарение господу, благодарение господу…» И поправил на плече удилище.
И тогда Саша побежал к мачехе. Она чистила для варенья какие-то ягоды, кажется, крыжовник. Полотняные занавеси, наполненные солнцем и зноем, казались розовыми. Медлительное, немного усталое тело мачехи украшало неподвижное крапчатое платье. В длинных мочках — бирюзовые серьги.
Через несколько комнат яростно сияла в кухне огромная изразцовая плита. Тревожная духота наполняла комнаты. Иногда неизвестно откуда порхнувшая прохлада, вся из запахов осенних трав, чуть скрипела дверьми, вздыхала полотном. И тусклые ягоды, и сияющая плита, и розоватое полотно на окнах, — как это все запомнилось Саше! Колени мачехи были прикрыты, дабы не испачкать ягодами платья, полотенцем, следы хозяйственного глаженья горбили полотенце. Взъем ее ноги был напряжен, и оттого колени ее казались еще более круглыми. Когда Саша увидал эти колени и на тугом полотенце синюю миску, он почувствовал такое омерзение к девке, что на мгновение задохнулся.
Марья Александровна поставила миску с ягодами на пол, локти ее прижались к ребрам — Сашенька постоянно внушал ей беспокойство. Она была домовитая, опрятная, любила, чтоб в доме был порядок, вышла она замуж за Ипполита Селифантьевича только два года назад, — и дом сильно встишал. Слезы скользили сквозь редкие и длинные сашины ресницы. И то, что она сразу же, без его слов, поняла его — было и омерзительно и тревожно знать. Она отодвинула миску еще дальше, хотела встать. Саша упал ей головой на колени. Волосы его, все еще слипшиеся, слегка завивались на затылке, кожа на шее нежно голубела. И Марья Александровна с неумелой нежностью подумала, что голова его похожа на подсолнечник. Сравнение это ушло, и тотчас же стало стыдно за его появление. Она протянула руки, уши у Саши были горячие. И она с негодованием почувствовала, что от ребер, ниже к бедрам, идет холодный и мучительный трепет. Она сидела неподвижно. Саша все плакал, и вдруг она подумала, что сейчас слезы его просочатся сквозь платье и коснутся ее тела. Грудь ее отяжелела, и в сосцах она почувствовала легкие уколы. Ей казалось, что она делается все неподвижнее и неподвижнее. Полотняные занавеси мелко дрожали, несколько стрекоз билось в их душном просторе.
Саша поднял лицо, — и у висков и выше к затылку его охватила великолепная боль. Крепкий, пахнущий неизвестными и странными ягодами палец упал к нему на рот и, прыгая, пронесся по его губам. Язык его вяло выпал изо рта. Гортань его оледенела. И тогда женщина ощутила, что ее щеки тоже втягиваются, голени ее дрожат, и ступни ног покрываются густым потом. Это было так страшно, что она была рада, что тело ее заныло тем знакомым тяготением, которое заставляет отверзать губы, как бы крепко ни были они сжаты. Мокрая и тонкая рука коснулась ее плеча. Но вдруг рука эта исчезла, и она увидала, на полу, у своих ног, тонкую сашину спину, зеленую тужурку, латаную на локтях, пола тужурки завернулась, и видна была рваная сатинетовая подкладка… и это было отвратительно и еще более отвратительно было то, что и упал он не от страсти, а поскользнулся: подошва у сапога скользкая, много ходил по осенней траве.
И Марья Александровна, заревев, — грубо, хрипло, — и широко расставляя ноги, кинулась по комнатам! И когда она врывалась в двери, то опять вокруг нее сияли неудержимо изразцы кухни, и белый нимб плавал над ее волосами.
Саша, трепеща от ужаса, преодолевая слабость в голове и груди, бежал через сад в поле. Олька несла корзину с яблоками. Она уже забыла о нем, и когда он пробежал мимо нее, мокрый и жалкий, она любовно, с теплотой удивилась ему и его характеру. Все происшедшее у нее с ним она объяснила приворотными его глазами. И в тот же вечер, лежа в кустах у реки с парнем, она вспомнила сашины глаза и, клокча и глотая слюну, рассмеялась. Парень тоже с клокотом рассмеялся и привычным движением рванул ее за плечи. Она вяло скользнула к нему на руки.
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Неподалеку от городка П., на берегу Волги, в лесу подле Вяземского оврага, находился скит блаженного Анания. Городок недавно был захвачен офицерами, воевавшими за родину и за какого-то, неизвестного всем, генерала, ее спасителя. Солдат в городе селить поопасались, как бы не разграбили, — в городке находился штаб и несколько офицеров, расквартировавшихся в домах, которые попрохладнее. Солдаты разбили палатки в скиту и в оврагах, за скитом. В скиту звенела гармошка, пахло плохой солдатской пищей. Пулеметы, покрытые шинелями, расставленные в беспорядке, были грозны. Мужики, разбогатевшие на чудесах Анания, чертили на воротах мелом кресты, зачем — неизвестно. К старухам, Катерине и Наталье Смородниным, охранявшим покой Анания, пришел солдат, фельдфебель — в громадных охотничьих сапогах и соломенной шляпе. Фельдфебель куражливо требовал, чтоб его пропустили к блаженному, он хочет с ним поговорить: правда ль, у того такая неистребимая плоть, и правда ль, что при любовной тоске наступает после его молитвы облегчение. Старухи, обнажая длинные красные кисти рук, взмахивали возмущенно широкими рукавами.
В садике, где стояла банька блаженного, в которой он пролежал тридцать лет, паслись голуби. Несколько ворохов соломы лежало по углам, должно быть, на них спали богомольцы. Старухи кричали, что: «со страху и со гнева блаженный может умереть, а как им, в войну, жить без святого?» Солдаты должны это понять! Солдаты не понимали. Тогда старухи достали им водки. Солдаты потребовали денег и баб. Какой-то удалец подкрался к окну баньки и засвистал. Свистал он необычайно громко, голуби тяжело носились над садиком. Старое стекло радужного цвета косо отражало яблоню и длинные яблоки на ней. Солдат заглянул. Синий язычек лампадки качался в углу, больше он ничего не разглядел. Он засвистал еще громче и заявил, что без баб он жить не может спокойно. Старухи достали еще самогону и, сев в телегу, помчались в город за девками.
Блаженный попросил пить. Паклей, по всему пазу, полз таракан. Несколько соринок скатилось на одеяло блаженного. Он крикнул еще раз. Люди из сада исчезли, опять голуби хлопали крыльями. Впервые Ананий остался один. Он кинул на пол глиняную кружку, но кружка не разбилась, отпала ручка. Слабый он, сухоногий, сухорукий, кружку не мог разбить! И блаженный опять вспомнил отца.
Отец его, Максим Смирнов, промышлял скотом. В комнатах пахло седлами, конским потом, копыта постоянно глухо стучали во дворе. Отец не уважал своей торговли и своей удачи, он еще служил в казначействе: блеск орлистых пуговиц неудержимо манил его. Но на службе ему не везло, да и некогда было служить. Он многим был недоволен. Женщин он любил испуганной и злобной тоской. Однажды он вернулся домой, пьяный и растроганный, от женщины, которая, не страшась, его выгнала. За чванство. В столовой был накрыт ему ужин. Дочь Елена, грудастая и толстоногая, ожидая его, заснула на диване. Она толкла к ужину перец: ступка и пестик лежали подле дивана. Отец шлепнул ее по ноге, она, не просыпаясь, замычала. Ананий спал в соседней комнате. Сны ему постоянно снились зеленые. Он вспрыгнул от воплей. Голос отца гудел неразборчиво: «лежи, лежи, ты…» Ананий бросился, плача и крестясь, оттаскивать отца, тот его отпихнул ногой. Елена била себя кулаками в голову и, увидав Анания, позвала хрипло: «братец!» Тогда Ананий укусил отца за руку. Отец повернул от стены потное и трезвое лицо, взгляд его упал на ступку. Ананий побежал. Максим укушенной рукой кинул ему вслед ступку. Ананий пал замертво.
С того дня он начал чахнуть, затем у него отнялись ноги. Отец к нему не заходил — «не сдохнет», — говорил он окружающим. Ананий отцу не верил. Иногда Ананию чудились шаги у своей комнаты. Непрестанные боли мучили его, но, пересиливая боль, он старался вслушаться, чтоб, когда отец войдет — успеть подобрать такие слова, которые не обидели бы и в то же время усовестили Максима. Сестра, уже живущая с Максимом, как с мужем, стыдясь, не приходила к Ананию. Когда его расспрашивали, Ананий вначале пытался говорить, вернее, намекать, правду.
На дворе попрежнему ревел скот, хлопали бичи. Слушатели вяло смотрели в окно. Конечно, они думали о болезни Анания другое. Ананий был уверен, что отец страдает, томится. Ананий перестал говорить правду. Сны его были розовые. И однажды он признался, что, одержимый невиданной плотью, он ночью полез к сестре, и бог наказал его, иссушив ему хребет. И тогда сразу все поверили ему. И чем он больше придумывал гнусных подробностей о себе и чем горячей молил бога о прощении, тем больше уважали его люди и больше верили ему. Он восклицал, что и сейчас — весь больной и язвенный — он томится по сестре и желает ее ложа! Люди содрогались. О нем уже говорил весь город. Ананий плакал от обиды, но вскоре ложь стала доставлять ему облегчение, и он, никогда не веривший в бога, теперь поверил — и умилился собой.
Ананий попросил перевезти его в лес, в пустыньку, — его перевезли в баньку подле Вяземского оврага. Здесь в одиночестве прожил он три года, — срок, после которого люди решили, что бог простил ему его грехи. Пищу ему носила и убирала за ним бобылка Марфа из соседней усадьбы, приходившая раз в два дня. Замолив свои грехи, он мог теперь замаливать грехи других, и кроме того людям казалось, что от него исходит как бы испарение плоти, ибо он постоянно призывал к себе сестру свою Елену! Начали появляться богомольцы, плотские страдальцы, мученики любви.
Две толстых и жадных бабы, Наталья и Катерина Смороднины, чуя добычу, отогнали Марфу и навели в избе порядок. Они поставили старинный образ и синюю лампадку.
Заговорили о чудесах. Блаженный звал одну Марфой, другую Марией. Они безмолвно подчинялись, мало понимая его. Бабы мечтали о доходах. И точно, они вскоре расчистили лужайку, вырубили деревья и построили пятистенный дом.
Затем появился постоялый двор, лавочник открыл торговлю. Пьяница-священник, лысый и хромой, выгнанный из многих приходов, помогал воздвигать часовню. Между всеми ими был как бы тайный сговор — не говорить блаженному Ананию, что вокруг его тела строится хозяйство. Блаженный может закапризничать, заважничать… И теперь вот, когда старухи уехали в город, у порога его баньки, на приступке, дремал уже сильно постаревший попик. Старухи рассчитали, что солдаты не будут тревожить попа, но на всякий случай двери были украшены огромным замком…
Блаженный смахнул с пакли таракана. Таракан, широко расставив лапы и кувыркаясь, грузно упал на пол. Он лежал неподвижно на спине. «Как и я!» — подумал блаженный.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Саша думал — ему нужно умереть. Нет другого выхода! Нельзя избавиться от этого страшного события, которое казалось еще более страшным оттого, что Саша не чувствовал его неожиданным. Но он знал, что преступление его настолько велико, что и в той, будущей жизни, в которую он никогда не верил, но без веры в которую он сегодня не мог существовать, — этот ужас не покинет его, и умереть, то есть уничтожить этот ужас нельзя. По тракту мужики везли снопы: тощие снопы войны. В пыли прошел хромой солдат, сума у него привязана тонкими веревками. Веревки, наверное, больно резали плечи, но какое же горе у солдата, если он идет и идет, не замечая этой боли. И Саша понял: нельзя дольше бродить по степи. Наступил вечер, неожиданно прохладный. Багрово-сизая туча («гроза, предзнаменование» — смятенно подумал Саша) заполняла все небо. Он вернулся домой.
Кухарка грызла на крыльце подсолнухи и вяло похвалила Сашу за то, что успел притти домой до грозы. Дом был гулок и темен. Домашние, повидимому, ушли в гости. Саша искал фуражку, все время страшась и надеясь на встречу с мачехой. На дне фуражки слинявшей золотистой краской было напечатано: «Торговля Н. П. Вязлова». Саша прочел — «Вязлова» — вслух… удивленно. Затем он прошел в кабинет к отцу, зажег лампу, очень яркую, и взломал ящик письменного стола. Ему подумалось, что денег нужно брать столько, сколько необходимо на билет. Лампа слегка чадила, — он увернул огонь. Деньги взял все. Когда он подошел к низенькому и тусклому зданию вокзала, уже накрапывал дождь, и молнии догоняли приближающийся поезд. Саше было сильно нехорошо.
Номера в городке П. были грязные и вонючие: очень сильно в них пахло селедкой. Из окна сашиного номера видны были вокзальные часы с тупыми и медленными стрелками. Если б не Волга, то городок П. был бы почти одинаков с родным сашиным городом. Такой же вокзал; деревянные тротуары; тощий бульвар у реки. Собой Саша, должно быть, был подозрителен, или так полагалось, но появился половой и потребовал уплатить за день вперед. Саша торопливо достал деньги.
Половой моргнул вежливыми глазами и сказал, слегка откидывая назад руки: — «ежели ваша дамочка не придет, то многие соглашаются на утешение — других! У меня — компания. Прикажите?» У него были такие веселые и вежливые глаза, что Саша на мгновение поверил, что многое в жизни устраивается само собой, — и приказал. А сам пока прилег на диван, тоже пахнущий селедкой, — и тотчас же уснул. Он спал долго. Улица была пустынна. Стука в косяк он не слышал. А подле его дверей уже сидели девицы: Сашет и Манжет. Обе они были в высоких, шнурованных до колен ботинках, в платьях раструбами и с повязками на прыщеватых и густо напудренных лбах. Лысый гитарист с дутой тросточкой подмышкой косо стоял подле них. Девки, время от времени поправляли лифчики (высшим шиком считалось, чтоб лифы были туго накрахмалены, чтобы «с хрустом»), говорили с половым о сегодняшней драке на базаре. Двое военных били друг друга пивными бутылками и никак не смогли раскровяниться. И оказалось, что каждый из рассказывавших видел в драке то же, что и прочие, — и это их сильно смешило.
Темнело, когда Саша проснулся. Девицы улыбнулись ему из коридора. Толстые их ляжки, лихо затянутые в кожу, громадные руки ужаснули его. Половой завистливо развел руками: «ну, дескать, и развеселый же ты человек, и легко же жить с вами на свете»; гитарист, хвастаясь тоскливой своей удалью, остановился у притолки, возле грязного жестяного умывальника. Вода тоненькими капельками падала из крана. И Саша понял, что вошла иная, не его жизнь, и как ни противно, но надо жить этой иной жизнью, и хотя ему хотелось чаю, но он потребовал водки.
И вот Саша пил и плясал три дня. Три дня глотал он разбавленный теплой водой отвратительнейшего вкуса спирт. Половой водил его тошнить. Саша плакал, а Манжет целовала его в затылок, Сашет в щеки; они плакали вместе с ним и хвалили его за то, что он понимает женскую душу и не ложится с ними спать, и как им тяжело продаваться (а на самом деле они из-за смятенного лица Саши решили, что паренек заболел дурной болезнью и вот напугался и пьет). Затем появились еще две девки: Лушка и Грунька, тощие и басистые. Они брали грубостью. Сразу же они попросили взаймы денег. Позже девки дрались. Гитарист злорадно свистел. Девки рвали с унылыми лицами друг у друга волосы. Саша пил водку из синей чашки с грязной трещиной. Ему было жалко себя и других.
Он проснулся с колючей болью в горле и в висках. Половой, теперь уже суровый и гладко причесанный, требовал денег таким голосом, по которому можно было понять, что денег у Саши нет. А их, точно, не нашлось. Чемоданчик оказался пустым. «В залог!..» — вырывая у него чемоданчик, крикнул половой. Сашин паспорт валялся у порога.
Саша перебрался на постоялый двор, в соседнюю улицу. Весь день спал он на сальных нарах, а вечером долго сидел у Волги, подле разрушенного баркаса. Город был темен, и только в реке отражались огни комендатуры, стоявшей на яру. Волга рябилась от мелкого дождя и казалась поэтому еще более широкой и страшной. Баркас пах гнилым деревом. В огнях комендатуры, у самой реки, долго плясал какой-то пьяный. Саша вспомнил, что в детстве няня говорила ему, что несчастье, как ночь, не стуча и не бренча, стоит у каждого окна и каждого угла. Ждет! Слезы показались у него на глазах.
Саша с каждым днем становился все грустнее и грустнее, и сосед его по нарам, безработный приказчик, рябой и коротконогий, бесстыдно каждое утро показывавший тоску свою по женщинам, крикнул ему: «Не ной, не ной! А то иди к братцу Ананию, он таким, как ты, по три рубля николаевских дает. А если получишь, наймешь мне в могарыч, девку на ночь!» И тотчас же Саша вспомнил, что и о братце Анании говорили девки в памятные дни пьянства. Говорили они с умилением и с бесстыдством о том, что братец Ананий тридцать лет неподвижно лежит на своей койке, высохший, желтый, — и молящийся за мир и за тихую любовь. А отец у него иеромонах. И какой!.. От голоса иеромонаха шуршали деревья! Говорили и поговорку Анания, — Саша никак не мог ее припомнить… А приказчик, уже поверивший, что братец даст Саше три рубля, рисовал ему углем на стене дорогу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Телега летела под гору. На поворотах шершавые длинные корни, торчащие из яра, почти хватали за руки. Девки ревели от восторга: они давно не видали природы. Ямщик, веривший, что у этих девок нет ничего искреннего, оглядывался на них злобно. На одном из поворотов девки увидали тощего запыленного человека в зеленой тужурке. Замученные глаза его были им знакомы. Сашет вопрошающе взглянула на Манжет. Та недоуменно повела плечами. Человек крепко держался за корни, песок струился у его ботинок. Яр тускло пылал от солнца. Лицо у него было тоскующее, видимо, он желал пропустить телегу и думать опять о своем. Девки заорали песню. Ямщик оглянулся на них со злостью: «под гору, разнесут!» Девки заорали еще громче.
Показался скит. Солдаты их встретили пляской и гармошкой. Девок повели в дом с верандой. Окна дома выходили в сад, в котором жил блаженный Ананий. В трех чугунах принесли брагу. Солдаты пили молча, с тревогой, стаканами. Старухи уже суетились в саду. Одна из них подметала дорожки. Поп сбирал опавшие яблоки. Девки распахнули окна, расхрабрились. Они чувствовали, что сегодня не миновать драки. Солдаты налили самогоном самовар. Девки потребовали, чтобы стол вытащили на веранду.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Старуха, подпоясанная веревкой, с метлой в руках, рассердилась, когда Саша сказал, что хочет видеть блаженного. Она долго выспрашивала Сашу, из каких он мест, и даже как будто удивлялась, что в такое время кому-то нужен святой, кроме нее. Она повела его длинными сенями. Пахло вениками и мятой. На противоположном конце сеней, у самых дверей в светелку блаженного, на ларе сидела другая старуха. Она напряженно смотрела в сад. И Саша подумал, что садом ему было б гораздо ближе пройти к блаженному, а старуха с метлой провела его другой дорогой.
Блаженный до самой бороды был укутан в грязное стеганое одеяло, засаленное, усыпанное крошками. Несколько мух кружилось над его бородой. Старуха попробовала отогнать мух, но, плюнув, сердито хлопнула дверью и вышла.
— Марфа-Мария, лампадка коптит, — визгливым и несколько капризным голосом заговорил блаженный, — песни орут, блудят, а лампадку лень заправить. Душа моя, парень, как пчела: из тварей последняя по росту, а питает да еще на бога светит.
Саша вспомнил тотчас же ту поговорку, которую ему передавали девки. Блаженный передернул щеками, заросшими неопрятным и редким волосом. Щеки у него были очень подвижные. Саше, едва он сел на табурет, стало тепло (а светелка, точно, была сильно натоплена). Ему захотелось спать.
— Нонче ты первый, молодой человек. Я могу с тобой поговорить и поучить могу. О душе могу поговорить. Моя жизнь, молодой человек, как морковь: тело в земле, а коса — душа — выходит наружу. Всем о душе говорю. Помогает, помогает!.. Ты у папашки деньги слямзил и в картишки проиграл? Нету на дорогу к папашке? Молись богу, проси прощенья! Я таким, как ты, по два и по три рубля даю и лапти. Блудные сыны! Я блудных сынов жалеть обязан… Господи, их благослови.
Блаженный дунул на муху. Она села ему на ухо.
— Зачем пришел?
— Посмотреть на вас пришел, — ответил Саша, и ему в ту минуту думалось, что он действительно пришел посмотреть на блаженного.
— А вот и врешь! В такую погоду пешком ко мне не ходят. Сапоги-то какие, а! Смотреть на меня — извозчики есть. Плачь, плачь, прелюбодей, — вдруг закричал блаженный. В его голосе чувствовалась радость, и Саша смятенно подумал, что сейчас блаженный выкричит все пакостное, что есть в сашиной душе. Саша вздрогнул. Блаженный стучал маленьким кулачком в стену. — Блудил, угадал!.. Я вас всех знаю… С сестрой блудил! Кайся, кайся! Чем сестру смутил? А?..
Кисти рук заныли, томительная слабость овладела сашиным телом. И Саша подумал, что теперь-то нужно высказать свои страдания, станет легче, — блаженный успокоится. И вместе с тем пришла мысль о том, какая это страшная и грешная страна, в которой святые, не сомневаясь, упрекают людей в том, что они могут лежать со своими сестрами, как с женами. И как же подобные упреки справедливы, если вокруг блаженного настроены амбары и приходит много кающихся! Как стыдно понять это! И ты, только что начавший жизнь, готов и рад свершить чудовищный поступок!..
— Я сам, молодой человек, в таком грехе обитаю. Парень я был рослый, а скучный. Сестра на лавке спала. Сестра у меня мучительница, тело ей было отпущено господом пылающее: на пять сажен запах от ее греха шел. Я к ней и полез. До того я долго страдал, но одолеть себя не мог… И только отошел от лавки, господь меня в поясницу казнил. Теперь лежу, как Илья Муромец, тридцать лет.
— Тоска, — шопотом сказал Саша.
— А на тридцать третий год придет ко мне бог и скажет: «вставай, Илья, царство спасать надо». А я ему отвечу: «наплевать мне на твое царство, почему ты мне с девкой не дал жить и ног меня лишил? Где теперь в твоем царстве есть подобная девка?» Может быть, мне кровь свою суждено выпить? Может быть, тридцать лет под ряд, — едва задремлю, — и вижу, кровь свою пью. Может быть, каждую ночь приходит ко мне сестра и говорит: «вставай, Ананий, весна!» А я ей: «нету сил, помоги мне». Она меня за руки берет, поднять пытается — и не может. Я ведь грузный…
Блаженный откинул одеяло. Саша увидал кровавые пролежни, тощие кости, живот в грязных морщинах. Блаженный тупо смотрел в потолок.
— И я скажу ему: «отойди от меня, господи, не встану я! Надсадилась сестра, подымаючи меня, для кого мне теперь вставать — в гробу она. Ради кого я освобожу твое царство? Я к ней мертвым приду и скажу ей: „ты, сестрица, в гробу подвинься и приготовь одеяло“». Вот как я богу отвечу… Лежать, молодой человек, верно, тоскливо, да только не потому, как ты думаешь. Мне бога тоскливо ждать! Место глухое, вокруг дебри, — мимо пройдет бог. А не придет, я сам к нему приду. Девка, сестра-то моя, почему уличным парням досталась?
Саша вспомнил девок, обогнавшись его сегодня в телеге, и спросил:
— Как ее звали?..
— Советовать тебе, молодой человек, могу. Три рубля тебе дам, лапти дам, веник. Сходи в баньку, пропарься. Мои советы легкие, я легкие советы даю. Оттого и помогает. Легкость всегда помогает… Чаю с тобой попить, что ли? Старуха, Марфа-Мария, дай чаю…
Блаженный вздохнул. Вздох у него был больной, с кашлем. Старуха не появлялась. Сумерки надвигались на сад.
Блаженный подсунул к боку подушку: длинную, набитую соломой и похожую на мешок.
— Отец у меня был ласковый. Я отца страсть любил. Добрый был человек и справедливый. Жалоб никто не слышал… А вот могилка, небось, заброшена. И креста, небось, нету. Я перед ним грешен: он меня всегда милостью одарял. Я вот святой… Мне верят, я утешительные слова могу говорить. И помогает. А вот фамилью мою редко спрашивают и даже откуда я родом. Мне обидно, — я без пачпорта, что ли. А фамилия моя умильная: Смирнов…
Блаженный напряженно смотрел на стену. Он, повидимому, пытался вспомнить самое трогательное о своем отце. А Саша подумал, что вспоминает блаженный только для того, чтобы напомнить Саше, какой он отвратительный и преступный сын. Ананий сказал жалобно:
— Сходи ты, молодой человек, если моя молитва поможет, на кладбище, посмотри, как лежит Максим Смирнов. Я старух прошу, прошу, им выйти нельзя: округ пустыня, на кого меня оставишь. Они ведь здесь одни, ветхие. Оградка-то у отца чугунная, а по краям ангелы в золоте. Найдешь…
По бороде ко рту ползла муха. Блаженный устало прикрыл глаза. И Саша подумал, что блаженный действительно верит, что он одинок. В этом лесу одна его каморка. Попрежнему, как и тридцать лет назад, дебри! И выдержит ли он, если ему сказать правду?.. Муха трепетала в уголках рта. Сил у него нет сдунуть муху! Саша со стыдом торопливо вышел из каморки, торопливо получил от старухи Катерины три рубля и лапти.
В саду было темно. Рядом, на веранде плясали солдаты. Полураздетая девка, свисая с перил, стоная, блевала в сад. Саша узнал ее лицо! Не она ли сестра Анания?.. Саша, выронив лапти, рыдая и спотыкаясь, побежал на дорогу вон из скита.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Позже солдатам веранда показалась тесной, они попрыгали в сад. Вышла луна. Солдаты трясли деревья, плясали на плодах. Один, городской, с курчавым белым чубом, стал рубить шашкой ветки. Тогда в солдатах проснулась крестьянская душа: взводный ударил чубастого в зубы. Девки завыли. С деревни сбежались собаки. Солдаты открыли по ним пальбу. Одна из убитых собак моталась у забора, беспрерывно царапая когтями доски. И девки и солдаты хохотали над ней. Голая девка Лушка, в одной нижней рваной юбке, потрясая бархатным платьем, понеслась в пляске среди яблонь. Она свистела, хохотала, взвизгивала. Но солдатам все казалось, что звуков мало. Они ударили в ведра.
Старухи Смороднины караулили блаженного всю ночь, заснули у порога баньки под утро. Солдаты с хохотом указывали на их скорченные и жалкие тела. Лушка, все еще полуголая, совершенно пьяная, пыталась влить в рот старухам самогону. Стакан, мокрый от ее пота, вонючий, скользил из ее рук. Тогда рябой солдат схватил ее в охапку, влил ей в глотку самогон и заявил, что если блаженный хотел всю жизнь девку, — дать ее ему! Глаза у Лушки были осоловелые.
Солдат сбил поленом замок (старухи спали крепко), втащил девку, откинул у блаженного одеяло и, подталкивая девку коленом в бок, положил ее на кровать. Блаженный испуганно завизжал, замахал тонкими ручками. Уже показалось солнце, и солдату почудилось, что у блаженного с пальцев сыплется как бы шелуха. Старухи, проснувшиеся от вопля блаженного, рвались к дверям. Солдаты держали их за юбки, хохоча и стреляя вверх. Рябой солдат схватил блаженного за длинные масляные волосы и положил его на длинные потные груди девки.
В лицо блаженному лился густой запах спиртного перегара. У девки большие зубы, вогнутые, как бы вылизанные! Ананий попытался поднять голову — сил не было. Блаженный чувствовал небывалую слабость. Груди девки у его пылающей щеки твердели. Кожа ее упруга! Одеяло подле ее длинного уха розовело. И вдруг омерзение, владевшее им, исчезло, — запашистое и теплое дыхание окутало его лицо.
Лушка проснулась, почувствовав на груди тяжелый холод. Покачиваясь, чадила лампадка. На полу валялся стакан и бутылка самогону, заткнутая тряпкой. Девка спокойно сняла голову блаженного, сложила ему руки на груди, перекрестилась и сказала: «сухой-то какой!» Затем она налила самогону в стакан. Через дно стакана она увидала мутное пятно: голову на подушке. И перед тем как выпить, она пошарила: нет ли под матрацем и в подушке денег. «Одни образа», — сказала она. Опять перекрестилась, выпила водку и, накинув на озябшие плечи одеяло, пошла искать старух Смородниных.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Сторож, посмотрев непочтительно Саше на ноги, виляя руками, подвел его к высокому черному памятнику. Деревянную ограду украшали золоченые вензеля. Человечек, запахивая латаное, без пуговиц пальто, смотрел полуоткрытыми тусклыми глазами на дорогу к городу, по которой шли военные обозы. Саша спросил. Человечек не отвечал. Тогда только Саша разглядел, что надпись на черном памятнике сбита, и в камне торчат медные гвозди. Саша переспросил: «Не правда ли, это ведь могила Максима Смирнова?» «Максима Смирнова, — слабо, нервно дыша, сказал человечек, — казначея, торговца скотом, отца блаженного Анания…» Саша удивился вычурности его ответа. Человечек, видимо, сдерживая себя, заговорил:
— Напрасно смеетесь над древностью, милостивый государь! Я уже имею сообщение, что блаженный Ананий умер. Уже теперь надо мной смеяться не будут. Я сегодня над трупом все ему скажу. Меня вызвали сказать ему правду…
— Правду…
— Древность достойна сомнений, но не смеха. Здесь похоронена моя мамаша: Наталья Сухорукова. Я грязен, но не древен, и она не была древна, она умерла пять лет назад. Вы смотрите на эту могилу с сомнением? Правильно, потому что вы не видите на ней надписи. Надпись эту администрация кладбища приказала сбить. Почему же сбита надпись? Потому, что я не мог внести плату за могилу, а сдунуть с лица земли памятник у администрации нету сил, средств, ибо он весит тысячу двести пуд. И вот, чтобы досадить, они сбили надпись. Но сбили, конечно, не они, а вот этот ради насмешки сказанный вами Максим Степанович Смирнов, казначей и скотом промышлявшая дрянь.
— Уверяю вас…
Пафос охватил господина Сухорукова неудержимо:
— Разорил всю семью, по ветру пустил из-за страстей своих исключительно! Не мог сдержать себя Максим и в аду не сдержит. Его черти жгут, а он к бабе хочет! Многим это неизвестно, так как многие забыли Максима. Двадцать лет прошло с его смерти. Сынок знаменит, но и сыну я скажу правду! Меня призвали сказать ему перед гробом правду… Блаженному братцу Ананию! Тридцать лет лежал Ананий на смертном одре, каждый день сбирался умереть, забыть об этом грешном мире. И не умирал. Горел по женщине. Похотью исходил! Все надеялся — встану! И если б знал, что не встанет, что суждено лежать ему до самой смерти, тогда бы на пальцах своих рук пополз бы он к женщине. Десять верст бы прополз. Приполз, а ее нет. Она померла. И тогда бы Ананий, не отдыхая, полз бы дальше, к ее могиле. Могилу разрыл бы зубами. Он верит, что она жива и его ждет. И она, действительно, живая лежала бы в могиле… Вот я Ананию и скажу! Вот обозы пройдут, я и на скит, чтоб не задержали обозы, солдаты. Я скажу: врешь, Ананий, промахнулся, помер.
— Я вчера был…
— Поступайте подобно им. Вот я спущусь в ад — я нарочно грехов больше делаю, вот, например, на бога мне наплевать. Я встречу Максима Смирнова… Я слов здесь приготовил. Максим Смирнов — злодей, убийца. Мамаша моя, Наталья Сергеевна, красотой не отличалась. Но чресла ее были приготовлены господом для многих рождений. Так вот Максим Смирнов, прельстясь ее чреслами и будучи семидесяти лет возрасту, пригласил ее к себе. В сенях, на охрану, поставил приказчиков. И опозорил. Три года плакала мать, запустила торговлю — и скончалась. Я был зол и бессилен, не мог я овладеть хозяйством. За могилу даже не мог заплатить! Вот, смеетесь, но надпись сбили. Мамаша моя без фамилии теперь!.. Всякий может подойти и назвать самую обидную фамилию… Сестра у блаженного Анания была красоты адовой. И ее Максим Смирнов положил на свое ложе. Ребеночка она с ним прижила, и ребенку тому Максим Смирнов хутор приписал… Ребеночек тот теперь муж, подобный мне, и на хуторе постоялый двор содержит… А еще…
Слабое дыхание, пахнущее укропом, носилось у самой сашиной груди. Господин Сухоруков трясся, желая еще рассказать многое. Саша оттолкнул его и побежал к воротам. По крестам порхали синицы. День был высокий и ясный. У ворот Сашу остановил сторож и сказал, попрежнему непочтительно глядя ему на ноги:
— Можете на могилку, опросталась. У нас на ней видный в городе человек молился. Боец, страдатель. Ну, я вас и не пустил.
— Молиться? — спросил утомленно Саша.
Сторож уже шел вперед. И вот Саша увидал оградку с бронзовыми ангелочками по углам. Дерн украшал могилу, цветы. Старушка в длинной пестрой шали с зелеными разводами, держа в руках букетик резеды, сидела в оградке, на скамеечке, недавно окрашенной.
— И вы здесь же молитесь? — спросила она.
Саша посмотрел на нее недоуменно. Старушка начала объяснять: видение было одному человеку, чтобы пришел на эту могилу и помолился. А он был хром, молился горячо, домой ушел отсюда, не хромая. Сапожник он. Теперь для облегчения жизни и исцеления сюда ходят многие.
— Но знаете ли вы, кто здесь лежит? — спросил Саша.
— Смиренный человек, видимо, лежит, — ответила старушка.
И могила, точно, была смиренна: чугунная распростертая ласточка лежала на кресте, подле чугунного венка. Ласточки сверкали в небе. Что намекало на те ужасы, которые опочили в этой смиренной и опрятной могиле? Кто говорил, что здесь лежит тело прелюбодея, ростовщика, истязателя?.. Сашей овладело отчаяние, — он невольно перекрестился. Он схватил руками золоченого ангела решетки и залепетал: «вот и уйду от них, уйду… к чорту, к чорту…» И здесь голос, который звенел в нем и томил его тело все последние дни, окрикнул его. Он оттолкнул ангела. Бирюзовые сережки порхнули в небо. Перед ним, спуская розовый зонтик, стояла Марья Александровна.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Едва лишь обозы скрылись в городе, господин Сухоруков поспешил в скит. Его никто не звал, — он соврал Саше о зове. Он ожидал пожарища, боя, — скит мирно спал. Подле церквушки была разбита нарядная палатка (даже с окнами из целлулозы). Пред палаткой, на медвежьем ковре, усыпанном белыми блестками нафталина, дремал часовой. Квокча, бродили по траве куры. Многое радовалось веселому дню. У открытой двери в церковь дремали старухи Смороднины — плечо в плечо. Слова исчезли с гневного языка господина Сухорукова! Он поспешил в церковь. Блаженный, длинный и сухой, лежал, прикрытый парчевым покровом. Лицо у него было желтое и — веселое! Свечи чадили очень торжественно. Господин Сухоруков на мгновение растерялся. Ему стыдно было сознаться, что мертвому Ананию он не может сказать обличительных, давно приготовленных своих объяснений. Но сказать необходимо, — ибо он опять пылал гневом. Он выскочил. В огромном двору, подле сада, где жил блаженный Ананий, спали на кошмах солдаты. А в саду топилась банька. Господин Сухоруков пошел на дымок.
Девки окатывали друг другу голову водой из колодца. Они узнали его. «Комар пришел, — закричала лениво Манжет, — сейчас загудит…» Из бани несло раскаленными камнями. Грудастая девка Лушка стирала грязную нижнюю юбку. На голое тело ее было надето бархатное платье и поверх, чтоб не замочить, клеенка со стола. Высокие полсапожки девок были туго зашнурованы и ярко начищены. Господин Сухоруков выкрикнул азартно: «И обличу… будет так жить!..» Лушка отвязала клеенку, вытерла мыльные руки, взяла его за рукав и ввела в предбанник. Она подала ему стакан самогона. У стены лежал смятый ворох веников. Подушки были усыпаны сухими листьями. Господин Сухоруков вздохнул, выпил. Девка прижала его к груди, и когда он затрясся, когда колени его стали сгибаться, и он потянул девку неуверенными руками за юбку, — она, гикнув, ударила его в живот коленом! Господин Сухоруков с воем бился на вениках. Девки хохотали. Лушка вернулась к корыту, взяла свернутую жгутом юбку и стала выжимать ее. «Синьки кабы, и совсем красота», — сказала она. Манжет послушала всхлипывающего Сухорукова и протянула: «Хоть без слов воет, все веселей». Девки опять захохотали. Ворот скрипел, колодец оброс мхом; на каплях, падающих с деревянного ведра, плыли отражения дыма из бани.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Номер был в два окна. Одно полуприкрытое ставней, разбитое, тихо звенело, когда ходили по комнате. Марья Александровна, заикаясь и по обыкновению глядя на свои руки, сказала, что старушка Смолина посоветовала ей поехать к блаженному Ананию. Приехала, было скучно, говорили, что блаженный помер, она пошла помолиться в собор. Здесь знакомая направила ее на святую могилку, благо и кладбище-то было недалеко… И она хотела добавить еще о горе Ипполита Селифантьевича, но вспомнила, как ночью, стараясь не шлепать туфлями, пришел он к ее ложу, — и как она отогнала его. Она умолкла. На жестяном крашеном подносе стоял чайник. Она налила стакан. Чай уже остыл.
Она подошла к окну и раскрыла ставень: «день-то какой», — сказала она тихо. И Марья Александровна и Саша поняли, что теперь только остается высказать ту мысль, которая сейчас их обоих и веселит и умиляет! Преступления, о которых они теперь узнали и которыми наполнена земля, столь велики, что их грех, — мучительный и длинный, — теперь забавен и ничтожен!..
По слегка наклоненному, чем-то похожему на извивающееся тело подоконнику скользнули два клочка бумажки, обрывки писем, которых много написала в эти дни Марья Александровна. Клочки эти, затейливо крутясь, опустились на мостовую. Тихое дыхание реки чуть-чуть поиграло ими и покатило их дальше по булыжнику.
Вл. Лидин Волхвы
Летчики, братья Шаргон, Ренэ и Пьер, поднялись с парижского аэродрома на рассвете ветренного и ненастного дня. Путь их полета — был трудный путь безостановочной скорости, бесперебойной работы мотора и двух человеческих сердец. Вылетев из Парижа, они должны были пересечь Германию, Польшу, Россию, держа курс на Сибирь, на великую границу Китая. Братья Шаргон устанавливали очередной рекорд.
Париж еще спал в этот час. Всю ночь бушевало ненастье, заливая город дождем; на аэродроме было пустынно и широко несло пронзительной сыростью, словно из открывшейся щели вселенной. Несколько невыспавшихся репортеров с аппаратами, несколько официальных лиц — явились проводить их в далекий путь. Оба рослые, закованные в кожу, со спокойными глазами завоевателей, братья стояли возле ангара, дожидаясь, когда выкатят их аппарат. В глубине ангара, под таинственно поблескивающим серебристым подкрыльем аэроплана, возились механики, снаряжая его в великое странствие.
Полчаса спустя, вздымая воздушный смерч и срывая с провожающих шляпы, заработал мотор. Младший, Пьер Шаргон, летевший в качестве борт-механика, проверял это стальное сердце, которому вверяли они теперь свою жизнь, славу и честь. Все было в отличном порядке; прекрасно, бесперебойно работало победительное сердце машины. Определение ветра, последние залпы затворов фотографических камер, несколько фетровых шляп, потрясаемых в воздухе, прощание с близкими — и разом, стремительно заработал мотор, занося смерчем, вихрем, лютыми воплями своей титанической глотки это поле надежд и прощаний. Дрогнув, сорвался легко аппарат и понесся по полю, глухо шурша о землю колесами, содрогаясь от этих толчков, и вдруг легко заскользил, устремился, оставляя насиженную ненужную землю. Описав полукруг, он стал набирать высоту. Уже глубоко внизу, в туманах и снах, открылся утренний город. Это был — Париж. Угрюмо и ненастно, в чешуе домов и геометрическом чертеже авеню, высился Нотр-Дам; невидные химеры ревниво сторожили близкое пробуждение города. Пустынною перспективой тянулись Елисейские поля. Один только раз младший из братьев поглядел на этот оставляемый город — и всего на одно лишь мгновение. Стрелки приборов и безостановочный рев мотора согнали в ту же минуту выражение нежности и печали с его лица.
Резко на восток взял теперь курс аппарат. Все же серебристо и как бы безмятежно в этом ненастьи, последней улыбкой любимого города блеснула Сена, судорожно извиваясь в разъятой пасти предместий. Дымили фабрики, — шли уже фабрики, пригород. В какие-то минуты покрыл аппарат километры города, пересек пути железных дорог, сложный паучиный рисунок их черных сплетений, — и полевым простором открылась родина. Альтиметр отметил — тысячу метров. Туманы, туманы лежали в этот час над Францией. Опять дрогнул руль глубины, все выше стал взмывать аппарат, как бы освобождаясь от земных очарований. На минуту запутался он в облаках. Стада, полчища облаков неслись, обступая сыростью, словно серным дыханием космоса. В вихревых течениях заколыхался, провалился на миг, снова стал набирать высоту аппарат. Мгновенье спустя — бледно, точно недовольное их вторжением, еще не готовое, чтобы показаться человеку, открылось небо. Лазурью и тишиной, голубеющей крышей мира лежало оно над буйством облаков непогоды. Ренэ Шаргон повернул к брату посветлевшее лицо.
— А над Парижем льет дождь, — сказал он удовлетворенно.
Вскоре золотеющим, словно омытым ливнями шаром выкатилось свежее солнце. Мир повеселел. Как бы расступаясь под натиском этого победоносного восхождения светила, стали расходиться облака. В их мутных расселинах снова показалась земля. Аппарат, загруженный бензином, припасами дальнего перелета, облегченно устремился вниз, в открывшиеся облачные скважины. В этот час удобнее было лететь над землей, внизу было тише, меньше вихревой кутерьмы атмосферы. Ненастье оставалось позади, над Парижем. Расчерченным простором возникнуть должна была вскоре долина Шампани. Город прошел внизу шпилями и крышами. По улицам уже двигались повозки — окрестные крестьяне везли овощи на утренний рынок. Братья молчали, сосредоточенно думая каждый о своем, километры за километрами пересекая родину. Внизу открывались Крези, Монмирайль — места великих битв, неизжитых потерь. В трауре незабываемых лет лежала родина, — здесь гибли люди, братья, товарищи. Так же, только на боевых истребителях, поднимались братья Шаргон в эти годы великих битв; окопы и блиндажи, цепи обозов, санитарные городки — страшная угроза цивилизации — открывались тогда внизу. И теперь, обуреваемый каждый этими нестерпимыми воспоминаниями, братья искали взорами очертания страшных и миновавших следов. Взволнованный, вглядывался младший, Пьер Шаргон, в светлеющие пояса дорог. Он мог бы сказать:
«Великая Франция! Все-таки цивилизация не погибла…»
Угрюмая сила, угрожавшая гибелью ей, отброшена назад и разбита… и ему, Пьеру Шаргон, также принадлежала честь защиты и спасения родины. Миром лежали залеченные поля, пахарь прошел своим плугом по местам недавних побоищ. Внезапно открылся извилистый светлый рукав реки. Сияя утренней платиной, отражала река набухающий день.
— Марна! — почти торжественно сказал Пьер Шаргон.
Это была Марна, Шалон — и дальше Верден… священная страшная память неутолимых, неискупленных страданий. Война!.. Тысячу раз будь она проклята. Гунны, исчадие веков, зловещая угроза колыбели великой цивилизации… победителями над этой побежденною силой пройдут они своим великим летным путем — от самого Парижа, через скифскую окраину Московии, до древних китайских границ.
Так, в этих мыслях, проносились они над утренней Францией. Чудесно работало сердце их аппарата, ровно было биение стального пульса, также возглашавшего торжество их победы.
После полудня изменилась погода, подул резкий ветер. Аппарат заколыхался, проваливаясь в воздушные ямы, чаще заработали иллироны — боковины несущих плоскостей, выравнивая аппарат. Лица стали зябнуть от сырости. Младший Шаргон спустился в кабину и достал термос с горячим кофе. В угрюмом безмолвии и ненастьи открылась деловая земля Германии. Шли поезда, дымили заводы; в зловещем тумане, словно полноводная трещина земли, прошел Рейн; слева на северо-запад остался Кельн; Кассель, Саксония, откуда недавно надвигалась темная сила полчищ, возникали в буднях труда, угольно-черных дымах фабрик, укрощенною силой недавно бушевавшего поколения. Это поколение полегло под Верденом, в Вогезах, на Марне, — уцелевшие из него и дети погибших отцов зализывали теперь горькую сукровицу ран. Торжествующая цивилизация обрекла их на годы лютого труда, на годы искуплений.
Угрюм и долог был этот путь над Германией. Время давно перегнуло за обеденный час. В этот час беспечно обедали люди в Париже, — летчики отпили из термоса горячего кофе, заедая сухим хлебом с сыром. День стал склоняться к сумеркам. По временам Пьер Шаргон проверял работу частей, подливал масло, орошая лицо и руки его теплыми брызгами. Впереди лежал ночной путь через Восточную Пруссию. Вскоре просеялась мгла, заслоняя последнее свечение дня. Задул пронизывающий стремительный ветер. Летчики надели поверх меховые пальто. Города внизу проходили уже в огнях. Все чаще стали определять путь полета по компасу, сверяя с картой на роликах. Медные винты свернули Францию, сворачивали Германию постепенно.
За Одером, за Франкфуртом на Одере возникала широкая долина Познани. Близилась Польша. Авиационные маяки, опознавательные знаки зажглись на аэродромах и на местах посадок. Поезд, выбрасывая колючие стрелы искр, шел из Франкфурта в Познань. Ночь постепенно обвисла на крыльях аппарата. Братья сменились. Младший, Пьер Шаргон, сел за руль. Утомление от шума мотора, от ветра, от напряжения — начинало сказываться. Хотелось спать, — нужно было бороться с этой утомительной угрозой. И еще — нестерпимо, мучительно хотелось курить. Ренэ Шаргон дремал по мгновеньям, знакомым напряжением сваливая с себя наползавшую тяжесть. Все упорней приходилось бороться с наступающим ветром. Стало трепать. Порывы ветра как бы уносили по временам рев мотора. Проваливаясь, снова набирал высоту аппарат. Шли часы.
Давно уже кончилась Восточная Пруссия, теперь проходили над Польшей. Городок какой-то в роде Брдова иль Кутно промигал ночными провинциальными огнями. Польша спала. Упорно сверял путь по карте старший Шаргон, озабоченно поглядывая на компас. Время шло и шло, не размыкая ночного мрака. Не сбились ли они на этом пути? Внезапно Пьер, сидевший за рулем, сказал удовлетворенно:
— Вот!
Он указал рукою вперед. Как бы лунный дымный свет исходил от земли. Воспаленными глазами вглядывались братья в свечение земли. Это в ночи — светилась Варшава. Они обменялись молча торжествующим взглядом. Словно облегченнее заработал теперь мотор. Сонливость сошла. Ревнивые мысли победителей торопливо затемняли собою усталость и предстоящие еще впереди сутки — двое суток полета. Отсюда, с Запада, на далекий Восток принесут они в шуме моторов торжествующую песню цивилизации. Опять побеждает Запад, как бы могучим дыханием выправляя вновь свою славу. И Варшава прошла внизу, бессонная, в огнях, в транспарантах огней — Варшава. Какие-то минуты победоносно они проносились над ней, над ее пылающим центром. Но вот слиняли огни, сменились тусклою цепью окраинных фонарей, нищее предместье спало в ночи, не озаряемое светом. Ночные поля встретили мраком, еще кое-где вдоль шоссе светились последние фонари. И мгла объяла.
Теперь кончились световые маяки, сияющие знаки аэродромов. На рассвете пройдет граница великой России, неизмеримыми пространствами залегшей на восток, до самого Тихого океана. И карта и компас сменили признаки земли. Ночной полет над болотами, над Столбцами и Неманом, а слева, на северо-западе, останутся Вилейка и Молодечно, места великих прорывов и загубленных армий. Здесь гибли русские, восточные союзники, спасавшие Париж. Сосредоточенно, привычно вникая в неистовый ропот мотора, Пьер Шаргон думал о великих путях истории. Путями этой истории, над городами, равнинами, реками, сопряженными с памятью битв, павших бойцов, наступающих полчищ, прорвавшихся армий, железных мешков обхватов, потерь и побед — проходили они ночным полетом. Горделивые, волнующие мысли тревожили его в эти ночные часы. В три часа пополуночи, по их расчетам, перелетели они границу России.
Под утро ночная буря утихла. Ниже пошел аппарат над мережущей землей. Вероятно, Орша прошла своей железнодорожной станцией — еще в сумрачных тенях утра. Непогода сопровождала их. Шел дождь, затягивая водяным дымом землю. Внизу швыряли аппарат воздушные течения; нужно было опять в этом тумане итти по карте и компасу. К утру, однако, косые тени дождя остались позади. Снова возникла земля в зеленеющих полосах посевов; каким-то ядовитым фисташковым цветом, полоса за полосой, веерами уходили назад эти посевы. С волнением смотрели братья на открывшуюся русскую равнину, впервые видя страну неслыханных угроз и свершений. Часы отмерялись. Посевы сменились болотами, чаще шли российские города в своем неотразимом своеобразии. Путь Наполеона к Москве — от Смоленска до Вязьмы и до Можайска. До сих пор, до восточных окраин простерлось далекое величие Франции. Одними из первых, конквистадорами, проложат они, братья Шаргон, летный путь — над этим земным путем, залегшим в истории.
Внезапно Ренэ Шаргон почти вонзил свои серые колючие глаза в мреющее марево полуденных миражей.
— Ты ничего не видишь? — спросил он, наконец, не поворачивая лица.
Теперь также стал вглядываться брат. В мареве, в знойном полуденном блеске засияли далекие золотые осколки. Он вскинул бинокль к глазам. Стекла Цейсса приблизили это видение. Словно азиатскою роскошью, неумеренно раскиданным золотом, белым камнем открылся далекий громадный город.
— Москва! — сказал старший снова, попрежнему не поворачивая лица.
Почти торжественно, мрачно ревел мотор. Побледнев, смотрели братья, не отрываясь, на этот загадочный город. Ранняя северная осень уже утомленно теплилась в окрестных рощах и примосковных садах. И город приблизился. Блеском куполов, теплой тишиной согретого камня, зелеными островами садов приветствовал он летевших над ним людей. Колыбель новых чаяний, туманных мечтаний народов, духовный водитель Востока и ждущих раскрепощения племен… Стремительно совершал аппарат свой полет над этим загадочным городом. Улицы, маковые зерна людей, человеческих толп, автомобилей, повозок, — все уносилось назад быстролетным мельканием. Круги аэродрома забелели призывно, знакомо приглашая к посадке, — но дальше лежал безостановочный путь. На одно лишь мгновенье поглядели братья в глаза друг другу: какими-то словами, которых так и не сказали они, обменялись они в эти минуты полета их над Москвой. Долго проходил внизу нескончаемый город — и вот опять скрестились стальные пути железных дорог, сплетаясь в узлы и излучины. Москва осталась позади. Они шли далее, на восток.
За этот день пересекли они сотни километров пути. Не знаемые степные просторы сменили города и железнодорожные нити. Солнце и ветер, люто обветривший напоследок лица летчиков, сникли; желтоватая заря пылающим горном лежала на западе, как бы освещая собою дальнейший их путь. Аппарат шел низко над степью. Изредка доносились запахи степных трав. Небо было очищено, нежно синело к востоку, уже наливаясь драгоценным сиянием редких звезд. Живительным и глубоким дыханием дышала степь в этот час.
В седьмом часу перед вечером братья почувствовали перебои мотора. Именно почувствовали, а не услышали этот зловещий нервический срыв, потому что как будто попрежнему ровен был привычный, успокоительный звук, но уже новые привходящие ноты сопровождали его теперь. Встревоженно — минуты, протянувшиеся для них в часы, летчики прислушивались, проверяя работу мотора. Какая-то роковая неисправность сложного и выверенного механизма неотвратимо надвинулась; пристально высматривал младший Шаргон работу частей, обдававших масляными теплыми брызгами его лицо. Минуты позднее он определил неисправность: это была неисправимая здесь, в воздухе, порча. Пьер Шаргон повернул к брату искаженное, полное отчаяния лицо. Нужно было снижаться. Почти на переломе пути, после двухсуточного нечеловеческого напряжения, когда вплотную приблизилось торжество их победы, надо было где-то в безвестной степи прервать рекордный безостановочный путь. Уже угрозой звучал теперь срывающийся ропот мотора. Широким полукругом, снижаясь, пошел аппарат над степью. Неотрывно и зорко оглаживали серые колючие глаза неровности открывшихся просторов. Точно стервятник над добычею, кругами стал парить аппарат, — и первый земной толчок потряс его существо. За первым толчком — глухие удары как бы стали сокрушать его угрюмой угрозой земли. Глухо зашуршали и забились под колесами травы; тормозной крюк позади бороздил целину, как плуг. Лопнула камера правого колеса, — в последнем судорожном сотрясении, едва не опрокинувшись на бок, аппарат стал, наконец.
Разгибаясь с трудом, наполовину оглохшие, почти кроваво обветренные летчики вылезли из аппарата. Минуту они освобождали себя от одежды, снимали шлемы. Воспаленными глазами оглядели они этот мир. Это была — степь. Безумолчно ввечеру трещали цикады. Пахло разогретыми за день травами. Беловатый ковыль вечерней тихой рекою струился вдалеке. Справа, как бы заслоняя собою полнеба, высился купол земли, древний курган. У кургана внизу паслись овцы, отары овец; слышен был их старческий кашель. — Пить, пить! — пока только пить, — затем уже раздумывать, определить место посадки, приняться за исправления. Ренэ Шаргон достал бутылку виши. Жадно, по очереди припадая к горлышку, братья опустошили бутылку. Затем сокрушенно они оглядели осевший на бок аппарат. Жалко лежал он в степи, как подбитая птица.
Старший остался возле аппарата. Младший пошел к кургану и к белым овечьим отарам. Непривычными, отвыкшими от земли ногами шагал он туда. Вскоре ветер донес едкий овечий запах. Степная сухоросная ночь мягко неслась на широких своих прохладных крыльях. У подножья кургана горел костер. С сухим шорохом тысяч ног, с кашлем и блеяньем подвигались овцы. И летчик увидел людей. Их было трое. Как древние волхвы, опираясь на посохи, в какой-то первобытной одежде из шкур овец, стояли пастухи возле нежаркого огня ночного костра. Почти неподвижно, как жертвенный, дым прямо поднимался кверху. У пастухов были войлочные шляпы с большими полями и густые бороды патриархов. Почти смущенный этим библейским видением, древним обликом овечьих стад, пастухов и кургана, — летчик подошел к людям ближе. Не двигаясь, словно не встревоженные диковинным появлением небывалой здесь птицы, пастухи ожидали приближения человека. Из-под косматых бровей, как бы из глубины веков, смотрели пытливые глаза, привыкшие к степи и к одиночеству.
Полчаса спустя летчики сидели в дыму костра. В котелке над огнем варилось скудное едово овечьих поводырей. Точно сновидением после воспалительных часов полета и напряжения, возник перед летчиками этот степной простор, овечьи отары, с древним простодушием попирающие степь, и пастухи, радушно угощавшие их своей немудрой едой. Каким-то глубоким дуновением древности, первоосновою жизни была полна эта ночь. Шафранная заря догорела на западе. Кашляли овцы. И сон, сон — освобождение от усталости и обиды — стал смежать воспаленные веки. Летчики решили заняться починкой аппарата с утра. Вернувшись, они забрались в кабину и мгновенно уснули, камнем свалившись в небытие.
Пьер Шаргон проснулся на рассвете. Все было непонятно. Какие-то пространства пересекал аппарат, ревел мотор, запечатлевшись своим неумолчным звуком в сознании. С трудом собрал он себя. Рядом спал брат. Недвижно стоял аппарат на земле. Пьер Шаргон с сокрушением вылез из кабины. Предрассветный нежно-пепельный час был над степью. Ни дуновения ветра, ни звука. Даже ковыль не бежал серебряной своей неустанной волной. Белым островом, голова к голове, спали овцы в текущих водах тумана, стынущими озерами лежавшего в степи. Спали пастухи, спала земля. Чудовищно в серебряном этом мареве уходила в самое небо глыба кургана. Великим кочевьем шли люди, народы древности, насыпая курганы, как вечное напоминание о себе будущим племенам и народам.
Летчик пошел по степи. Тишина и безмолвие встречали его в этот час. Перепелка со сна, вероятно, завела было свое веретено и смолкла в траве. Летчик дошел до кургана и стал подниматься наверх. Ему захотелось оттуда, сверху, оглядеть спящий степной простор. Священной могилою пращуров была эта насыпь земли, поросшая травой и кустарником. С трудом сильными ногами он одолевал крутизну. Жарче и торопливее колыхалось сердце. Наконец, добрался он до вершины. Необозримое, незабываемое видение возникло пред ним. Далеко в степные просторы уходили курганы памятью великих кочевий. До сих пор в них ржавеют кольчуги, старинные копья и утварь, окружая изголовье человеческих перетлевших костей. Здесь шли народы, чтобы растечься, осесть на пустынном материке, именуемом ныне Европой…
Смущенный всем этим смутным дуновеньем веков, летчик смотрел в степные необозримые дали. Первые камни будущей циклопической стройки, с вершин которой с высокомерным недоверием глядели сюда, на Восток, люди его племени, — возникли теперь перед ним в пленительной и тревожащей первобытности. Тишина сторожила сон предков. Все голубее и пламенней разгоралось небо, обещая степной нетревожимый день. И вдруг как бы от свистящего звука стрелы дрогнула утренняя тишина. Словно тень заслонила на миг млечное небо, — огромный степной орел поднялся из-за кургана и медленно воскрылил в высоту, обходя человека кругом: верно, принял его он за отставшего агнеца. Прекрасен в утру был полет степной птицы. Пройдя над ним трижды кругом, пошел орел на восток, навстречу уже пыльно заполыхавшему краем солнцу. Косая желтая тень залила степь, а на ней, на утреннем этом золотистом сиянии, медленно плыла тень птицы, словно два неба — золотое и синее — отражались одно в другом. Заблеяли овцы, просыпаясь; с шорохом тысяч ног они уже подвигались к далекому, старчески-бирюзовому глазу озера.
Дав взойти полному утру, захмелев от степного вина просторов и запахов, летчик спускаться стал вниз. Спускаясь, срывал каблуками он землю, удерживаясь на крутизне. Внезапно в осыпи земли, покатившейся вниз под его ногой, заметил он странный предмет. Присев, он очистил его от земли и рассмотрел на ладони. Это был наконечник стрелы, грубо граненый, истончившийся от ржавчины — первобытное оружие добычи и битв. С волнением и трепетом летчик смотрел на эту пролежавшую веками в земле, немудрую и детскую стрелу дикаря. Эпоха великих битв, газов, воздушных эскадрилий и танков — все, принесенное в дар земле цивилизацией, — давно сменили первобытное и бесхитростное мужество человека — воина и охотника… Он бережно спрятал наконечник в карман, как горький дар неповторимого этого утра.
Летчики провозились в степи весь день, исправляя поврежденье. В глиняном кувшине принесли пастухи им воды. И к вечеру уже, вселяя беспокойство и ужас в овец, заработал мотор. Трава стала рваться, уносимая вихрем. Тонкая пыль кисеею пошла по степи. Старший Шаргон дал полный газ. Летчики уселись на свои места. Разом понеслись назад пастухи, овечьи отары, курганы. Знакомые секунды ожидания — и вот, оторвавшись от земли, аппарат стал набирать высоту. Пьер Шаргон долго, со смутным чувством смотрел на уплывавшую степь. Словно часть вселенской родины, которую ощутил он в это утро, стоя на кургане и следя за полетом степного орла, оставлял навсегда он теперь. И работа мотора, карта и стрелки приборов привычно сменили в нем это чувство.
Дни спустя, вновь пересекши великие переделы стран и народов, великую чересполосицу прошедших и будущих войн, — увидели летчики далекие очертания города. Полосою тумана означилась Сена.
— Наконец-то Париж! — сказал Ренэ Шаргон торжествующе и указал брату на далекое это видение, трепетом, радостью и ожиданием наполнявшее обыкновенно сердце. Но со странным и себе самому необъяснимым чувством — тот не ощутил в этот раз прежней победительной радости. Родина встречала его, но это было уже как бы вторичное цветение. Где-то в степи, на случайном пристанище, почувствовал он родину веков и народов, и как бы поблек перед нею в своем очарованьи единственный доселе, неповторимый Париж. Он ничего не сказал брату об этих своих чувствах, мало понятных ему, не привыкшему к смутным раздумьям. Знакомые круги аэродрома означились в городских перспективах. Лучами расходились улицы и Елисейские поля, венчаемые Триумфальною аркою в гнезде их схождений. И уже четверть часа спустя удар колес аппарата о землю встряхнул приветствием возвращения. Люди бежали по полю к ним, махая платками и шляпами.
Стоя в их кругу, закованные в кожу, обветренные ветрами и зноем пространств, летчики улыбались, непривычно растягивая застывшие мускулы в улыбку. Щелкали затворы фотографических камер. Вечерний Париж теплел своей смуглою нежностью, ожидая близкого вечера отдыха и утех. Автомобиль легко уносил летчиков с аэродрома в этот их город. Оглядывая знакомые улицы, заливаемый негреющим светом вечернего смуглого солнца, Пьер Шаргон в правой руке в кармане держал наконечник стрелы, как бы по-новому проясняющий теперь для него великие судьбы и миновавшие и грядущие пути человечества.
Евг. Замятин Слово предоставляется товарищу Чурыгину
Уважаемые гражда́не — и тоже гражданочки, которые там у вас в самом заду смеются, не взирая на момент под названием вечер воспоминаний о революции. Я вас, граждане, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, так прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.
Перво-на-перво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то у вас тут все как по-писанному идет, а это неписанное, но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.
Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происходит очень темная — в роде у каких зебр или подобных племен. В числе, конечно, и я был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию — ну, теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке — царство ему небесное! — было годов этак двадцать пять, и кроме того он был ростом очень длинный, однако, грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой — это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.
Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почем зря, особенно одна с копьем, в роде бог — конечно, не наш православный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни с фонариками, а наши бабы стоят и сквозь забор пялятся, и Степка тоже.
Степка — он не то что шаболдник был или что, а так в роде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все ему завидуют сзаду и спереду, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а, можно сказать, отбросы общества — или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками псалтырь читала.
Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: «Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?» Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идет. Ну, тут он меня измутыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались — насилу отдох.
А Степка утром — папаше в ноги: «Отпустите, говорит, меня в монастырь. Я, говорит, не могу, как вы, жить ежедневно, потому у меня в груде́ стоит неизвестная мечта». А папаша ему произнес: «Ты, говорит, Степка, практический дурак и более ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону». Степка начал, было, против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной — он и говорит Степке: «А в писании-то в твоем что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должон. Вот это действительно святые слова». Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.
И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков как телухи ревут, и притом мороз.
В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои первой степени с Георгием и в скорости жди меня обратно. Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей — глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие — не слыхать, только пар из роту клубками в виду холодного мороза.
Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: «Надо повзгодить, покуда он там с своей бабой произведет смычку». И только он это сказал — егорова баба к нам сама ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голосом: «Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться». Ну, думаем, должно быть, исколотил, — надо вступиться за женское существо. Сполоснули руки, пошли.
Входим, глядим — самовар кипит, на лавке постель изделана, все даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да только как стоит: к сундуку прислонен в роде какой куль овса, и голова у него — наровнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны.
Обомлели мы — стоим безо всяких последствий. Спустя Егор засмеялся нехорошо — так что у меня даже зубы заныли — и говорит нам: «Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь на бабу меня кладите при вашей помощи». И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот этот вот прищемил, но даже никакой примерной боли не чую: иду — и все в глазах воображение Егора у сундука.
Вечером в егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. Егор — под иконами на лавке, к стенке прислонен ли стоит, ли сидит — уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собравшись — все на него ужахаются и молчат, и он молчит, курит, а я возле печки, и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шуршат.
Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спиртной предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только это налил другой, как чей-то мальчонка с улицы вкатился и кричит с удовольствием: «Барин! Барин!» Глядим — правильный факт: барин Тарантаев в дверях. Бритый весь, и дух от него очень роскошный — видать, пищу легкую принимает. Кивнул нам эдак — и прямо к Егору: «Ну, говорит, Егор, поздравляю, поздравляю». А Егор лицо ухмыльнул на один бок неприятно и произнес: «А позволю себе: с чем вы меня поздравляете?» Барин ему ответственно говорит: «В виду, что ты есть гордость и герой, приявший за отечество». А сам дерюжку приподнял, какою были закрыты у Егора нижние места, и нагнулся носом, глядит.
Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел — да как по шее его дряпнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху волнения ткнул Егора, который на бок, как куль, а подняться не может, с криком: «Бей его! Бей!» Я в составе других подскочил к барину, сердце у меня, как заячий хвост, трясется, и вот ничего мне не надо — только в глотку ему вцепиться, то есть вкратце — классовая борьба. Барин Тарантаев, красный, рот разинул — сказать, но об наши ненавистные глаза обстрекнулся, как в роде об крапиву — и бегом в дверь.
Под напором этой победы мужики затихли и Егору говорят, что ты, действительно, герой первой степени. Егор, конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму присел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам и шмякнуло. «Но мы, говорит, в скорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам беспрекословно известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет». Тут как это услыхали наши — ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам — крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик. И вот, граждане, конечно, про этого Григория Ефимыча я теперь понимаю вполне целесообразно, но тогда у меня от этого известия прямо пульс начался.
Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил барина по шее, то вышел у нас с этим пауком натянутый разрыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный черкес с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в усадьбу ходили насчет газет и прочего, а теперь живем в полном лесу, как зебры, и ничего не знаем, какие события на далеком шаре земли, например, в Петербурге.
И так своевременно происходит бывшее Рождество Христово и масленица, мороз переменный. И на масленице папаша получает из города от Степки внезапное письмо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не было и, можно сказать, один читаемый человек Егор, то к нему народу собралась труба — степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике беспрекословно известно, что насчет бога — это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло одно значительное убийство и потому ждите, в скорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично.
Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: «А что, кричит, я вам насчет Григория Ефимыча-то говорил? Это все его работа, уж это уж будьте спокойны!»
Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет бога в виду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако, чуем — это все не зря, и, действительно, ждем. Чего ждем — не знаем, а в роде как бы, извиняюсь, животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим — про Григория Ефимыча.
В течение времени этак происходит день или два и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная естафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится — от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий и он говорит: «Это — начинается. Теперь глядите за усадьбой невступно и мне докладайте».
На случай часовых поставили меня да еще одного — горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и притом все слыхать, какое на дворе в усадьбе нервное волнение и собаки, и мы трясемся. Спустя глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку, просто кричит: «Але́!» И, значит, санки — в одну сторону, а этот конный — обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся и я — прямо как в виде алкоголя — сам не знаю чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» — и лошадью мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, говорю, ничего, а вот у вас что?» — «Это, говорит, не касается. Але́!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, говорю, насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возражает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой — тю-тю: его, слава богу, давно пристрелили!» — и при этом скачет в направлении.
Тут я что есть мочи — к Егору. В избе у него — полное присутствие наших мужиков и все в натянутом ожидании. Как я начал доклада́ть, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу — все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение этого прискорбного антракта Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.
Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в Питере происходит торжество и юбилей революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, отдаленные звуки в полной связи, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошолку с сеном и поставили на розвальни. Спустя Егор объявил из кошолки, что, значит, часы пробили и больше это невозможно, и мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу, и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а, может, он еще, бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как в роде у кобеля, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.
Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице, и вы лучше без печальных последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошолки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели, а теперь обязаны узнать факт, и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно сломаем.
Тут мы слышим молчание с шопотом, потом заскрипели ворота — открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошолке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит во-всю к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: «Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, говорит, мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах ты, такой-сякой!» — и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, говорит, тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».
Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был внутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.
Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своевременному письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками — вот этак вот, в роде крыльями, ну, прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»
Что, как — не знаем и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия в роде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрился возле статуи на скамейку, варежкой слезы утирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили, и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему Евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошолки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с богом — круши весь их роскошный бюджет!»
Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил в статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего трупа и говорит: «Это ни в чем невиноватая драгоценная статуя, и я, может быть, ее вез сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».
И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и он говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю в роде знамения и предлагаю обнажить шапки».
Я вас, гражда́не, кратко прошу принять, что мы тогда были народ всецело темный, как говорится — индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошолкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его бюджет. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.
А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошолке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки в роде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный первый и последний день новой жизни!»
Только он это произнес, как видим: тот самый голубь по́рхнул вверх, а из чердачного окошка — незначительный дымок. И, может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела — и наш Степка с известной улыбкой падает носом в сугроб.
Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклёматься не поспели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, и затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!»
Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и в роде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака, и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.
В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд, с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает преждевременная красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает псалтырь, и народ с разными слезами.
Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя, приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч или, вкратце, Гришка — был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.
И в заключение я вижу, что которые гражда́нки сперва сидели с видом смеха, то теперь они имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава богу, существует на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, граждане, в ваши неизвестные ряды.
Л. Леонов Старухи
(Драматический отрывок).
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.
Александра Павловна, — 63 года.
M-me Rabutin, — 61 г.
1 старуха (басовитая), — 66 л.
2 старуха (нервная), — 66 л.
3 старуха (глухая), — 66 л.
Графиня Ухтоксина, — 71 г.
Екатерина Петровна, — 67 л.
Прислуга Маша, — 50 л.
Матрос.
Общежитие дворянских вдов в Ксениинском институте. Октябрь 1917 г. Длинный, низкий коридор с полукруглыми окнами.
Поздний вечер. Александра Павловна раскладывает пасьянс. Вокруг — старухи.
* * *
Алекс. Павл. (за пасьянсом). — Двойка… Ну, куда, куда вы собрались, Natalie? Эта же в самом деле опасно!
Наталья Петр. — Да… но Nikolas! Всю неделю он лежал. Вчера должен был заехать за мной… а его все нет!
Алекс. Павл. — Nikolas мужчина! Он сумеет сговориться с ними. Туз, король, дама! Редкая удача… Nikolas отдаст им деньги и уедет к себе в именье. Им нужны только деньги! Господи, третий туз… это может испортить настроенье! Машка, да не гляди же мне под руку…
Наталья Петр. — Странное дело… но Nikolas? Он совсем один… (Помолчав) И кроме того я очень хочу есть, кузина!
2 старуха. — Я тоже хочу, Маша!
3 старуха. — Qu'avez vous dit?
2 старуха. — Ce n'est pas a vous que je parle! Маша, ну, где же она… как ее?
1 старуха. — Вобла! (смеется).
3 старуха. — Je n'entends rien… (Все смеются).
Маша. — Ну, чему, чему расхохотались? (смягченно) Погодите, принесу счас! Сущие дети, пра…
(Уходит. В раскрытую дверь разговор по телефону:)
— Хаз… Хаз… Четвертая буква какая? Хазыбулин? Какой водопроводчик? Да вы с ума, что ли, повскакали, дьяволы?..
(Алекс. Павл. раздраженно закрыла дверь.)
Rabutin. — Quel horreur! Kasibulin? Comtesse, qu'est que ca signifie?
Ухтоксина — Peut etre fusil?
Наталья Петр. — Он конечно заболел, Саша! Что же теперь делать? (Смотрит в окно) Все солдаты… костры. Теперь они сожгут Петербург! Саша, ты сердишься на меня?
(Стук пулемета.)
Алекс. Павл. — Ступайте… Вот-вот! Вот и подстрелят…
2 старуха. — Кого?
1 старуха. — Тебя, матушка!
2 старуха. — Меня… за что?
1 старуха. — Они найдут за что! (Смеется) Егозлива ты, матушка!
Наталья Петр. — Он непременно заболел, Саша! Я все-таки пойду! Nikolas, что ты со мной делаешь? Как я устала, Саша!.. и голова болит! Ты не сюда кладешь валета! Даму сюда, и тогда освободится место… Дайка мне!
Алекс. Павл. — Как ты мне надоела с своей мигренью, кузина!
1 старуха. — От мигрени карандаши раньше бывали. Потрешь, и пройдет!
Ухтоксина. — Maintenant ils viendront nous chercher?
Алекс. Павл. — Это какой-то сумасшедший дом! Да где же Машка-то? (Вошла Маша. Ворвался и прервался гул) Да закрывайте же дверь, Маша!
Маша. — Вот, по рыбине на брата дали… еле выпросила. Счас ихний старичок проехал. Сбираются, зерфикс!
(Раздает воблу.)
2 старуха. — Машка, ты меня терзаешь! Не ихний, а их, их, их… Дай и мне!
Маша. — Да уж нечего тут! (Ухтоксиной) Погоди, барыня, я тебе нарежу! (укорительно) Эй, куда тянешься? Ведь уж взяла одну. И не совестно?!.
1 старуха. — На завтра запасаюсь! (Смеется).
(Вдалеке ссора.)
Rabutin. — Ухтоксин, вы опять сьел мой клеб!
Ухтоксина. — И вовсе нет, вовсе нет!
Маша. — Фу, какая дрянь! Так и норовит, прости господи… то куклу отымет, то на подушку плюнет. (Прокричала в раздражении:) Сосете вы меня, ведьмы! Ну, чего, чего вы? Кто кого обидел?
Алекс. Павл. (1 старухе). — Отодвиньтесь, пожалуйста, вы же брызгаетесь! Какие вы все противные с этой воблой!
1 старуха. — Подумаешь, фря!
(Старухи обиженно отходят к окну. Разговор у окна:)
— Все солдаты!
— Это не солдаты, а самокатчики…
— Вы все выдумываете от старости! Самокатчиков не бывает.
Наталья Петр. (робко) — Саша, отпусти меня! Мне надо, уверяю тебя. Если он поедет в Ефремовку, его убьют на дороге! Там все мужики. Мужики, когда они в этом, в солдатском, они ужасны. Они притворяются смирными, а внутри… Ой, как сердце заколотилось! У тебя бывает? вдруг заколотится… пу-пу-пу… и вдруг вниз. Когда три года назад убили великого князя Сергея…
Алекс. Павл. — Его убили не три года назад, а семь лет. Ты все путаешь. Совсем дитя стала!
Наталья Петр. — Прости, прости… но не все ли равно, раз его убили! Nikolas был тогда такой маленький. Мы уехали ночью, а позади горела усадьба. Nikolas плакал. А он ведь красивый мальчик! Правда? Когда в Царском, на смотру… (стрельба) Саша, пуля может пробить стену?
Алекс. Павл. (раздраженно). — Конечно, может. Пуля все может!
Наталья Петр. — А я совсем не боюсь: мне все равно стало. Я пойду, я уж старая. А как странно, кузиночка! Время: это грустно. (Напевает) When we two parted, in silence and tears… Это Верочка пела в Ефремовке, помнишь? Чудаки все какие. Предводитель Казаров, помнишь, за полчаса до обеда надевал фартук и бежал на кухню пробовать соусы. И все прошло, ничего нету. In sekret we met; in silence I grieve… А ведь у Верочки был голос, правда?
Алекс. Павл. — У Верочки? Да… Но ты сама-то не фальшивь, пожалуйста! Вот теперь выходит. Семерка, шестерка, пятерка… а двойка сюда. Она уже семь лет как умерла, твоя Верочка. Вертушка была!
Наталья Петр. — Да ведь и ты была вертушка, Саша. Кисловского помнишь?
Алекс. Павл. — Какие глупости!
Наталья Петр. — А, знаешь, ведь он в меня влюблен был!
Алекс. Павл. — У него вообще был дурной вкус. Одна его курчавость чего стоила!
Наталья Петр. — Вы дерзки, кузина!
Алекс. Павл. — Я люблю правду. А у вас всегда блестел нос… как солдатская пуговица!
Наталья Петр. — Вы злая, злая… и лжете как прислуга! (Сбивает ей карты).
(Суматоха. Выстрелом пробито окно. Растерянная тишина.)
2 старуха. — Маша, что… что там происходит? Ведь это все твои… твоя родня! Солдаты, пожарные…
(Маша молча стоит; потом начинает подбирать карты на полу.)
Алекс. Павл. — Машечка, я сама, сама подберу!.. ты сходи туда, узнай. Что им надо?
Наталья Петр. — Да, да… узнать.
Маша. — Трудиться теперь надо…
Rabutin. - Quoi?
Маша. — Трудиться, говорю. Травайе!
Ухтоксина (потерянно). — Да-да, мы будем трудиться!
1 старуха. — Трудись, не трудись… Теперь всех нас зарежут! (Злостно косясь на остальных) Ноне, говорят, всех стариков на мыло перепущают!
(Старухи в ужасе отступают.)
Маша. — Совсем ты, барыня, с ума спятила!
Наталья Петр. (торопливо). — Маша… дайте мне этот платок, который я вам тогда подарила. Я пешком, я и пешком… Помогите мне… вот так. Не сыро на улице? Мне на Морскую…
Маша (мрачно). — Сидели бы вы дома, Наталья Петровна. Ведь ночь, куда вам!
Алекс. Павл. — Заткните окно хоть тряпкой. Маша, Маша!..
1 старуха. — Хороша Маша, да не наша!
Алекс. Павл. — Глупо, мадам, а еще воспитательница! Не ходите, Natalie!!
Наталья Петр. — Нет, нет!.. Ну, теперь все хорошо. Nikolas, он и не чувствует! Морская, дом семнадцать, семнадцать… не забыть! (Гул с лестницы или с улицы).
Маша. — Опять кричат. Погодите, узнаю… сбегаю счас!
(Ушла. Ворвался голос:)
От районов представители есть? Даешь сюда!..
Наталья Петр. — Ну, я пойду! Саша, Верочке кланяться? Ах, да что же это я? Au revoir, mesdames! Похлебицы мне оставьте на столике (села). Ой, как сердце заколотилось Ах, Nikolas! Смешно как… (закрыла лицо руками).
Алекс. Павл. — Как все это глупо у тебя выходит!
1 старуха. — Скатертью дорога. Гостинцев приносите! (смеется).
(Пауза.)
Алекс. Павл. (плача). — Natalie, старые мы с тобою стали. Как нехорошо это получилось! Natalie, ты не сердишься? Ну, прости, прости меня. (Хочет приласкать Нат. Петр., но голова той бессильно отваливается назад: Нат. Петровна умерла. Александра Павловна дико отскакивает, бежит к двери, распахивает ее). Маша, Машка!
(На пороге матрос.)
Матрос (взбудораженно, смеясь и почти плача от волнения). — Эй, вы… плоскодоночки… радуйтесь. Зимний взят!
(Гул, крики, отдаленное пение.)
СТАТЬИ
М. Горький Заметка читателя
Одно из самых крупных событий двадцатого века то, что человек, научившись летать над землею, тотчас же перестал удивляться этому. Утрату человеком удивления пред выдумками его разума, пред созданием его рук, я считаю фактом огромной важности, и мне кажется, что человек двадцатого века начинает думать уже так:
— Летаю в воздухе, плаваю под водою, могу передвигаться по земле со скоростью, которая раньше не мыслилась, открыл и утилизирую таинственный радий, могу разговаривать с любой точкой планеты моей по телефону без проволок, как будто скоро уже открою тайну долголетия. Что там еще скрыто от меня?
И дерзко, упорно исследуя хитрости природы, главного врага его, человек все быстрее овладевает ее силами, создавая для себя «вторую природу». При этом он продолжает жить в высшей степени скверно и все сквернее относится к «ближнему», подобному себе.
Я думаю, что скверненькая жизнь так и будет продолжаться до поры, пока человек не поймет, что его основным свойством должно быть удивление пред самим собою. Пред самим собою, во всей полноте своих творческих сил, он еще никогда не удивлялся, а ведь в мире нашем только это, только силы его разума, воображения, интуиции и неутомимость его в труде, действительно, достойны изумления.
Странно, даже несколько смешно наблюдать удивление человека пред граммофоном, кинематографом, автомобилем, но неутомимый творец множества остроумных полезностей и утешающих забав — человек не чувствует удивления пред самим собою. Вещами, машинами любуются так, как будто они явились в наш мир своей волею, а не по воле существа, создавшего их.
* * *
Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать о нем, и больше того, что он сам думает о себе. Говоря так, я говорю о совершенно конкретном человеке, украшенном множеством недостатков и пороков, о великом грешнике против ближнего и против себя самого. Известно, что он служит вместилищем семи смертных грехов.
Завистлив, но, тысячелетия завидуя полету птиц, научился и сам летать птицей.
Жаден до чужой силы, но, питаясь ею, создал бесчисленное количество разнообразных сокровищ и, в их числе, великолепные машины, уже значительно облегчающие тяжесть труда его.
Любострастен, но в греховном тяготении своем к женщине выдумал для соблазна ее и для украшения себя поэзию бессмертной красоты.
Лжив, — но выдумал то, чего не было: прекрасные мифы, веселых богов Олимпа и Прометея, врага им, выдумал Валгаллу и сатану, множество волшебных сказок и необыкновенных людей — дон Кихота, Робинзона Крузо, Гамлета, Фауста и десятки подобных.
Скуп, ибо слишком любит копить пустяки и все-таки слишком жалеет тратить силы свои для достижения лучшего, чем то, чего он уже достиг.
Горд, но я думаю, что это не грех, потому что с той поры как он начал ходить на задних ногах, а передние развил как искуснейшее орудие всех орудий, он имеет право гордиться собою.
Ленив, — вот самый тяжкий из всех смертных грехов его, именно благодаря лени и преждевременному стремлению к покою, он так медленно изменяет постыдные и мучительные условия его жизни.
Затем я бы сказал о человеке так: это самое загадочное существо из всех населяющих землю, существо, одаренное безграничной силою воображения, неутомимой жаждой творчества, дерзкой страстью к разрушению содеянного им, замечательной способностью всесторонне осмеивать самого себя и неуменьем удивляться себе самому. Вероятно, мудрецы, которые предпочитают видеть человека в звериной шкуре, скажут, что я украсил его хвостом павлина.
* * *
Кроме смертных грехов, часть которых только украшает его, человек, — как это известно, — испачкан и засорен множеством мелких, дрянненьких грешков.
Но я не моралист, это ясно из сказанного выше, копаться в хламе дрянненьких грешков я не стану, считая такое занятие крайне вредным. Вредным, — потому что пристальное рассматривание и подчеркивание маленьких человеческих слабостей как раз и устанавливает удобный для строгих судей мира, но унижающий человека «бытовой» взгляд на него, как на ничтожество по природе. Взгляд этот очень приятен любителям «духовной чистоты», кротости и покорности некоторым, издревле «господствующим идеям», на коих и основано «общество», ныне изгнившее до корней своих.
Этот взгляд разрешает относиться к человеку, как, примерно, к сырью или — в лучшем случае — «полуфабрикату». Попирая человека «под нози своя», моралисты монументально возвышаются над ним, и это их вполне удовлетворяет.
Разумеется, я не буду спорить против того, что человек иногда охотно оправдывает звание ничтожества, я сам нередко видел и вижу его таковым. Но я твердо знаю, что, по силе условий «социального воспитания», человеку очень легко быть «плохим», и что у него слишком мало причин быть «хорошим», а если он все-таки хорош, так это — его личная заслуга. Со стороны своей «плоховатости» человек мало интересен и не этим он удивителен.
Для меня человек по природе его — великомученик, у которого нет желания сделаться святым, и, погрузясь в дела мира сего, он стал просто великим человеком. Де Фоэ, Ломоносов, Руссо, Пушкин, Байрон, Менделеев, Лессепс и сотни подобных — вот что есть человек по природе своей. Надеюсь, я никого не обижу, напомнив, что некоторые из названных мною гениальных людей были людьми весьма «сомнительной нравственности».
Отсюда, конечно, не следует, что, почувствовав приступы гениальности, необходимо скандалить, как это делали и делают некоторые из современных молодых литераторов на Руси. В возрасте между пятнадцатью и двадцатью пятью годами почти все люди чувствуют себя гениями, но в большинстве случаев это нечто подобное ложной беременности: симптомы те же самые, как и при настоящей, а внутри — пусто.
Мне кажется, что было бы очень полезно смотреть на жизнь «пессимистически», а к человеку относиться со всем возможным оптимизмом.
Противоречие? Нет, почему же? Жизнь все еще, покамест, неудачная работа прекрасных мастеров.
Такой взгляд на человека уже не разрешает рассматривать его, как ничтожество, как материал для построения чьего-то благополучия — и вместе с тем этот взгляд способствует росту чувства неудовлетворенности человека своею работой. Жизнь будет всегда достаточно плоха для того, чтоб желание лучшего не угасало в человеке.
* * *
В начале девятнадцатого века было сказано:
— «Государства создаются того ради, чтоб обуздывать своеволие людей и пресекать дерзостные фантазии разума их».
Очень хорошо сказано в смысле искренности, прескверно по существу.
Но вот, десять лет тому назад, в России возникла новая форма государства, и цель его, как я понимаю, дать свободу творческим силам всей массы народа. Этот народ особенно нуждается в изменении привычной, глубоко вкоренившейся в нем оценки человека, как ничтожества. Фантастическая работа, которая начата у нас, напряжение, с каким она творится, наконец те результаты, которые эта работа уже дает, все это как нельзя лучше говорит в пользу взгляда, что человек вообще лучше того, как о нем привыкли думать.
Вероятно — спросят:
— Но почему же все человек, человек, когда нужно говорить о творчестве масс? Нет ли тут индивидуализма?
Я думаю, есть некоторая доза, но нет никаких причин опасаться ее, ибо, как известно, в небольших дозах яды полезны организму. Фосфор — яд, но без него не проживешь. Бесспорно, что масса — радиоактивное вещество, но необходим ряд условий для того, чтоб извлечь из нее чистый радий.
В Советской республике условия эти частью уже созданы и продолжают непрерывно развиваться. Культурный рост рабочего и крестьянина — факт неоспоримый. Следует сказать, что еще не было и нет государственной организации, которая заботилась бы о культурном воспитании народа так умело и усердно, как это делается в России. Я говорю об этом не только потому, что знаком с такими отличными изданиями, каковы «Крестьянская» и «Рабочая» газеты, еженедельники «Работница», «Крестьянка», превосходный журнал «Хочу все знать», «Сам себе агроном» и десятки других изданий, в высшей степени заботливо и умело обслуживающих культурные запросы трудящихся на земле и на фабриках; говорю не потому, что внимательно, поскольку могу, — слежу за работою селькоров и рабкоров и личным — интеллектуальным ростом этих, поистине, «новых» людей, — нет, не только это, известное и помимо меня, дает мне смелость говорить уверенно о культурном росте трудовой массы.
Гораздо большее значение имеют письма ко мне различных молодых и пожилых людей деревни и города, письма, из которых совершенно ясно видишь, как растет и углубляется интерес русского человека к своей стране и, вообще, к миру, к науке, к литературе и ко всему, что есть жизнь. Показателен и количественный рост «изобретателей» в области техники и особенно любопытен тот факт, что в этой области начинают работать женщины. Кстати: «Нижегородский астрономический календарь» — единственный в России, издающийся уже тридцать девять лет, отметил работу двух женщин астрономов, Богуславскую и Ушакову, как «ловцов комет», указывая, что это «первый случай». Вообще быстрый рост общественной активности среди женщин — явление огромной важности, а особенно изумительна эта активность среди женщин-мусульманок.
Что Россия живет в тяжелых условиях — это так же неоспоримо, как и то, что над созданием и укреплением этих условий усердно трудятся правительства высококультурных стран Европы, чему отнюдь не мешает мудрая инертность и немота европейских социалистов, тоже весьма культурных.
Но, несмотря на тяжесть условий жизни и вопреки им, творческая мощь России быстро растет. Об этом говорит, например, тот факт, что — как заявлено было в Москве, на съезде физиков — в то время как раньше в европейских журналах печаталось за год двадцать-тридцать докладов русских ученых, ныне печатается до ста и свыше ста докладов. При царизме ежегодно ресурсы геологического комитета не превышали нескольких сот тысяч рублей. Сейчас бюджет комитета поднялся до шести миллионов рублей в год, а в культурных государствах Запада после войны ассигновки научным учреждениям значительно сокращены. Обилие научных открытий, широкое развитие краеведчества, рост количества научных экспедиций, ряд новых научных учреждений, институтов, наконец успешность по электрификации страны, все это и еще многое должно бы убедить и слепых и глухих, что Россия, действительно, начала жить новой жизнью, и что человек ее стал более значительным человеком, чем он был десять лет тому назад.
Но у меня нет желания убеждать в чем-либо людей, «униженных и оскорбленных» собственным их бессилием.
* * *
Попутно расскажу о том, как иногда забавно «выявляется» чувство мести «униженных и оскорбленных».
Хоронили Германа Лопатина, одного из талантливейших русских людей. В стране культурно дисциплинированной такой даровитый человек сделал бы карьеру ученого, художника, путешественника, у нас он двадцать лет, лучшие годы жизни, просидел в Шлиссельбургской тюрьме.
За гробом его по грязному снегу угрюмо шагали человек пятьдесят революционеров, обиженных революцией, и среди них качалась грузная фигура одного из друзей умершего, — Герман Лопатин весьма щедро одарял людей своею дружбой.
Грузный человек шел в глубоких желтого цвета галошах-ботинках; галоши были настолько малы для ног слона, что он стоптал их, каблуки приходились почти на средину подошв; наверное ему было очень трудно и даже больно нести свое большое тело на ногах, так неудобно обутых. Я вспомнил, что накануне видел его в черных, крепких ботинках, они были как раз по ноге его. Должно быть, он продал и «проел» их. Но дня через два я снова встретил его в знакомой мне крепкой и удобной обуви.
— А я думал, вы продали галоши?
— Почему?
Я объяснил.
— Нет, — сказал он и широко улыбнулся. — Но я хотел придать еще более нищенский и постыдный вид похоронам одного из крупнейших русских революционеров. Пусть эта самочинная власть видит и поймет и устыдится…
Он сказал это торжественным тоном гражданина и борца.
Да, именно так.
А я подумал о человеке, галоши которого он, стоптав, непоправимо испортил.
Потом подумал о жалком тщеславии «униженных и оскорбленных». Нигде этот постыдный вид тщеславия не принимает таких и смешных и болезненных форм, как у нас в России.
Напомню, что в те дни «самочинная» власть с величайшим напряжением своей энергии работала над организацией защиты революции.
* * *
Никогда еще в России не было такого количества молодежи, пишущей стихи и прозу; можно сказать, что страсть к литературе приняла характер эпидемии. Зная, в каких ужасных условиях работают молодые литераторы, я, разумеется, не позволю себе думать, что литература привлекает их только как «легкий труд». Во-первых, это труд вовсе не легкий, а, во-вторых, совершенно ясно видишь и чувствуешь, что молодежь понуждает писать ее насыщенность «впечатлениями бытия». Я прочитал, вероятно, сотни две книг, написанных молодыми литераторами, и полагаю, что это дает мне право говорить о них. Но я не принадлежу к тем людям, которые, не умея плавать, пробуют учить других искусству плавания.
Меня занимает вопрос об отношении молодой литературы к герою всех драм, романов и рассказов, к «хозяину жизни» — человеку, врагу природы, окружающей его, создателю «второй природы» на основе познанных и порабощенных им сил первой, врагу и «ветхого Адама» в себе самом. Мне кажется, что «ветхий Адам» более понятен и более интересен молодой литературе, чем Прометей, похититель небесного огня и враг богов. Во всех книгах действует, — а чаще, бездействуя, только говорит — человечек вчерашнего дня, засоренный и запачканный мелкими грешками, осколками великих и дерзновенных смертных грехов.
Конечно, и маленький грешник — хороший материал для большого художника, если художник умеет преувеличить его ничтожество так, как умел делать это Ф. М. Достоевский, который хорошо знал, что подлинное искусство вообще и всегда более или менее преувеличивает действительность.
Для молодой литературы человек остается все еще ничтожеством, хотя многие из авторов на протяжении десяти лет видели его героем, а некоторые и сами лично принимали участие в событиях героических. И все-таки человек остался в их глазах человеком «для того, чтобы», а не человеком «потому, что» он есть источник самой изумительной энергии, преодолевающей все сопротивления.
Приятно видеть, что как будто исчезла тема: правоверный, но наивный сердцем коммунист и соблазняющая его на грешок прелестная, но буржуазная барышня. Но, кажется, тема эта исчезла только потому, что за десять лет барышня, несколько постарев, утратила необоримую соблазнительность свою. Спасибо ей за это! Разумеется, я шучу и вовсе не склонен понижать значение женщины в деле «очеловечивания» нашего брата, но меня несколько смущает тот факт, что в стране, где стремятся создать бесклассовое общество, литераторы продолжают изображать женщину все еще с точки зрения классовой, т. е. опять-таки, в большинстве случаев, ничтожеством, «вредной штучкой», как сознался мне один храбрый молодой писатель. Другой на вопрос: почему он унижает подругу жизни? — неловко ответил:
— Я — не унижаю, а таков быт.
Короче говоря — и повторяясь — описывают все еще старого русского человека и таким, как будто бы прожитые трагические годы ничего не изменили в нем. Не верится, что это — правда. Но если даже и правда, жив и нимало не изменился старый человек, — разве именно он характерен для нашего времени? В большинстве своем люди этого типа — Лазари, которых не воскресит даже чудесная сила искусства. Затем: в кулачных боях есть прекрасное правило, обязательное для каждого честного бойца: «лежачего — не бить», если он и шевелится.
Фотографировать судороги агонии, может быть, и полезно в интересах медицины, но это занятие не имеет отношения к искусству. Духовное умирание даже и неприятного нам человека все-таки скверное зрелище, точно так же, как и зрелище физической смерти, о преодолении которой ныне столь дерзко и упрямо мечтает наша человеческая наука.
Фотографии успешно служат для уловления преступников, но чаще для порчи стен снимками с «красивых уголков природы», симпатичных барышень, знаменитых артистов и прочих редкостей. В литературе фотографии еще более неуместны.
* * *
Человек-товарищ изображается в таком ослепительном освещении, что его уже совсем не видишь; человека-врага принято изображать одноцветно-черным и почти всегда дураком. Не думаю, чтоб это было правильно.
Где два врага, там — два героя. Писатель, который хочет быть художником, должен быть немного историком и знать, что враг — очень хороший учитель в деле борьбы, хотя его уроки и дорого стоят. И всегда полезнее видеть врага более сильным, чем он есть на самом деле.
Возможно, что это будет не совсем кстати, но все-таки я расскажу кое-что о враге.
* * *
Когда мне было лет девять-десять, у меня был враг Васька Ключарев, ровесник мой, сын чиновника, замечательно храбрый кулачный боец, сухонький, но гибкий, как стальной прут. Я с ним дрался при каждой встрече, мы бились до крови, до слез, но плакали не столько от боли, как от горя: ни тому, ни другому не давалась победа. Изобьем друг друга и, обессиленные, разойдемся, обливаясь постыдными слезами, а при новой встрече — снова бой, и снова нет победы! Целую зиму жил я мечтой поколотить Ключарева так, чтоб он признал меня победителем, он, конечно, жил такой же мечтой, и оба мы ненавидели друг друга жестоко, как дети.
На пасхальной неделе я встретил Ключарева в Прядильном переулке, знаменитом не просыхавшей в нем все лето грязной трясиной, в которой, говорили, лошадь утонула.
По одной стороне переулка во всю длину его тянулись заборы садов, на другой стояли неказистые домики, перед ними проложены были деревянные мостки, и вот по мосткам наступает на меня празднично одетый Ключарев.
Бросился он, но, поскользнувшись, упал, и руки его, почти до локтей, воткнулись в грязь. Я помог ему встать на ноги, он отшатнулся от меня и, глядя на запачканные рукавчики рубахи, сказал с кривенькой усмешкой:
— Высекут.
— Ну?
— Высекут, — повторил он, вздохнув, и спросил:
— Тебя кто сечет?
— Дед.
— Меня — отец.
Я подумал, что и отец тоже, наверное, больно сечет, и мне захотелось утешить врага.
— Пасха, — сказал я. — Может, не высекут…
Но Ключарев безнадежно покачал головою.
Тогда я предложил ему вымыть рукавчики. Он согласился не сразу и молча. Одним своим концом переулок упирался в неглубокий овраг, на дне его стояла лужа, ее именовали: Дюков пруд. Ключарев снял рубашку, я залез по колени в пруд и начал смывать грязь с нее. День был хмуренький, холодный, враг мой вздрагивал и очень грустными глазами смотрел, как смело я терзаю его рубашку. Когда из темно-коричневой она вся сделалась желтой, он тихонько сказал:
— Все равно видно, что грязная.
Подумав, решили высушить рубашку. Я в то время уже начинал покуривать замечательные папиросы «Персичан», три копейки десяток, у меня в кармане были серные спички. Вылезли из оврага, на пустыре, в развалинах давно сгоревшей кузницы развели небольшой костер и занялись сушкой рубахи. Молчали. О чем говорить с врагом?
От дыма рубашка стала черней. В двух местах мы ее прожгли: немножко — рукав и дыру на спине. Это уж было смешно. Мы и посмеялись, конечно, — не очень весело. Ключарев, с трудом наклеив на себя рубашку, все-таки еще сырую, вымазал острое лицо свое копотью и хмуро сказал:
— Я пойду домой. Драться сегодня уже не будем.
Ушел. Жалко мне было его. И, честное слово, в тот день я бы с удовольствием подставил свою спину под розги его отца.
Через несколько дней я, снова встретив врага, спросил:
— Пороли?
— Не твое дело, — сказал он, сжимая кулаки. — Становись, давай!
Дрались, кажется, более ожесточенно, чем раньше, а все-таки безуспешно. Прислонясь к забору, высмаркивая кровь из разбитого носа, враг сказал мне:
— Ты стал сильнее.
— Ты — тоже, — ответил я, сидя на тумбе: у меня затек глаз и была разбита губа.
Мы разошлись, обменявшись этими словами, в которых прозвучала не только горестная зависть, но, может быть, было скрыто взаимное уважение, смутное сознание того, что мы не только враги, но и учителя друг другу.
После этого мы еще дрались раза два-три, но так и не узнали, кто из нас победитель, кто побежденный, ибо мы никогда не рассуждали о том, кому досталось больше и больней.
В августе, после двухдневного ливня, я застиг Ключарева в овраге, на задворках Полевой улицы, он сидел на повалившемся заборе, подпирая челюсти ладонями, и когда он поднял лицо, стало видно, что веки его смелых глаз красны и опухли.
— Я не хочу драться, — сказал он.
— Боишься? — спросил я, чтоб раздразнить его, но он ответил:
— У меня сестра умерла. Это бы — ничего, она маленькая, младенец, а есть хуже: меня в кадетский корпус отдают.
Для меня кадетский корпус, огромное здание в Кремле, только тем отличался от арестантских рот, тоже огромных, что корпус был белый, а роты окрашены в неприятно желтую краску. Все большие дома казались враждебными мне, маленькому человеку, я подозревал, что в них пряталась скука, от которой могут лопнуть глаза.
Мне стало жалко врага за то, что его хотят загнать в скуку. Я присел рядом с ним и сказал:
— А ты убеги.
Но он встал и первый раз миролюбиво протянул мне боевую ручонку свою, силу которой мое тело многократно испытало.
— Прощай, брат, — сказал он негромко, глядя не на меня, а в сторону, но я видел, что губы его дрожали.
Очень не хотелось мне сказать ему:
— Прощай!
Но, разумеется, сказал. Долго с грустью смотрел, как медленно, нехотя, любимый враг мой поднимается из оврага по размокшей, скользкой тропе.
И долго после того скучно и пусто было мне жить без врага.
* * *
Рассказец, конечно, детский, наивный. Но наивность — мой горб, его, несомненно, исправит могила, люди же не исправят, даже те двуногие верблюды, которые особенно усердно стараются исправлять чужие горбы.
Кстати, — вот одна из наивностей моих: если люди, рожденные и воспитанные в атмосфере, насквозь анархизированной и отравленной разлагающими ядами множества дрянненьких соблазнов, если, вопреки вполне «естественным» условиям, искажающим их, люди все-таки могут быть неутомимыми, активными врагами этих «естественных условий» — это значит, что они могут быть, какими хотят быть.
Продолжаю наивности.
Воткнуть штык в живот человека или всадить пулю в голову его, должно быть, очень просто, если судить по тому, как упрощенно и грубо пишут об этом. В частых описаниях убийств чувствуется все то же «бытовое» отношение к человеку, как ничтожеству и дешевке.
И как будто уже есть люди, которые, привыкнув драться, не находят себе места в жизни, сравнительно мирной, хотя она и требует неизмеримо большего и продолжительного напряжения всех сил, всей воли, чем этого требует драка с оружием в руках.
Героев на час и героев на день у нас было много, но они не оставили особенно яркого следа в жизни и, несмотря на бесспорное мужество подвигов, не могли заметно изменить ее тягостных условий.
Но вот условия изменены, требуется напряженная работа для дальнейшего развития их в сторону более широкой свободы творчества, требуется героизм не на час, а на всю жизнь.
Мне кажется, что молодая литература не совсем ясно чувствует глубокое различие героизма на час от героизма на всю жизнь, что ею еще не понята необходимость поэтизации труда, и что гораздо труднее, чем убить человека, вкоренить в его сознание, затемненное и отягченное различными предрассудками, мысль, непривычную ему: человек — не ничтожество.
К сему — небольшая иллюстрация. В «доброе» старое время не удивлялись тому, что существуют дети-воры, а устраивали для них «Колонии малолетних преступников», где свободно действовал «метод взаимного обучения», и откуда подростки выходили вполне зрелыми и опытными ворами.
В Советской России тоже существуют колонии для «социально опасных». Я довольно хорошо осведомлен о жизни некоторых и особенно одной из них, под Харьковом, я знаю, что бывшие «социально опасные» выходят из нее в рабфаки и агрономические школы. Можно бы рассказать немало удивительного о людях этой колонии, но, к сожалению, лично мне сделать это не удобно.
Но вот на-днях я прочитал замечательную книгу «Республика Шкид». Ее написали два подростка, бывшие воры, воспитанники «Школы имени Достоевского для трудно воспитуемых». В этой книге авторы отлично, а порою блестяще рассказывают о том, что было пережито ими лично и товарищами их за время пребывания в школе. Они сумели нарисовать изумительно живо ряд характеров и почти монументальную фигуру «Викниксера», заведующего школой. Значение этой книги не может быть преувеличено, и она еще раз говорит о том, что в России существуют условия, создающие действительно новых людей. Возможно, что скажут: все это — исключения. Я добавлю: которые стремятся быть правилом.
В юности, когда я ненасытно читал все книги, какие попадали в руки мои, я заметил на ларьке старьевщика одну, растрепанную, в скучной, серой обложке, в рыжих пятнах сырости, сквозь пятна проступали черные, значительные слова титула:
КНИГА МУДРОСТИ И ЛЖИ.
Хотя денег у меня не было, но я приобрел эту книгу в собственность. Впоследствии я был сторицею наказан за это: у меня раскрали десятки книг.
«Книга мудрости» оказалась сборником грузинских сказок, читать ее было скучно, и я не нашел в ней ничего, что осталось бы в памяти моей.
Несколько месяцев тому назад эта книга снова попала в руки мне. Ее составил Савва Сулхан Орбелиани, напечатана в Петербурге, в 1878 г., по распоряжению факультета восточных языков. Прочитал я ее с наслаждением, и вот самое мудрое, что нашел в ней:
«Визирь рассказал царю о рае и много врал, преувеличивая действительную красоту его».
Представляю все, что могут сказать люди здравого смысла о визире и как они ловко обратят выписанную мной цитату против меня, против этой статьи!
А все-таки восхищает меня мудрая дерзость визиря, преувеличивающего «действительную» красоту несуществующего! Это меня гораздо более восхищает, чем преувеличенные описания действительного ада, созданного на земле дружными усилиями различных людей.
Именно вот этой безумнейшей дерзостью человека, силою воображения, интуиции осуществлено все то, чего не было на земле — чудеса науки, волшебство искусства, все, чем великий Муж Земли может гордиться.
И этой же дерзостью воображения, интуиции, упорной, неутомимой работой осуществится все то, чего нет еще, но что будет, если хорошо пожелать.
Человек уже тысячи раз доказал, что он может быть тем, каким хочет быть.
Двадцатого марта исполнилось двести лет со дня смерти Исаака Ньютона, одного из гениальных людей мира нашего.
В Лондоне, в Вестминстере, на гробнице Ньютона написано:
— «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».
Прекрасно сказано. Человек есть украшение мира и он имеет все основания удивляться себе самому.
А. Воронский Один оглушительный аплодисмент
(Литературный фельетон-пародия).
Я сказал себе:
— Довольно… довольно критических статей, силуэтов, заметок, арабесок, портретов, отзывов и откликов… Не пора ли испробовать свои силы на ином, более обещающем поприще? Не заняться ли созданием произведений полновесной художественной ценности и значимости, не заговорить ли языком подлинного искусства, оставив отвлеченные умствования педантам и профессорам словесности? По теперешним временам критика суть занятие довольно неблагонадежное, убыточное и сомнительное. И, действительно, много, очень много огорчений приносит она писателю, немало путает она и добродушных читателей, и отнюдь не благоденствует, ох, не благоденствует и сам критик. И кроме того: может ли, в состоянии ли сухая теория поспорить с живыми изобразительными средствами искусства? Нет и нет! Вот вам разительный пример: недавно попались мне на глаза стишки, не помню уж, какого поэта. Поэт писал:
С дикой яростью свирели, С шумным грохотом морей Провожу я параллели Жизни гнусныя моей.Согласитесь, стишки, пожалуй, посредственны, безусловно посредственны. И что же? Две недели под ряд они преследовали меня неотступно. Поднимался ли я, очумелый, с постели, развертывал ли газетный лист в поисках похвальных рецензий (а чаще всего: не изругали — и слава богу), шел ли с таинственным видом в редакцию, объяснялся ли исступленно и невразумительно с братьями-писателями, сидел ли по вызову или по личному почину, встревоженный, в чинной приемной, томимый духовной жаждой, обуреваемый сомнениями и упадочными настроениями, — всюду и везде четверостишие не давало ни отдыха, ни сроку моей измученной душе… А вы говорите!..
…И я решился… Меня потянуло к художественной прозе. Но если писать, так уж писать… с полной, так сказать, идеологической выдержанностью и так, чтобы даже редакция «На литературном посту» преклонила предо мной колена и голову (или: свою коленопреклоненную главу) и воздала мне достодолжное. Я перечитал всех признанных «выдержанных» писателей, я последовал советам самых суровых обличителей и блюстителей литературной нравственности от Зонина и до Ермилова. Не скрою — они помогли мне существенно; признаюсь — многие из них оказали на мое произведение могущественное воздействие, и если вы, негостеприимный, угрюмый и неведомый читатель, найдете — а наверное найдете — следы прямой и даже слепой подражательности, заимствования, — не судите меня судом строгим и беспощадным: начинающие писатели всегда кому-нибудь подражают: это уж так повелось испокон века. К тому же доказано тов. Юрием Либединским, что пролетарские писатели — такова уж их участь по уверениям писателя и критика — всегда, ныне и присно начинают со штампа, со стандарта и подражательности. Он, Юрий Либединский, открыл этот непреложный закон. Не оспаривайте, ибо стоящие на посту легко и даже вполне свободно смогут прямо с поста отправить вас на свою новонапостовскую съезжую. Я же именно и мечу в пролетарские писатели без изъянов и без оговорок. На меньшее я не согласен. Надоело мне быть маловером, надоело мне валяться на нарах этой самой съезжей, хочу упиться победами, хочу признаний и торжественных в мою пользу шествий.
Итак, приступим к делу, как говорят положительные люди.
ОДИН ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ АПЛОДИСМЕНТ.
Глава первая.
Было и лето и осень дождливы. Были затоплены пажити, нивы, хлеб на полях не созрел и пропал… (Пояснение для неискушенных читателей: начало — дань старому культурному наследию, его надлежит всякому добропорядочному писателю использовать вполне и всецело).
Как раз именно в такой трагической и двусмысленной обстановке и совершилось назначение в одно учреждение красного преда тов. Микешина.
Совслужащие вверенного ему учреждения встретили преда у подъезда на улице с непокрытыми головами и с неописуемым восторгом в глазах. Они бросали вверх шапки выше облака ходячего и оглашали воздух победными, но благопристойными криками. Громовое «ура» сопровождало тов. Микешина, когда он поднимался по лестнице.
— Давно мы ждали вас, тов. Микешин…
— Дождались, наконец, праздничка…
— Наконец-то вы прибыли, дорогой пред!
— Он милый, милый, хотя и в веснушках!
Тов. Микешин проследовал в клуб, битком набитый жадными слушателями. Все смолкло в томительном и вещем ожидании.
Он говорил:
— Товарищи, — говорил он, — товарищи и товарищи. Не поддавайтесь… смычка… товарищи. Кроме того, надо сокрушить гидру бюрократизма о ста головах и произвести повсеместное и потрясающее сокращение штатов.
Раздался один оглушительный аплодисмент.
От избытка невыразимых чувств многие плакали и даже рыдали. Одна совбарышня позабыла даже намазать губы кармином и попудрить нос. Другая упала в обморок.
Тов. Микешину отвечал честный беспартийный с кривым боком и галстухом во всю грудь (У Гомера: «отвечал благородный, шеломом сверкающий Гектор»):
— Мы, беспартийные, умрем за вас, наш неимоверно-любимый пред, — восклицал он. — Мы, бывшие и недавние саботажники, узрели, наконец, истину. Клянемся!
— Клянемся! — в один невероятно мощный голос повторило собрание.
Раздался один оглушительный аплодисмент.
Тов. Микешин отбыл в свой кабинет.
Глава вторая.
В кабинете секретарша прежнего преда совершила на тов. Микешина наглое нападение, а именно: она подошла к его столу, вихляя бедрами, полуоткрыв сочно-карминный рот и блистая зубьями. Она подсунула преду бумаги для подписи, выставляя намеренно узкие, отполированные, розовые буржуазные ногти, наклонилась так, что ее пепельные, пышные, видимо, дворянского происхождения волосы коснулись девственно-целомудренной рабоче-крестьянской щеки тов. Микешина. И она, — т. е. не щека, а секретарша, — она сказала:
— Тов. Микешин, нужно подписать вот эти бумаги.
Она сказала только это, но весь ее похабно-преступный, хотя и обольстительный вид бессознательно говорил:
— Вы — дуся, дуся, красный пред. Я готова служить вам столь же беззаветно, как и прежнему преду, и даже еще больше. Я ничего не имею против, если вы поцелуете меня.
(Отступление и примечание: каков, чорт возьми, толстовский приемчик!).
Но Микешин ничего не знал о графских литературных приемчиках. Он сразу пропитался нестерпимой классовой ненавистью к секретарше. Поэтому он ответил прямо, честно и решительно:
— Этот номер не пройдет. Я — женат и имею детей. Кроме того у меня есть своя секретарша, а вы увольняетесь за сокращением штатов.
— Ах, — воскликнула секретарша и упала в помрачительный обморок.
— Балуй, дура! — пробурчал решительно тов. Микешин, с классовой стопроцентной ненавистью глядя на ее белую шею. — Эти штучки нам известны.
Сказав это, он твердой поступью и с гордо поднятой главою вышел из кабинета.
Секретарша мигом поднялась, вполне хладнокровно, рассудительно и типично промолвила вслух:
— Не прошло здесь, пройдет в другом месте. Нам тоже известны эти штучки.
Ее следовало бы отправить в ГПУ, но в кабинете никого не было.
Глава третья.
Перейдем теперь к обрисовке нашего героя, как писали в доброе старое время. Герой наш никогда не опаздывал на службу; наоборот, он приходил за полчаса ранее всех, дабы показать блистательный и заразительный пример. Он никогда не пользовался автомобилем и всегда прибывал в учреждение пешком, вызывая тем самым несказанное умиление среди подчиненных ему. Он был доступен, обходителен и обаятелен, но без позорного послабления и мелко-буржуазной расхлябанности. Он благодетельно и невозбранно руководил всеми заседаниями, комиссиями, подкомиссиями и бюрами (тут как будто неграмотно; ничего: слопают!).
Однажды он заболел тяжко и смертоносно. Уже холодели его уста, произнесшие по подсчетам на худой конец до ста тысяч речей, — уже готовы были закрыться его орлиные вежды, и уже сочинялись некрологи с трогательными, скорбными и прочувствованными окончаниями: «спи спокойно, дорогой товарищ!» — и вот раскрылись его замутненные предсмертной тоской очи, разомкнулись уста, и он сказал слабым, но проникновенным голосом:
— Подайте мне портреты всех завов нашего главка, прошлых, настоящих и будущих.
Поднесли ему портреты всех завов, прошлых, настоящих и будущих. Их было много. И он смотрел на них и не мог насладиться. Потом встал и пошел как ни в чем не бывало в учреждение и подписывал бумаги, и все были подавлены.
В состоянии ли слабое перо изобразить живописно эпоху благодетельных реформ, какая воспоследовала после сего? Нет, не в состоянии. Но и умолчать о том не могу.
— До него и после него, — в таких кратких, простых и полных значения словах надлежит выразиться по поводу несравненной и потрясающей деятельности тов. Микешина.
Достаточно сказать, что его учреждение стало недосягаемым образцом для иных прочих учреждений. «Равняйтесь по Тромбону тов. Микешина», «Даешь выработку Тромбона», «Учитесь у Тромбона» — так писали газеты.
До него в Тромбоне была чехарда, бестолочь.
После него и при нем — железный порядок. Служащие перестали слоняться по коридорам, рассказывать друг другу юдофобские анекдоты. Теперь они вдохновенно сидели за столами и даже не требовали сверхурочных за время, проведенное в курительных, в уборных и в иных злачных местах.
До тов. Микешина был неуемный бюрократизм.
После него никакого бюрократизма не было.
До него были растратчики.
После него растратчиков не было.
До него были раздутые штаты.
После него штатов не было.
Тов. Микешин утвердил смычку между городом и деревней.
Во главе с самоотверженными работниками учреждения он совершил несколько наездов в соседнюю Грязновскую волость. Он исправлял плуги, бороны, молотилки и сеялки; управлял трактором, он лечил коров, лошадей, кур, кошек, овец, мужиков и баб, он электрифицировал, инструктировал, конструировал, кооперировал, музицировал, драматизировал, и когда провожали его крестьяне домой, — это был не отъезд, а триумфальное победное возвращение с поля культурной брани. Девяностолетний слепой старик Памфил шел впереди всех, плакал, даже почти рыдал и, почти рыдая, он говорил:
— Спасибочка, спасибочка вам, тов. Микешин. Вы разогнали тьму, и вот теперь мы прозрели. Да здравствует Тромбон!
Раздался один оглушительный аплодисмент.
Нет, не в силах я изобразить и живописать блистательную деятельность тов. Микешина в Тромбоне. Предоставлю лучше слово нашему кривобокому беспартийному с пышнейшим галстухом, произнесшему вполне яркую речь в день торжественного юбилейного заседания, посвященного несравненной деятельности тов. Микешина.
— Тов. Микешин, — говорил кривобокий беспартийный, держась крепко-на-крепко обеими руками за галстух, как за якорь спасения, — вы возродили нас, вы вдунули в нас такой дикий энтузиазм, что мы не знаем даже, что нам с ним делать. Да, нам делать нечего, ибо все совершенно вами сверх нормы, свыше всяких смет и предположений. Воистину нам некуда больше спешить и надлежит лишь безвозбранно с вашего разрешения наслаждаться и, так сказать, пожинать.
Я кончил.
Раздался один оглушительный аплодисмент. Грянул Интернационал. Было слышно, как на улице шли мерной поступью железные батальоны рабочих.
* * *
Тут я, собственно говоря, должен кончить свой выдержанный рассказ. Интернационалом, как известно, кончаются не только собрания, съезды, конференции, но и лучшие повести, но и рассказы, но и романы. Это уж так заведено: раз конец, значит Интернационал и мерная поступь. Но дело осложняется тем, что на сей раз рассказ имел, к сожалению, продолжение, и я обязан поведать о нем читателю, поведать с некоторым прискорбием, ибо последующие за написанием рассказа события, происшедшие с автором, оказались далеко невеселыми и не оправдали роскошных его надежд на торжественные в пользу его приветственные шествия. Да, не весело мне, товарищи, было, но скрыть правды не могу.
Воодушевившись темой и концом рассказа и переписав его чисто-на-чисто, решился я отправиться по редакциям. Прежде всего я направился к Н. И. Бухарину, дабы рассеять его злые настроения. Я знал, что тов. Бухарин неуловим; я гонялся за ним сорок дней и сорок ночей и в конце концов я поймал его.
Он встретил меня, выражаясь мягко, не очень приветливо.
— Николай Иванович, — вскричал я восторженно, нимало не смущаясь его вполне хладнокровным отношением ко мне, — Николай Иванович, я написал чудный, чудный рассказ: никакого пессимизма, никакой есенинщины, одна вопиющая бодрость, бодрость и бодрость. Никакой блинной идеологии, никакого свинства, энтузиазм, Интернационал, полное использование прежнего культурного наследства, ей-богу. Относительно формы, стиля, языка, конечно, не мое дело судить, но… — тут я застенчиво потупил глаза и поковырял ногтем краску на столе, — но могу заверить: выразительно, красочно, сам плакал и смеялся, когда перечитывал.
Николай Иванович бегло просмотрел мой рассказ, поморщился, сказал в нос:
— Не подойдет: однообразная идеологическая пища.
Я был несколько обескуражен, но бодрости и твердости духа не потерял и поспешил в ВАПП.
— Товарищи! — говорил я там, — мною написан чудный, чудный рассказ: производственная тема, классовый подход, никаких упадочных настроений, вольное обращение с грамматикой, синтаксическое своеобразие, эмоциональное заражение даже на расстоянии, свежесть зарисовок, живые люди, примите и напечатайте.
— Не напечатаем, — ответили ВАПП'ы хором, коллективно просмотрев мое произведение. — Во-первых, это — плагиат. Вы списали у нас рассказ и выдаете за свое, оригинальное произведение. Во-вторых, оставьте ваши штучки, подвохи и подходы: они нам даже очень хорошо известны. Обанкротившись, вы решили примазаться к нам. Таких чубаровцев и разложившихся мы гоним в шею. Идите к своим Горьким, Бабелям, Ивановым, Леоновым и разлагайтесь с ними до конца. В третьих, нам негде помещать, так как «Октябрь» из-за отсутствия подписчиков и читателей думают закрыть. В четвертых, мы организуем федерацию советских писателей и не знаем, как на ваше произведение посмотрит Абрам Маркович Эфрос. Словом, проваливайте, пока ноги целы. В ближайшем номере «На литературном посту» мы разоблачим вас совершенно, окончательно и безусловно.
Потрясенный отказом, я отправил рассказ в редакцию «Звезды».
— «Звезда» приютит мой вполне роскошный рассказ, — уверял я себя. — В «Звезде» подвизался вождь пролетарских писателей Майский, «Звезда» колыбель новой цивилизации.
Спустя две недели я получил обратно рукопись и письмо от редакции:
— Что вы, очумели, что ли, — писала мне почтенная редакция, — или с луны свалились, или белены объелись, или проспали двести лет, или притворяетесь, или не читаете нашего журнала? Очухайтесь, товарищ! Да ведь мы давным давно уже установили ставку на Федина, на Каверина, на Ольгу Форш, на Тынянова и на Правдухина, не говоря уже о Сейфуллиной. И вот тираж журнала теперь повышается, вы же своими рассказами хотите вновь снизить его. А где режим экономии, а где самоокупаемость, а где органический подход к человеку, а где общечеловеческая точка зрения в вопросах искусства, а где наши критические разъяснения и изумительные статьи тов. Зонина?!. Опомнитесь, дорогой! Не валяйте дурака, и да будет вам довольно стыдно. Мы вам не Лелевичи, не Родовы, не Безыменские и не Вардины. И вообще просим не затруднять ни себя, ни нас. С попутнически-коммунистическим приветом — редакция.
Тут уж я впал в мелко-буржуазную расхлябанность и побежал к тов. Микешину, к моей последней надежде. Это посещение было и самым трагическим: вовек его не забуду.
Я застал тов. Микешина в его рабочем кабинете.
— Тов. Микешин, — говорил я торопливо и захлебываясь, — я написал про вас чудный, чудный рассказ: освещение, идеология, положительный тип, смычка, Интернационал. И нигде не печатают. Прошу, умоляю — подарите мне пятнадцать-двадцать минут, вы не пожалеете, ей-богу.
Тов. Микешин завозился на стуле, угрюмо посмотрел на меня, промолвил:
— Я, собственно говоря, занят, но… читайте.
Я читал, я читал вдохновенно, упиваясь оборотами своей речи и живой изобразительностью картин и лиц. Я, вероятно, напоминал глухаря, когда он токует.
— Вон! — вдруг загремел исступленно тов. Микешин, вставая и стукнув увесистым кулаком по столу. — Вон отсюда, чтобы и духу твоего здесь не было! Ты что же это написал, ты кого это изобразил? Ложь, непотребство, сусальность, тульский пряник, полнейшая безответственность.
— А успехи? А достижения? — пролепетал я, спешно убирая рукопись со стола.
— Успехи, достижения, — возопил Микешин. — А ты знаешь, чего стоят эти успехи? Ты варился в нашем котле, ты работал в этом проклятом Тромбоне, чтоб его черти разорвали? Ты знаешь, какие препятствия приходится преодолевать? Ты рассказал о них? Ха, героика! А ты понимаешь что-нибудь в этой героике наших дней, наших будней? Вон!
Он схватил меня за шиворот, потащил к дверям, поддал куда следует коленом, я загремел вниз по лестнице.
Докатившись до последней ступени, я встал, ощупал себя, отряхнулся, принял независимый, хотя чуть-чуть и обиженный, но вполне достойный вид и даже начал насвистывать нечто бравурное. Микешин, стоявший на верхней площадке и наблюдавший за мной сверху, недоуменно выпучил на меня глаза, с изумлением пробормотал:
— Это уж чорт те што. Ни стыда, ни совести.
Я задрал голову кверху, ответил весело:
— Никаких упадочных настроений! Один оптимизм! До свиданьица!
Сделав ему ручкой нечто в роде прощального приветствия, я, как ни в чем не бывало, вышел.
Раздался один оглушительный аплодисмент. Ехидная остренькая мордочка выглянула из дверей и тут же спряталась. Разглядеть мне ее не удалось, но она-то и аплодировала мне.
На улице встретил Бабеля. Просмотрев мой рассказ, он прищурил глаз, сказал:
— Воняйте, воняйте, дорогой мой, как старый сыр: со слезой и доброкачественно.
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ
Письма Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому
Комментарий М. Цявловского.
Из переписки Л. Н. Толстого с Н. А. Некрасовым до сих пор известно пятьдесят пять писем. Из них двадцать семь Л. Толстого и двадцать восемь — Н. А. Некрасова.
Из писем Л. Толстого до сих пор опубликовано двадцать четыре: семнадцать — Н. С. Ашукиным в книге «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову», М. Изд. К. Ф. Некрасова, 1916, одно — в кн. И. И. Панаева «Литературные воспоминания с приложением писем разных лиц», Спб. 1888, стр. 414–415, пять — в «Современник» 1913, N 8 и одно — там же 1913, N 1 (дополнено в «Голосе минувшего» 1916, N 5–6, стр. 50–51). Три не опубликованных (не отправленных) письма хранятся в архиве Л. Толстого, в Публичной библиотеке имени Ленина.
Из писем Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому до сих пор опубликовано лишь шесть: четыре — в «Литературных приложениях к Ниве» 1898, N 2, одно П. И. Бирюковым во II томе его биографии Толстого и одно в «Голосе минувшего» 1915, N 5, стр. 211–212. Нами печатаются остальные двадцать два письма Некрасова по подлинникам, хранящимся в Публичной библиотеке имени Ленина[1].
Письменные сношения Толстого с Некрасовым начались 3 июля 1852 г., когда проживавший в станице Старогладковской (Кизлярского округа, на левом берегу Терека) «фейерверкер 4-го класса батарейной N 4 батареи 20 артиллерийской бригады» Лев Толстой послал рукопись своего первого литературного опыта — «Детство» — редактору лучшего в то время журнала «Современник».
В завязавшейся переписке Толстой и Некрасов обменялись до апреля 1853 г. семью письмами: четыре со стороны Толстого (3 июля, 15 сентября, 27 ноября и 26 декабря 1852 г. — все напечатаны в указ. кн. «Архив села Карабихи») и три со стороны Некрасова (первые числа августа, 5 сентября и 30 октября 1852 — все напечатаны в «Литер. прил. к „Ниве“»).
Главной темой этих писем были посылавшиеся Толстым для напечатания в «Современнике» произведения «Детство» и «Набег».
* * *
1.
1853 г. 6 апреля. Петербург.
6 Апрѣля 1853 Спб.
Милостивый Государь,
Лев Николаевич,
Вѣроятно, вы недовольны появленіемъ вашего разсказі въ печати. Признаюсь, я долго думалъ надъ измаранными его корректурами — и наконецъ рѣшился напечатать, сознавая то убѣжденіе, что, хотя он и много испорченъ, но в нем осталось еще много хорошаго. Это признают и другіе. Во всяком случаѣ это для вас мѣрка, в какой степени позволительны такія вещи, и впредь я буду поступать уже сообразно съ тѣмъ, что вы мнѣ скажете, перечитав вашъ разсказ в напечатанном видѣ.
При семъ прилагаются 75 р. сер. слѣдующія вамъ за этот разсказъ.
Пожалуйста не падайте духом отъ этих непріятностей, общих всѣмъ нашимъ даровитымъ литераторам. Не шутя ваш разсказ еще и теперь очень живъ и граціозен, а был он чрезвычайно хорошъ. Теперь некогда, но при случаѣ я вамъ напишу болѣе. Не забудьте Современника, который расчітывает на ваше сотрудничество.
Примите увѣреніе въ моемъ истинномъ почтеніи
Н. Некрасовъ.В письме речь идет о рассказе «Набег», начатом Толстым в станице Старогладковской в ноябре и посланном Некрасову 26 декабря 1852 г. В сопроводительном письме Толстой, потерпевший от цензуры и, как он думал (может быть, неосновательно), от редактора, писал: «Милостивый государь! Посылаю небольшой рассказ; ежели вам будет угодно напечатать его на предложенных мне условиях, то будьте так добры исполните следующие мои просьбы: не выпускайте, не прибавляйте и, главное, не переменяйте в нем ничего. Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось вам, что вы не решитесь печатать без изменения, то лучше подождать печатать и объясниться. Ежели, против чаяния, Цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то пожалуйста не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне»[2].
Просьб этих Некрасов не исполнил, чем и объясняется извиняющийся тон письма. Изуродованный цензурой рассказ «Набег» был напечатан в мартовской книжке «Современника» за 1853 г., за подписью: «Л. Н.».
В известных до сих пор письмах Толстого и Некрасова следующих за письмом Некрасова от 6 апреля 1853 г. является письмо Толстого от 17 сентября 1853 г. (напечатано в кн. «Архив села Карабихи»). При письме этом Лев Николаевич посылал Некрасову рукопись «Записок маркера». Ответное письмо Некрасова, написанное «довольно скоро по получении рукописи» (письмо Некрасова от 6 февраля 1854 г.), не дошло до Толстого.
14 января 1854 г., перед отъездом с Кавказа в Ясную Поляну, Толстой писал Некрасову, спрашивая его об участи «Записок маркера» и извещая, что готовится продолжение «Детства» «Отрочество». Это письмо неизвестно. Ответ на него Некрасов написал 6 февраля 1854 г. (напечатано в «Голосе минувшего», 1915, № 5). Толстой получил его в Ясной Поляне 13 февраля, о чем есть запись в дневнике. Что ответил Толстой и ответил ли, неизвестно.
Во второй половине февраля Толстой выехал из Москвы в Дунайскую армию и 12 марта приехал в Бухарест, откуда 27 апреля послал Некрасову рукопись «Отрочества» с письмом, которое нам неизвестно. Получив рукопись и письмо, Некрасов писал Толстому, но письмо это дошло до Толстого только 24 августа, о чем есть запись в дневнике. Письмо это нам также неизвестно. Снова писал Некрасову Толстой 23 июня (из Бухареста), но и это письмо неизвестно.
2.
1854 г. 10 июля. Петербург.
Милостивый Государь,
Лев Николаевичъ,
Исполняю ваше желаніе и посылаю тѣ номера Современника, в которых помѣщены ваши разсказы. — Если я скажу, что не могу прибрать выраженія, как достаточно похвалить вашу послѣднюю вещь, то кажется это будетъ самое вѣрное, что я могу сказать, да и не совсѣмъ ловко говорить въ письмѣ и вамъ больше. Перо подобно языку имѣет свойство застѣнчивости — это я понялъ въ сію минуту, потому что никакъ не умѣю, хоть и попутное, сказать кой-что из всего, что думаю, выберу только, что талант автора Отрочества самобытен и симпатичен в высшей степени, и что такія вещи, как описаніе лѣтней дороги и грозы, или сидѣніе въ казематѣ, и многое, многое дадут этому разсказу долгую жизнь въ нашей литературѣ. Я напечатаю Отрочество в IX или X кн. Современ. Не знаю, получите ли вы его — но он вамъ в Бухарест высылался.
Примите увѣреніе в моем душевномъ уваженіи и преданности
Н. Некрасов.1854, Іюля 10.
Спбург.
Начальные строки письма — ответ на просьбу Толстого (вероятно, в указанном выше письме от 27 апреля) выслать ему номера «Современника» с «Детством» (1852 г., N 9) и «Набегом» (1853 г., N 3).
Номера эти Толстой получил в сентябре (между 11-м и 16-м; запись в дневнике).
«Отрочество» было напечатано в десятой (октябрьской) книжке «Современника» за 1854 г.
«Не знаю, получите ли вы его („Современник“) — но он вам в Бухарест высылался» Толстой получил сколько-то номеров за 1854 г. «Современника» 11 июля, о чем есть запись в дневнике.
3.
1854 г. 2 ноября. Петербург.
Спб. 1854, 2 Ноября.
Милостивый Государь
Левъ Николаевичъ,
Видно ужь такова судьба Ваша, что и «Отрочество» в печати подверглось значительным и обидным урѣзываньям. Случилось нѣсколько ценсурных исторій, выговоров — на ценсора нашего, как и на других, напалъ паническій страх, в следствіе котораго он вымарал болѣе, чѣм слѣдовало. Само собою разумѣется, что были у потребны всѣ старанія, чтоб отстоять, что можно; къ счастію, как Вы замѣтите, лучшія вещи всѣ уцѣлѣли в неиспорченном видѣ. — Вещь эта произвела в читающемъ мірѣ, что называется эффект, а что касается литераторов, разумѣется, смыслящих, то они сознаются, что очень давно ничего подобнаго не было въ русской литературѣ. В самом дѣлѣ, хорошая вещь.
Конечно, вам теперь не до писанья, но если б — сверх чаянія — вы что-нибудь написали, то это было бы для нас теперь вдвойнѣ пріятно. — Война подѣйствовала у нас на все, даже и на литературу, и нужно употреблять большія усилія, чтоб поддержать существованіе журналов въ это тяжелое время. Теперь время подписки, и послѣ Отрочества, которое всѣм так понравилось, напечатаніе вашей новой повѣсти въ Современникѣ принесло бы ему пользу существенную.
Я пишу это письмо между прочим с тѣм, чтоб узнать от вас, куда послать Вам деньги за Отрочество. Я так давно не имѣю от Вас извѣстія, что не рѣшаюсь послать по старому адресу.
Примите увѣреніе въ моей совершенной преданности
Н. Некрасов.Письмо написано в связи с выходом в свет октябрьской книжки «Современника» с «Отрочеством» Толстого. Рукопись этого произведения, посланная автором, до нас не дошла (как вообще не дошли рукописи, посылавшиеся Толстым Некрасову), и потому мы точно не знаем всего, что исключил из текста «Отрочества» цензор.
О цензурных историях, о которых пишет Некрасов, имеются сведения в дневнике А. В. Никитенки (под 26 сентября):
«В „Москвитянине“, кажется, в июньской книжке, напечатана повесть Лихачева: „Мечтатель“. В ней места три-четыре, действительно, лучше было бы не пропускать, во избежание худшего зла, но цензора Похвистнев и Ржевский пропустили их. Министр велел подать им в отставку. Сколько ни убеждал я, чтобы с ними было поступлено не так строго, министр на этот раз остался при своем решении.
К сожалению, это подаст повод здешним цензорам быть еще неукротимее в своих запрещениях». (А. В. Никитенко. «Записки и дневник», Спб., 1905, т. I, стр. 436).
Цензором «Современника», в общем довольно мягким, был Владимир Николаевич Бекетов (р.1809), казанский помещик, родственник попечителя в 1845–1856 гг. Петербургского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина.
4.
1855 г. 17 января. Петербург.
Милостивый Государь
Лев Николаевичъ,
Мнѣ ужасно непріятно, что моих писем Вы не получаете, хотя я их пишу и писал, сколько было нужно, а именно, послѣ вашего отъѣзда из Тулы писал я вамъ 1) въ Букарест: а) съ посылкою записок Маркера, б) съ увѣдомленіе о полученіи «отрочества» и моими о нем мнѣніями или лучше сказать — похвалами. 2) Въ дѣйствующую армію по адресу вами назначенному — опять нѣсколько слов о «Отрочествѣ» при досылкѣ Вам двух №№ «Современника» съ вашими разсказами. 3) в Кишинев по адресу, который досталъ мнѣ Тургенев от Ваших родных в Орл[овскоі Губерніи. В послѣднем письмѣ я увѣдомлялъ Вас о напечатаніи «Отрочества» и желалъ имѣть от вас отвѣт, чтоб послать Вам деньги. Но из вчера полученнаго мною Вашего письма вижу, что Вы и этого моего письма не получали. Хотя я не очень аккуратен и притомъ постоянно болѣн, но по крайне мѣрѣ въ отношеніи къ Вамъ не имѣю, за что себя упрекнуть утверждаю даже, что былъ въ этомъ случаѣ особенно заботливъ. Так нѣсколько дней тому назадъ Тургенев, уѣзжая в Москву, сказал мнѣ, что увидит там вашу сестру и мужа, и я дал Тургеневу деньги, прося послать их Вам, если Ваши родныя знают вѣрный ваш адрес и имѣют от вас извѣстія. Отчего мои письма къ Вам не попадают — не знаію. Что касается Ваших, то я до вчерашняго дня не получал их послѣ того, как Вы писали мнѣ о высылкѣ Вам 2-х №№ Современника, что тогда же исполнено (не знаю, получили ли Вы эти книги, — а что касается до Современ. 1854 года, то адрес Ваш был сдан почтамту в Бухарестъ, и если Вы не послали извѣстія о перемѣнѣ его въ нашу контору или не сдѣлали на мѣстѣ, откуда выѣхали, распоряженія, то и неудивительно, что Вы его не получаете). Все это мнѣ досадно не менѣе вашего, потому-что я заинтересован Вашим талантом, как журналист — умалчиваю о прочемъ, — и не желал бы навлекать на Современник ваше неудовольствіе. Однако спѣшу перейти к Вашимъ произведеніямъ, к которых Вам интересно узнать что-нибудь.
Ваше «Отрочество» вышло в свѣт в Октябрѣ 1854 г. (Его изрядно общипала ценсура, вымарав многое из первых проявленій любви въ отрокѣ, и кое-что тамъ, гдѣ разскащик говорит об отцѣ) и произвело то, что называется эффектом т. е. нѣкоторый говор в Петербургѣ. Что касается до литературнаго круга, то всѣ порядочные люди единогласно находили эту вещь исполненною поэзіи, оригинальною и художественно выполненною. Так как я пишу вам об Вашемъ «Отрочествѣ» уже в 3-ій раз, то Вы извините меня за угловатость этих фраз, да я же и вѣчно тороплюсь — вот теперь мнѣ помѣшали дописать письмо. Мои пріятели Тургенев и Анненков въ восторгѣ от этого произведенія в такомъ же как и я. (Это приписано через час).
В 1 № Совр. на 1855 год помѣстилъ я Ваш разсказ «Записки Маркера», в которомъ, кажется, я ошибался, 1-м чтеніи он мнѣ не понравился, о чем я Вамъ и писалъ, но, прочитав его недавно, спустя почти год, я нашолъ, что очень хорош и в томъ видѣ, как написан — по крайней мерѣ былъ хорошъ в рукописи, потому что в печати и его таки — оборвали — впрочемъ, существеннаго ничего не тронуто. Надо еще замѣтить, что наш ценсор — самый лучшій. Что скажут об «Зап. Марк.» я вамъ напишу — впрочем едва ли я. Корреспонденцію свою по журналу передаю Тургеневу (который, мимоходомъ вам сказать, очень любит ваш талант — мы об вас очень много болтали), ибо сам имею надежду въ Февралѣ уѣхать за границу (я болѣн — и безнадежно), впрочем ваш отвѣт вѣроятно меня еще здѣсь застанет. Но вы адресуйте на имя Тургенева Ивана Сергѣевича, въ редакцію Современника, или на имя Панаева Ив. Ив. — впрочемъ Тургенев займет мою роль в редакціи Современника — по крайней мѣрѣ до той поры, пока это ему не надоѣстъ — и сноситься съ нимъ вамъ будет прямѣе. Пришлите намъ ваши солдатскіе разсказы — мы их напечатаемъ въ Современникѣ, зачѣмъ вамъ их совать въ Инвалид? Печатать их въ нашемъ журналѣ можно, разумѣется, если они пройдут гражданскую и военную ценсуру. Да пишите побольше — нас всѣх очень интересует ваш талант, котораго у вас много. Кстати въ 1 № Современника напечатал я статью Анненкова по поводу послѣднихъ произведеній Тургенева и Л. Н. Т. — в ней вы найдете нѣсколько дѣльных замѣчаній о себѣ — она высказывает нѣсколько мыслей, на который наводят ваши произвеленія. — 10 № Современника, гдѣ «Отрочество», и 1-ый, гдѣ «Зап. М.» велю я завтра же отослать к Вам по легкой почтѣ въ видѣ посылки: и они придут вмѣстѣ с этим письмом. Дальнѣйшіе будут посылаться въ Кишеневъ обыкновеннымъ порядкомъ, впредь до Вашего распоряженія, которое адресуйте въ Контору. Деньги тоже на дняхъ отошлю къ Вамъ, послалъ бы при этом письмѣ, да не знаю, не сдѣлалъ ли уже этого Тургенев. Пожалуйста пришлите намъ вашу повѣсть или разсказъ. Желаю Вамъ всего лучшаго, что только можно достать в Кишеневѣ.
Преданный Вам Н. Некрасовъ.Извините за неряшливость этого письма я его не перечітывал — некогда, а написать хотѣлось по возможности подробнѣе.
17 Янв. 1855.
Спб.
Напишу еще на дняхъ, если что забылъ.
Письмо является ответом на письмо Толстого от 19 декабря 1854 г., которое начиналось словами: «Или мои, или ваши письма, или те и другие — не доходят — иначе я не могу объяснить себе вашего 6-тимесячного молчания; а между тем мне бы очень многое было интересно знать от вас. Современника тоже с Августа — я не получаю. — Напечатаны ли и когда будут напечатаны Рассказ маркера и Отрочество? и почему не получаю я Современника? Уведомьте меня пожалуйста об этом и письмом страховым, чтобы это было вернее». («Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 201).
«Отъезд из Тулы» — отъезд Толстого из Москвы в Дунайскую армию во второй половине февраля 1854 г.
Письмо Некрасова с посылкою «Записок маркера» (ответ на письмо Толстого от 17 сентября 1853 г.) до Толстого не дошло и, вероятно, вообще пропало.
Письмо Некрасова «с уведомлением о получении „Отрочества“» (ответ на письмо от 27 апреля 1854 г.), нам неизвестное, вероятно, о получении которого записано в дневнике Толстого от 24 августа 1854 г.: «Получил лестное об „Отрочестве“ письмо от Некрасова, которое, как и всегда, подняло мой дух и поощрило к продолжению занятий».
Письмо Некрасова «в действующую армию по адресу, вами назначенному» — письмо от 10 июля 1854 г., выше напечатанное.
Письмо Некрасова «в Кишенев» — письмо от второго ноября 1854 г., выше напечатанное.
Полученное «вчера» письмо Толстого — письмо от 19 декабря 1854 г. (напечатано в кн. «Архив села Карабихи»).
Тургенев был знаком с сестрой Л. Толстого М. Н. Толстой и ее мужем с октября 1854 г.
В середине ноября 1855 г. Тургенев уехал из Спасского в Петербург, откуда выехал числа 9-го в Москву на празднование столетнего юбилея университета[3].
Письмо Толстого с просьбой о высылке ему 2-х номеров «Современника» — вероятно, неизвестное нам письмо от 27 апреля 1854 г.
Под описанием в «Отрочестве» «первых проявлений любви в отроке» Некрасов разумеет VI («Маша») и XVIII («Девичья») главы, целиком исключенные цензурой в «Современнике».
«Кое-что там, где рассказчик говорит об отце» — исключение отдельных мест из главы XXII («Папа»). Некрасов умалчивает о ряде других исключений, сделанных цензурой.
«Записки маркера» были посланы Толстым Некрасову 17 сентября 1853 г. Первый отзыв Некрасова об этой вещи, написанный вскоре по получении рукописи, как мы уже говорили, не дошел до Толстого. 6 февраля 1854 Некрасов повторил его: «„Зап. марк.“ очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная вами форма; язык вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб, и лучшие вещи в нем пропали… Однако ж я долгом считаю прибавить, что, если вы все-таки желаете, я напечатаю эту вещь немедленно». («Голос минувшего», 1915, N 5, стр. 212).
План Некрасова уехать за границу в 1855 г. не осуществился.
Солдатские рассказы. В октябре 1854 г. офицерами артиллерийского штаба Южной армии было задумано издание военного журнала. В разработке программы журнала деятельное участие принимал Толстой, но высочайшего согласия на это не последовало, и Толстой в письмах к Некрасову от 19 декабря 1854 г. и от 11 января 1855 г. предлагал ему для помещения в «Современнике» заготовленные для неосуществившегося журнала статьи. Об этом см. статью В. И. Срезневского «О военном журнале Л. Н. Толстого и его сотоварищей по армии» — Сборник «Толстой в 1850–1860. Материалы и статьи». Ред. В. И. Срезневского, Л. 1927.
5.
1855 г. 27 января. Петербург.
Спб. 27 Янв. 1855.
Милостивый Государь
Левъ Николаевичъ,
Письмо Ваше с предложеніем военных статей получил и спѣшу Вас увѣдомить, что не только готов, но и рад дать Вам полный простор въ Современникѣ — вкусу и таланту вашему вѣрю больше, чѣмъ своему, а что касается до других соображеній, то въ настоящее время литературный журналъ не может не желать такого рода матеріаловъ и не чаять себѣ от них пользы. Об условіяхъ денежных напишу, когда получу первыя статьи (я пробуду в Петербургѣ до конца Февраля, а может и долѣе), пишите ко мнѣ или къ Панаеву ибо Тургеневъ пропалъ (поѣхалъ въ Москву на три дня и до сей поры его нѣт), и надежды мои на него начинают колебаться. Я в сію минуту не имѣю времени писать больше.
Примите увѣреніе в моем совершенномъ почтеніи и преданности.
Н. Некрасов.Это письмо — ответ на письмо Л. Толстого от 11 января 1855 г.
Тургенев приехал из Москвы в Петербург 8 февраля.
6.
[1855 г.]. 15 июня. Москва.
15 Iюня, Москва.
Милостивый Государь
Левъ Николаевичъ,
Препровождаю к Вамъ деньги за Вашу послѣднюю статью [50 р. сер.). Статья эта написана мастерски, интересъ ея для русскаго общества не подлежит сомнѣнію, — успѣх она имѣла огромный. Еще до выхода VI кн. Современ. Я имѣлъ ее здѣсь въ корректурѣ, и она была читана Грановскимъ при мнѣ въ довольно большомъ обществѣ — впечатлѣніе произвела сильное. Пожалуйста давайте нам побольше таких статей! —
Для Юности также уже опредѣлено мѣстечко в 9 № Современника, увѣдомьте меня[4] или Панаева, можете ли доставить ее к этому времени, т. е. к половинѣ Августа.—
Примите увѣреніе в моем истинномъ уваженіи
Н. Некрасов.25 апреля 1855 г. Толстой закончил свой первый «Севастопольский» рассказ «Севастополь в декабре месяце». Рассказ был напечатан в июньской книжке «Совр.» 1855 г. за подписью: Л. Н. Т. По поводу выхода в свет этой книжки Некрасов и пишет письмо из Москвы, куда приехал погостить к В. П. Боткину, на дачу в Петровском парке.
О том, что пишется для «Современника» «Юность», которую Толстой обещает к осени, он писал в не дошедшем до нас письме к Некрасову при посылке «Севастополя в декабре».
С отъездом Некрасова (в середине апреля?) из Петербурга редакторские обязанности нес И. И. Панаев, 3 мая писавший Толстому о присылке «Юности» (письмо не опубликовано).
И в сентябре Некрасов за границу не уехал, а в середине августа уехал в Петербург.
4 июля 1855 г. Толстой послал И. И. Панаеву «Севастополь в мае». Опасения Льва Николаевича, что цензура изуродует статью, высказанные им в письме к Панаеву (не опубликовано), оправдались в самой сильной степени. Статья была настолько обезображена цензурой, что Панаев, поместивший ее в сентябрьской книжке «Современника» под названием «Ночь весной 1855 г. в Севастополе», не решился поставить под статьей инициалов Толстого, и она появилась без подписи. Об этой тяжелой истории писал Некрасов Толстому 2 сентября 1855 г. (письмо напечатано в «Литер. приб. к Ниве» 1898 г., N 2).
Из дошедших до нас писем это письмо было последним, написанным до личного знакомства с Толстым.
21 ноября Толстой приехал из Севастополя в Петербург, откуда 24 ноября Некрасов писал В. П. Боткину: «…приехал Л. Н. Т., то есть Толстой и отвлек меня. Что это за милой человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милой, энергической, благородной юноша, сокол… а может быть и орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе это верно понравится. Приехал он только на месяц, но есть надежда удержать его здесь совсем. Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое и в то же время мягкость и благодушие глядит, как глядит. Мне очень полюбился. Читал он мне 1-ую часть своего нового романа — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для 1-го № Современника Севастополь в Августе. Он рассказывает чудесные вещи. „Юность“ еще не окончена». (Письмо не опубликовано).
К этому пребыванию в Петербурге Толстого относятся три его записки к Некрасову (напечатаны в «Совр.» 1913, N 8).
17 мая Толстой уехал из Петербурга в Ясную Поляну, откуда 12 июня написал три письма Некрасову: от 12 и от 29 июня (напечатаны в «Совр.» 1913, N 8) и от 2 июля (напечатано в «Совр.» 1913, N 1).
7.
1856 г. 22 июля. Петербург.
Не сердитесь, Лев Николаевичъ, что я вамъ долго не отвѣчалъ на ваше письмо. Пріѣздъ Тургенева былъ отчасти тому причиною — мы предавались болтанію на прощанье съ удвоенной яростью. Вчера мы его проводили за границу. Какую он чудесную повѣсть написал! (Фауст). Жаль только, что не кончил — и увез съ собою за границу. — Он говорит, что вещь вашего брата очень хороша, очень я этому рад. Все дѣло теперь зависит от васъ: будьте столь любезны ко мнѣ и къ Современнику — обдѣлайте ее къ 1-мъ числам Августа и вышлите, — она необходима на 9-ый № Совр., къ ней еще прибавимъ два маленькіе очерка Григоровича (больше он не успѣет написать) и книга будетъ хорошая. Дайте мнѣ знать к какой книжкѣ можно расчитывать на Юность? — Да еще вот что: что же мы будемъ печатать въ 1-мъ №? — мы общимъ голосомъ рѣшили, что надо вамъ писать для него. Подумайте об этомъ — я все боюсь чтоб, вмѣсто удвоеинаго участія в Современникѣ, всѣ вы не сло-жили руки. На послѣднія книжки 1856 года у меня есть в виду:
На № 9 — разсказ вашего брата
очерки Григоровича
На № 10 — ваша Юность
На № XI Фауст, Тург. (или на оборот: Фауст въ X, а Юность въ XI, как успѣете) и
Не сошлись характ., Островскаго
На № XII Лиръ, Дружинина и
Очерки Григоровича.
А начиная с 1-го № ровно пока ничего. Надо, надо вамъ писать.
О томъ, что въ ваших письмахъ, хотѣлъ бы поговорить на досугѣ. Но ни съ чѣмъ я не согласенъ. Особенно мнѣ досадно, что вы так браните Чернышевскаго. Нельзя, чтоб всѣ люди были созданы на нашу колодку. И коли въ человѣкѣ есть что хорошее, то во имя этого хорошаго не надо спѣшить произносить ему приговоръ за то, что въ нем дурно или кажется дурнымъ. Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всѣхъ нас, кромѣ вас развѣ. Вам теперь хорошо в деревнѣ, и вы не понимаете, за чѣмъ злиться, вы говорите, что отношенія к дѣйствительности должны быть, здоровыми, но забываете, что здоровыя отношенія могутъ быть только къ здоровой дѣйствительности. Гнусно притворяться злымъ, но я сталъ бы на колѣни перед человѣкомъ, который лопнулъ бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводовъ? И когда мы начнем больше злиться, тогда будемъ лучше, — т. е. больше будемъ любить — любить не себя, а свою родину. — Напишу вам еще на днях. Объ этомъ мнѣ не скучно писать, да теперь нѣтъ времени.
Что такое вы пишете мнѣ о деньгах, то выдать, то не надо? Напишите. Я ѣду 16-го Августа. Денег у меня лишних нѣт. Но я думаю эту сумму можно будетъ дать.
Рад я об Лонгиновѣ и не сомнѣвался, что вы дойдете до истины. Избыток гордости и упрямство — вамъ временно заволокли зрѣніе. Я, кажется, Лонгинова не увижу перед отъѣздомъ, да и во всякомъ случаѣ ловко ли, чтоб я ему говорилъ? Скажите сами или поручите В. Боткину, когда поѣдете через Москву.
Будьте здоровы. Напишите мнѣ
Ваш НекрасовДата письма определяется почтовыми штемпелями 24 и 27 июля 1856 г. и содержанием (отъезд Тургенева).
Ответ на письмо Толстого от 2 июля.
Тургенев 12 июля выехал из Спасского в Петербург, откуда 21 июля уехал за границу.
В письме от 29 июня Толстой писал Некрасову, что он получил от брата Николая Николаевича Толстого (1823–1860 г.) «Записки охотничьи». «Я писал брату, — сообщает Лев Николаевич, — чтобы он разрешил мне напечатать и тогда вам к 9-му номеру будет славная вещь». Произведение Н. Н. Толстого под заглавием «Охота на Кавказе» было напечатано в январской книжке «Современника» за 1857 г. (Перепечатано в изд. Сабашниковых с предисловием М. О. Гершензона в 1922 г.).
Под удвоенным участием в «Современнике» Некрасов разумел обязательство, которое дали Григорович, Островский, Толстой и Тургенев помещать свои новые произведения исключительно в «Современнике».
Очерков Григоровича в 1856 г. в «Современнике» не появлялось.
Фауст Тургенева был напечатан в октябрьской книжке «Современника» за 1856 г.
Юность Толстого была напечатана в январской книжке «Современника» за 1857 г.
Пьеса (задуманная первоначально, как повесть) Островского «Не сошлись характерами» появилась лишь в январской книжке «Современника» за 1858 г.
Перевод Дружинина Шекспировского «Короля Лира» напечатан в декабрьской книжке «Современника» за 1856 г.
Особенно мне досадно, что вы так браните Чернышевскаго. В письме к Некрасову (от 2 июля) Толстой сильно осуждал за тон, по его мнению «возмущенный, желчной, злой», статьи Чернышевского (не подписанной) в № 6 «Современника» «Заметки о журналах». Май, 1856. «„Русская Беседа“ и ее направление». Вообще Толстой в этом письме резко характеризует Чернышевского, называя его презрительно «клоповоняющим». На это и возражает Некрасов.
Деньги, которые просил Толстой у Некрасова, нужны были на покупку бумаги для печатавшихся в это время в Петербурге двух книг Толстого «Детство и отрочество» и «Военные рассказы».
Некрасов уехал за границу, через Берлин в Вену, 11 августа.
Последний абзац письма касается вызова на дуэль в марте 1856 г. в Петербурге Толстым М. Н. Лонгинова. Дуэль была расстроена Некрасовым, бывшим косвенным виновником вызова. В письме к Некрасову (от 2 июля) Толстой раскаивался в своей горячности, просил извинения у Некрасова и заключал письмо словами: «Ежели вы будете видеться с Лонгиновым, то вы меня одолжите, объяснив ему дело и показав ему хоть то, что я вам пишу».
8.
1856 г. 22 августа. (3 сентября). Вена.
Вѣна, 3 Сентября. 1856.
Любезный Лев Николаевичъ, Несказанно был я доволен и тронут, получивъ ваше послѣднее письмо, наканунѣ отъѣзда моего из Петербурга. Отвѣтить оттуда не успѣлъ, но оно со мной и здѣсь еще раз я его перечелъ и съ любовью думалъ о васъ. Пожалуйста не смѣшивайте во мнѣ офиціальнаго человѣка — да еще бѣднаго, да еще неумѣющаго выдерживать роли — съ мной самимъ, — тогда может быть Вы меня точно полюбите, впрочемъ для этого вамъ еще нужно меня покороче узнать. Но покуда въ одномъ не сомневаюсь, что недругами мы быть не можем и не будемъ. Что до меня, то ничто случившееся со времени нашего знакомства съ Вами не убавило во мнѣ симпатіи къ той сильной и правдивой личности, которую я угадывалъ по вашимъ произведеніямъ, еще не зная Васъ. На мои глаза въ васъ происходит та душевная ломка, которую въ свою очередь пережилъ всякій сильный человѣкъ и вы отличаетесь только — къ выгодѣ или не выгодѣ — отсутствіемъ скрытности и пугливости. Признаюсь, я лично люблю такіе характеры и для меня самого дикая крайность, самое безобразное упорство (въ данную минуту) лучше апатическаго: какъ угодно, или трусливаго: самъ не знаю. Но довольно объ этомъ. Я не шутилъ и не лгалъ, когда говорилъ когда-то, что люблю васъ, — а второе: я люблю еще въ васъ великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сдѣлали и для которой еще болѣе сдѣлаете, когда поймете, что въ нашемъ отечествѣ роль писателя — есть прежде всего роль учителя, и по возможности заступника за безгласных и приниженныхъ.
О себѣ покуда еще ничего не могу Вамъ сказать. Не успѣлъ оглядѣться, но теперь же скажу, что хорошо выскочить изъ своего муравейника и вдруг очутиться среди людей, которымъ до нас ровно никакого дѣла нѣтъ. Вѣна удивительно красива, великолѣпна и чиста. Адресуйте мнѣ въ Венецію poste restant впредь до моего увѣдомленія. Въ Венеціи я буду проѣздомъ, оттуда в Рим и в Неаполь, a гдѣ зимую, самъ еще не знаю. Напишу. Будьте здоровы. Пишите мнѣ. Не забывайте Современника.
Весь Ваш Н. Некрасов.Ответ на не дошедшее до нас письмо Толстого.
9.
1857 г. 26 февраля (10 марта). Рим.
10 Марта 1857. Римъ.
Исполняю мое обѣщаніе, извѣщаю васъ, любезный Левъ Николаевичъ, что я 15 Марта ѣду въ Неаполь; дальнѣйшій мой планъ такой: въ Неаполѣ я проживу до 7 или 8 Апрѣля и къ Пасхѣ (10 Апр.) ворочусь в Римъ, гдѣ пробуду съ недѣлю, и потомъ берегомъ черезъ Флоренцію, Геную и пр. поѣду въ Парижъ; из Парижа поѣду въ Спа брать желѣзныя ванны, а оттуда въ Россію. Как вы поживаете и что думаете дѣлать? Из Россіи я получилъ извѣстіе, что Боткинъ, Григоровичъ и Дружининъ въ началѣ Апрѣля выѣзжаютъ за границу, но куда именно, не сказано. Теперь я очень жалѣю, что не остался нѣсколько дней в Парижѣ и мало пробылъ съ Вами. Но что дѣлать? Физическое мое состояніе таково, что всякое душевное безпокойство дѣлаетъ меня никуда негоднымъ я просто теряю самообладаніе. Съ молоду я боялся смерти, теперь боюсь жизни. Гадко! Разъяснилъ бы вамъ это, да противно останавливаться на этомъ. Я здѣсь нѣсколько дней провелъ недурно въ поѣздках по окрестностямъ. Погода стояла удивительная. Природа — спасибо ей — дѣйствуетъ еще на меня благодѣтельно — и тѣломъ я бодрѣе и на душѣ легче, возвращаешься домой успокоенный и кротко-пристыженный, как будто любящій человѣкъ деликатно намекаетъ тебѣ, какая ты мелкодушная тварь. Если вздумаете, напишите мнѣ въ Неаполь poste restante. Поклонитесь Тургеневу, которому не пишу: думаю, что он уѣхалъ въ Дижон.
Душевно вас любящій
Некрасов.P. S. Я былъ у Дьякова, не засталъ дома, оставилъ ему ваше письмо и мою карточку. Дальнѣйшее зависѣло от него.
Некрасов приехал 20 сентября (2 октября) 1856 г. в Рим, откуда 25 января (6 февраля) приехал в Париж, где прожил до 10 (22) февраля, когда уехал опять в Рим.
Намеченный в письме маршрут почти полностью и был выполнен Некрасовым. 2 (14) или 3 (15) марта он выехал из Рима в Неаполь, откуда вернулся в Рим 25 марта (6 апреля), а 11 (23) апреля выехал из Рима во Флоренцию. 5(17) мая Некрасов был в Париже. В Спа, как предполагал, он не поехал, а из Парижа отправился прямо в Петербург, куда приехал 28 июня (10 июля).
В. П. Боткин и А. В. Дружинин 14 или 15 апреля 1857 г. выехали из Москвы в Вену.
…жалею, что не остался несколько дней в Париже и мало пробыл с вами — Некрасов уехал из Парижа на другой день после приезда туда Толстого. В это время был в Париже и Тургенев, живший тут с 20 октября (1 ноября).
В Дижон Тургенев приехал с Толстым 25 февраля (9 марта). Пробыли они здесь до 1 (13) марта, когда уехали в Париж.
Дьяков — Дмитрий Алексеевич (1823–1891), приятель еще с казанских лет Толстого. Письмо Толстого к Дьякову неизвестно.
10.
[1857 г.] 31 марта — 1 апреля (12–13 апр.). Рим.
12 Апрѣля, Рим.
Я отвѣчаю вамъ на письмо, писанное Вами въ Сентябрѣ прошлаго года и только теперь пересланное сюда из Венеціи. Въ этомъ письмѣ есть нѣчто, пробудившее во мнѣ слѣдующую мысль: отчего это время не сблизило насъ, а как будто развело далѣе другъ отъ друга? Если Вы припомните первое наше свиданіе по пріѣздѣ Вашемъ въ Петербургъ, то едва ли будете спорить противъ этого факта. Отчего это? Любопытно бы уяснить. Я попробую. Но прежде всего выговариваю себѣ право, можетъ быть, иногда на рутинный и даже фальшивый звукъ, на фразу, то есть буду говорить безъ оглядки, какъ только и возможно говорить искренно. Не напишешь, ни за что не напишешь правды, как только начнешь взвѣшивать слова; совѣтую и вамъ давать себѣ эту свободу, когда Вамъ вздумается показать свою правду другому. Что за нужда, что другой ее поймает, — то-есть фразу — лишь бы она сказалась искренно — этимъ-то путемъ и скажется ему та доля вашей правды, которую мы щепетильно припрятываемъ, и без которой остальное является въ другомъ свѣтѣ. — Я могу и хочу объяснить только одну сторону дѣла, а Вас попрошу объяснить другую, вашу, — то-есть скажу вам, почему я не приблизился к Вамъ душевно со времени нашего знакомства, а как бы отдалился. Мнѣ кажется, не дикія и упорныя до невозможной въ вас ограниченности понятія, которыя Вы обнаружили (и от которых всѣ уж[?] отступились) возстановили меня и нѣк. др. противъ вас, a слѣдующее: мы раскрылись вамъ со всѣм добродушіемъ, составляющимъ можетъ быть лучшую (или нѣсколько дѣтскую) сторону нашего кружка, а Вы заподозрили нас въ неискренности, прямѣе сказать въ честности. Фраза могла и вѣрно присутствовала въ нас безотчетно, а Вы поняли ее, как основаніе, как главное въ насъ. Съ этой минуты уже намъ не могло быть ловко, — свобода исчезла — безотчетная или сознательная оглядка сдѣлалась неизбежна. Большая часть поводовъ и разногласій давно исчезла: от многого Вы отказались, еще большее поняли, остальное само собою уничтожилось, будучи только минутным слѣдствіемъ застигнутаго въ расплохъ самолюбія, — а легче не стало. Отношенія не могли стать на ту степень простоты, съ какой начались, a слѣдовательно не могли двигаться вперед по пути сближенія. На этом мы и стоимъ. Это мнѣ кажется вѣрнымъ не только за себя, но еще болѣе за Тургенева. Эта душа, вся раскрывающаяся — при Васъ сжалась, и какъ-то упорно не размыкается. Грустно вас видѣть вмѣстѣ. Вы должны бы быть друзьями, а Вы что? Как то у меня оборвалась нить этой мысли, которую еще далеко я не досказалъ, но, какъ я непремѣнно хочу вамъ послать это письмо, то перехожу прямо къ Вашему желанію высказаться въ письмѣ, «чтоб наша переписка сдѣлала нас серьезно друзьями». И я этого хочу всѣмъ сердцем, оттого и написал эти строки. Вы, как и я, вѣрно не смотрите на друга (глупая рутина ироніи едва дала мнѣ силу написать это слово), как на человека, съ которымъ можно убить пріятно ненужный часъ, который хорошо умѣетъ щекотать наше самолюбіе и у котораго можно при случаѣ занять денег, вы вѣрно смотрите поглубже — и чѣмъ долѣе будете жить, тѣмъ серьезнѣе будете смотрѣть. Для меня человѣк, о котором я думаю, что он меня любит — теперь все, въ нем моя радость и моя нравственная поддержка. Мысль, что заболит другое сердце, может меня остановить от безумнаго или жестокаго поступка — я это говорю по опыту; мысль, что есть другая душа, которая поскорбит или порадуется за меня — наполняет мое сердце тихой отрадой, — можетъ быть от равнодушія къ жизни, но вѣрите ли? я чувствую, что для такой души я не въ состояніи пожалѣть своей, и одна мысль о возможности этого подвига наполняет меня такимъ наслажденіемъ, какого ничто въ жизни уже мнѣ не можетъ дать. — Но право я пишу что-то такое, чего вѣрно не пошлю, если перечту послѣ обѣда, къ которому зоветъ звонокъ гостиницы въ эту минуту. Итак, иду и даю себѣ слово — не перечитывать предъидущаго, а что напишу далѣе, не знаю.
На другой день. Слова не сдержалъ — перечелъ, однако давъ себѣ прежде другое, что все-таки пошлю. Результатъ предъидущаго тотъ, что дружба, какъ всякое счастіе, дается не легко. Однако позволительно и должно искать этого как всякого другого законнаго счастья. Теперь я совсѣмъ въ другомъ настроеніи — продолжать начатого не могу, но вот какая пришла мнѣ мысль. Рутина лицемѣрія и рутина ироніи губят въ насъ простоту и откровенность. Вамъ вѣрно случалось, говоря или пиша, безпрестанно думать: не смѣется ли слушатель? Так чтожь? Надо давать пинька этой мысли каждый разъ, как она явится. Все это мелочное самолюбіе. Ну если и посмѣются, если даже заподозрят въ лицемѣріи, въ фразѣ, экая бѣда! Мы создаем себѣ какой-то призрак — страшилища, который безотчетно мѣшает намъ быть самими собою, убивает нашу моральную свободу. — Ну будетъ.
Жаль, что Вы теперь не въ Римѣ. Всѣ эти дни я смотрѣлъ разныя религіозныя дивы, подобных которымъ нигдѣ нельзя увидать, кромѣ Рима. Сейчасъ воротился съ самой эффектной церемоніи. Папа съ балкона благословлял народ и кидалъ буллы. Огромная площадь Св. Петра биткомъ была набита народом и экипажами. Зрѣлище удивительно красивое — въ размѣрах колоссальных. Сегодня вечеромъ Св. Петръ будет весь мгновенно освещен — пойду смотрѣть.
Я на днях выѣзжаю из Рима, буду во Флоренціи, въ Генуѣ, въ Ниццѣ, а к 1-м числамъ Мая явлюсь въ Парижъ. А вы гдѣ будете? Что дѣлаете? Тургеневъ мнѣ писалъ, что Вы окончили новую повѣсть. Он ее очень хвалитъ. Обдѣлайте и посылайте въ Современникъ. Если б Вы знали, как я краснѣю при мысли, что Современникъ заковылялъ! Надо, надо тянуть — коли взялись за гужъ. Проклятая поѣздка за границу! Проклинаю минуту, когда я рѣшился ѣхать… Но впрочемъ не поѣздка виновата, а я самъ. Если мнѣ удастся справиться, т. е. совладѣть съ собою — я еще постою за Современник. — Дѣлать я покуда ничего не дѣлаю, кстати скажу, что я былъ серьезно обиженъ тѣмъ несомнѣннымъ фактомъ, что всѣ мои литературные друзья въ дѣлѣ о моей книгѣ приняли сторону сильнаго, обвиняя меня в мальчишествѣ. Ах, любезный другъ! Не мальчишество на этомъ свѣтѣ только лежаніе на пуховикѣ, набитомъ ассигнаціями, накраденными собственной или отцовской рукой. Каковы бы ни были мои стихи, я утверждаю, что никогда не брался за перо съ мыслью что бы такое написать, или как бы что написать: позлѣе, полиберальнѣе? — мысль, побужденіе, свободно возникавшие, неотвязно преслѣдуя, наконец заставляло меня писать. Въ этомъ отношеніи я может быть болѣе вѣрен свободному творчеству, чѣм многіе другіе. Да и такія вещи написалъ я не всѣ — въ моих бумагах можно найти цѣлую серію недоконченных пьесъ. Все это говорю к тому, что изменить характера своего писанія я не могу так же, как Вы не можете раздѣлять убѣжденій гг. Гончарова и Дружинина, хотя меня въ томъ и увѣряли, как в несомнѣнномъ, — а потому не ждите от меня ничего по части стиховъ чтобъ пришлось по вашему вкусу. Впрочемъ вѣрнѣе сказать и сам не знаю покуда, что буду писать. Есть планъ большой вещи, от которой я въ восторгѣ, да времени и труда за нимъ бездна — страшно приниматься. Однако, прощайте. — Если выѣдете из Парижа, то пишите мнѣ въ Париж, poste restante. Кланяйтесь Тургеневу.
Вашъ Н. Некрасов.Это письмо Некрасова было адресовано в Париж, где оно не застало Толстого, неожиданно уехавшего 27 марта (8 апреля) в Женеву.
Вероятно, о получении этого письма в дневнике Толстого записано под 14(26) апреля: «Получил письмо от Некрасова».
Упоминаемое в первых строках письмо Толстого к Некрасову нам неизвестно. Оно было ответом на письмо Некрасова от 22 августа (3 сентября).
Приезд ваш в Петербург — в конце ноября 1855 г.
Торжества в Риме, ради которых Некрасов приехал из Неаполя в Рим, были по случаю Пасхи.
О маршруте Некрасова см. прим. к предыдущему письму.
Повесть Толстого, которую хвалил Тургенев — рассказ «Альберт», прочитанный Толстым Тургеневу 1 (13) марта.
Письмо Тургенева, о котором упоминает Некрасов, в печати не появлялось.
В отсутствие Некрасова «Современник» редактировался Панаевым и Чернышевским. Деятельностью первого Некрасов был не очень доволен.
О каких обвинениях в мальчишестве пишет Некрасов, объяснить не можем. Возможно, что он имеет в виду перепечатку Чернышевским в «Современнике» стих. «Поэт и гражданин», из-за которой были неприятности с цензурой.
План большой вещи. По предположению Н. С. Ашукина, Некрасов имеет в виду поэму «Несчастные»: из рукописей, хранящихся в Рукописном отделении Публичной библиотеки имени Ленина, видно, что Некрасов работал над поэмой в Риме.
11.
1857 г. 5(17) мая. Париж.
Париж, 17 Мая 1857.
Мнѣ здѣсь видно суждено получать ваши письма долго спустя послѣ того, как они написаны. На дняхъ я получилъ Ваше письмо, писанное вами въ Неаполь. Спасибо вамъ за него — я его сейчас перечелъ, и на меня повѣяло какимъ-то тепломъ, вы не без участья думали обо мнѣ, когда его писали. По принятой мною съ вами системѣ даю опять себѣ свободу говорить, что думается, не заботясь, что из того выйдет, и не подшибая крыльев у чувства или мысли поминутной оглядкой. Не дивитесь, если не будет наружной связи (зачѣмъ тратить время — вѣдь не для печати), если от спѣшности дурно выражу, все таки вы поймете. Вы грустны, у васъ, кажется, хандра. Хандра и грусть у человѣка въ вашемъ положеніи, мнѣ кажется, может быть только, когда у него нѣт цѣли въ жизни. Ближайшая цѣль трудъ, у вас есть, но цѣль труда? Хорошо ли, искренно ли сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убѣжденьі Вы, что цѣль и смыслъ жизни любовь? (в широком смыслѣ). Без нея нѣт ключа ни к собственному существованию, ни къ сущ[ествованію] другихъ, и ею только объясняется, что самоубийства не сдѣлались ежедневным явленіемъ. По мѣрѣ того, какъ живешь — умиляясь, свѣтлѣешь и охлаждаешься, мысль о безцѣльности жизни начинает томить, тут дѣлаешь посылку к другимъ — и они вѣроятно (т. е. люди в настоящемъ смыслѣ) чувствуют то ж — жаль становится их — и вот является любовь. Человѣкъ брошен въ жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтоженію — страшнаго и обиднаго въ этомъ много! На этомъ одномъ можно съ ума сойти. Но вот вы замѣчаете, что другому (или другимъ) нужны вы — и жизнь вдруг получает смыслъ, и человѣк уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука. Все это я выразилъ очень плохо и мелко — что-то не пишется — но авось вы ухватите зерно. Человѣкъ созданъ быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Разсматривайте себя какъ единицу — и вы придете въ отчаяніе. Вот основаніе хандры въ порядочномъ человѣкѣ — думайте, что и съ другими происходит то же самое и спѣшите имъ на помощь. Ах, как что-то выходит неясно, нет, я не способен сегодня писать, мнѣ жаль моей мысли, так бѣдно я ее поймалъ словомъ. Изорвать хочется — чувствую тоскливость, которую вы вѣрно знаете — хочется сказать, а не сказывается. Что вы въ этом случаѣ дѣлаете? Бросаете работу или нудите и пытаете себя? Бывало я былъ к себѣ неумолимъ и просиживалъ ночи за пятью строками. Из того времени я вынесъ убѣжденіе, что нѣт такой мысли, которую человѣк не могъ бы себя заставить выразить ясно и убѣдительно для другаго, и всегда досадую, когда встрѣчаю фразу «нѣт словъ выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да умъ наш лѣнивъ, да еще вот что: надо имѣть вѣры въ ум и проницательность другаго по крайней мѣрѣ столько же, сколько в собственные. Недостаток этой вѣры иногда безсознательно мѣшает писателю высказываться и заставляетъ откидывать вещи очень глубокія, чему лѣнь, разумѣется, потворствует.
Скажу нѣсколько словъ о себѣ и о Тургеневѣ. Я кормлю и лечу себя — вот главная моя теперь забота. Гоню дурныя мысли и поперемѣнно чувствую себя то хорошимъ человѣкомъ, то очень дряннымъ. В первомъ состояніи мнѣ легко — я стою выше тѣхъ обид жизни, тѣх кровных уязвленій, которымъ подверглось мое самолюбіе, охотно и искренно прощаю, кротко мирюсь съ мыслью о невозможности личнаго счастья; во второмъ, я мученикъ, и мученик, недостойный сожалѣнія, начиная съ моего собственнаго, от мелкой раздражительности до готовности воткнуть ножъ въ свое или другое чье-нибудь горло — я все переживаю. Легко сказать — зачѣмъ же это? Хуже всего человѣку, когда у него нѣт силъ ни подняться, ни совершенно упасть! Я, кажется, въ этомъ положеніи, но злость приходит все рѣже, рѣже — если въ ней нѣт законности — она уляжется, но — по мнѣ надо сдѣлаться очень, очень хорошимъ человѣкомъ, чтоб многое въ прошедшемъ меня не замучило или не привело к чему нибудь дикому. Дѣлать ничего не могу, нѣт спокойствія и душевной свободы.
Тургеневъ просвѣтлѣлъ, что Вамъ будет пріятно узнать. Болѣзнь его не мучить, другія дѣла, важныя для него идутъ должно быть хорошо. Я так его люблю, что когда об немъ заговорю, то всегда чувствую желаніе похвалить его как-нибудь, а бывало — когда-нибудь разскажу вамъ исторію моих внутреннихъ отношеній к нему. Теперь усталъ. На дняхъ мы как то заговорили о любви — он мнѣ сказалъ «я так и теперь еще, через 15 лет, люблю эту женщину, что готовъ по ея приказанію плясать на крышѣ, нагишомъ, выкрашенный жолтой краской!» Это было сказано так невзначай и искренно, что у меня любви к нему прибавилось. Прощайте, ясный соколъ (не знаю сказывалъ ли я вамъ, что мысленно иначе вас не называю). Напишите (я пробуду здѣсь до 15 іюня). Не ставьте себѣ въ обязанность писать мнѣ много и затемъ не затягивайте письма, напишите два слова, а много напишете, как охота придет.
Некрасов.Я написал в Петербург чтоб вамъ дали денег, сколько могут, и вы пошлите имъ адресъ, куда послать. Мой адрес: Hotel du Louvre, № 256.
Тургенев скоро уѣдет въ Лондонъ.
Письмо от Толстого, упоминаемое в первых строках письма Некрасова, — от 30 марта (11 апреля). Оно неизвестно. Об этом письме Некрасов писал Тургеневу 15(27) мая 1857 г.: «Получил письмо от Толстого — очень умное, теплое и серьезное». (А. Н. Пышин. «Н. А. Некрасов», Спб. 1905, стр. 167–168).
«Тургенев просветлел». На тяжелое душевное состояние Тургенев часто жалуется в своих письмах к разным лицам за январь-март 1857 г. Толстой писал В. П. Боткину 10(22) февраля 1857 г. из Парижа: «Они оба [Тургенев и Некрасов] блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь. Тургенева мнительность становится ужасной болезнью…»
Тургенев говорил о своей любви к Полине Виардо. Истории этой любви посвящена книга И. М. Гревса (изд. «Совр. проблемы». М. 1927 г.).
«Я написал в Петербург, чтоб вам дали денег». Некрасов писал 7(19) мая И. А. Панаеву: «Да еще граф Л. Н. Толстой просит вперед денег 300 р. сер. Он вам пришлет адрес, куда их послать — деньги эти надо будет ему дать».
В Лондон Тургенев приехал из Парижа 12(24) мая 1857 г.
На это письмо Некрасова Толстой ответил 9(21) мая. Под этим числом в дневнике Толстого записано: «Получил письмо от Некрасова. Ответил Некрасову религиозное письмо». Последнее неизвестно.
12.
1857 г. 27 июля. [Петергоф.]
Деньги Вамъ посланы Вульфомъ тотчасъ по-полученіи депеши, а письмецо Ваше, любезный другъ, получилъ я только вчера. Я также имѣю к Вам просьбу: Бога ради, пришлите повѣсть Вашу на IX № Современника, то есть, вышлите ее не болѣе, как через недѣлю или 9 дней по полученіи этого письма. Это необходимо. Ни от кого из участниковъ ничего нѣт — 1-е отд. Совр. из рук вон плохо, а между тѣм при 9 кн. нужно выпустить объявленіе о подпискѣ на 1858 год. Съ какими глазами?.. Пожалуйста выручите, а то ей Богу окончательно руки опустятся. Да и не сдѣлаешь ничего одинъ!
Еще имѣю к Вам слѣдующее предложеніе, наперед оговариваясь, что, если, не найдете удобнымъ или выгоднымъ, то можете отказаться, ни мало не огорчивъ меня. — Дайте мнѣ три ваши повѣсти Двух гусаровъ, Метель и Утро помѣщика — для Легкого Чтенія, а я Вам дамъ тысячу франковъ. Увѣдомьте о вашемъ рѣшеніи поскорѣе — изданіе это остановилось за недостаткомъ хороших матеріаловъ. Ежели не найдете удобнымъ дать мнѣ эти три повѣсти на предложенномъ условіи, то дайте хоть одну (небольшую, Мятель или Утро — за 75 р. сер.) для VI книжки, которая уже печатается, и которую мнѣ хотѣлось бы скрасить.
Будьте здоровы и напишите мнѣ — что вы думаете дѣлать: ворочаться сюда или еще долго останетесь за границей? Говорят, воротился Дружинин, но я еще не видалъ его.
Прощайте.
Ваш Н. Некрасов.27 Iюля 1857.
Приехав из Швейцарии в Баден 12 (24) июля 1857 г., Толстой в четыре дня проиграл в рулетку не только все бывшие при нем деньги, но и занятые у какого-то француза 200 р. 15 (27) июля он написал письма В. П. Боткину в Люцерн, гр. А. А. Толстой в Женеву и Некрасову в Петербург, с просьбой выручить его присылкой денег. На другой день, заняв у приятеля Я. П. Полонского, Кублицкого (у самого Полонского денег тоже уже не было) еще сколько-то, Толстой проиграл и эти деньги, почему и послал Некрасову уже телеграмму о высылке денег.
Вульф — Карл Иванович, старший конторщик «Современника».
Повесть, которую Некрасов просит для 9-ой кн. «Современника», и под которую, очевидно, просил денег Толстой — рассказ — «Люцерн. Из записок кн. Д. Нехлюдова», написанный в Люцерне 27 июня (9 июля) — 6(18) июля. Рассказ был напечатан в 9-ой кн. «Совр.» 1857 г.
Объявление о подписке на 1858 г. Некрасов имеет в виду объявление об обязательстве Григоровича, Островского, Тургенева и Толстого помещать свои произведения исключительно в «Современнике».
Под редакцией Некрасова книгопродавцем, занимавшимся и изданием книг, А. И. Давыдовым в 1856–1859 гг. было издано 9 томиков сборников «Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии и стихотворения современных русских писателей». Для этого издания Некрасов и просит у Толстого «Двух гусаров» (были напечатаны в номере 5 «Совр.» за 1856), «Метель» (была напечатана в № 3 «Совр.» за 1856 г.) и «Утро помещика» (было напечатано в № 12 «Отеч. зап.» 1856 г.). Толстой отказал в этой просьбе.
А. В. Дружинин, выехав из Женевы 19 июня (1 июля) 1857 г., 1(13) июля был в своем имении Чортове (Петербургской губ.), откуда незадолго до 27 июля приехал в Петербург.
13.
1857 г. 29 августа. [Петергоф.]
Некогда писать много — я ѣзжу на охоту и очень устаю. До сей поры не рѣшился доѣхать ни въ какую деревню, но если поѣду, то вѣрнѣе всего къ Вамъ. Останавливает меня вопросъ — буду ли я чувствовать себя хорошо на холодѣ, потому что жить въ деревнѣ, запершись въ комнатахъ — дѣло плачевное. Этот вопросъ скоро рѣшитъ наступившая осень.
Отец мой еще въ Москвѣ, — о собакахъ я ему писалъ; какъ только он попадетъ въ деревню, тотчас обѣщает отправить. От Тургенева я получилъ письмо: он 15 Окт. обещает непремѣнно быть сюда. — Пріѣхал П. В. Анненковъ — я еще не успѣлъ съ нимъ поговорить.—
Жаль, если Вы все еще хвораете рецептъ былъ Вамъ посланъ на другой же день (только сданъ на почту въ Петергофѣ, отчего и могъ произойти день разницы).
Деньги Шипул[инскому] я еще не отдалъ, потому что не видалъ его — но это все равно — вина уже не ваша.
Так вамъ многое не понравилось вокруг васъ. Ну, теперь будете вѣрить, что можно искренно, а не из фразы ругаться, — и такихъ посылок: «он потому на сторонѣ освобожд[енія] крестьян, что у него нѣт таковыхъ» не будете дѣлать даже и въ шутку. Океанъ нелѣпости на которомъ плавают двѣ-три умныя лодейки здравоумія и гуманности, удивляющія тѣмъ, как давно не перевернутся — вотъ что такое мать[?] и прочее. Я написалъ длинные стихи, исполненные любви (не шутя) къ Родинѣ. Пришлю их к Вамъ на дняхъ, если Вы не прочтете, то утѣшаю себя надеждой, что прочтет Ваша сестра, которой пріемлю смѣлость засвидѣтельствовать мой поклонъ.
Будьте здоровы Ваш Н. Некрасов.29 Августа.
Ответ на неизвестное нам письмо Толстого от 12 августа, о котором есть запись в дневнике.
Из-за границы Толстой приехал в Петербург 30 июля с. с. и в тот же день поехал к Некрасову в Петергоф, где он жил на даче. Во время этого свиданья, судя по этому письму, Толстой приглашал Некрасова в Ясную Поляну охотиться.
Отец Некрасова, Алексей Сергеевич, приехал в Москву лечиться у Иноземцева. Вероятно, Н. А. Некрасов упоминает письмо отца от 3 августа, полностью не напечатанное (В. Евгеньев. «Н. А. Некрасов и его отец» в «Голосе минувшего» 1913 г., N 10, стр. 32, 34, 37).
Письмо от Тургенева, о котором пишет Некрасов — письмо от 12 (24) августа из Куртавнеля. Хотя оно и кончается словами: «Я непременно желаю иметь квартиру [в Петербурге] с 15 октября — теплую», Тургенев, вместо Петербурга, в октябре уехал из Куртавнеля в Италию. П. В. Анненков приехал из Симбирска в Петербург числа 20 августа. О чем должен был поговорить с ним Некрасов — неизвестно.
Шипулинский — Павел Дмитриевич (1808–1872) — известный врач, лечивший Некрасова. Толстой советовался с Шипулинским по возвращении из-за границы.
По приезде в Россию Толстого охватило чувство глубокой угнетенности грубой отечественной действительностью. 8 августа он записал в дневнике: «Россия противна, и чувствую, как эта грубая лживая жизнь со всех сторон обступает меня», а 21 октября писал В. П. Боткину: «Про отвращение, возбужденное во мне Россией, мне страшно рассказывать». Такое же чувство было и у Некрасова при возвращении на родину. 27 июля он писал Тургеневу: «А надо правду сказать, какое бы унылое впечатление ни производила Европа, стоит воротиться, чтоб начать думать о ней с уважением и отрадой. Серо! Серо! глупо, дико, глухо — и почти безнадежно!» (А. Н. Пыпин. «Н. А. Некрасов», Спб., 1905, стр. 179).
Стихи, исполненные любви к родине — стихотворение «Тишина», впервые напечатанное в N 9 «Совр.» за 1857 г.
В письме Толстого к Некрасову от 11 октября 1857 г. («Архив села Карабихи», стр. 204) о стих. «Тишина», состоявшем из пяти отрывков, находим такой отзыв: «Первое [т. е. первый отрывок] превосходно. Это самородок и чудесный самородок, остальные все по моему слабы и сделаны, по крайней мере такое произвели на меня впечатление, в сравнении с первым». Толстым забракованы наиболее «гражданские» отрывки.
14.
1857 г. 16 декабря. Петербург.
Милый, душевно любимый мною Лев Николаевичъ, повѣсть вашу набрали, я ее прочелъ и по долгу совѣсти прямо скажу Вамъ, что она нехороша, и что печатать ее недолжно. Главная вина вашей неудачи въ неудачномъ выборѣ сюжета, который, не говоря о томъ, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагодаренъ. В то время, как грязная сторона вашего героя так и лезет в глаза, какимъ образомъ осязательно до убѣдительности выказать геніальную сторону? а коль скоро этого нѣт, то и повѣсти нѣт. Все, что на второмъ планѣ, очень впрочемъ хорошо, т. есть Делесовъ, важный старик и пр., но все главное вышло какъ-то дико и не нужно. Как Вы там себѣ ни смотрите на вашего героя, а читателю поминутно кажется, что вашему герою съ его любовью и хорошо устроеннымъ внутреннимъ міромъ — нуженъ докторъ, а искусству съ ним дѣлать нечего. Вот впечатлѣніе, которое произведет повѣсть на публику, ограниченные резонеры пойдут далѣе, они будут говорить, что Вы пьяницу, лѣнтяя и негодяя тянете въ идеал человѣка и найдут себѣ много сочувствователей… да, это такая вещь, которая дает много оружія на автора умнымъ, и еще болѣе глупымъ.
Если Вы со мной не согласны, и вздумаете отдать дѣло на суд публики, то я повѣсть напечатаю. Эх! пишите повѣсти попроще. Я вспомнилъ начало вашего казачьяго романа, вспомнилъ двух гусаровъ — и подивился, чего вы еще ищете — у вас под рукою и въ вашей власти ваш настоящій родъ, род, который никогда не прискучитъ, потому-что передает жизнь, а не ея исключенія, къ знанію жизни у васъ есть еще психологическая зоркость, есть поэзія въ талантѣ — чего же еще надо, чтоб писать хорошія — простыя, спокойныя и ясныя повѣсти?
Покуда в ожиданіи вашего ответа я вашу повѣсть спряталъ и объявилъ, что Вы раздумали ее печатать. Будьте здоровы и напишите мнѣ поскорѣе.
Весь Ваш Н. Некрасов.16 Дек. 1857.
Спб.
P. S. Я понимаю, что въ рѣшимости послать мнѣ эту повѣсть — главную роль играло желаніе сдѣлать пріятное мнѣ и Совр. и очень это цѣню. Но недаромъ Вы колебались, да и Анненк[овъ] на этот разъ правъ, если только эту повѣсть вы ему читали.
Письмо посвящено рассказу «Альберт» Толстого, посланному Толстым Некрасову из Москвы 26 ноября. «Альберт» появился лишь в 8-ой книжке «Совр.» за 1858 г.
«Казачий роман» — «Казаки», над которыми Толстой долго работал. «Казаки» были напечатаны в N 1 «Русск. Вестн.» 1863 г.
Отзыв П. В. Анненкова об «Альберте» неизвестен.
На это письмо Толстой отвечал 18 декабря 1857 г. (Письмо напечатано в «Арх. села Караб.», стр. 190–193).
15.
[1858 г.] 19 января. [Петербург.]
Дорогой Левъ Николаевичу я веду гнусную жизнь, которая мѣшаетъ мнѣ даже поддерживать переписку съ людьми для меня дорогими и любезными. И Тургеневу я не писалъ полгода!
Передъ Вами я тоже не то, чтобы виноватъ, а какъ придете Вы мнѣ на умъ, то как-то дѣлается неловко. Кажется, я должен былъ бы между прочимъ подробнѣе поговорить об Вашей повѣсти, о коей произнес столь рѣшит[ельный] судъ, но не могу, я глупъ, как сайка, безсонныя ночи отшибают память и соображеніе… да, я веду глупую и гнусную жизнь! и ею доволен, кромѣ иныхъ минутъ, которыя зато горьки, но видно так ужъ оно нужно. Все это клонитея къ тому, чтобы сказать вамъ: не слѣдуйте моему примѣру и не молчите, а пишите ко мнѣ — Что Москва? Что литература? и какъ Вамъ понравился наш 1-й №? и есть ли у Вас что нибудь для Совр. и когда будетъ? И как Вам живется?
Весь Ваш Н. Некрасов.19 Янв.
Год письма определяется ответным письмом Толстого.
Письмо написано в период запойной игры в карты.
На это письмо Толстой отвечал 21 января 1858 г. (Письмо напечатано в «Арх. села Караб.», стр. 197–198.)
16.
1858 г. 22 февраля. Петербург.
Любезнѣйший Левъ Николаевичъ,
Посылаю съ этой же почтой обращеніе ред. Современника къ г. участникамъ. Из него Вы усмотрите, въ чем дѣло. Я должен только прибавить, что до Вас не относится упрекъ, въ немъ заключающійся, ибо Вы единственный, не нарушивший условія. Надѣюсь, взглянувъ на дѣло безпристрастно, Вы согласитесь, что нужно было такъ поступить. Дѣло не въ деньгахъ, но въ томъ, чтоб мнѣ были развязаны руки и въ упрощеніи отношеній, такъ какъ легкость взгляда нѣкоторыхъ участниковъ на прежнее наше условіе дѣлала его обязательнымъ только для ред. Современника. Этому надо было положить предѣлъ.
Въ посылаемом счетѣ за Юность поставлена та же цѣна 75 р. как и другим участникамъ. Но Панаевъ говорит что Вы желали непремѣнно за Юность получить по 100 р — и потому вам слѣдует еще триста рублей, которые и будут Вам выданы сверх слѣдующих по посылаемому счету. Могу вамъ обѣщать и на будущее время всякія подобный льготы в предѣлах возможности, только работайте. Я вамъ не писалъ, что поджидаю чего-нибудь Вашего съ большимъ нетерпѣніемъ, но это Вы сами знаете. Пожалуйста присылайте! У насъ по обыкновенію ничего нѣтъ. Будьте здоровы. Напишите мнѣ.
Весь Ваш Н. Некрасов.P. S. Не вздумайте, что я соблазнился ходомъ подписки, предложивъ перемѣну условія. Нѣтъ, при всѣхъ стараніяхъ и денежных пожертвованіяхъ, подписка нынѣ идет еле так, какъ въ прошлом году. Скажите это и Островскому, если его увидите.
22 Февр. 1858.
Спб.
Обращение редакции «Современника» к Григоровичу, Островскому, Тургеневу и Толстому в печати неизвестно. Речь идет о прекращении соглашения, о котором см. в 7 и 12-ом письмах.
Еще до получения этого письма Толстой писал Некрасову 17 февраля (напечатано в «Арх. села Карабихи», стр. 198–199): «я убедился, что союз наш ни к чорту не годится. Все, что мы с вами говорили об этом в Петербурге, справедливо было, а теперь явились еще две новые причины. Во-первых то, что мне хочется печатать в другие журналы; во-вторых то, что вы мне не присылаете рассчета дивиденда, вот полтора месяца. Из всего этого я вывел решение разорвать союз». Поэтому в ответ на письмо Некрасова Толстой писал 26 февраля («Арх. села Караб.», стр. 199), что «вполне согласен на разрыв союза».
17.
[1858 г.] 3 апреля. [Петербург.]
Любезный Левъ Николаевичъ,
Посылаю Вамъ корректуру Вашей повѣсти, которую задержалъ по глупости наш ценсор, и которая потому не попала в 4 №. Вы по рѣшенію этого ценсора не судите — по всей вѣроятности повѣсть будетъ пропущена без измѣненій, но комитета ценсурнаго не будет ранѣе будущей недѣли.
Если же паче чаянія потребуются какія либо перемѣны, то извѣщу васъ.
Живемъ мы здѣсь по старому глупо. Будьте здоровы.
Весь Ваш Н. Некрасовъ.13-го Апр.
P. S. Прилагаемое письмо отошлите как нибудь Фету я потерял его адресъ.
Некрасовъ.
Год написания письма датируем предположительно.
«Повесть» — вероятно, рассказ «Альберт», который Толстой, надо думать, лично отдал Некрасову в поездку свою в Петербург в марте (12-го приехал в Петербург, 17-го уехал в Москву). Вероятно, Толстой и в корректуре долго исправлял рассказ, так как напечатан он был только в 8-ой книжке «Совр.» за 1858 г.
Этим письмом собственно прекратилась переписка Толстого с Некрасовым. Остальные шесть чисто деловых писем Некрасова написаны по случайным поводам. Приятельские отношения явно были изжиты.
18.
1859 г. 29 января. Петербург.
29 Янв.
Добрѣйшій Левъ Николаевичъ,
Видно я васъ чѣмъ нибудь больно прогнѣвил — вы даже не отвѣтили на мою записочку, которая заключала въ себѣ вопросъ: дадите ли Вы что-нибудь Современнику? Тургеневъ мнѣ сегодня сказалъ, что Вы окончили Вашъ романъ. Я прошу его у Васъ для Современника и предлагаю Вамъ назначить, какія Вамъ угодно, денежныя условія. Полагаю, что въ этомъ отношеніи мы сойдемся выгоднѣйшимъ Для Васъ образомъ. Отвѣчайте мнѣ хотя въ двухъ словахъ.
Весь Ваш
Н. Некрасовъ.«Записочку», о которой упоминает Некрасов в начале письма, он передал Тургеневу, который задержал несколько отсылку ее, потому что вот что читаем в письме Тургенева к Толстому от 2 февраля: «Кстати прилагаю записку от Некрасова, из которой вы увидите, что он намерен „засыпать вас золотом“».
Роман Толстого — «Семейное счастье», отданное Львом Николаевичем не в «Современник», а в «Русский Вестник», где оно было напечатано в первых двух книжках 1859 г.
19.
[1861 г.] 30 мая, Петербург.
Многоуважаемый Лев Николаевичъ,
По нѣкоторымъ обстоятельствам, въ изложеніе которыхъ вдаваться дѣло лишнее, но которыя очень уважительны, я от повѣстей Ауэрбаха отказываюсь. Извините пожалуйста. Если Вы уже извѣстили Ауэрбаха, то потрудитесь увѣдомить его, что дѣло это разстроилось.—
Если Вы сами что-нибудь написали и можете напечатать въ Современникѣ, то я готов вамъ заплатить по двѣсти руб. с. съ листа. — Если вздумаете отвѣчать на это письмо, то адресуйте въ Ярославль, на мое имя.
Будьте здоровы.
Искренно Вамъ преданный
Н. Некрасовъ.30 Мая. Спб.
Год письма определяется содержанием.
В свою вторую заграничную поездку Толстой 9 (21) апреля 1861 г. познакомился с известным немецким писателем Бертольдом Ауэрбахом (1817–1882), восторженные отзывы о котором имеются в дневнике Толстого. Под впечатлением знакомства с Ауэрбахом Толстой во время пребывания своего в Петербурге (13–22 апреля) и советовал Некрасову напечатать в «Современнике» произведения Ауэрбаха. Не зная ничего этого, сотрудник «Современника», известный поэт Мих. Лар. Михайлов, писал Некрасову:
Nauheim. 27 мая 61.
Любезнѣйшій другь Николай Алексѣевичъ, вмѣстѣ съ этимъ письмом посылаю я (прямо в типографію) конецъ статьи, начало которой послалъ три дня тому назадъ. Не знаю, поспѣетъ ли она въ майскую книжку, хотя это было бы хорошо. Пока не успѣлъ написать ничего больше; дорога порядочно утомила меня, да притомъ надо было немножко осмотрѣться здѣсь. Письмо это пишу Вамъ изъ Наугейма, гдѣ пробуду я мѣсяцъ. Вы можетъ быть не знаете, что это такое Наугеймъ. Это недавно открытыя воды близъ Франкфурта на Майнѣ. Пока здѣсь еще не столько больныхъ, сколько играющихъ въ рулетку и въ rouge et noire. Такъ какъ это не по моей части, то я не скажу, чтобы мнѣ было особенно весело. Зато благораствореніе воздуховъ наступило удивительное, и здѣсь можно будетъ заняться.
Вотъ какой Вамъ вопросъ. Въ Берлинѣ я познакомился съ Ауэрбахомъ (о которомъ есть нѣсколько строкъ въ моемъ письмѣ для «Совр.»), и онъ предлагалъ мнѣ для перевода прежде напечатанія на нѣмецкомъ языкѣ его новой повѣсти. Она очень хороша. A условія его такія: онъ желалъ бы получить столько, сколько получить за переводъ русскій переводчикъ. Значить, и оригиналъ и переводъ стоили бы 30 р. сер.; но я думаю, онъ согласился бы и на меньшее. Напишите мнѣ отвѣтъ: да или нѣтъ, и если можно, скорѣе. Для Ауэрбаха это въ нѣкоторомъ родѣ вопросъ жизни. Положеніе здѣшнихъ литераторовъ не особенно блистательно. Притомъ надо, чтобы переводъ былъ напечатанъ до октября месяца. Въ октябрѣ онъ начнетъ печатать повѣсть по нѣмецки.
Напишите пожалуйста, что Вы и что у насъ дѣлается, а также кланяйтесь Панаеву, Чернышевскому, Пыпину и другімъ, кого увидите изъ моихъ знакомыхъ.
Простите, что пишу мало. Тороплюсь кончить письмо, чтобы сегодня же отдать его на почту.
Душевно уважающій Васъ
Mux. Михайлов.Адресъ мой:
Herrn Michael Michailoff. In Soolbid
Nauheim, bei Frankfurt am Main.
N.) Я для вѣрности посылаю письма не франкированными. Прикажите пожалуйста въ типографіи платить что придется.
20.
1861 г. 3 июля. Петербург.
Подумав, я нашелъ удобнѣйшим отослать къ Вамъ прилагаемое у сего письмо Михайлова: оно объяснит вамъ мое предъидущее письмо к Вамъ съ отказомъ от повѣстей Ауэрбаха. В самомъ дѣлѣ, что мнѣ дѣлать? Я думаю самое простое: отказаться от этих повѣстей и за 75 р. и за 15-ть. Такъ я и написалъ к Михайлову — впрочемъ предоставив ему право уладиться и другимъ способомъ, т. е. взять у Ауэрбаха разсказ, если он найдет это нужным, чтобы сгладить нѣкоторую шероховатость всего этого событія. Надо замѣтить, что Михайловъ ничего не зналъ о разговорѣ моемъ съ Вами по-поводу Ауэрбаха, когда заключалъ свои условія съ Ауэрбахомъ.
Надѣюсь, что Михайлов как-нибудь это уладит. Будьте здоровы и удостойте меня отвѣтомъ о томъ, согласны ли Вы дать что-нибудь в Современникъ.
Преданный Вамъ Н. Некрасовъ.1861, 3-го Iюля.
Спб.
Письмо Некрасова объясняется выше напечатанным письмом М. Л. Михайлова, которое сохранилось в архиве Л. Толстого.
21.
[1874 г. Конец августа — начало сентября. Петербург.]
Милостивый Государь
Левъ Николаевичъ,
Потрудитесь прислать Вашу статью я напечатаю ее (можетъ быть если успѣется) въ 9 № Отечественных] 3[аписок], а не то въ 10-мъ, не позже. По 150 р. платить согласен (и при этомъ замѣчу, что за роман Ваш или повѣсть редакція может заплатить и дороже). Корректуру пошлю, к кому укажете; если нужны отдельные оттиски, замѣтьте на рукописи. Я Михайловскаго еще не видалъ по возвращеніи его из Костромы, но слышалъ, что он тоже что-то готовит по педагогическому вопросу. Вѣроятно, он сам вам напишет.
Ваш покорный слуга
Н. Некрасовъ.В письме речь идет о статье Толстого «О народном образовании», напечатанной в 9-й книжке «Отечественных записок». Историю напечатания этой статьи рассказывает в своих «Литературных воспоминаниях» Н. К. Михайловский: «В 1874 г., пишет Михайловский, гр. Толстой обратился к Некрасову с письмом (оно у меня сохранилось), в котором просил „Отечественные записки“ обратить внимание на его, гр. Толстого, пререкания с профессиональными педагогами в Московском Комитете грамотности. Граф выражал, лестную для нашего журнала, уверенность, что мы внесем надлежащий свет в эту педагогическую распрю. Письмо это, совершенно неожиданное, возбудило в редакции большой интерес… В конце концов порешили на том, чтобы предложить самому гр. Толстому честь и место в „Отечественных записках“; он, дескать, достаточно крупная и притом вне литературных партий стоящая фигура, чтобы отвечать самому за себя, а редакция оставляет за собой свободу действий. Но гр. Толстому этого было мало. В новом письме к Некрасову он повторял уверенность, что у него с „Отечественными записками“ никакого разногласия быть не может, и, выражая готовность прислать статью по предмету спора, настаивал на том, чтобы наш журнал предварительно сам высказался. Я взял на себя труд познакомиться с делом». (Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута», т. I, 1900, стр. 199–200). Михайловский написал Толстому, о чем впоследствии вспоминал: «Я откровенно изложил гр. Толстому свое положение: так и так, преподавательским делом никогда не занимался, с литературой предмета совершенно не знаком, но постараюсь изучить ее, а для этого нужно время».
Статья Михайловского была напечатана в N 1 «Отечественных записок» за 1875 г.
22.
1875 г. 8 апреля. [Петербург].
8 Апр. 1875.
Милостивый Государь
Левъ Николаевичъ,
Мѣсто дли Вашей новой педагогической статьи будет отведено въ Майской книжкѣ Отечественных] З[аписок].
В свое время постараемся исполнить и то, что Вы желаете относительно изготовляемой Вами азбуки.
Статью для майской книжки доставьте не позже 25 27 апрѣля.
Примите увѣреніе въ истинном моем уваженіи и преданности.
Н. Некрасовъ.Письмо Толстого, вызвавшее настоящее письмо Некрасова, неизвестно.
Статьи Толстого, о которой пишет Некрасов, в «Отечественных записках» не появлялось. Она даже не была написана Толстым.
В мае 1875 г. вышло переработанное издание «Азбуки» Толстого под названием «Новая азбука». М. 1875, 92 стр., и четыре «Русских книги для чтения». Толстой, вероятно, просил Некрасова обратить внимание читателей на выпускаемую «Новую азбуку».
ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ
«КРУГ»
Москва, Центр, Кривоколенный пер., 14.
_________________________________________________________________________
НОВОСТИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
АЛЕКСЕЕВ, ГЛЕБ. Иные глаза. Рассказы. 216 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БАБЕЛЬ, И. Беня Крик. Кино-повесть. Ц. 1 р.
БЕЛЫЙ, АНДРЕЙ. Московский чудак. Роман. 256 стр. Ц. 1 р. 80 к.
БЕЛЫЙ, АНДРЕЙ. Москва под ударом. Роман. 248 стр. Ц. 1 р. 80 к.
БРОМЛЕЙ, Н. Исповедь неразумных. Рассказы. (Печатается).
ВОРОНСКИЙ, А. За живой и мертвой водой. Воспоминания. 256 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ГРИГОРЬЕВ, С. Коммуна Мар-Мило. Повесть. 132 стр. Ц. 1 р.
ЗАМЯТИН, ЕВГ. Нечестивые рассказы. 180 стр. Ц. 1 р. 60 к.
ЗАЯИЦКИЙ, С. Баклажаны. Повесть. 304 стр. Ц. 2 р.
НОВИКОВ, И. Вишни. Рассказы. 258 стр. Ц. 2 р.
СЕЛЬВИНСКИЙ, И. Уляляевщина. Эпопея. 148 стр. Ц. 1 р. 50 к.
ТОЛСТОЙ, А. Древний путь. Рассказы. 184 стр. Ц. 1 р. 60 к.
ТОЛСТОЙ, А. и ЩЕГОЛЕВ. П. Азеф. Пьеса. Ц. 1 р.
ТРИОЛЕ, Э. Земляничка. Роман. 176 стр. Ц. 1 р. 50 к.
ФЕДОРОВИЧ, В. Спор с господином. Рассказы. 200 стр. Ц. 1 р. 50 к.
ЧАПЫГИН, А. Разин Степан. Роман том I. 292 стр. Ц. 2 р.
ЧАПЫГИН, А. Разин Степан. Том II. 356 стр. Ц. 2 р. 40 к.
ЧАПЫГИН, А. Разин Степан. Том III. 390 стр. Ц. 2 р. 50 к.
ЧАПЫГИН, А. На лебяжьих озерах. Повесть. 256 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ШКЛОВСКИЙ, В. Третья фабрика. 144 стр. Ц. 1 р.
ЭРЕНБУРГ, И. Лето 1925 года. 208 стр. Ц. 1 р. 50 к.
ЯВИЧ, А. Путь. Роман. 381 стр. Ц. 2 р. 50 к.
НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
АШ, И. Контора. Роман. (Печатается).
БАРБЮС, А. Насилие. Повесть. 196 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БЕНУА, ПЬЕР. Альберта. Роман. 232 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БЕНУА, ПЬЕР. Прокаженный король. Роман. (Печатается).
БЕРЕСФОРД, Д. Дом № 73. Роман. 221 стр. Ц. 1 р. 40 к.
БЕРКОВИЧИ, К. Поющий ветер. Рассказы. (Печатается).
ВАСТ, УГО. Каменная пустыня. Роман. 308 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ДЕБЕРЛИ, А. Пытка Федры. Роман. (Печатается).
ДЮАМЕЛЬ, Ж. Дневник святого. Роман. 260 стр. Ц. 1 р. 60 к.
ЖИД, А. Подземелья Ватикана. Роман-фарс. 252 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ИСТРАТИ, П. Неррантсула. Роман. 152 стр. Ц. 1 р. 25 к.
КЕЛЛЕРМАН, Б. Два брата. Роман. 320 стр. Ц. 1 р. 75 к.
КОЛЛЕТ, Конец Шери. Роман. (Печатается).
МАК ОРЛАН, П. Фабрика крови. Рассказы. 140 стр. Ц. 1 р. 25 к.
МОРАН, П. Открыто ночью. Новеллы. 203 стр. Ц. 1 р. 50 к.
СОБРЕРО, М. Знамена и люди. Роман. 218 стр. Ц. 1 р. 50 к.
Все книги этих серий в изящных переплетах.
ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ
«КРУГ»
Москва, Центр, Кривоколенный пер., 14.
___________________________________________________________________
БИБЛИОТЕКА ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ:
АКУЛЬШНИН, Р. Проклятая должность. Рассказы. 200 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БРАЖНЕВ, Е. В дыму костров. 176 стр. Ц. 1 р. 25 к.
СЕМЕНОВСКИЙ, Д. Мир — хорош. Стихотворения. 96 стр. Ц. 1 р.
ТВЕРЯК, А. На отшибе. Повесть. 240 стр. Ц. 1 р. 50 к.
РОМАНЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ:
БРИДЖС. В. Человек ниоткуда. Роман. 252 стр. Ц. 1 р. 50 к.
КАДУ, РЕНЭ. Атлантида под водой. Роман. 312 стр. Ц. 2 р.
ДЮМЬЕЛЬ, П. Красавица с острова Люлю. 192 стр. Ц. 1 р. 25 к.
МАК ОРЛАН, И. Желтый Смех. 168 стр. Ц. 1 р. 25 к.
Все книги этих серий в изящных переплетах.
_________________________________________________________________
ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЕ:
ВОРОНСКИЙ, А. Литературные записи. В перепл. Ц. 1 р. 60 к.
ЕГО ЖЕ. Литературные типы. Роман. В перепл. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 25 к.
ИВАНОВ, ВС. Гафир и Мариам. Повести и рассказы. Ц. 1 р. 75 к.
КАЛЛИНИКОВ, И. Мощи. Роман. T. I. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
ЕГО ЖЕ. Мощи. Роман. T. II. Изд. 2-е. Ц. 2 р.
ЕГО ЖЕ. Мощи. Роман. Т. III. Ц. 2 р.
КОЗЫРЕВ, М. Мистер Бридж. Повесть. С иллюстрациями худ. М. Гетманского. 80 стр. Ц. 75 к.
ЛЕЖНЕВ, А. Вопросы литературы и критики. Ц. 1 р. 75 к.
МАЛЫШКИН, А. Падение Даира. Повесть. Изд. 2-е. Ц. 35 к.
МАРГЕРИТ, В. Преступники. Ц. 1 р. 75 к.
НОВИКОВ, И. Современные повести. Том I. Ц. 1 р. 25 к.
ЕГО ЖЕ. Современные повести. Том II Ц. 1 р. 25 к.
«ПЕРЕВАЛ». Сборник IV. 176 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ПИЛЬНЯК, Б. Мать сыра-земля. Повести и рассказы. Том V. Ц. 1 р. 75 к.
ТРОЦКИЙ, Л. Дело было в Испании. Записки из дневника. Иллюстр. худ. Ротова. В перепл. Ц. 1 р.
ТЮТЧЕВ, Ф. И. Новые стихотворения. Ред. и примечания Г. Чулкова. 128 стр. Ц. 1 р. 25 к.
Примечания
1
Письма печатаются с сохранением орфографии подлинников. Некрасов часто не писал твердого знака в конце слов, отсюда пестрота текста в этом отношении.
(обратно)2
«Архив села Карабихи», стр. 189. Цитируем здесь и везде дальше по подлинникам.
(обратно)3
Н. М. Гутьяр («Хрон. канва для биогр. И. С. Тургенева», Спб., 1910. стр. 26) датирует отъезд 8 января, но есть письмо Тургенева М. Н. Толстой, помеченное 9 января из Петербурга.
(обратно)4
Я за границу не попалъ — и уѣду не ранѣе Сентября.
(обратно)




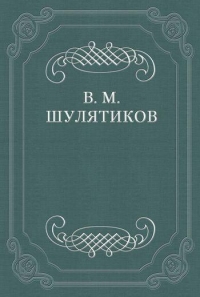
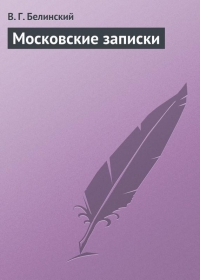
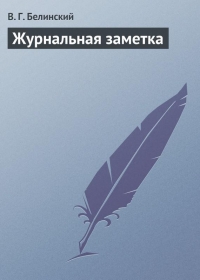
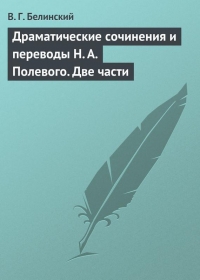
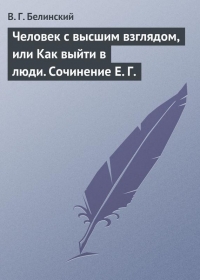
Комментарии к книге «Круг. Альманах артели писателей, книга 6», Максим Горький
Всего 0 комментариев