Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
© В. Авченко, 2018
© В. Аксёнов, 2018
© А. Аствацатуров, 2018
© П. Басинский, 2018
© И. Бояшов, 2018
© А. Варламов, 2018
© М. Веллер, 2018
© Е. Водолазкин, 2018
© А. Гаврилов, 2018
© М. Гиголашвили, 2018
© А. Етоев, 2018
© Ш. Идиатуллин, 2018
© П. Крусанов, 2018
© В. Курицын, 2018
© В. Левенталь, 2018
© И. Малышев, 2018
© А. Матвеева, 2018
© А. Мелихов, 2018
© Т. Москвина, 2018
© С. Носов, 2018
© В. Попов, 2018
© О. Постнов, 2018
© Захар Прилепин, 2018
© А. Проханов, 2018
© А. Рубанов, 2018
© Г. Садулаев, 2018
© А. Секацкий, 2018
© Р. Сенчин, 2018
© А. Слаповский, 2018
© А. Снегирёв, 2018
© М. Степнова, 2018
© М. Тарковский, 2018
© Л. Улицкая, 2018
© Макс Фрай, 2018
© С. Шаргунов, 2018
© Л. Юзефович, 2018
© А. Етоев, П. Крусанов, состав, 2018
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
От составителей
Замысел этой книги, как и положено всякому продуктивному замыслу, неожиданно посетил нас во время дружеского застолья. Случаются озарения и в ванной, и в вагоне метро, и в курилке публичной библиотеки, и тоже порой довольно блестящие, но это снизошло там, где снизошло. Вспоминая нашумевший проект «Литературная матрица», в котором мы оба в своё время приняли участие, один из нас сказал, что при работе над статьёй о Борисе Пильняке существенную помощь ему оказали отрывки из дневника этого автора, опубликованные в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (Л.; М.: издательство «Круг», 1924). Там вообще было много интересных статей (Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Евгений Замятин и др.), которые впоследствии стали хрестоматийными, зачастую играя роль важнейшего автобиографического свидетельства. Второй из нас, демонстрируя знакомство с темой, сказал, что в 1930 году Издательство писателей в Ленинграде выпустило похожий сборник под названием «Как мы пишем». Там авторы, среди которых были Горький, Белый, Зощенко, Каверин, Лавренёв, Тихонов, Тынянов, Шкловский, те же Ал. Толстой с Пильняком, в вольной форме отвечая на вопросы предложенной издательством анкеты, рассказывали о себе, о своих книгах, о взглядах на литературу и о методах её приготовления, которым они отдают предпочтение. Мы подивились схожести идей, а стало быть, их востребованности, имевшей место на излёте первой трети прошлого века. Чем был вызван читательский интерес к фигуре писателя тогда и разве нет такого интереса сегодня? разве не вечен этот запрос? разве и по сию пору нам не хочется знать, кем же в реальности был древний грек Гомер и что он думал о нелёгком труде аэда? – озадачились мы. После чего, если кто-то ещё не догадался, решили построить собственный сборник, в котором современные отечественные писатели высказались бы в вольной форме о времени, о литературе и о себе, таким образом лишив грядущих исследователей возможности приврать или приписать задним числом тому или другому автору несвойственные ему побудительные мотивы.
Большинство авторов, к которым мы обратились с предложением представить для сборника статью, несмотря на щекотливость темы, обусловленную полуэтическим, полуэстетическим внутренним запретом говорить во всеуслышание о себе как о писателе (помните, у Евгения Шварца: «Сказать: „я писатель“ – стыдно, всё равно что сказать: „Я красавец“»), наше предложение приняли. Хотя были и отказавшиеся. Эдуард Лимонов, например, в очередной раз подтвердив репутацию эстетического бомбиста-одиночки, заявил о принципиальном неучастии в любых коллективных сборниках. Дмитрий Быков, Людмила Петрушевская и Михаил Шишкин известили, что не смогут ужиться в этом теремке под одной крышей/обложкой с некоторыми неприятными им соседями: как будто до этого они всегда маршировали в ногу, а тут – немыслимое дело! – одни – с правой, другие – с левой. Действительно, с ума сойдёшь. Илья Стогов статью написал, но, не удовлетворившись результатом, добровольно сошёл с дистанции. Михаил Елизаров, Александр Терехов и Дина Рубина оказались сверх меры загружены текущей работой. Андрею Битову, Юрию Буйде и Владимиру Шарову не позволило сесть за клавиатуру пошатнувшееся здоровье. Ещё трое пренебрегли приглашением без объяснений (подозреваем, на эти три анонимных места задним числом окажется гораздо больше претендентов, но их было именно три).
Как бы то ни было, книга получилась более чем представительная. Здесь сошлись писатели разных поколений, разных мировоззрений, разных направлений и традиций и разной степени склонности к рефлексии и самоанализу. В художественном тексте эти различия, пожалуй, не имеют значения, поскольку литература, достойная этого слова, апеллирует к вечным темам и, повествуя, не назидает. Зато в высказывании от первого лица, какое мы находим на этих страницах, личность, представления и убеждения автора зачастую выходят на первый план, удовлетворяя любопытство читателя относительно уже не литературы как таковой, а фигуры самого субъекта письма.
И ещё: авторам предоставлена полная свобода волеизъявления. Вплоть до того, что те из них, кто удостоил в рукописи «ё» точками, увидят их и в наборе, а те, кому эта буква – падчерица, точек по собственному выбору будут лишены.
Тут уместно задать вопрос: а какова задача этого сборника? В ответ можно произнести уйму юрких слов о временах, когда гражданская позиция оказывается важнее художественного жеста, о любопытном опыте речи без маски, о закалке личности посредством обнажения на свежем воздухе, о плодотворной провокации, благодаря которой, подставляясь, ускользаешь, об ответственности и о безответственности, о доверительном серьёзном разговоре и об утробном хохоте, но мы их не произнесём. Проходят десятилетия (века), однако во внутренней жизни человека мало что меняется. Очень мало. Вообще все изменения, случающиеся с нами и вокруг нас, по большей части сугубо внешние. Это прописи. Поэтому ответ будет сухим и мало что объясняющим – таким же, что и в сборнике-предтече (дословная цитата): «Его задача – в том, чтобы познакомить читателя с взглядами некоторых художников слова на современное искусство и дать тем самым известный материал по этому вопросу».
Добавим только, что, помимо современного искусства, речь здесь пойдёт и о множестве других вещей. В том числе – о королях и капусте.
Да, и о них тоже. Без них – куда?
P. S. Название для сборника, чтобы не плодить сущностей, мы позаимствовали из книги, изданной в 1930 году.
Василий Авченко. Размышления на дальневосточном гектаре
1. О чём писать
С этим всё было просто. Сам факт моего проживания во Владивостоке оказался неплохим козырем.
Дальний Восток до сих пор воспринимается так называемой центральной Россией как другая планета, зазеркалье.
Восточное крыло родной словесности оставляет двойственное впечатление: интереснейшая фактура при явной нехватке авторов нелокального масштаба. В высшей лиге за Дальний Восток играют легионеры, а местные кадры растут с трудом. Климат неподходящий?
У Одессы были Бабель, Багрицкий, Олеша, Козачинский… У нас шла и идёт никак не менее интересная жизнь, чем в Одессе. Но своих Бабелей не нашлось – и целые пласты героев, сюжетов, судеб канули в Японское, Охотское, Берингово моря.
Ещё Джойс и Эренбург сравнивали Владивосток с Сан-Франциско. Сходство действительно есть, и не только внешнее. Один из персонажей Джека Лондона сетовал: «В Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи О’Хара, пусть постарается найти осла, который согласится поставлять для „Волны“ серию рассказов – романтических, ярких, полных настоящего сан-францисского колорита…»
Вопрос в том, где найти этого самого осла.
А ведь культурное освоение территории никак не менее важно, чем административное, военное, хозяйственное. Литературная прописка дальних малонаселённых уголков империи – задача государственного масштаба. Любой Крым по-настоящему наш только тогда, когда он существует как факт литературы, кинематографа, живописи.
Скажем, начатое Невельским присоединение Сахалина к России завершил Чехов, создав первую энциклопедию дальневосточной жизни и обозначив вектор: к чёрту таиланды, открывайте свою страну, смотрите не только на запад (и Пушкин в последние дни жизни конспектировал «Описание земли Камчатки» Крашенинникова, собирался писать о присоединении восточных территорий).
Главные литературные бренды Приморья – Арсеньев и Фадеев. Оба увенчаны, но недопрочитаны: один определён в резервацию «функционеров», другой – в не менее тесную нишу «краеведов».
Можно, конечно, назвать и другие имена. Гайдар в Хабаровске начал «Военную тайну», проникнутую предчувствием войны с Японией, Андрей Некрасов в бытность сотрудником Дальморзверпрома придумал капитана Врунгеля, Юлиан Семёнов, попотев в дальневосточных архивах, – Штирлица (действие первого романа о разведчике происходит во Владивостоке, Хабаровске, Маньчжурии). Это матрица территории, дальневосточный литературный взвод: таёжник Дерсу, партизан Левинсон, Мальчиш-Кибальчиш, Врунгель, Исаев-Штирлиц.
А ещё на Дальнем Востоке работали Пришвин, Диковский, Фраерман, Симонов, Сельвинский… Но если сравнивать Японское море по степени его освоенности русским языком с Чёрным или Балтийским, первое всё равно проиграет. Доныне на востоке – избыток тем и недостаток целинников.
Взять 1990-е: самое адекватное отражение Дальнего Востока этой эпохи дали не писатели, а профессор-юрист Виталий Номоконов, написавший учебное пособие по организованной преступности, и механик Сергей Корниенко, автор «Ремонта японского автомобиля». В отсутствие Бабеля, Стивенсона, Джека Лондона пространство и время осмысливались нехудожественными, «специальными» текстами, вплоть до газетных объявлений и милицейских сводок с их невыдуманным драматизмом и даже неожиданной поэзией.
Слабо разработанный пласт – соседство с Азией. Есть отличные книжки русских японцев Вадима Смоленского и Дмитрия Коваленина – «Записки гайдзина» и «Коро-Коро» соответственно, – но, пожалуй, и всё. А ведь взаимное проникновение Азии и Европы, обозначившееся было в литературе восточной ветви эмиграции (Арсений Несмелов, Борис Юльский, Михаил Щербаков, Валерий Перелешин, Николай Байков…), могло бы дать интереснейшие плоды. Но даже дальневосточники, щеголяя своей близостью к Азии, остаются почти изолированными от соответствующих культур. Нам, как и остальным соотечественникам, куда ближе и понятнее европейская и американская культура.
А тем и сюжетов вокруг – море.
Взять великое русское переселение на восток – ещё до строительства Транссиба, пароходами Доброфлота из Одессы. Здесь мог бы родиться свой «Тихий Дон» (вернее, «Тихий Амур») – но своего Шолохова не нашлось.
А полурусский до 1945 года Харбин и вообще проект «Желтороссия»? А история русских корейцев (лишь один сюжет: дед Виктора Цоя родился во Владивостоке, отец – в Казахстане, куда перед войной выслали корейцев…)? А «манзовская война» 1868 года? А пограничник Карацупа, капитан Щетинина, геолог Попугаева? А Халхин-Гол, советский «блицкриг» 1945 года в Маньчжурии и «отряд 731» генерала Исии – японская версия Освенцима? А война в Корее, где нашими лётчиками командовал прославленный Иван Кожедуб? А Даманский?
Или такая судьба: невзлетевший космонавт Нелюбов, второй дублёр Гагарина. После стычки с патрулём был сослан в бомбардировочный полк в Приморье, переживал, пил, погиб под поездом.
А тот же Арсеньев, в книгах которого – масса нереализованных, намеченных пунктиром сюжетов (чего стоит пронзительная история топографа Гроссевича)? А Василий Ощепков – разведчик, создатель самбо?
Браконьеры, контрабандисты, пираты, якудзы, триады, корейская лапша, китайские шмотки, японские тачки, проданные за границу на гвозди авианосцы Тихоокеанского флота… Да каждый день мужики в гаражах у нас на Второй Речке подбрасывают новые жизненные сюжеты.
Я долго ждал, пока кто-нибудь напишет обо всём этом. Причём лучше не филолог или журналист, а рыбак, моряк, автоперегонщик или бандит. Не дождался и начал сам – о подержанных японских автомобилях, о горбуше и селёдке, о кораблях, об истории с географией, о Фадееве, ключом к книге о котором стали опять-таки дальневосточные партизанские сюжеты… Вопреки всему, что рассказывают о «столичной издательской мафии», сразу же был издан в Москве – человек с улицы, без имени и знакомств. Может, как раз голоса с Дальнего Востока и не хватало?
О Москве и Петербурге веками пишут тысячи отличных авторов, но зауральские «белые пятна» надо как-то ликвидировать. Олег Куваев, автор «Территории» о чукотском золоте, понимал: начинать эту тему нужно с Колымы. Но сам он на Колыме не работал – и не решился. Вот и не появилось у нас великого эпоса о Билибине, о колымском золоте. И уже, наверное, не появится.
…Правда, в самое последнее время (могу ошибаться, ибо оптика моя сбита пристрастным отношением) вроде бы наметилась некая новая дальневосточная мода.
Началось всё с Евгения Гришковца, съевшего собаку на Русском острове у Владивостока (этим гастрономическим актом он, что интересно, повторил Арсеньева). Александр Кузнецов-Тулянин написал великолепного «Язычника» о кунаширцах, Михаил Тарковский – «Тойоту-Кресту» о зауральских ценителях праворульных автомобилей, Леонид Юзефович – «Зимнюю дорогу» об одном из последних эпизодов Гражданской войны на Дальнем Востоке, Виктор Ремизов – «Волю вольную» об охотских рыбаках, Алексей Коровашко – увлекательную биографию Дерсу Узала, Андрей Геласимов – «Розу ветров» о Невельском… Недавно Игорь Кротов написал отличную книгу «Чилима» о Владивостоке 90-х; надеюсь, её путь к всероссийскому читателю не будет слишком долог.
Да и на официальном уровне Дальний Восток вошёл в моду. Кремль придумывает для депрессивной восточной периферии «свободные порты», «дальневосточные гектары», «территории опережающего развития»…
Продолжаю потихоньку распахивать свой собственный «дальневосточный гектар».
2. Как писать
Не знаю, как писать. Иногда знаю, как не надо, но этого мало.
Литература – институт консервативный и одновременно новаторский, примерно как армия. Каждой эпохе – своя манера: обстоятельства и сама логика происходящего подталкивают к тому или иному. Мы читаем классиков и восхищаемся ими, но понимаем: сейчас так не пишут.
А как пишут? Как надо писать?
Например, роман. Говорят, что у «современного человека» нет времени на чтение объёмных текстов. Что настала «твиттер-эпоха», а молодёжи вообще интереснее инстаграм, где картинка вместо текста. Но если изучить шорт-листы ведущих литературных премий и рейтинги продаж, увидим: романы по-прежнему пишут и читают. Причём романы большие, мощные, как боксёры-супертяжи, умные, просторные: «Обитель» Прилепина, «Ненастье» Иванова, «Лавр» Водолазкина, «Немцы» Терехова…
Прочёл, что бельгийцы не то французы ввели термин «железнодорожный роман» – книга, которую глотаешь быстро, за время среднеевропейской поездки по скоростной ветке. Мне-то при упоминании железной дороги представляется Транссиб. Наш «железнодорожный роман» – книга, которую меньше чем за неделю, пока поезд преодолевает путь от Владивостока до Москвы, не осилить. А в твиттер пусть пишут европейцы.
Что такое современный роман, если романом теперь называют любую толстую книгу? А Евгений Ерёмин из Благовещенска изобрёл «столбовой роман» – лист с одной фразой, который он лепит на фонарные столбы. Есть ощущение, что прежнее жанровое деление потеряло смысл или же что мы слишком вольно обращаемся с терминами.
Эдуард Лимонов (не он один) давно говорит о смерти романа: «Форма романа – это на самом деле для уровня сознания сразу после шимпанзе… Вот у меня лежит в ящике моё уголовное дело – вот это литература».
Взгляд не новый. Высоцкий ещё в 1964 году написал:
Нам ни к чему сюжеты и интриги, Про всё мы знаем, про всё, чего ни дашь. Я, например, на свете лучшей книгой Считаю кодекс Уголовный наш.И дальше:
Вы вдумайтесь в простые эти строки – Что нам романы всех времён и стран! – В них есть бараки, длинные, как сроки, Скандалы, драки, карты и обман…Говорят, выдуманные персонажи надоели, а потому требуется «литература факта». В самом деле, зачем выдумывать, если сама жизнь даёт столько материала?
Но всё равно историю мы («широкие читательские круги» – хотя разве они широкие?) знаем и помним как раз по хорошему фикшну: «Война и мир», «В окопах Сталинграда»… А документы и архивы – это для профессиональных историков, круг которых ещё у́же.
Хотя сейчас и художественное от документального отличить непросто. Тексты – сплошь гибриды, мутанты…
Ещё часто говорят о том, что писатели ищут и не находят героя нашего времени. Вот и пишут о самих себе, для приличия чуть загримировавшись.
Действительно, герой – находка для писателя. Кем был бы Купер без Бампо и Чингачгука, Конан Дойл без Холмса с Ватсоном? Порой герой даже затмевает автора.
Но бывает литература и без героев. Мне, например, безумно нравятся книжки академика Ферсмана о полезных ископаемых – именно как художественная литература.
Все чего-то требуют от литературы. Одни ждут от неё призывов и лозунгов, другие – «чистой» красоты. Одни клеймят постмодернистов, другие пугают возрождением соцреализма. Третьи считают, что после Освенцима писать вообще нельзя. Но история человеческая примерно вся состоит из освенцимов разной степени, и другого человечества у нас для вас нет.
Есть люди, которые видели такое, что другим и не снилось, но писателями они не становятся. Есть те, кто ничего не видел, но пишет. «Правда жизни» – вещь хорошая, но она – не обязательное и, главное, не достаточное условие. Нужно что-то ещё: талант? Но и талант сам по себе всего не объясняет. Работа над собой? Больная совесть – или, наоборот, здоровая? При одних условиях из расплава возникает совершенный, как башня Т-34, кристалл, при других – бесформенная застывшая масса. Из углерода может получиться графит, а может и алмаз – дело в давлении, температуре…
Каким должен быть текст, чтобы стать важным, нужным, востребованным? Тем более теперь, когда читателя не удивишь ни чернухой, ни порнухой, ни матом?
Иногда говорят: «Читатель сегодня ждёт…»
Надо ли оглядываться на этого абстрактного читателя, который будто бы чего-то ждёт?
«Пишу для себя», – говорят многие. Но сама природа текста предполагает, что он должен быть прочитан.
Фальшь и незаинтересованность не спрячешь. Начинаешь думать, как бы написать покрасивее, да ещё представляя себе читателя… – тут всё и рушится.
Писаться должно как бы само, хотя само ничего не происходит. Как будто пишешь на заборе слово из трёх букв – легко, быстро, дерзко, лаконично.
Несколько мазохистское наслаждение я испытываю от выжимания текста. Чисто формальная задача – «сократить вдвое» – ведёт не только к количественным, но и к качественным изменениям. Зачистку выдерживают лишь непогрешимые, неслучайные слова, держащиеся друг за друга без служебных подпорок, напоминающие солдат в строю или кирпичи в кладке.
Главнее содержания становится интонация, атмосфера. Сюжет любого романа можно пересказать несколькими предложениями. Значит, дело в чём-то другом. Содержание было важнее раньше, в эпоху дефицита информации. Сейчас ценнее найти собственную мелодию в семи вечных безвыходных нотах. Интонация – вот главная информация, действующее вещество текста.
Следует беречь и точить интуицию – тонкий и точный инструмент. Помнить дворовое правило – «отвечай за базар». Быть аккуратнее со словами. Как нельзя печатать не обеспеченные золотом или товаром деньги, так нельзя плодить слова, не обеспеченные честностью, судьбой, личностью. Иначе они обесцениваются и превращаются в мусорную массу, обрушивающую смысловой рынок. Нужен какой-то Россловнадзор, речевая ЧК по контролю за эмиссией слов и борьбе с фальшивками. Может, каждому человеку следует отпускать на жизнь некий лимит слов? Выдавать слова по талонам, чтобы их ценили выше?
3. Что нам в нём не нравится
Нам выпали две революции: социальная и информационная.
Интернет – не только коммуникационный выход на сверхзвук и бдительный «большой брат». Это мощный лингвистический фактор. Интернет очевидным образом влияет на лексику, орфографию, пунктуацию (даже точка теперь – ещё не конец: за ней идёт ru или org).
Возможно, главная на сегодня задача человечества – растить вавилонскую башню знаний. Появление электронных архивов должно произвести революцию. Зреет какой-то скачок: количество данных в силу появления новых технологий их накопления, хранения, использования должно перейти в новое качество.
Расцвет такого жанра, как песни Окуджавы, Высоцкого и Галича, был обусловлен массовым распространением магнитофонов.
Какие жанры родит интернет?
…С какого-то времени почувствовал раздражение по отношению к некоторым особенностям интернета. Вскоре заметил: это ощущение уже стало общим местом.
Издатель Александр Иванов: «В мире, где властвует интернет, статус эксперта резко понизился. Если раньше голос известного критика звучал как голос судьи, то сегодня судьёй может выступать любой блогер».
Писатель Алексей Иванов: «В соцсетях все имеют равное право голоса… Мнение академика приравнено к мнению девятиклассника. В реальной жизни право быть услышанным нужно заслужить. В интернете оно даётся автоматически. Это… неправильно для нормального человеческого общества. В соцсетях существует в первую очередь говорящий, а не знающий. Кто больше говорит, тот „больше существует“, имеет больше веса. И это переходит в реальную жизнь. В человеческом обществе, в культуре очень важны иерархии». Он же: «Соцсети отменяют институт авторитета. Но на этом институте держится вся человеческая культура. Отменить авторитеты в культуре – всё равно что в армии отменить звания. Толпа равных в правах вояк – не армия, она никого не победит. И культура ничего не сможет изменить в нашей жизни, если обрушен институт авторитета. В соцсетях слушают не того, кто авторитетнее, а того, кто заметнее. Это называется медийность… Какие-то блогеры, не сделавшие ничего полезного, самозваные специалисты по всем вопросам вдруг оказываются властителями дум, законодателями мод и вершителями судеб… Интернет – явление амбивалентное. Отрицать его амбивалентность – значит угодить в ловушку, не заметив этого».
Писатель Захар Прилепин: «Если бы сегодня жили Фёдор Достоевский и Лев Толстой, при помощи интернета любой из них был бы очень быстро превращён в посмешище… Должна быть какая-то параллельная интернету реальность – литературная, культурная, премиальная – какая угодно, в которой истинная ценность вещей будет утверждаться экспертным сообществом. Интернет – это просто анархия в самом низком понимании этого слова».
Филолог Алексей Коровашко: «Люди, которые когда-то из-за уровня своего IQ не могли быть допущены к пастьбе овец, метению улиц, подаче кирпичей, наклеиванию марок, копанию ям, выгребанию г… и молотьбе овса, получили… такие мощные средства трансляции врождённого идиотизма, как сотовые телефоны, интернет и социальные сети. В этот момент и наступил конец Истории».
Лингвист, академик Андрей Зализняк (1935–2017): «Нужно также особо отметить чрезвычайно важный для дилетантов тезис ценности решительно всех мнений… В качестве исходного здесь берётся положение, с которым естественно согласиться: „Всякое мнение имеет право на существование“. А далее делается незаметный… переход к гораздо более сильному тезису: „Всякое мнение не менее ценно, чем любое другое“. При таком постулате оказывается несущественным, изучил ли автор то, что необходимо знать для обоснованного суждения о предмете, и предъявил ли он веские аргументы в пользу своего мнения, или просто он очень уверен в остроте своего ума и своей интуиции».
Писатель Андрей Рубанов: «Возможность бесконтрольно и безответственно высказаться на аудиторию любого масштаба – это… потрясение… Это как с ядерной энергией. Её можно обернуть во благо, а можно сделать бомбу… Как справочная система интернет идеален. Как культурное пространство он в общем и целом ужасен».
Писатель и ересиарх Эдуард Лимонов: «Интернет – лишь великолепное средство информации, не нужно преувеличивать. Сам по себе он так же реакционен и ублюдочен порою, как и стремителен и современен».
Виктор Пелевин ввёл понятие «великий хамстер» – гибрид «сетевого хомячка» (hamster’а), хипстера и «грядущего хама».
Это в управлении государством бывает незаменима хорошая кухарка с её практичностью и здравым смыслом; в культуре ситуация совершенно иная.
Размывание краеугольных иерархий – одна проблема, а вот другая, смежная. Критик Андрей Рудалёв: «Зачастую, окунаясь в СМИ-шное пространство, ты не можешь отделаться от навязчивого ощущения пресыщения… Это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество, наоборот, многообразие отдаёт бессмыслицей. Письменные высказывания зачастую нужны лишь для того, чтобы, как сейчас любят говорить, заполнить нишу, и эта масса активно обживает пустоты, разрастается, клонируя сама себя. Доходит до того, что смысл практически любого высказывания нивелируется, становится факультативным. Поток разнородной информации настолько велик, что он на самом деле становится практически не нужным в своей полноте. „Дурная бесконечность“ информации лишает её всяческой осмысленности».
Режиссёр Андрей Кончаловский: «Сегодняшняя европейская безапелляционность во многом результат изобилия мгновенно доступной информации в интернете, где банальные истины смешаны с гениальными прозрениями и теряются в океане полного мусора. Изобилие информации привело к банализации всех понятий и десакрализации мировых ценностей».
Писатель Станислав Лем (1921–2006): «Сейчас нам часто говорят о том, как это замечательно, что мы можем практически в реальном времени общаться на больших расстояниях, но я уже не раз писал о том, что лично у меня это не вызывает никакого энтузиазма, так как я не могу понять, какое новое содержание получает такое общение».
Писатель Василина Орлова: «Обустройство своего информационного гнезда в сети не расширяет горизонт, а, напротив, его сужает. Человек ищет в интернете тех, кто будет его поддерживать… То, что человек сам формирует свой круг общения – отсеивает по определённым признакам, – сужает его кругозор…»
Писатель Роман Сенчин: «Чем проще нам создавать слова, тем меньшей силой они обладают».
Президент журфака МГУ Ясен Засурский: «Если всё читать, что в фейсбуке пишут, то вы вообще умрёте и больше ничего не узнаете. Кроме дезинформации и замалчивания, есть ещё одна проблема – это переизбыток информации».
Соцсетезация приводит к тому, что межличностная коммуникация занимает почти всё время. Эфир забивается какофонией, мешающей услышать музыку или сигнал SOS. У человека появляется толпа «френдов», всех их читать решительно невозможно, и он настраивает ленту так, чтобы видеть только самых интересных для себя. Количество и разнообразие информации из ценности превращаются в обузу. Переизбыток информации ещё хуже дефицита – последний хотя бы провоцировал интерес.
В советское время казалось, что проблема в идеологическом гнёте и цензуре. Теперь можно всё – и что? Надежды на то, что доступность информации вкупе с грамотностью и плюс-минус образованностью приведут к наступлению нового просвещённого века, рассыпались. Перепроизводство и доступность информации привели к кризису рационального мышления. Ни аргументы, ни факты ничего больше не значат – их можно подобрать на любой вкус. А вместо идеологии теперь – тотальная или даже тоталитарная реклама, от которой не спрячешься. От нашей былой домотканой идеологии она отличается так, как ядерная бомба отличается от ручной гранаты.
Нам казалось, что коммуникация сама по себе – благо, но мы не видели другого: когда её слишком много, она превращается в зло. Благом становится защищённость от информации – хоть вноси в Декларацию прав человека свободу от слова. Вчера было важнее право знать, сегодня важнее право не знать. Настоящей ценностью становится не общение, а возможность его избежать.
Многие интернет-издания сегодня отказываются от возможности комментирования публикаций – а каким шагом вперёд это казалось ещё лет пятнадцать назад! «Обратная связь» с читателем больше не нужна – и потому, что всех утомили безумцы и рекламный спам, и потому, что есть опасность угодить под «экстремистскую» статью.
Коммуникация стала тоталитарной, чего не мог себе представить никакой оруэлл. Человек теперь обязан всегда быть на связи (раньше не был обязан – вышел из кабинета, и нет его). С каких-то пор я возненавидел разговоры по телефону и порой не включаю его сутками. Думаю, это может стать, как говорят сейчас, трендом.
Сегодняшняя проблема – не доступ к информации, а ориентирование в её беспредельности, различение зёрен и мимикрирующих под них плевел, возможность найти и осмыслить то, что действительно нужно. Интернет создаёт иллюзию смысловой насыщенности и богатого выбора. ИТ-революция не улучшила нашу информированность – лишь завалила тоннами бесполезных данных. Ещё хуже то, что человек современный уже не может это «развидеть» – не читать, не потреблять. Ему кажется, что он много читает, а на самом деле он лишь разгребает сыплющийся отовсюду информационный мусор. Фейсбук стал фастфудом, заменяющим нормальную еду и нарушающим пищеварение.
Технический прогресс должен был освободить человеку время для жизни, а на деле заменил жизнь информацией – бессмысленной и беспощадной. Жить стало некогда. Настоящую жизнь снисходительно называют «офлайном».
А взять «новости»: в какой-то момент мне стало ясно, что смотреть или читать новости бесполезно, поскольку ничего нового ты из них не узнаешь. И тогда же стало очевидным другое: из хорошей литературы, не важно, какой эпохи и страны, как раз можешь узнать много нового.
Только читая книгу, я понимаю, что защищён от всепроникающей информационной радиации, всплывающих окон, гиперссылок, реклам. Старая добрая бумажная книга именно в информационном обществе обретает новую актуальность, выступая спасительным бронежилетом.
Теперь, слыша, что ты «отстал от жизни», чувствуешь удовлетворение. От навязанной, пустой, неживой повестки дня надо уходить. С радостью осознаёшь, что перестал помнить, к примеру, фамилию спикера Госдумы и не знаешь, что это за девушка, которую все обсуждают… Это не невежество, а самозащита, позволяющая больше времени уделить действительно важным сведениям и делам.
…Иногда говорят, что бумажные книги вот-вот умрут, а писатели станут не нужны. Социальные сети, мол, не просто заменили, а отменили традиционную литературу: блоги – куда остроумнее, откровеннее, злободневнее.
Но что-то есть в литературе, чего никакой социальной сетью не заменишь. Поэтому литература живёт, даже когда падает число заинтересованных в ней читателей (а их наличие ещё важнее, чем наличие писателей).
Решив одни проблемы, интернет родил другие. Неясно, какие серьёзнее. Ещё тревожнее то, что прогресс – дорога в один конец, и мы не знаем, куда она ведёт.
Руссо звал назад к природе – теперь впору звать «назад к офлайну».
Благо с большой буквы интернет писать перестали. А то уже, кажется, были готовы обожествить эту паутину.
4. Зачем писать
Стоит ли писать вообще? Это раньше казалось, что вот напишешь – и мир изменится. Теперь ясно: не изменится. Прекрасно обойдётся без тебя. Да ты ведь и не гений.
Литературоцентризм сдулся. Аудитория сегментируется, редкие читатели разбились на секты. Обострилась проблема общего культурного кода: уже невозможна книга, которую бы читали все (лишь строчки назойливой попсы претендуют на роль всеобщей знаковой системы, что само по себе ужасно). Невозможна – значит, и не нужна? Может ли сейчас появиться общепризнанный великий – как Толстой? Нужен ли он? Золотой век кончился, серебряный тоже, а теперь какой – кремниевый? пластиковый? соевый?
Когда-то книга была источником бесценного знания. Потом стала предметом интерьера. Теперь и как интерьер она устарела, и роскошные собрания классиков выносят к мусорным контейнерам, где я их подбираю.
В моём окружении немало переставших читать людей. «Нет времени», – говорят они. Это, конечно, отговорка, потому что человек всегда находит время на то, на что хочет. Но хорошо уже то, что стесняются сказать: «Мне неинтересно», а ищут «уважительную» причину. Значит, осталось какое-то рудиментарное уважение к книге.
Число читателей снизилось – но, может, выросло их качество? Отсеклись случайные люди, для кого чтение было необязательной формой досуга?
Или мы все (общество, государство) не должны были этого допускать? И следует бороться за каждую читательскую душу с миссионерским пылом?
Что должна литература – учить, развлекать? Или ничего не должна?
Считается, что большинство современных российских литераторов пишут не ради денег (гонорары несоразмерны с временны́ми и нервными затратами). Если у меня нет лишнего времени и денег – имею ли я право заниматься своей писаниной, а не семьёй, которая хочет есть? Самолюбие, тщеславие? Мелко. Долг? Текст как способ жизни? Потребность что-то сообщить миру? Но мир пресыщен, информация ничего не стоит, как вода в море.
Так зачем писать?
В какой-то момент приходит понимание того, что молчание может быть информативнее разговора. Пробелы и паузы – необходимый компонент текста, молчание – форма речи. Оно может быть громким и даже оглушающим. «Молчание – золото», – не нами придумано. «Лучше промолчи! Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов – одно слово!» – услышала Алиса в Зазеркалье. А вот Фазиль Искандер: «Умение писателя молчать, когда не пишется, есть продолжение таланта, плодотворное ограждение уже написанного».
Речь, особенно публичная, упрощает и оглупляет мысль. Молчание – способ разведки и добычи глубоких, ещё не разработанных литературными шахтёрами пластов мысли. Следует говорить реже и метче, быть не пулемётчиком, а снайпером. В молчании есть удовольствие более высокого уровня, нежели в разговоре. Но только молчание должно быть не пустым, а наполненным. Тогда из него когда-нибудь могут родиться небессмысленные и небесполезные буквы. И это наконец выкристаллизовавшееся, выросшее на твоём гектаре слово будет если не серебром, то хотя бы алюминием.
Василий Аксёнов. Бывает так
Бывает так. Свидетельствую.
Идём мы – я, брат мой Николай и мама – густым ельником, разбитой тракторами дорогой, держась травянистой обочины. На покос. Отец уже там, ушёл раньше – дымокур от комаров и слепней развести да чаю наладить.
Останавливается вдруг мама, молчит минуту, говорит после:
– Василий умер.
Василий – это муж старшей маминой сестры, тётки Матрёны.
Мы ни слова с Николем. Что тут скажешь?
Пришли на покос. Чаю смородинного попили. Часа четыре, с перекурами, покосили.
Сидим возле дымокура. Обедать собрались.
Свернув с дороги, подъезжает к нам по кошенине на велосипеде Шурка Сапожников, мой одноклассник, и говорит, обращаясь к маме:
– Тётка Васса, на почту позвонили, у вас умер кто-то в городе.
Мы – я, Николай и отец – остались на покосе, мама отправилась домой.
Ну, после выяснилось: умер дядя Вася, муж тёти Моти. Вроде и не болел. «С сердцем чё-то». Как раз в тот час, может, и в ту минуту даже, когда мама остановилась по дороге на покос и нам об этом объявила, и отлетела его душа от тела.
С мамой подобное случалось часто. Такое было, например. Она – на кухне, я – в прихожей, читаю книгу. Кое-что спросить у мамы надо, мельком думаю. Выходит мама из кухни и отвечает мне на вопрос, который вслух я не успел ещё задать.
Была она женщиной мудрой и натурой тонкой. Многие женщины приходили к ней за советом, зная, что посоветует она от сердца и верное, поделиться ли своими горестями и секретами, зная, что никому она этих секретов не выдаст.
Отец был как тот израильтянин, в котором нет лукавства. Мама ему иной раз, улыбаясь, так и говорила: «Ваня, ты прямой, как оглобля, бесхитростный, подкривить бы тебя чуть-чуть – всем бы, наверно, от этого легче стало». – «Какой уж есть», – отвечал ей прямо Ваня.
В школе ещё учился, в последних классах, перечитал я всего Бальзака, «зелёного», в 24 томах, после не перечитывал, но с той поры помню, как Бальзак писал об одном из своих героев, Растиньяке: типичный южанин – кожа белая, волосы тёмные, глаза синие. Отец подходил под это описание. Только глаза у него были не синие, а серо-голубые. Коренной сибиряк. А предки его, ну и мои конечно, по смутным сведениям, дошедшим из давнего времени до нас, пришли в Сибирь с Русского Севера, с Поморья, ещё в XVII столетии.
Мама была южнорусского типа – тёмно-каштановые волосы, карие глаза; круглолицая.
И с её стороны предки появились на сибирской земле в XVII веке, так и жили на бывшей территории бывшего Енисейского полка, то есть являлись «первобытными русскими жителями Енисейской губернии».
Из моей книги «Была бы дочь Анастасия»:
«Сибирь. Суровая, как сукно, как кожа с мездры ли, – не для изнеженного, одевающегося в порфиру и виссон и каждый день пиршествующего блистательно, не каждый сносит: и нам, государь, сиротам твоим, с студи и с босоты и голодною смертью погибнуть; морило нас всякою нужею и стужею знобило; и мы, государь, в походе лошадьми опали, и голод, и великую нужу, и стужу терпели, и лошадину, государь, с голоду ели; в Енисейский острог еле живы приволоклися, испухли, и оцынжали, и позябли, – и из моих прадедов, казаков-первопроходцев непоседливых, кто-то под этими отчаянно-докучными строками, может быть, подписывался именем своим, может, и прозвищем, а то и просто крестик ставил, закорючку ли, – даже и сердце защемило, лишь представил. Суровая-то суровая, ну а роднее места нет на свете. За четыре без малого века пребывания здесь, на енисейской земле, моих предков в позвоночник мне, в костный мозг любовь и привязанность к ней, к землице этой, словно ржа в железо, въелись – не вытравить; и надо ли – как-то и с этим вот, пусть и с тревогой, но живётся».
Здесь, на енисейской земле, сложились и наши характеры, нравы и обычаи.
Приехав в Ленинград, был приятно поражён: какие здесь отзывчивые люди! Выпивая с тобой, обещают тебе всё возможное и невозможное. Ничего, конечно, под разные оправдания и объяснения, не исполняется. В Сибири: попросил ты что-то у человека, сразу он ничего тебе не скажет. Подумаю, мол, посмотрим. Назавтра: или скажет, что помочь он тебе не может, или пообещает и уж в «лепёшку расшибётся», но обещание осуществит.
Ну это так я.
Первый раз надолго, на три года, отбыл я из дому – попав служить на Тихоокеанский флот. По дому тосковал, но так, как будто тоска эта висела на лямках у меня за спиной. Всё время думалось о том, как бы выспаться да досыта поесть.
Демобилизовался. Год проработал в яланском ДРСУ, разнорабочим.
На следующее лето уехал в Ленинград и поступил на исторический факультет ЛГУ, кафедра археологии.
Вот тут затосковал по-настоящему. Иной раз думал: брошу всё и улечу домой. Чтобы этого не сделать, ехал в аэропорт Пулково, представляя, будто жду свой рейс в Красноярск, выпивал чашку кофе, часа через два, вдоволь себя наобманывав, покидал аэропорт. После поездке в аэропорт нашёл замену.
Денег, ясное дело, не хватало, подрабатывал дворником. Вставал рано, как только начинал звучать метроном в невыключенном с вечера репродукторе. И когда доигрывал в нём гимн, я уже захлопывал за собой входную дверь. Приходил со своего участка и, попив чаю, убегал в Университет. После занятий возвращался в свою «дворницкую» комнату. Заварив крепкий чай, садился сочинять роман под незатейливым названием «Ялань», в который, как в собеседника, расположенного к тебе душевно и внимательно, переплёскивал из сердца собачью тоску по оставленному далеко-далеко родительскому дому, по родным, близким мне и любезным моему сердцу людям.
Кроме нормальных, выдернутых мною из жизни и хорошо мне знакомых героев, моих односельчан, был там один и ненормальный, как бы потусторонний (нижайший поклон блистательному Михаилу Афанасьевичу Булгакову, незадолго до того почти в полном объёме мною и прочитанному) персонаж, единственной отличительной чертой которого были только галифе. Что к чему, теперь не вспомню. И имени которому иного не нашлось как только Герман. А почему я так его назвал, теперь и не скажу. Белым днём, как деревенским людям подобает, он у меня в романе не появлялся, а всё в потёмках да перед грозой, перед метелью или перед клящим морозом. И не на яву, хотя случалось и такое, а чаще в сновидениях других товарищей его по тексту. И портил им, кому являлся, кровь: одного сбивал с толку, другого путал в дороге, третьего подбивал на дурное дело – словом, как мог мой Герман, так и зловредничал – и по моей, как мне казалось, воле.
И вот однажды, около трёх часов ночи, выпив к тому времени кружек пять чёрного, как дёготь, чаю, в великом душевном волнении завершая роман «Ялань», отпечатал я на дореволюционной машинке «Полиглот», взятой у однокурсника своего напрокат, финальную фразу: «И погас повсюду свет» – в виду Ялань романная, естественно, имелась, – только по клавише ударил вдохновенно, точку последнюю поставив, как тут же и в комнате моей потухла лампочка – решил, что перегорела.
Из романа «Ялань»:
«Человек в галифе прошёл к голой кровати, не продавив панцирной сетки, опустился на неё и сказал:
– Я буду здесь жить.
Висевшая в углу летучая мышь сорвалась, заметалась по дому, села на икону. Плохо державшаяся икона соскользнула с божницы, упала на пол и раскололась.
И погас повсюду свет…»
Встал, подошёл к окну – и вижу: нет света и во всём нашем доме, то хоть в подъездах да горит – и как-то худо в тот момент мне, помню, сделалось – будто дохнуло серой в тёмном воздухе, и не шучу я.
Посидел после в сумраке на подоконнике сколько-то, посмотрел на видную мне из окна малую часть Кировского, пустынного в это время суток, проспекта и лёг спать. К той поре я и раскладушкой уже обзавёлся, до этого спал на полу. Сидя на этой раскладушке, я и печатал, рядом на стуле венском предоставив место «Полиглоту».
И задремать ещё – как будто – не успел, и вроде слышу: звонок пронзительный к нам в двери. И поднимаюсь вроде. И иду. И открываю – тоже вроде.
Входит герой мой – Герман. Впускаю я его в квартиру и ничуть ему не удивляюсь. Вижу: торчат в глазах у Германа металлические пробки от пивных бутылок – шутка неостроумная, конечно, но и я так, грешным делом, иногда шутил, желая позабавить своих малолетних племянниц и племянников.
Вздёрнул Герман брови – упали пробки на пол, но беззвучно – и спрашивает, пальцем ткнув меня в живот: «Похоже?»
«Похоже, похоже», – отвечаю я, отклоняясь от его пальца.
Хохотнул Герман так, как только что он хохотал в моём романе, раньше часом (шёл открывать ему, и на будильник будто глянул я), расставаясь с автором или с Яланью, в которой тайно безобразничал и куролесил. Хохотнул и направился уверенно по коридору в сторону Машкиных апартаментов. Машка, соседка моя по коммунальной квартире, уже спит теперь, конечно, как убитая, спит и новый муж её, Олег Константинов, по прозвищу Вася Очкарик, один из первых в городе фарцовщиков, оттянувший, в общей сложности, за эти славные дела двадцать четыре года на разных «стройках», на ночь портвейном досыта напотчевавшись, их теперь и пушкой не разбудишь. Подумал так я и пошёл к себе. Будто пошёл. Но в свою комнату попал не тотчас: преодоление пространства между комнатой и коридором, занятое в действительности только дверью, в толщину её, отняло у меня больше времени, чем отнимает это наяву…
И вот загадка для меня неразрешимая: спал я тогда или не спал?..
Вошёл я в свою комнату и снова лёг на раскладушку. Будто. И не успел ещё уснуть, как будто вижу: дверь отворяется, и входит ко мне девушка, лет восемнадцати, примерно. Не по сезону, если с улицы, одета – в летнем платьице, бледно-голубом, в белый горошек, слегка приталенном, каких теперь уже не носят. Тихая. Руки опущены вдоль бёдер. Молчит. Поднимаюсь я в ужасе и – тут уж точно – против своей воли подаюсь ей, девушке, навстречу, словно кто меня подталкивает в спину, – страх и подталкивает. Боюсь, но иду. Девушка же – а комната моя пустая будто, как тогда, когда впервые я в неё вступил, ещё и раскладушки будто нет, хотя с неё-то я и поднимался вроде, то, что ложился на неё, так это точно – увернулась от меня тенью и стала пятиться, лицом ко мне, но вот лица её никак не вспомню, словно была она безликая; лица её не помню, но ощущение от выражения его как будто сохранилось – не нашей, не земной, будто печали… Медленно, словно подкрадываясь, шагаю я за ней, за необычной посетительницей, и сам себя при этом уговариваю мысленно: если, мол, это только привидение, оно бесплотно, под платьем будет пустота, и тогда бояться, дескать, нечего, зла причинить оно не сможет, – а сам едва живой от страха, даже по пяткам, кажется, мурашки пробежали. Так и ходим: она вспять от меня, а я передом и за ней следом. И в абсолютной тишине – будто оглох я – извне ни шороха, ни звука, кровь только барабанит в ушных перепонках. Обошли мы с ней, с этой девушкой – или не с девушкой, но с кем, не знаю, – несколько раз мою комнату по периметру; и расстояние, нас разделяющее, с каждым разом сокращалось; настиг я её наконец-то в углу, возле как уголь чёрного окна, настиг, протянул к ней руки и обхватил пальцами её узкую талию, а там, под платьем, – я чуть от ужаса не помер – тело, по-девичьи тугое… И я завыл – кричать не мог: жуть дикая перехватила горло.
Свет – вот ещё что показалось странным мне в том сновидении, если, конечно, это было сновидение, а не другое что-то – чаю-то столько перед этим потребил. Видеть такой свет в действительности мне не доводилось, с чем и сравнить его, пожалуй, с ходу не найду. Серый – но не такой, каким бывает он ненастным августовским днём, когда небо обложено сплошь непроглядными тучами, сеющими морось, – тот всё же живой, этот – скорее – как цемент или древесная зола; рассеян ровно – нет ни блика, нет ни тени, и нет его источника как будто – саморождаем; контуры видимых в нём предметов чёткие – без особого напряжения можно было рассмотреть любую мелочь – ну, например, щербину на паркете или облупину на потолке. Каким свет был в моей комнате, когда я, с трясущимися от подлого страха поджилками, преследовал странную гостью, таким же был он, кстати, и в коридоре, когда я открывал двери своему герою-визитёру. И вот ещё: явился Герман в коридор из мрака – площадки лестничной за дверью будто бы и не было – был там провал, зияла тьма кромешная; и окно в моей комнате было таким же – густо-чёрным, словно весь дом с крышей в гудроне жидком потонул; но ощущение – что улицы там, за окном, нет и быть её не может – меня тогда нимало не смутило.
Разбудил, вывел ли меня из того необычного состояния Вася Очкарик. Растолкал он меня, склонившись низко надо мной, – очки у него дужкой цепляются за самый кончик носа, но не сваливаются, глядит он поверх очков, – дождался, когда я опомнился, и рассказал мне: проводил он, мол, только что приятеля своего, тоже бывшего фарцовщика, по прозвищу Жжёный, до Карповки (дальше нельзя ему от дому уходить в ночное время – поднадзорен), а сам вернулся восвояси; ко сну начал было раздеваться, я тут и закричал. Да так заголосил, сказал он, мой сосед, как будто лыко чёрт с меня сдирает. А Машка – та уже и задремать успела – метнулась на мой крик спросонок, мол, ногами в одеяле, словно стриж в кулёмке, запуталась и, саданувшись крепко головой о шкаф, лоб себе до крови раскроила.
Назавтра, на кухне, за общим утренним чаем, а для Машки и для Васи Очкарика ещё и опохмелкой – допивали они оставшийся с вечера портвейн, поведал я им со смехом о том, что мне приснилось, отчего и закричал-то так, наверное. Вспомнила тут Машка, что, когда она сюда девчонкой въехала, устроившись на «Полиграфмаш» лаборанткой и получив это жильё, соседка, умершая задолго до моего здесь появления, рассказывала ей: будто вскоре же после войны, в сорок шестом или в сорок седьмом году, в той комнате, то есть в моей, жила девица молодая, сирота круглая, которую прямо там, в комнате, грузин какой-то и зарезал. А после она, Машка, и говорит, что и ей минувшей ночью снилось что попало, мол, и вот что именно: будто сидит она возле самой настольной лампы, чтобы зрение не портить, и пересматривает открытки с портретами любимых актёров. И будто входит вдруг – и постучался, мол, тогда, когда уже вошёл, – то ли военный, то ли участковый – в галифе. Вошёл, бросил на пол не то кубик, не то шарик какой-то блестящий и взревел как сумасшедший, кто первым схватит, мол, того и будет эта штучка. Машка и кинулась ловить – лбами с военным-то и стукнулись как будто. Лоб у неё, у Машки, и на самом деле был рассечен, а рана – йодом сдобрена обильно.
Сон вроде сном, но дальше пуще.
В шестьдесят первом году вслед за всеми остальными в стране упразднили и нашу яланскую МТС, «Полярную», как она именовалась. Народ тут же стал разъезжаться в поисках работы, и прежде всего, конечно, молодые. Кто в города соседние, кто в рабочие, леспромхозовские в основном, посёлки. А в селе нашем старинном вместо коренных, уцелевших после всех перетрясок начали селиться новые, не привычные для нас по первости – как по облику, так и по своему поведению – люди. Бичи.
Забросила судьба из далёкой Белоруссии в Ялань и Аркашку Кацюпу, лет тридцати, невзрачного, тощего и очень уж неряшливого: рядом с ним и устоять было трудно – дух от его нестираного и заношенного вретища исходил такой, что любого, даже нечувствительного, как напёрсток, с души воротило. «Синий, как пуп, – говорили про Аркашку добродушно старухи. – Запашистый». Присмотрел его, убогонького, один наш хитрован-селянин, Плетиков Василий Серафимович, – вот на него днями и батрачил Аркашка за стакан бражки, а жил отдельно, по-барски, в бесплатно доставшемся ему доме-крестовике, навсегда оставленном хозяевами, под крутой, четырёхскатной крышей, заняв в нём одну из четвертин. Его-то, этого Аркашку бедосирого, я и описал в одной из глав своей рассыпанной впоследствии «Ялани». Описал и – с лёгкой душой тогда, в чём и раскаиваюсь теперь горько – смерть для него придумал, как в ту минуту мне представилось, соответственную. Как для героя, разумеется, а настоящий-то живи бы да живи он, и сто бы лет ему не мера, века чужого, и моего в том числе, не заедал он, Аркашка, зла никому, кроме себя, не причинял, наверное.
Происходило дело так в романе (роман – условно говоря). Как-то поздно вечером, отбатрачив день на Плетикова и получив от него норму хмельного зелья, приплёлся Аркашка домой (а в избах выстыло – всё же зима, в разгаре сретенские морозы) и сразу взялся растоплять буржуйку. Дров натолкал в неё битком, обдал обильно их соляркой из бутылки и, повозившись неловко в потёмках со спичками, подпалил, а сам спать тут же завалился – не мог больше, пьяный, на ногах держаться. Бутылка, небрежно приткнутая им около буржуйки, опрокинулась, солярка пролилась на пол, от искры, от нагрева ли сильного вскоре и вспыхнула – довольно случаев подобных. А в это самое время будто бы гулял с девушкой по Ялани один молоденький паренёк, более значительный персонаж в романе, нежели Аркашка, пожар увидел, послал подружку людей будить и звать их на помощь, а сам поспешил туда, где горело. Подбежал к дому, в дверь той четвертины, в которой жил Аркашка, сунулся – там оказалось заперто – и заперто изнутри. Будто бы выбил паренёк окно, забрался в дом, но постояльца там не обнаружил. От дыма забился он, Аркашка, под кровать и сначала задохнулся, несчастный, а потом и обгорел, обуглился, как головёшка, там же, под кроватью.
Из романа:
«Витька забрался в разбитое им окно. Горел пол. Дым разъедал глаза и запирал дыхание. Витька нащупал кровать, обжег об раскалённую дужку руку и резко её отдёрнул. Кровать с панцирной сеткой была пуста. Он пробрался к окну, отдышался, набрал в лёгкие воздуху и, минуя горящие половицы, направился в другой угол – к охваченной огнём стене. На другой кровати горела постель, Аркашки на ней не было».
Ну и вот. Учился я тогда на втором или уже на третьем курсе, точно не скажу. Сдав экзамены за первый семестр, приехал на каникулы в Ялань. Уже отъевшись, отоспавшись, бродил я среди ночи по пустынному, редко где освещённому электрическими фонарями и до боли родному мне селу (правда, не как герой из моего романа – один, без девушки, в чём и отличие), завернул на изобилующую осиротевшими избами улицу, с чёрными развалинами дворов и амбаров, занесёнными снегом, и заметил, что как-то странно озарён изнутри тот дом, в котором, по моему предположению, должен был обитать Аркашка: бывает – рыжая, низкая луна так в стёклах окон отразится, но не было луны о ту пору, не взошла ещё. Когда, ускорив шаг, поближе подступил, тогда и понял, что пожар там.
Непривычно: торчит дом одиноко, словно после нашествия вражеского. Ни двора с ним рядом, ни кола – всё на дрова Аркашка испилил, и до сеней уже, смотрю, добрался. Попытался я открыть дверь, подёргал за скобу. Либо заперта была дверь оттуда, из избы, либо гвоздями заколочена снаружи, чтобы мальчишки в дом не проникали, – не подаётся. Ощупал рукой притолоку – в темноте не разглядеть было – петля свободная, замок в ней не висит, палочка, как у нас обычно делают, из дому уходя, вместо замка никакая не заткнута. Сухо, морозно – и будто с месяц так уже стояло, – снег не валил уже давненько – дорожка от ворот до крыльца твёрдо утоптана, инеем припорошена, да слой-то его, как слюда, тонкий – не узнать никак по следу, дома хозяин, вышел ли куда. Сердце подсказывало мне, однако – заколотилось вдруг тревожно, – что есть там, внутри, живой кто-то, страдает, – чутьё какое-то, не объяснить. Выбежал я из ограды, одно из глядящих в улицу окон выбил и забрался в дом – горел в нём пока ещё только пол, да занялась стена-казёнка вблизи печки, – сквозь скучившийся дым огонь жёлто просвечивал. Позвал я сначала раз да другой громко – но только в пламени трещит – никто не отозвался. Искал в избе – двери в другие четвертины досками были заколочены, – искал, пока терпелось, и после вон выпрыгивал, чтобы отдышаться, лицо и руки снегом натирал и снова лез внутрь, а там (окно-то вышиб – доступ воздуху свободный) и потолок уже огнём лижет – жар и оттуда уже, сверху. Кровать – добрался до неё – постель на ней пылает: тут уж и вовсе нечем продохнуть от ватной гари – и на кровати никого. Решил, что нет в доме Аркашки. То ли ещё не вернулся – пьёт где-нибудь или, напившись, спит у кого-то из бичей. То ли вообще тут, пока сильные морозы, не находится, переберётся лишь к весне, так как громаду экую непросто отопить. Были на окнах резные наличники – на заглядение прохожим – и те успел содрать, спалил – сам их не мастерил. Но дверь-то на крючок закрыта изнутри – проверил. Разве что так: накинул он, Аркашка, крючок, а сам через чердак вышел – лаз там, на кухне, с лестницей имелся, помню… Но это маловероятно: куда уж проще, думаю, как на замок-то.
Склоняясь к полу, где тот ещё не пылал (дым внизу чуть реже), обошёл всё заново, кругом всю четвертину, и на русской печи палкой – попалась под руку какая-то – теперь проверил, и в самой печи, и под шестком, мало ли, и на полатях – не забрался ли на них Аркашка спьяну, – провёл палкой и под столом на кухне, до стен протыкал ею пустоту, а вот под кроватью поискать, уж как на притчу прямо, и не догадался, ногой, правда, под нею, помню, пошарил, да неглубоко, насколько дотянулся, – даже и в мыслях у меня тогда не промелькнуло, что мог он, бедолага, туда закатиться, если ползти, казалось мне, то было бы к двери уж… Из дому выскочил.
Стою.
Народ начал подтягиваться – по одному подходят и ватагою. Разговоры – то ленивее, то бойче. И – где он, Аркашка, – никто толком не знает, гадают только, но гадать – не ведать. Кто-то его как будто и встречал, да не сегодня вроде, вспоминают, а дня за два, за три ли до этого. Год назад и я его встречал, мол, кто-то так шутит. Смотрю, и Плетиков Василий Серафимович – тот уже тут – к нему все сразу: должен, мол, знать – нет, говорит, работника, мол, до отвалу накормил – смеются все: конечно, дескать, до отвалу, – в шесть или в семь часов вечера его выпроводил, а куда он после этого направился, понятия, мол, не имею. И лишь Чапаиха, бичиха, едва владеющая языком, – не в кою пору было протрезвиться ей, – мат-перематом всех заверила, что у себя, дескать, Аркашка, и быть ему, сволочи, мол, больше негде, что до полуночи он, глист засохший, у неё водчонкой угощался, а как допили всё, лично сама она его, под локоточек, мол, до крылечка довела, а то, что в дом вошёл он, недоделанный бульбаш, так крест вот вам и сукой, дескать, буду.
Прежде в снегу хорошенько вывалявшись, чтобы не вспыхнула на мне одежда, проник опять я в избу, скоренько по возможности все закутки проверил вновь, а под кровать, поглубже в угол, и на этот раз не сунулся, как будто что-то не пускало, но – как и тот паренёк, герой из моего романа, двигаясь на ощупь в точно таком же, только придуманном мной будто, положении, – так же, как он, ладонь ожёг об её дужку.
Дотла сгорел дом, некогда самый, пожалуй, приглядный в Ялани, с расчудесно изукрашенными мастерской резьбой не только наличниками, но и причелинами и очельем, один из самых казистых, наверное, в селе, сгорел дом до подполья, и тушить было бесполезно – высох за век под хорошим карнизом – часа за три в золу обратился. А чёрное, как спелое арбузное семечко, тело Аркашкино (головню ли – то, что осталось от бывшего интеллигентного человека или, скорее, использованного частично, как расшифровывали у нас слово «бич») отыскали приехавшие утром пожарные с милиционером под уже голой, окалённой панцирной сеткой железной кровати; чуркой обугленной лежал полутруп (в смысле формы, а не химии и биологии) на превратившемся в наст – от огня сначала, а потом от мороза – снегу напротив дымящего и парящего ещё пепелища, пока его, завёрнутого в мешковину и упакованного в картонный ящик из-под телевизора «Горизонт», не увезли в Елисейск на судебно-медицинскую экспертизу, прихватив заодно и Чапаиху, пытавшуюся пометить этот ящик, как собака, ту – в вытрезвитель.
Дня через три Чапаиха вернулась – поплясала, задирая юбку и демонстрируя свои куриные, синие от жизненного опыта и от холода, не прикрытые ничем ноги, возле магазина, гнилым, слюнявым ртом поругалась срамно на прохожих и, обессилев, убралась к себе в избёнку – к Чапаю, сожителю, тоже бичу, каких и свет, поди, не видывал.
Из романа:
«Аркашкин труп положили в картонный ящик из-под телевизора „Горизонт“ и увезли в Елисейск на экспертизу».
Совпало и это.
В тот же день, под вечер, и Аркашку хоронили – в Сретенье Господне, когда-то праздник престольный яланский, – переложив его, покойного, из картонного ящика из-под телевизора «Горизонт» в дощатый – из-под мыла «Душистое», – подобрав тот в магазине по размеру; и этикетку не содрали. Потеплело. С запада тучи завесой на Ялань надвинулись, просыпая снег пушной, лёгкий, – в помин по Аркашке будто. А в сорочины: за то, что голову Чапаю топором она развалит пополам, как яблоко, отконвоируют её, Чапаиху, в город и не вернут уже обратно. Так вот село наше лишилось разом и Чапая, и Чапаихи; а десять лет они яланцев забавляли: и нагишом по улице – то в обнимку, то раздельно – хаживали, и во всё горло песни дурногласили, и боем смертным бились, на потеху всем, друг с дружкой, и чего только, помимо этого, ещё не вытворяли, не выделывали, люди старые, – за грех и вспомнить! Чапай он (был уже) – потому что по имени и отчеству Василий Иванович, ну а Чапаиха – понятно.
Из романа:
«Что же за праздник-то сегодня? Поют в Ялани… или уж чудится?.. да нет… Дней двадцать… Или плачут?.. Или кажется… да нет, не кажется… Седьмое… Вышел Олег в Ялань, поравнялся с бывшей церковью и увидел под нишей с поблекшей Анной Пророчицей снегом припорошенного, скорченного, как зародыш, Карабана. Разорвали собаки штаны на нём и выгрызли у трупа мякоть. Долго стоял Олег, долго не мог оторвать глаз, мёртвого сопоставляя с живым… по образу, что в памяти остался… не сопоставить…»
Года через два, наверное, после того как это было написано, приехал я на родину. Рядом с родительским стоит старый пятистенник, в котором в последнее время жил бич Малафей. Тут, смотрю, окна заколоченные. Спрашиваю у мамы, где хозяин? Мама говорит: «Умер наш Малафей, мы тебе разве не писали? Зимой ещё. Похоронили. И Карабана тоже уже нет. Как Малафея похоронили, выпили хорошо они на кладбище, шёл Карабан оттуда домой, прилёг или упал, в снегу около церкви, замёрз до смерти, собаки стёгны у него погрызли».
Я – так мне казалось – придумывал, писал о чём-то, что через какой-то промежуток времени всегда по-разному, но откликалось в жизни.
Самое горькое – про отца.
В 1990 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга. «День первого снегопада». Название не моё. Моё было – «День Покрова». В издательстве сказали, что «покров – это когда бык тёлку кроет», вынудили меня поменять название, категорически. Поменял. В первом романе «Зазимок» герой Олег, получив сообщение о смерти отца, едет на похороны.
В романе:
«Тихий лес. Здесь и ветра нет, и носа он сюда не кажет, только дружок его вертится – сквознячок кладбищенский, лист потрепать – у него и силёнок-то, а на другое что не хватит. Упали с черёмухи отцу на лицо две капли, на веки прямо, и не разбились, стекли по вискам, как бусины хрустальные. Взглянул на них Олег – и не удивился; и других чувств, кажется, никаких – будто плыл долго, на берег выбрался и впал в беспамятство. Только тот мальчик, маленький, босой, который так и не высказал тогда – ни тогда, ни позже за всю свою жизнь – слова такого: папочка! – взметнулся, забился, как в падучей, пришёл в себя, попробовал вырваться, но в горле застрял и задохся, задохся и скорчился. Подкосились ноги – так, будто сзади кто подкрался, полоснул ножом и перерезал сухожилия. Упал коленями в глину. Ткнулся щекой в щетину белую. Сказал:
– Папка, – пустым, бессмысленным, бумажным, как искусственные цветы на могилах, ощутил это слово, не умом ощутил, а сердцем, но не своим как будто, а того, задохшегося в горле мальчика, и произнёс:
– Отец, – и легко стало, легко: заплакал…
Сорвался лист с черёмухи, упал отцу на руку.
А потом смотрел кто-то на скоро растущий холм бурой глины, брёл кто-то обратно в Ялань, входил в дом кто-то, мыл руки, раздавал гостям полотенца, садился за стол, пил водку из доверху полного стакана, не закусывая, видел – не видя, слышал – не понимая слов собравшихся за столом людей, и думал: не понимаю… не понимаю… ничего не понимаю…»
Мой отец умер через шесть лет после выхода этой книги.
Совпало всё. День смерти. Погода. Но когда с черёмухи отцу на лицо упали две капли, мне стало совсем плохо: подкосились ноги – так, будто сзади кто подкрался и перерезал ножом сухожилия… – дважды отца похоронил.
Было подобного немало, да говорить здесь обо всех случаях не хочется и незачем, один лишь приведу, повлиявший на меня более, чем остальные, хотя и не было там полной копии с сюжета, а всё иначе несколько произошло. Сочинил я как-то рассказ: «Понедельник, 13 сентября» – назвал его так, даже и не думая о совпадении числа и дня недели, – рассказ, в котором герой, Северный Михаил Трофимович, уроженец Черниговщины, из бывших «военнопленных», а потому и – лагерников, взятый мной в повествование с настоящими именем, отчеством и фамилией, едет будто с утра в понедельник, тринадцатого сентября, на грейдере, на котором и на самом деле он работал, вынимает, удобно расположившись в грейдерском седле, из кармана запылившегося пиджачка бутылку и пьёт, круто запрокинув седую, кудлатую голову, на ходу своей машины самодельное винишко из бутылки, раз, да другой, да третий приложившись, напивается до добродушия и начинает петь песню, специально для него сочинённую трактористом; тракторист – случается у них такое не впервые – останавливает трактор, выпрыгивает из кабины и, чтобы его товарищ старый не свалился под колёса грейдера, приматывает того, осоловевшего, к грейдерскому дырчатому седлу-креслу алюминиевой проволокой; а дальше происходит нечто непредвиденное, в результате чего грейдерист Северный Михаил Трофимович прощается в рассказе с жизнью, в жизни реальной же, оставаясь здравствовать покамест, вышел вскоре на пенсию и занялся своим хозяйством: всё, помню, и разгуливал степенно из улицы в улицу, из заулочка в заулок, с кнутом то в руке, то за голенищем вонько смазанного дёгтем кирзового сапога, всё и искал свою блудливую корову, спрашивая о ней встречных, кто где не видел ли её, по-русски, а матеря её уже на суржике каком-то. Кто-то и говорил, что вроде слышал, будто и булькало при этом у него, у Михаила Трофимыча, что-то тихонечко в кармане. Может, и булькало, что ж тут такого.
Несколько лет минуло с той поры, как был рассказ этот написан. Приехал я тогда домой, к родителям, выкроив время между экспедицией и полевой разведкой. Сижу однажды за столом, завтракаю: с ночной рыбалки только что вернулся. Заявляется к нам почтальонша – газеты принесла недельной давности, обычно сунет их в скобу ворот, сама же мимо, а тут – заходит в дом и говорит нам, мне и отцу, и тот был тут же той минутой, ржавый и кривой гвоздь, где только и подобрал такой, выпрямлял на табуретке молотком, возле окошка, где светлее. «Слышали, – говорит почтальонша, вынув из сумки ворох газет и положив их на стул у порога, – Северный на рассвете застрелился… вроде нечаянно… на Монастырском озере, с вечера ещё туда за утками поехал… втихаря – охоту-то пока не разрешили». Отец и от гвоздя не оторвался даже: одной рукой за шляпку его держит, в другой – молоток – колотит им по загнутому жалу, по близорукости склонившись к нему низко. Если вдруг заругался – значит промахнулся. А я, застыв с ложкой в руке перед самым ртом, глаза – не по своей, по чьей-то будто воле – поднимаю, смотрю на календарь-численник, что на стене висел напротив, который и не замечал вроде до этого, отец за ним всегда следил – вовремя обрывал с него листки, и вижу: значится на нынешнем такая дата: сентябрь, 13, понедельник – чёрно, жирно будто отпечатано и увеличено ещё – так не бывает, через мгновение будто поблекло и уменьшилось до натурального.
Из рассказа «Понедельник, 13 сентября» (сборник «Круг», 1985):
«Рванулся Михаил Трофимович, словно там, за спиной, страшное что увидел, откинулась его белая голова назад, и уставились его бурые глазки в синеву неба. И сбылась вынесенная из детства мечта: под самое облачко взмыл он на фанерном аэроплане с грейдерским „штурвалом“ и „троном“ грейдерским, мёртвую петлю выкинул. И ещё повторил бы. И ещё… Но не выдержал нагрузки, отказал износившийся мотор старой стиральной машины. Спокойно, от всего отрекшись, едва-едва – то ли поднимаясь, то ли опускаясь – планирует над островом в струе прозрачного воздуха деревянная птица. Несёт она пассажира своего сквозь застлавший путь вороний пух, и медленно-медленно сентябрьский день перестаёт быть светлым, вода – холодной, а небо…»
Кстати, уж коли речь зашла об этом рассказе. Подредактировали его тщательно, меня не известив об этом. Вёрстку смотрел, всё было нормально.
Ну вот, к примеру.
У меня:
«Так вот, остров, говорят, если смотреть на него с вертолёта, напоминает огромную разноцветную палатку».
У соавторов:
«Так вот, остров, говорят, если смотреть на него с вертолёта, в стародавние времена напоминал огромную палатку».
В какие стародавние времена, на каком вертолёте летали мои соавторы?
Таких там перлов очень много, не стану все тут приводить. Когда увидел, испугался. Но исправить эту околесицу было уже невозможно – сборник скоро раскупили.
Совпадение ситуаций – и, надо сказать, только таких, которые заканчивались трагически, обычно чьей-то смертью; чтобы смешное и весёлое что-то из моих рассказов повторилось после в жизни, такого не было ещё – ситуаций, обозначенных и обыгранных мною сначала в моих опусах при помощи, как мне казалось, только моего воображения, без постороннего вмешательства, с событиями, совершающимися затем в реальном мире, имело место лишь тогда – жаль, что я понял это с опозданием, – когда, вводя в повествование героев, я не менял ни их имён, ни их фамилий настоящих; с как бы замаскированными сразу персонажами, пусть даже и заимствованными мной из хорошо знакомой мне действительности, но прикрытыми чужими именами, как кожею козлят, подобного не происходило. Умом бессилен это как-то объяснить я, не сумею; наитием решаю, что самым верным для меня тут будет помолиться – помолиться, как получится, – за себя, злу, хоть и неосознанно, но, может быть, потворствующего, а заодно и за своих героев, даже и выдуманных, прототипов в сущем не имеющих, в душе моей, как в общежитии, пообитавших. И: Господи, – вдруг проговариваю непривычно, – Иисусе Христе… Сыне Божий… помилуй мя… грешного… – и ничего вроде – проговорилось.
Как я себя чувствовал, когда узнавал, а узнавал об этом я всегда внезапно, как подкарауленный, об очередном случае воплощения в жизни одного из моих вымыслов с нерадостным исходом? Да так, примерно, – подобие, конечно, слабое, – как будто получил ты неожиданно удар под дыхло, или как тогда, когда после шальной ночной попойки просыпаешься ты назавтра и начинаешь, рефлектируя, одно за другим, будто из норы лисят позвягивающих, вытягивать из затуманенной похмельем памяти то, что ты выделывал вчера – ходил, перед самим собой кобенясь или выпендриваясь перед девочкой, по карнизу, спускался по водосточной трубе с крыши шестиэтажного дома, прыгал с моста в Неву и многое другое, равное по безобразию, припоминаешь, ёжась от стыда, эти подвиги и, с леденящим душу ужасом, зарекаешься такого впредь не вытворять, зарекаешься и благодаришь Бога за то, что сохранил тебя, недостойного, помиловал, червя худоумого, – так, приблизительно, или: как будто заприметил мельком уголками глаз сакраментально недозволенное, – и так, возможно. Ладно хоть то, теперь вот думаю, что старимся мы со днями: умеряет в нас старость задор жеребячий, обращая сердце на иное, ещё при этом из ума совсем не выжить бы.
После того рассказа злоименного я больше года не писал – не накрапал тогда ни предложения – не то что от буквы, но и от знака препинания с души воротило какое-то время, – не считая редких, коротеньких писем родителям, в которых сообщал им, что жив покуда и здоров, о том же и у них справлялся и желал им того же, а также той блудокаракульщины, которой приходилось заниматься мне в ту пору на работе в одном из исторических музеев.
Провоцировал ли я эти неладные события, изображая их прежде литературно, предвидел ли их каким-то – непостижимым в нормальном, не взбудораженном словесным вихрем на бумаге, состоянии – образом, когда от длительной бессонницы, злоупотребления крепким чаем, мысли приобретают силу оракула, или же было это тем, что священник Павел Флоренский называл галлюцинацией о будущем, так или иначе, в любом случае не нахожу себе успокоения, хотя страшнее, полагаю, всё же первое: ведь коли так оно, то явно тот, которого добрые люди именовать вслух отказываются, подначивает тебя и подспудно внушает тебе ход развития сюжета – а ты-то думаешь, гордец самонадеянный! – но и второе – тот бы и краше, да рот, как говорится, в каше – что тут страшнее, то или это, когда и то и другое, как заподозрить можно, от лукавого?
Ходил я, неведением отуманенный, и во Князь-Владимирский собор, бывал я там и раньше, конечно, когда душою омрачался, впадая в тяжкий грех уныния, а после и по этому конкретно поводу, стоял с вопросом пред иконой Божьей Матери и, покидая храм, зарок даже давал, что сочинительством не стану больше баловаться. Но – обещался кто-то там не лезть куда-то… – всё же пишу, и эти строки – в обличение. Однако с именами я теперь уже не так беспечно обращаюсь. И тем не менее: помилуй меня, Боже. Верую – Господи, помоги моему неверию; не две ли птицы продаются за ассарий, и хоть одна из сих упала на землю без воли Отца?.. и не гораздо ли мы лучше многих малых птиц?.. – и верю, что, хоть и несть пластыря приложити, не множу в мире зла, сознательно по крайней мере, своею скромной писаниной, и что рукой моей – рукой, по выражению блаженного Феодорита, колесницей слова, не тот – кромешный – управляет, чтобы себя развлечь в кромешной скуке, и что не виноват я в чьей-то смерти, даже и невольно, слаганьем букв… верю я и… всё же надеюсь, что не по чьему-то лихому произволу, а по щедрому замыслу Твоему, Господи, человеку назначено творчество, – ибо по образу же Своему, – и мне, убогому, такое выдалось вот, – а потому оно предполагает и какое ни на есть предвидение, – вот и моё, немощное и периферийное, – не бесовское же, тешу себя надеждой, наваждение, – умолк иначе бы, писать бы перестал.
И вспомнилось ещё мне выражение латинское: Fortis imaginatio generat casum – сильное воображение порождает событие.
Бывает так.
Так есть. Моё свидетельство тут.
И вместо послесловия
Не уехал бы я с малой родины, не получился бы из меня homo scriptor. Нужды бы в этом у меня не появилось. Уверен. Так как не тосковал бы ни по дому, ни по малой родине. И не пытался бы там побывать хотя бы образом таким – через письмо. Зачем писать о них, когда всё рядом? И не пишу, когда живу в Ялани. Как чистый лист. Дел и без этого хватает – наполняюсь.
Может, конечно, и затосковал бы, но только не по дому своему земному, а по иному чему-то, даже, возможно, и по Дому, но с большой буквы, высшему Отечеству. Мы же тоскуем по Нему.
Никогда стать романистом не хотел, и в мыслях не было. Только вот археологом. И с малых лет.
Я и теперь не осмеливаюсь назвать себя писателем. В поезде, с незнакомыми людьми, на вопрос, чем я занимаюсь, отвечаю: археология, рыбалка. При этом возникает у меня лёгкое чувство стыда. Что оно, чувство это, означает? Как объяснить его? Не своим делом занимаюсь? Не тем, чем должен и к чему был предназначен Божьим Промышлением?
Может, поэтому и нет у меня писательских амбиций? И не горжусь своим трудом. Будто не мой он. Странно.
Не отверг ли я более интересные и полезные возможности?
Мог бы стать пожарным, например, разведчиком, контрразведчиком ли. Или спецназовцем. Скорей всего, остался бы в профессии. Археологии. Но ведь и там пришлось бы мне литературой заниматься. Научной. Отчёты. Монографии. Статьи.
И если в художественной литературе я каким-то странным образом, неосознанно предугадываю будущее (надеюсь, что не провоцирую), то в литературе научной вынужден был бы осознанно предугадывать прошлое.
Ну, что-то вроде.
И последнее.
Раньше мне иногда казалось, что некоторые куски моего текста написаны не мной, а кем-то другим. Но кем?
Работал я в то время по ночам, днём пытался отоспаться. Не всегда мне это удавалось. Чаем поддерживал себя.
Перечитывал после написанное мной предыдущей ночью и диву давался: будто некоторые абзацы вписал в мой текст кто-то другой, я, точно, видел их впервые.
Я не писал на пьяный ум. Неверно. Писал, конечно, и когда писал, восторгался бурно сотворённым – ай да сукин сын! как-то похоже, – но, протрезвев, выбрасывал «шедевр» – полнейший бред, чудовищную чушь. А надо было сохранить? Может, и надо. После посмеяться.
Был я в то время, когда набивал свой текст, на месте, за машинкой? Не знаю. Да вроде был.
Замещал ли меня на какое-то время кто-то? Не знаю. Ни с кем вроде не договаривался.
Ночью стал спать, а днём работать, эта иллюзия исчезла.
Вот.
Андрей Аствацатуров. Литература в эпоху постискусства
О времени
Нашу традиционную эстетическую судьбу в эпоху постискусства сложно назвать завидной. Владимир Вейдле, филолог консервативного склада, справедливо писал, что искусство угасает, когда оно дает голос человеку. Нечто подобное современной ситуации, предоставившей голос не художнику, а человеку, уже происходило в европейской культуре. Причем дважды: на рубеже XVIII и XIX веков, в эпоху романтизма, и спустя сто лет, в ХХ веке, когда появился авангард. В эти исторические моменты воображение покидало сферу искусства и вторгалось в область чисто человеческого. Воображение по-прежнему открывало возможности жизни, но не затем, чтобы создать эстетические миры, а с целью усовершенствовать человека. Романтиков, а позднее сюрреалистов не слишком заботило искусство. Оно, как правило, объявлялось не целью, а средством, способом приближения к миру и основанию человеческого «я».
В формировании современной ситуации постискусства активно поучаствовала и американская литературная традиция, конечно не вся, а та ее линия, которая была вызвана к жизни литераторами-протестантами и которая подарила нам бесчисленное множество автобиографий, хроник, дневников, заметок, писем. Протестанты были озабочены духовным самосовершенствованием или утверждались в собственной избранности, и литературный труд им в этом очень помогал. Их наследники Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Уолт Уитмен, вслед за ними Генри Миллер, Джек Керуак и Уильям Берроуз, несмотря на антипуританский пафос своих сочинений, в общем-то, сохраняли этот взгляд. Их волновала человеческая природа, поиск единства со становящейся, бесконечной жизнью, а не поиск формы. Идею застывшей эстетической формы они подвергали атаке, а саму форму старались подорвать всеми доступными средствами. Романный текст, от которого ожидалась организованность, превращался в текстовую, текучую магму, разреженную анекдотами, проповедями, эссеистическими отступлениями, метафоризированными зарисовками.
Русской литературе, непременно оглядывающейся на свои великие образцы, подобная направленность всегда была свойственна. И это естественно, учитывая, во-первых, ее нервное стремление быть нравственной, поучать, воспитывать, проповедовать, делиться сокровенным, а во-вторых, размывать формальные предписания европейского (английского, французского) романа. Европейские реформаторы прозы, такие как Генри Джеймс или Вирджиния Вулф, ценили русский роман именно за его «бесформенность», а самих романистов, Толстого, Достоевского, Тургенева, – за умение отражать спонтанную, самовозрастающую жизнь. Однако русские авторы редко осмеливались откровенно взрывать форму и превращать литературу в биографию собственного тела. Последователей Л. Ф. Селина и Генри Миллера в нашей литературе практически нет.
Тем более интересным исключением кажется феномен Эдуарда Лимонова, ориентированного в своих текстах одновременно на французскую и американскую традиции. Относительный успех Лимонова на западе, признание его западными критиками как именно европейского писателя вполне закономерно и как раз объясняется этой его ориентированностью. Литература для раннего Лимонова – это процесс, опыт проживания собственных инстинктов. Человек и автор в нем почти неразделимы: он проживает литературу, литературный опыт, письмо так же, как и любовный опыт, как в 90-е и нулевые он будет проживать опыт политический, военный, тюремный. Его заботит всякая деятельность постольку, поскольку она его развивает, освежает его «я». В отношении литературы он реализует тот самый парадокс, о котором писал в свое время Ролан Барт: сам текст, сам процесс сочинения рождает автора, а не наоборот, как предполагает классическая модель, не знающая ситуации постискусства. Как автор, Лимонов интересен сочетанием европейского анархизма в духе Генри Миллера, эстетизацией мыслящего тела и чисто русской сентиментальностью.
Несмотря на популярность у русского читателя и определенное влияние на последующее поколение литераторов, Лимонов, в силу специфических эстетических установок, остался фигурой маргинальной, плохо усвоенной русской культурой, внеакадемичной, едва ли приспособленной для филологического изучения и публичного обсуждения. Тем самым он повторил судьбу своего литературного учителя Генри Миллера, крайне популярного, культового американского автора, так и не ставшего «классическим» в глазах культурного и интеллектуального истеблишмента.
Влияние Лимонова на последующее поколение русских литераторов, заявивших о себе в нулевые, по существу, привело к некой деформации канона, разрушению границ литературы и эстетического вкуса. Это влияние ощущается в текстах таких заметных авторов, как Роман Сенчин и Захар Прилепин. Если Сенчин преодолевает влияние Лимонова, двигаясь от относительной размытости художественной формы к строгому соблюдению правил, то Захар Прилепин сознательно сохраняет в себе это влияние, открыто декларируя свою приверженность эстетике Лимонова и отстаивая в интервью, выступлениях и частных беседах оригинальность своего учителя. Результатом подобной установки становится антилитературность, бесструктурность, асимметрия некоторых участков в текстах Прилепина, которые постоянно подвергаются нападкам критики, преимущественно либеральной. Среди либеральных колумнистов хорошим тоном считается критиковать Прилепина за стилистическую небрежность, неточность образов, несоответствие эпитетов и метафор общепринятым риторическим правилам (как будто подобные правила и впрямь существуют в эпоху постискусства). Парадоксальным образом именно эти внелитературные зоны текста, участки, где нарушаются правила, где текст как будто противоречит либеральному вкусу, оказываются точками, аккумулирующими силу, энергию. Именно за счет них происходит воздействие текста на читателя. Возникает ситуация парадокса: то, что видится высоколобым «специалистам» некачественным, несет в себе мощный эстетический импульс, явно недостижимый, если бы соблюдались все правила. Возможно, здесь присутствует эстетика, для которой нет и не будет своего понятийного языка. Но, вероятнее всего, есть вещи, куда более важные, чем качественная литература.
Впрочем, данная литературная традиция, восходящая к Лимонову и к Миллеру, может быть использована в более консервативных литературных проектах. Примером тому служат тексты Андрея Иванова, русскоязычного автора, проживающего в Эстонии. Его романы («Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар», «Исповедь лунатика») также модернистски бесструктурны, как тексты Селина или Керуака, но, в отличие от текстов Эдуарда Лимонова, они остаются в пределах эстетического. Если Лимонову интересен он сам (об этом говорит название его первого романа), то Иванову интересен его текст, последовательное развертывание образной системы, подчиняющей воображение. Лимонов нарциссичен, Иванов – текстоцентричен, имперсонален. Он разделяет эстетические представления Т. С. Элиота о безличном характере литературы. Возможно, эта достаточно классическая установка и объясняет относительно периферийное положение Андрея Иванова в современной русской прозе.
Видимо, нынешняя проза требует элемента литературной некачественности, зазора в эстетическом, наличие откровенно неэстетизированных или слабоэстетизированных участков.
Симптоматична в этом плане проза Германа Садулаева, который позиционирует себя как философствующего автора и нередко при организации материала пренебрегает художественной логикой воображения и логикой развития образов в пользу логики философской. Сцены, сюжетные линии и персонажи в его текстах – точки приложения различных философских теорий и формул. Садулаев в меньшей степени, нежели Сенчин или Прилепин, ориентирован на традицию русской художественной прозы. Если эта традиция и возникает на страницах его книг, то в зонах стилизации, как игра, как стиль, ставший чистой техникой. Его подлинные литературные учителя – Мишель Уэльбек и Чак Паланик.
На другом полюсе современной литературы находятся авторы, культивирующие в своих текстах именно неэстетическую качественность. Это авторы, стремящиеся предъявить чистую биологию жизни, с одной стороны лишенную патетики, свойственной Захару Прилепину, Сергею Шаргунову, Александру Снегиреву, с другой – философичности, интеллектуальности, которая отличает Германа Садулаева. К этому кругу авторов можно прежде всего отнести Евгения Алехина, Кирилла Рябова и недавно ушедшего Марата Басырова. Для их текстов характерен псевдоавтобиографизм, подчеркнутый физиологизм и предельное внимание к повседневным деталям. Они позиционируют себя как откровенные маргиналы в контексте русской прозы и ориентируются в первую очередь на американскую традицию, модернистски стремящуюся обнажить подлинное глубинное «я», задавленное ложными ощущениями, идеями и стереотипами.
И все же большая часть известных современных прозаиков сохраняет в своих текстах классическую текстоцентричность, представление о тексте как о цели. Известные петербургские авторы Павел Крусанов, Сергей Носов, Вадим Левенталь, Екатерина Чеботарева, пишущая под псевдонимом Фигль-Мигль, в первую очередь профессионалы, ориентированные на поиск индивидуальной формы. Они литературные консерваторы в хорошем смысле этого слова, сохраняющие представление о произведении искусства как об органическом единстве. Мировидение в случае каждого из них обнаруживается не столько в проблематике их текстов, как у Германа Садулаева, сколько в поэтике, как ему и надлежит, строго говоря, обнаруживаться. Ориентируясь на определенную идеологию, они, разумеется, стремятся заставить читателей ее разделить, но их первоочередной задачей становится конструирование самодостаточного художественного мира. Сегодня, в условиях постискусства, подобный эстетический консерватизм, сохраняющий литературу-в-себе, и этический, представляющий человека, вырастающего телом, чувством, мыслями из ландшафта, по сути, является вызовом нашему времени, эпохе перформансов, флешмобов, авангардных жестов и пр.
Мне представляется правильным некий разумный компромисс между этими двумя тенденциями. Ведь, работая с собственным «я», совершенно необязательно вступать в противоречие с правдоподобием и следованием художественному воображению. Идеальным в этом смысле примером был Дж. Сэлинджер. Судя по всему (тут, конечно, можно только гадать), литература для Сэлинджера была практикой, позволявшей решать внутренние проблемы, практикой, освещенной, как это бывает у протестантов, религиозным смыслом. И одновременно она была целью – Сэлинджер по праву считается мастером новеллы.
Современная ситуация подталкивает нас к подобному компромиссу. Конечно, берет досада, когда посредственные в литературном отношении книги, сочиненные успешными, медийными, модными людьми, привлекают к себе больше внимания, чем следует, а книги действительно превосходные, новаторские остаются незамеченными. Но такова современная ситуация в культуре, и этому вызову, как мне кажется, необходимо соответствовать. Иначе литературе, ежели она останется территорией самодостаточной, территорией чистого вымысла, грозит перспектива быть вытесненной в лучшем случае документалистикой и блогосферой, в худшем – гибридными, эклектичными формами масскульта, где личность, исполнение и авторство нерасторжимы. Рэп-роман – это, как правило, слабые тексты, слабая музыка и слабая личность автора (исполнителя). Но их соединение рождает феномен, соответствующий духу времени.
Искусство движется в сторону личности, обедняя себя, постепенно себя отрицая, но это движение закономерно и неизбежно. Можно, конечно, его не замечать, игнорировать, но тогда мы закономерно выпадем из времени. Видимо, мы обречены артикулировать современную ситуацию, представлять свое время, а не то, которое нам больше нравится, которое нам комфортно. Здесь нет и не может быть готовых рецептов. Автобиографизм, документалистика, фрагментарность – это лишь внешние приемы художественного, нисколько не гарантирующие нужного результата.
Диалог традиций
Есть еще одна проблема современной российской литературы, ничуть не менее существенная, чем пребывание в мире постискусства. Я имею в виду ее периферийность, ее региональный характер, слабую (пассивную) вовлеченность в общемировые культурные процессы и интеллектуальные дискуссии.
Разумеется, нас должны возбуждать в первую очередь собственные проблемы, политические, экономические, интеллектуальные. Они помогают нам правильно форматировать реальность. Форматировать так, как мы это хорошо умеем. Они задают индивидуальный, специфический взгляд нашей художественной речи. Мы обязаны вырастать из национальной литературной традиции, открывая и переоткрывая в ней новые ресурсы. В этом отношении крайне конструктивен Захар Прилепин, обративший внимание читающей публики на такие отчасти забытые и задвинутые даже не во второй, а в десятый ряд фигуры, как Владимир Луговской, Борис Корнилов, Леонид Леонов. Прилепин пишет содержательные литературные биографии и одновременно актуализирует открытия этих авторов в своих текстах. То же самое можно сказать о Михаиле Елизарове и Сергее Шаргунове. Елизаров подобным же образом переоткрывает Аркадия Гайдара, а Шаргунов – Валентина Катаева.
Пожалуй, наиболее удачным в смысле актуализации русской классической традиции стал коллективный проект «Литературная матрица», в котором статьи о русских классических авторах написали современные российские прозаики и поэты. Книга вызвала огромный интерес и получила заслуженное признание. Задуманная как учебник по литературе, альтернативный официальным учебникам, вузовским и школьным, «Литературная матрица» оказалась куда более концептуальным проектом, нежели она заявлялась составителями. Авторы статей, яркие, сильные современные авторы, по сути, отыскали зоны пересечения своих художественных практик и открытий классиков. Ведь они, наши современники, по существу, писали не только о классиках, но и о себе – сильный автор всегда пишет о себе, о своей ситуации, пусть даже косвенно. В итоге «Матрица» актуализировала силовые линии русской классики, проговорила ситуации, условия, приемы, сохраненные и трансформированные современностью.
Мне представляется крайне важным, чтобы этот проект был продолжен и дополнен томами, посвященными текущей литературе и непременно – зарубежной классике.
Нам следует помнить, что наши литературные предки не только Луговской, Леонов, Гайдар и Катаев, но также Эсхил, Данте, Шекспир, фигуры, принадлежащие мировой литературе. Историко-литературный опыт сильных авторов показывает, что чем «старше» твой литературный предок или учитель, тем, как правило, значительнее твои сочинения. Бродский, как известно, вырос не только из своего «регионального» окружения, из общения с «ахматовскими сиротами», не только из диалога с непосредственными предшественниками (Ахматова). Если бы все только этим и ограничивалось, мы бы имели дело с «крепким петербургским поэтом». Но Бродский – поэт целой эпохи. И таковым он случился не только благодаря собственным талантам, но и благодаря правильно выбранным литературным учителям, родом из глубокого прошлого, например английским поэтам-метафизикам (Дж. Донн, Марвел, Дж. Герберт и др.).
Подобным же образом развивался и старший современник Бродского английский поэт Т. С. Элиот, с той лишь разницей, что, вступая в диалог с непосредственными литературными предшественниками (А. Теннисон, А. Суинберн), он атаковал их, иногда достаточно резко. Для него куда более актуальными фигурами были Данте, Шекспир, Донн, драматурги эпохи барокко. Усвоение их художественных инстинктов, а не инстинктов непосредственных предшественников, позволяло Элиоту передать современное ему чувство жизни.
Современные отечественные авторы в большинстве своем крайне редко актуализируют мировую традицию. Мы хорошо помним традицию отечественную, но пренебрегаем мировой. Нам нельзя терять в качестве предков Данте, Шекспира – это приведет к измельчанию нашей литературы, ее маргинализации, к ситуации, когда наша литература перестанет быть нужной кому-либо, кроме нас самих.
Второй существенный аспект этой проблемы – диалог с живыми иноязычными литературными традициями, внимание к интеллектуальным и художественным поискам наших современников, зарубежных авторов. На протяжении довольно долгого времени наша культура развивалась более-менее изолированно. Российские авторы, интеллектуалы, безусловно, следили за теми процессами, которые происходили на Западе и на Востоке. Но скорее были при этом зрителями, сторонними наблюдателями, нежели активными участниками. Эта ситуация сохраняется и сейчас. Мы в курсе проблем, которые волнуют человечество, мы в курсе новейших задач и поисков – в этом нам помогает книжный рынок и журнал «Иностранная литература». Но мы не ощущаем эти проблемы непосредственно, как свои собственные. Они не входят в наше чувство жизни. Подобная ситуация во многом объясняет слабый интерес зарубежной читающей публики к русской литературе.
Именно поэтому так важен диалог с нашими зарубежными коллегами, который должен происходить на ярмарках, за круглыми столами, но главным образом – в текстах.
Нам стоит приглядываться к чужому ландшафту, чужой организации пространства и повседневной жизни, сочинять травелоги, иногда перенося действие в европейские и азиатские столицы. Освоение чужого пространства требует знакомства с соответствующей традицией. Если действие происходит в Лондоне, нам требуется освежить в памяти корпус текстов, составляющих «лондонский текст», если в Париже – то парижский и соотнести с ними наши субъективные ощущения, заставить их вырасти из концепции городского ландшафта, из городского мифа. Или же заставить наши тексты уточнить устоявшуюся концепцию. В любом случае состоится некое подобие диалога с иной традицией, выстраивание связи с другим. Ощущение другого ценно тем, что оно позволит разобраться в нашей собственной специфике.
О себе
Обстоятельства много лет выращивали из меня филолога, наследника филологическо-преподавательской династии и весьма в этом преуспели. Я стал идеальным продуктом своей семьи, кафедры, своих университетских учителей. В 1986 году я поступил на филфак, успешно отучился, успешно защитил дипломную работу, поступил в аспирантуру, успешно отучился, в 1996 году успешно защитил диссертацию. Филология, надо сказать, всегда интересовала меня не как цель, не как источник дохода, а как средство собственного интеллектуального развития. Отчасти поэтому меня никогда не привлекали никакие формы филологического позитивизма, ни структурализм, ни архивная работа. В какой-то момент своей жизни я стал чувствовать, что филология меня не особо развивает. Вернее, развивает, но не так стремительно, как мне бы хотелось.
Я начал вести блог, фиксировать свои впечатления, а в 2004 году написал некое подобие рассказа, которое впоследствии легло в основу моей первой книги «Люди в голом» (2009). Книга была псевдоавтобиографическая и была посвящена детству и взрослению. В годы ее сочинения я разделял левые идеи, что вполне естественно для советского интеллигента, окунувшегося в либреально-капиталистические иллюзии, которые развеялись в кошмарные девяностые. Моя книга, собственно, и задумывалась как выражение этого левого инстинкта, а не как внятное, зажатое в строгую форму художественное произведение. Ее нерв – бессилие, незначительность косноязычного, не слишком умного человека, его заброшенность среди равнодушных вещей. Осознавая пагубность окончательной концепции для литературы, я постарался избежать всякой определенности и подверг свои сокровенные мысли иронии, разместил их не в серьезных пафосных сценах, а в дурацких анекдотах.
В плане формы я ориентировался на маргинальные для большой литературы жанры: на анекдот, афоризм, эссе. Мне хотелось подчеркнуть абсурдность, единичность, нетипичность, случайность происходящего, и анекдот как нельзя лучше соответствовал этой задаче. К тому же мой персонаж, маленький вуди-алленовский невротик, не мог быть помещен в панорамно-исторический нарратив. Он должен был жить от случая к случаю, анекдотично. Следуя эссеистической манере, я неизменно избирал заведомо нелепую точку зрения и, последовательно развивая ее, доводил до абсурда. Текст выходил довольно хаотичным, но я старался собирать его повторяющимися лейтмотивами, образами, несущими концепт обнаженности, оголенности. Кроме того, я построил свой текст как метароман и предпринял шуточное путешествие по жанрам и родам литературы. Открыв текст лирикой, я продолжил его эпосом и завершил драмой. Сочиняя книгу, я ориентировался не столько на отечественную традицию с ее серьезностью, психологизмом, панорамностью, сколько на традицию американскую, которой свойственна фрагментарность. Твеновский «Том Сойер», в сущности, ведь не что иное, как сборник анекдотов.
Одной из моих задач было убедить читателя в реальности происходящего, и этой цели я, в общем-то, добился: критики и читатели осуждали меня за мелочность, подлость, трусость и зависть. С другой стороны, я преследовал ровно обратную цель – показать, что жизнь слишком уж подозрительно напоминает текст.
Вторая книга «Скунскамера» (2010) была продолжением первой. Я сел ее сочинять, по-прежнему полагая, что литература меня развивает. По-видимому, так оно и было – процесс сочинения открыл мне какие-то странные стороны жизни, но теперь я был более текстоцентричен, более внимателен к языку. Открыв роман серией мелькающих картинок, я завершил его единой линией. Ключевым инстинктом романа был страх как таковой. Персонаж по-прежнему тяготится культурой, она для него репрессивна, она – тюрьма, из которой он стремится выбраться. Но, оказавшись в свободном мире, персонаж пугается: свободный мир, куда он стремился, оказывается опасным, холодным, равнодушным. К этой проблематике классического невроза я добавил городской пейзаж и все образы романа сделал его продолжением.
Третья книга «Осень в карманах» (2015) собралась из четырех повестей, каждая из которых соответствовала определенному сезону. Здесь я попытался найти выход из мучившего меня парадокса неудобства культуры. Я обратился к ландшафтному урбанистическому пейзажу, который я выписал как территорию постапокалипсиса. Город мне понадобился для того, чтобы решить старое противоречие и включить персонаж в некий внечеловеческий замысел, различимый в месте действия. Сам я к моменту работы над романом перестал быть левым и принял лютеранство, а мой персонаж пережил внутреннюю дезинтеграцию, обнуление, и нашел выход из этого состояния, вернее, обстоятельства позволили ему этот выход найти. Через новое чувство он подключился к какой-то воле, руководящей миром. Местом действия я выбрал Петербург, присовокупив к нему Париж и тем самым соединив петербургский и парижский тексты. Эта книга оказалась еще более литературной, чем предыдущая, что меня тревожит, поскольку подобная эволюция противоречит логике культуры, современному ее состоянию. Видимо, знание ситуации нисколько не гарантирует того, что ты будешь ей соответствовать. В любом случае у меня еще есть убежище в виде эссеистики и филологической науки.
Павел Басинский. Демон критики
В критики я пошел, конечно, по чистой случайности. Или по воле судеб – что одно и то же.
Это не кокетство, это знает всякий серьезный критик, что критиками не рождаются. Впрочем, писатели почему-то думают, что критики – такие бесталанные буратины, которые мстят талантливым буратинам за свою бесталанность.
«От страсти извозчика и разговорчивой прачки невзрачный детеныш в результате вытек. Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке… Мать поплакала и назвала его: критик…» (Маяковский «Гимн критику»). При этом писатели обижаются на критиков и, бывает, сами мстят им. (Стихи Маяковского – выдающийся тому пример.) Писатели даже угрожают критикам физической расправой и не часто, но все-таки приводят приговоры в исполнение. Хотя это, если принять их систему координат, выглядит аморально. Ну как может хорошенький буратино лупить по щекам недоделанного буратину за то, что он, гад, такой недоделанный, убогий, вытесанный Папой Карлой по глубокой пьяни в недобрый час!
Лично до меня несколько раз доносились писательские угрозы набить мне морду. И я, человек по природе недрачливый, каждый раз думал, как поведу себя в такой ситуации. Драться в ответ? А что делать потом? Молчать об этом писателе – решит, что я его боюсь. Ругать – решит, что это месть. И хвалить, даже если понравится то, что он напишет, уже нельзя. Какая цена моим лестным словам после того, как мне морду начистили?
Я не знаю ни одного серьезного критика, который обиделся на писателя за его художественное произведение. Пелевин и Сорокин топили меня в сортире, закатывали в бочку с нитрокраской, казнили на дыбе в качестве персонажа своих романов и рассказов. И я вполне отдаю себе отчет, что эта их месть имеет более пролонгированный в масштабах большого времени характер, чем мои статьи. Мне и в голову не приходило на них обижаться.
Есть, впрочем, классический пример обиды критика на писателя – это знаменитое письмо Белинского Гоголю. Но оно потому и знаменитое, что пафос его превышает все разумные пределы, все нормы здравого смысла и вообще – всё!
«Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель».
Ну, право же, я от души посмеюсь, если какой-нибудь писатель вдруг напишет обо мне что-то подобное. «Вы лишь отчасти правы, увидев во мне рассерженного человека, этот эпитет слишком слаб и нежен… Но вы совсем не правы, думая, что причиной тому Ваш нелестный отзыв о моем романе. Нет, тут причина более важная. Критику моего романа еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать о ней. Но, не оценив мой роман, вы проповедуете ложь и безнравственность как истину и добродетель».
Впрочем, если на досуге предаться занимательному психоанализу, то можно предположить, что критик обижен на писателя как бы вообще, так сказать, пожизненно, в самой глубине души – как недоделанный буратино на хорошенького буратину, даже если дружит с ним. (Точнее пример: две подружки – красивая и некрасивая.) В этой парадигме, несомненно, что-то есть, и я даже готов с ней согласиться. Например, мне не нравится письмо Белинского Гоголю именно потому, что в нем есть что-то от Сальери. Недаром Белинский в целом положительно высказался о пушкинском Сальери и даже написал о нем такую, на мой взгляд, глупость: «Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта…» При этом Сальери – «талант», а Моцарт – «гений». То есть гений ниже таланта по уму и сознанию. В результате Белинский сам угодил в поставленную ловушку и в своем письме строго отчитал Гоголя за то, что тот сходил на сторону к «мракобесам». Так Моцарт «мог остановиться у трактира и слушать скрыпача слепого». Так некрасивая девочка отчитывает красивую подругу за то, что та спит с кем попало, а могла бы выйти замуж и родить потомство, потому что у нее для этого все природные качества.
Этот синдром в критиках, причем самого высокого калибра, я иногда замечал. Эдакое моральное негодование на то, что любимый писатель «свернул не туда», так сказать, изменил своему предназначению и – о боже! – испортил свою репутацию.
«Ты, Моцарт, недостоин сам себя!»
И поди разберись, чего тут больше – праведного морального гнева или затаенного комплекса собственной ущемленности и неполноценности, который и пожирает Сальери изнутри. Я знаю, что нужно делать, но не знаю как, а ты умеешь это делать, а ведешь себя неправильно. Всего-то и надо на секундочку задуматься: может, Моцарт не такой уж и дурак, может, его стеб о «скрыпаче» – это то, что Ницше определял как «всё глубокое любит маску»?
Да, есть в нас, критиках, этот синдром Говорящего Сверчка. «Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало, – крри-кри, – глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками. – Эй, ты кто такой? – Я – Говорящий Сверчок, – ответило существо, – живу в этой комнате больше ста лет. – Здесь я хозяин, убирайся отсюда. – Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет, – ответил Говорящий Сверчок, – но, прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. – Оччччень мне нужны советы старого сверчка… – Ах, Буратино, Буратино, – проговорил сверчок, – брось баловство, слушайся Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи. – Поччччему? – спросил Буратино. – А вот ты увидишь – почччччему…»
Бывает и так, что критик дуется даже не на конкретного писателя, а на весь литературный процесс, так сказать, на время, в котором ему приходится жить. «Молчание» авторитетного критика как выражение «тотальной» критики – фишка известная, но малопродуктивная. Если ты критик, живи внутри литературного процесса. Строго говоря, ты и есть этот процесс, потому что нет никакого процесса, пока его кто-то не описал, а если говорить уж совсем откровенно, кто-то однажды не придумал, как Белинский гениально придумал весь наш замечательно структурированный Золотой век.
Молчащий знаменитый писатель, запершийся в башне из слоновой кости, это еще куда ни шло. Это примут как факт его биографии, как творческий изыск и своего рода «произведение». Молчащий критик – это критик, расписавшийся в своей беспомощности. Писатель имеет право быть нарциссом. Это весьма противно, но простительно. Критик не имеет права быть даже интровертом. Это писатель может из глубин своей души нарыть сколько-то граммов золота (или выдать за золото), а критик прикован к реальной литературе, как раб на галерах. Я знал критиков, которых погубило то, что они писали не столько о писателях, сколько о том, как они – лично они! – читают их тексты. Они оказались беспомощны, когда этот их глубоко внутренний и, быть может, богатый и сложный душевный процесс перестал всех интересовать. Писатели разом переключились на лонг- и шорт-листы премий и позиции в рейтингах книгопродаж – возможно, куда менее богатые и сложные, но гораздо более волнительные.
Давайте расставим точки над i. Критика – это никакая не рефлексия и никакая не аналитика. Критика совсем не про это. Критик – это андерсеновский мальчик, который сказал, что «король голый», когда все видели, что он голый, но этого не сказали.
И тут все не так просто, как кажется… Толпа не говорила, что король голый не потому, что знала, что король голый, но боялась это сказать. Самое ужасное, что толпа – это отдельные люди, составляющие толпу, и каждый из них вовсе не был уверен в том, что король действительно голый. Шут его знает, может, и не голый. Или голый, но так надо. И когда мальчик произнес то, что видели все, но в чем не были до конца уверены, благодарность ему отдельных людей была безмерна. Потому что он произнес то, что они и без него видели, но не решались об этом даже подумать. И если б не оказалось рядом с ними этого откровенного мальчика, подавляющее большинство так и ушло бы с этого странного дефиле со смутной верой, что это и есть последний писк моды – гулять с голыми яйцами на глазах у людей.
А теперь я расскажу вам, что было с этим мальчиком дальше и о чем умолчал Ханс Кристиан Андерсен… Само собой разумеется, что этого мальчика выбрали Городским Критиком. Его стали приглашать на всевозможные показы одежды, сажать в первый ряд и всячески перед ним заискивать. Его взяли в оборот те самые модельеры, которых он ущучил и которые его за это ненавидели. Но на демонстрациях они стояли вокруг него и что-то шептали ему на ушко. Большей частью это были гадости про своих коллег: «Вы-то понимаете, какие это жалкие и ничтожные личности, вам ли не знать, мы помним, помним, как вы тогда…» И в какой-то момент мальчик решил, что он действительно настолько хорошо разбирается в процессе создания модной одежды, а главное – во всем этом модельерском закулисье и бэкграунде, что его вердикты являются исчерпывающими и окончательными. Потому что мальчик сказал. Поднявшись на эту ступеньку, мальчик понял, что есть дефиле, на которые ходить нужно и на которые не нужно. Что есть модельеры и «не модельеры». Есть тренды и не тренды. Но однажды ему снова показали голого короля. И мальчик подумал и сказал: о-о, да это не слабый ход, винтажный прием, ремейк старой коллекции, которую уж он-то помнит.
Опасен и извилист путь критика!
Критиками не рождаются, критиками становятся. Но как и когда это происходит – сказать сложно. Очень трудно стать критиком, гораздо труднее, чем стать писателем. Поэтому критиков так мало, а писателей до безобразия много. Я говорю не о мелких и средних фигурах, а о крупных, даже великих. Белинский, Добролюбов, Писарев – кто еще? Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький… Великих критиков так же мало, как великих драматургов. Это – редкий талант, образ мышления, иначе организованные мозги. Тот факт, что писатели иногда пишут отличные критические статьи, а критики, как правило, не способны написать что-то в писательском роде, не говорит о том, что стать критиком легче, чем стать писателем. Речь идет не об отдельных статьях. Речь не о феномене, а о ноумене, не о явлении, а о сущности. Критический образ мышления – на самом деле ужасен! Это крест и ярмо, проклятие на всю жизнь! Если, конечно, ты не изображаешь критика, но честно исполняешь свою сущность и несешь крест до конца. Мало кто способен на это. Поэтому критики рано умирают – заметили?
Легко могу представить себе старого Пушкина. Он был бы прекрасен и, возможно, спас бы Россию. Но представить себе старого Писарева я не могу. Между тем Писарев был единственным, кто сформулировал краеугольный принцип критики: что может быть разрушено, то должно быть разрушено. «Что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево» («Схоластика XIX века»). Только не надо говорить, что это анархизм, нигилизм и тому подобное. Что задача критика не разрушать смыслы, а созидать. Не убивать авторов, а помогать им. Мы не акушеры, не врачи, а диагносты. Гвоздь в сапоге действительно «кошмарнее всех фантазий Гёте». И писатели об этом подсознательно знают, поэтому и не любят реальной критики, когда она написана о них. Стихами Фета действительно можно обклеивать комнаты под обои и заворачивать в них копченую рыбу. Попробуйте с этим поспорить, а с утверждением, что стихи Фета гениальны и так далее, можно спорить бесконечно. Балет можно описать такими словами: «Одна из девиц, с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали браво. Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. (Мужчина этот был Duport, получавший шестьдесят тысяч рублей серебром за это искусство)» («Война и мир»). Ошибка Толстого была лишь в том, что он наделил этим взглядом Наташу Ростову, которая, конечно, видела то же самое, что и Толстой, но сформулировать так, как Толстой, не могла.
Наташа не была критиком.
Но вы, наверное, заметили, что из трех примеров настоящей, на мой взгляд, критики, которые я привел, два принадлежат не критикам в привычном понимании, а писателям, один из которых Маяковский. И здесь мы приближаемся к самому главному. В некотором смысле критика родственнее поэзии, чем прозе. Не может быть прозы без текста. «Проза жизни» – это просто скучная жизнь. С другой стороны, любой не стихотворный и не драматургический текст является прозой. А вот стихи и поэзия далеко не одно и то же. Может быть поэзия без стихов и стихи без поэзии (Вадим Кожинов «Стихи и поэзия»). Поэзия – это «состояние души». Это морской закат, проливной дождь, первый поцелуй, извержение вулкана. Это может быть в стихах, а может и не быть. Точно так же критика – прежде всего не статьи, а образ мышления. Толстой и Маяковский были в большей степени критиками, чем сонмища их рецензентов и авторов глубокомысленных статей того времени. Еще раз: критика – это образ мышления и прием высказывания. И они безусловно разрушительны, а не созидательны. Ницше, философствовавший молотом, был гораздо значительнее как критик, чем Ипполит Тэн, писавший о нем статьи.
Мне даже страшно представить, что бы случилось с нашей литературой XIX века и рубежа веков, если бы Толстой однажды решил стать профессиональным критиком при каком-то журнале или газете. Если бы свои короткие дневниковые фразы, вроде «Горький недоразумение», он развивал бы в рецензиях и критических статьях. Он взорвал бы литературу! К счастью для нее, он счел это несерьезным предметом и переключился на церковь и государство.
Но и о литературе он успел высказаться так, что мало не покажется! «От Боккаччио до Марселя Прево все романы, поэмы, стихотворения передают непременно чувства половой любви в разных ее видах. Прелюбодеяние есть не только любимая, но и единственная тема романов… Романсы, песни – это выражение похоти в разных степенях опоэтизирования…» («Что такое искусство?»)
Теперь примените этот взгляд, этот образ мышления к пушкинским стихам, которые мы заставляем детей учить наизусть в школе, и вы кое-что поймете в том, что такое критика:
Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим.Да-да, я знаю, что́ мне на это возразят. Я слышал это сто миллионов раз – от писателей, церковников и государственников. И все-таки я знаю, что Толстой, увы, прав… Но еще я знаю, что, если бы он не был великим писателем, решился бы стать только критиком, эти милые люди – писатели, церковники и государственники – давно порвали бы его, как тузик грелку.
В этом плане гораздо трагичнее судьба Ницше. Человек поставил над собой эксперимент: какую долю правды он способен выдержать. И в результате сошел с ума и свалился в «Заратустру» – вещь, возможно, и гениальную в художественном отношении, но маловнятную. Кладезь для всевозможных комментаторов и интерпретаторов, которые тут же слетелись, как мухи…
Не пытайтесь повторить это самостоятельно.
Критика и критические статьи – не только не всегда совпадают, но и, как правило, противоположны. Критика первична, она знает правду, которая существует до автора и его произведения и будет существовать после них. Критические статьи вторичны. Они привязаны к автору и произведению и поэтому обязаны им служить. И в этом корень всех недопониманий между настоящими критиками и писателями (а равно всеми представителями всех искусств). Писатель может сколько угодно говорить, что ждет от критика правды. Но в глубине души он ждет от него службы. Обслужи меня красиво, но сделай это так, чтобы я этого не заметил, чтобы я верил в твою искренность! Честное слово, прямой договор между писателем и критиком, когда первый, скажем, дает второму деньги или угощает его дорогим коньяком в ресторане, а второй за это пишет о нем тупую хвалебную статью – в сто раз лучше того, чем мы, критики, обыкновенно занимаемся.
Я написал много критических статей и, смею думать, хорошо знаю все эти приемы так называемой критики. Уничтожить писателя так же несложно, как и его приподнять или даже превознести. Есть некоторая сумма приемов, о которых профессиональные критики прекрасно знают, на которых съели целую стаю собак. Например, простейший прием комплиментарной критики – это начать за упокой, а кончить за здравие. Сперва как бы поругать, а в результате объявить могучим талантищем. Пощекотать писателю нервы и заодно обезопасить себя от обвинений в «коррупции», прямой или косвенной. Писателю всегда приятно расслабиться на финале такой статьи или рецензии. Это что-то вроде жесткого массажа с переходом на мягкий: ох, ловок, ловок, шельмец, о, как это приятно, о-о, о-о! – еще, еще!
Писатели, не верьте, будьте бдительны! Когда о вас напишут что-то такое, знайте, вас ведут, как карасей. Это не противоречит тому, что я сказал выше, а именно: критика – это не только образ мышления, но еще и прием высказывания. Только этим приемом становится автор или его творение. Толстой в качестве приема использовал балет, Писарев – стихи Фета, Маяковский – Гёте, Ницше – Вагнера («Казус Вагнер»). В самом деле, нельзя же критиковать жизнь вообще, человека вообще… Приходится прибегать к иносказаниям.
Не бывает приятной правды. Приятной бывает только ложь в разных ее формах. И смысл игры между писателями и критиками сводится к тому, что одни убеждают себя в том, что читать критику о себе может быть приятно и что это и есть настоящая критика, а другие убеждают себя, что они пишут настоящую критику, хотя давно не пишут никакой критики.
Мало кто способен любить настоящую критику. Менее всего – сами критики.
Теперь я расскажу вам историю о другом мальчике… В нежном возрасте этот некрасивый мальчик влюбился в самую красивую девочку в своем классе, но она влюбилась в другого одноклассника – тоже красивого. И вот под тяжестью душевных страданий некрасивый мальчик стал размышлять. Он понял, что красивая девочка полюбила красивого мальчика потому, что оба они красивы, но глупы, а он некрасив, но умен. Это успокоило его и приподняло в собственных глазах. Вот он гребаный закон «жызни», думал мальчик, глядя на красивых дураков. Природа выбирает подходящих особей для размножения и улучшения породы. Но однажды какой-то демон шепнул ему: мальчик, мальчик! а почему ты сам влюбился в красивую девочку, почему не влюбился в некрасивую девочку, толстую и прыщавую, которая сидит на задней парте, чтобы на нее поменьше обращали внимание? Ведь ты знаешь, что она гораздо умнее той одноклассницы, в которую влюбился ты. Пойди и солги ей, признайся ей в любви, или тебе слабо? Сперва она, конечно, тебе не поверит, потому что она такая же умная, как ты. Но потом убедит себя в том, что ты сказал ей правду, и будет счастлива. И это, мальчик, и есть гребаный закон «жызни», а не то, что ты сначала думал.
И тогда мальчик стал Критиком. То есть – глубоко несчастным человеком.
Илья Бояшов. Как я пишу
Признаюсь: как литератор я не семи пядей во лбу, однако к своим пятидесяти шести годам приобрел пусть и небольшой, но все-таки опыт, которым и хочу поделиться.
Конечно же, любое произведение начинается с замысла. Есть такое свойство памяти: неспешно прогуливаясь, вы останавливаете взгляд на дереве, или на падшей листве, или на цветке, или на человеке, или на каком-нибудь другом одушевленном или неодушевленном предмете – и, разглядывая дерево, листву, цветок, человека, дом, пролетающий самолет, пробегающую собаку, неожиданно вспоминаете эпизод, который некогда был связан в вашей жизни с деревом, с осенним листом, с цветком, с домом, с человеком, с самолетом, с собакой. Причем прошлое накатывает с, казалось бы, давно позабытыми подробностями (вспоминаются даже запахи!). Что касается таких ассоциаций, я – не исключение. Иногда при подобных воспоминаниях мне и является первоначальный замысел.
Как пример: однажды в парке я повстречал упитанного кота, которого на поводке выгуливала средних лет дама. Кот был слишком приличным – с бантом и все такое прочее. Увидев его, я тут же вспомнил о коте «неприличном». Дело в том, что за несколько лет до этой встречи мне пришлось столкнуться на Каменноостровском проспекте с котом-антиподом. Тощий, ободранный наглец шествовал впереди по тротуару, не обращая внимания на прохожих, словно весь мир был у него в кармане. Зачарованный, я следовал за ним минут пять, пока оборванец не свернул на проезжую часть (автомобили остановились), не пересек ее и не исчез в какой-то подворотне.
Вспомнив о тощем коте, я подумал о том, что коты весьма независимые твари, затем подумал, что иногда они путешествуют, затем – что имеют склонность к возвращению домой, даже если по каким-то причинам хозяева оставляют их за тысячи километров от родного порога. Я припомнил несколько случаев, когда коты пересекали целые континенты и все-таки возвращались к своей миске, отсутствуя пять и даже десять лет. И в голову внезапно впорхнул замысел – а не написать ли мне о коте, которого бросили его хозяева (скажем, началась война и они бежали)? Кот отправляется на их поиски и пересекает всю Европу…
Напомню: это пример.
А теперь продолжу.
Итак, явившийся замысел уже трепещет, словно пойманная бабочка. Тогда начинаю судорожно вспоминать – было ли нечто подобное в литературе. На перебирание возможных аналогов уходит какое-то время, но вот убеждаюсь: в голову залетел не плагиат, а нечто, на мой взгляд, свежее, интересное и, возможно, оригинальное. Убедившись в «свежести» идеи, принимаюсь обдумывать ее, «обсасывать», «вертеть» и так и этак. Замысел мгновенно обрастает метафорами, персонажами, репликами. Здесь важно иметь под рукой блокнот, в который на ходу набрасываю пока еще отдельные зарисовки, фразы, сравнения. Заношу их лихорадочно, торопливо, боясь не удержать в голове, зная по опыту: если не записать их сейчас, в эту секунду, в это мгновение, они почти наверняка исчезнут, испарятся, вылетят… Подобная запись (я называю ее «записью с коленки») – довольно мучительное занятие, особенно если мысли начинают тесниться и толкать друг друга, не дожидаясь своей очереди: каждая стремится во чтобы то ни стало пролезть за счет других. Иногда мысли атакуют со всех сторон: приходится лихорадочно фиксировать неожиданно появляющиеся в голове сюжетные ходы, интриги, завязки и развязки. Кстати, хорошо осознаю: поведение человека, постоянно останавливающегося, бормочущего что-то себе под нос, со стороны выглядит довольно странным – вот почему предпочитаю прохаживаться в малолюдных местах.
К концу прогулки на страницах блокнота вырастает некое подобие «дерева». От «ствола-замысла» отходят «предложения-ветви», которых в процессе обдумывания всё больше и больше. «Дерево» расползается своими ветвями и корнями по мере того, как в него вносятся новые поправки и задумки. Вскоре оно становится ветвистым настолько, что сам начинаешь путаться – что за чем следует.
Почти сразу же вырабатывается и ритм будущего повествования. Первые же записи в блокноте помогают сразу увидеть, каким он будет: спокойным, повествовательным или динамичным, резким, рваным. Подчеркиваю, ритм – очень важное (как говаривал Ильич, «архиважное») дело, не менее важное, чем хороший сюжет…
Вернувшись домой, привожу первоначальные записи в порядок. В ход идет уже большой лист ватмана, на котором создается план. Прежде всего, ставлю цифры: первая глава, вторая, третья. Цифр-глав может быть пять, десять, двадцать – в зависимости от объема замышляемого. Внеся в план из блокнота первые наброски, стараюсь, чтобы в «пространстве глав» обязательно оставались свободные места – для того, чтобы записывать мысли, которые придут в голову уже по ходу дела. Работаю только карандашом – в этом случае есть постоянная возможность стирать ластиком то, что кажется впоследствии неважным, ненужным.
Итак, план начертан (я имею привычку пришпиливать его на обои в комнате). Затем со всех сторон он обрастает листочками клейкой бумаги, на которые продолжаю время от времени заносить обрывки разговоров, действия, характеристики героев, их реплики и проч. Как правило, листочков вскоре становится настолько много, что стена начинает «пестреть». Одновременно с этим от блокнота тоже не отказываюсь: в маршрутке, в метро, в офисах и в любых других местах продолжают приходить связанные с будущей повестью мысли.
Все это – подготовительный труд, на который уходит от месяца до полугода.
Наконец что-то внутри сообщает – пора садиться за стол. Тогда включаю ноутбук и приступаю к основной работе, то есть «связываю» сюжет, вношу в него со стены и из блокнота то, что наработал ранее, и щедро дополняю приходящими уже за рабочим столом мыслями. Конечно, многое меняется и переосмысливается. Прилетают в голову новые сравнения, убирается то, что раньше казалось важным, начинается бесконечное подыскивание метафор и замена одних слов другими, то есть происходят уже дела рутинные, знакомые каждому литератору.
Особое внимание всегда уделяю началу текста. Начало текста – визитная карточка автора. Несколькими первыми предложениями (а иногда и одним только первым) литератор должен непременно заинтересовать читателя, иначе тот закроет книгу. Начало текста должно быть непременно совершенным, емким, оригинальным – то есть затягивающим, ловящим «на крючок». Кстати, основываясь на своем редакторском опыте, осмелюсь заметить: если книга начинается с банальностей, с растянутости, с небрежности, то, как бы ее автор ни уверял меня, что на двадцатой-тридцатой странице непременно «будет интересно», я ему не поверю. И, как показала практика, окажусь прав. Напротив: если первое же предложение сразу поражает энергетикой, неожиданностью, новизной, пусть даже некой литературной наглостью – не важно чем, – автор моментально становится интересным. Великие это хорошо знали («Все смешалось в доме Облонских» и т. д.).
Но и в дальнейшем нельзя позволять себе «воды» в тексте. В идеале каждое слово должно быть совершенным «кирпичиком». Прежде всего, оно должно тщательно обтесываться, пригоняться, прежде чем окончательно встать на свое место в «стене».
«Воду» не люблю (Олеша, Добычин, Бабель – мои писатели.) Считаю: настоящий текст есть сжатая пружина. В процессе работы следует сжимать эту пружину как можно плотнее. Ничего лишнего, ничего постороннего. Если в одном предложении можно сказать то, что «развезено», к примеру, на целую страницу – оставляй только это предложение и смело вычеркивай всю страницу. В конечном счете не прогадаешь. Зная это, часто из нескольких своих ранее написанных страниц во время правки оставляю всего лишь абзац-другой.
Обидно выкидывать то, что оказалось ненужным? Обидно! Хочется оставить? Очень хочется. Но надо себя пересиливать – иначе вообще ничего не получится. Надо работать на целое – а для этого целого иногда жертвовать даже самыми, казалось бы, совершенными с литературной точки зрения частями. Конечно, уменьшается объем. Может уменьшиться и гонорар. Но либо литература, либо беллетристика.
Бывает, в процессе написания получается несколько вариантов одной и той же главы. Какой из них оставить – для меня всегда довольно мучительная задача. Даже выбрав, долгое время продолжаю сомневаться – а правильно ли сделал.
Теперь – о ритме.
Иногда какая-нибудь глава, на мой взгляд, выходит просто замечательной, но по ритму, именно по ритму, о котором я уже упоминал, она выбивается, не гармонирует с остальным текстом, несмотря на всю свою «замечательность». Тогда либо перерабатываю, либо вычеркиваю эту, казалось бы, самую дорогую, самую выстраданную мною главу, ибо по опыту знаю: оставишь пусть даже самый маленький, микроскопический, но выбивающийся из всего остального кусочек – и все остальное неизбежно развалится. Выдержать от начала и до конца один и тот же ритм – тяжелая задача, по крайней мере для меня. Но с ней надо справиться в первую очередь! Иногда мне приходилось переписывать вторую половину повести только из-за того, что она выбивалась из ритма первой половины, не гармонировала с ней именно ритмически. И вообще, когда перечитываю написанное и чувствую: ну вот, все вроде бы написано хорошо, все на своем месте, неплохие метафоры и т. д., – но что-то все равно не так (словно бы спотыкаюсь) – знаю наверняка: дело в ритме. Где-то незаметно для себя я с него сбился. Тогда начинаю искать – где. А когда нахожу, переделываю – то страницу, то две, а то и все пятнадцать. Литература сродни музыке. Я уверен: если у человека нет чувства ритма – хорошо писать он не сможет (кстати, если у него нет чувства юмора – с литературным творчеством тоже будут проблемы).
Особо много мучений с концовкой. «Конец – всему делу венец». На тысячу процентов верно! Довольно часто прихожу к выводу, что «ставить точку» следует иначе, чем хотел в самом начале работы. Тогда приходится несколько раз «компоновать текст» или вообще переписывать последние страницы.
«Концы» не всегда мне удаются, поэтому часто прибегаю к открытому финалу. Признаюсь: у меня есть всего лишь две-три вещи, в которых я полностью доволен «концами».
Вот, пожалуй, все.
В качестве «добавки»:
Как я писал роман «Танкист, или „Белый тигр“»
Иногда от замысла до воплощения проходит несколько лет. Начну с детства: насколько себя помню, всегда увлекался историей войн – привычке своей не изменил и в зрелости. Преподавая историю в Нахимовском училище, с целью хоть как-то увлечь нахимовцев прошлым России, предложил им собирать модели образцов военной техники. Предложение получило одобрение со стороны подопечных. Кто-то взялся за самолеты, кто-то за корабли, но большинство почему-то заинтересовалось танками Второй мировой. После занятий вечерами начиналась активная «клейка» танков, в которой и ваш покорный слуга принимал самое непосредственное участие. Подобное времяпровождение вскоре превратилось для меня в настоящее хобби. Тем более в 90-е годы в магазинах появилось огромное количество моделей немецких и советских машин, в том числе «тигров» и «тридцатьчетверок» различных модификаций, и стоило все это достаточно дешево, как говорится – клей не хочу. Одновременно с покупкой моделей я не скупился на книги по танкостроению, использованию танков в боевых условиях и т. д. и т. п. И надо сказать, за несколько лет собрал довольно обширную библиотеку. Так, постоянно читая и постоянно клея, вскоре довольно-таки поднаторел в специфических знаниях, касающихся танков Великой Отечественной, – что, думаю, неудивительно…
Однажды, собирая очередной «тигр», представил себе, как на Курской дуге из обуглившейся «тридцатьчетверки» достают чудом выжившего танкиста. Он начисто лишен памяти и забыл прошлое – но только имя чудовищного врага уже никогда не забудет. Этим врагом для него является проклятый «Белый тигр», неуловимый немецкий монстр, а вообще-то, порождение самого ада. Я увидел своего героя обожженным, страшным на вид человеком, которого все считают безумцем, но который научился разговаривать с танками и чувствовать их. Ему я противопоставил механическое чудовище, суперробота, инфернальное зло. Вспомнился «Моби Дик». Безумному капитану Ахаву противостоял чудо-юдо-кит. А моему безумному танкисту Ивану пусть противостоит не менее огромный и загадочный танк. И пусть, словно Ахав за китом, мой герой гоняется за тем танком по всем фронтам великой бойни. Так зародился замысел, и мне самому он понравился.
Кое-какой литературный опыт за плечами подсказывал: все дело в символе. Удачный символ – девяносто девять процентов успеха. Есть еще одно условие, без которого нельзя писать книгу. Дело в том, что литература, какой бы сложной она ни была, всегда должна оперировать в категориальных парах-понятиях «добро – зло», «белое – черное»… И здесь все оказалось в порядке. Есть сгоревший и восставший из мертвых герой-танкист, есть его антипод – тот самый пресловутый нацистский танк. И символ, и категориальная пара были найдены. Теперь оставалось решать второстепенные, но не менее важные задачи. Захотелось создать именно сагу о войне, легенду (наподобие «легенды о Тиле» или о Моби Дике), и обильно насытить ее мистикой. А сага и миф в истории всегда переплетаются с действительностью. Вот почему я, не дрогнув ни единым мускулом, решил «вклеить» Ваньку и «тигра» в реальные события Второй мировой. Здесь пригодились и книги, и интернет. Исторические знания всегда тем хороши, что ими можно щедро насытить любое повествование, а уж что касается «Белого тигра» – тут сам Бог велел: в ход пошли воспоминания ветеранов, которые я приспосабливал к тексту, тактико-технические данные техники, нашей и немецкой, сведения о тактике и стратегии применения танковых масс и так далее и тому подобное, благо все это было под рукой (исторической и мемуарной литературой сейчас наводнены прилавки всех книжных магазинов)… Что касается сверхъестественных способностей Ваньки и «танка», конечно же, мои главные герои на протяжении всей книги неустанно демонстрировали все качества сказочных персонажей – были неуязвимы для пуль и снарядов, перелетали по воздуху, эпически сражались (с утра до ночи) и вообще совершали массу вещей, неподвластных простым смертным (поэтому позднее забавно было выслушивать негодование некоторых критиков о том, что «подобного быть не могло», что «автор все наврал» и прочее).
Таким образом, что касается источников, окружавших меня в огромном количестве, – я не стеснялся компилировать – и брал, брал, брал – можно сказать, черпал горстями информацию, насыщая данными свое повествование о Безумном Ваньке и о его охоте. Вымысел я постоянно щедрым слоем «намазывал» на правду, постоянно сталкивая Ваньку и «тигра» с такими историческими персонажами, как Жуков, Катуков и Рыбалко, неустанно помещая героев в центр реальных сражений на реальных фронтах Великой Отечественной, отдавая себе полный отчет в том, что пишу легенду, а не исторический очерк – следовательно, имею право на неостановимую выдумку, как имел на нее право Николай Лесков, когда писал «Левшу», или Андрей Платонов, первым подошедший к теме Отечественной войны с точки зрения былины, легенды, мифа и попытавшийся создать именно былинного персонажа в своих военных рассказах (и, увы, многими тогда не понятый!). Кроме Ваньки и «тигра», я постарался создать еще несколько символов. Так, экипаж героя состоял у меня из духов войны. Заряжающий Бердыев – дух пьянства, без которого ни одна война в истории человечества не обходится. А наводчик Крюк – дух откровенного мародерства и насилия – тоже постоянных спутников любой катастрофы. Таким образом, и Ванька, и его экипаж, ко всему прочему, виделись мне еще и этакими всадниками Апокалипсиса.
Конец романа сделал открытым. Война завершилась, однако «тигр» остается. Ванька продолжает охоту, выходя уже за «исторические рамки» повествования и вслед за своим врагом перемещаясь в иные, мистические сферы вечного бытия (можно сказать, на небо), в котором до Второго пришествия будет идти непрекращающаяся битва добра со злом.
Лихорадочная работа с текстом продолжалась чуть более года. Не скрою – мне был крайне интересен опыт перенесения эпоса на события Великой Отечественной, опыт создания легенды о бессмертном танкисте и его не менее бессмертном (как, увы, и сама война) механическом противнике. В жертву этому замыслу и были принесены многочисленные исторические труды, которые я использовал для написания «Белого тигра», создав из них своеобразный микс, симбиоз из правды и вымысла. Что получилось в итоге, конечно, судить не мне…
Алексей Варламов. Улица свободы
Я стал писать благодаря своей бабушке Марии Анемподистовне Мясоедовой. Как у многих русских женщин двадцатого века, у нее была фантастическая, тяжелейшая и прекрасная судьба, которая сама по себе есть роман. Внучка богатого купца-мукомола, которого до сих пор чтут и помнят в Твери, его богатейшая наследница, ограбленная революцией, но никогда о ней не жалевшая и советскую власть не осуждавшая, умная, замечательно образованная, в одиночку вырастившая троих детей и чего только не испытавшая на своем веку, она писала любительские стихи и рассказы и несла в себе тот писательский ген, который – мне хотелось бы в это верить – передался одному из ее шести внуков. Больше того, я имею некоторые основания полагать, что Мария Анемподистовна сама этому посодействовала. Во всяком случае, самое первое воспоминание моего младенчества – это то, как бабушка носит меня на руках по двухкомнатной квартире на Автозаводской улице на рабочей окраине Москвы и показывает огромный мир внутри дома и за его пределами, пробуждая любопытство и внимание к подробностям бытия. Мне кажется, я тянулся не к погремушкам над кроваткой, а к далеким предметам. И одним из них, самым важным со временем стала немецкая пишущая машинка «Torpedo» с красивыми круглыми клавишами, на которой бабушка иногда разрешала мне печатать. Каким удивительным, чудесным казался мне этот процесс! Буквы, которые я с таким трудом учился писать, получались благодаря бабушкиной машинке идеально ровными – надо было только не ошибиться с клавишей, но сама по себе возможность что-то не написать рукой, а напечатать таинственным образом приближала к литературе, к журналу, к книге и превращала меня в автора. Позднее я почти всегда печатал свои тексты на машинке, а не писал от руки, по той причине, что не мог разобрать собственного почерка, рука не поспевала угнаться за мыслью, а на машинке, хоть и мазал в угаре по клавишам, все-таки разобрать текст и работать с ним было легче.
Когда я еще подрос, бабушка, намеренно или нет, принялась рассказывать мне многое из своей жизни, о чем, конечно, смогла бы гораздо лучше написать сама, но у нее не было времени всерьез литературой заниматься, и все это ею пережитое досталось мне в качестве драгоценного наследства, которым я, как умел, принялся распоряжаться, и многое в моей первой прозе было связано с ней. В ее судьбе было много загадочного, непонятного, того, что она по разным причинам недоговаривала, не рассказывала, не желая портить маленькому мальчику благополучную советскую картину мира, и многие вещи мне приходилось потом уже выяснять у ее сыновей, моих дядьев, ее дочери – моей матушки, либо додумывать, но, помимо собственной семейной саги, она в каком-то смысле подарила и открыла передо мной весь двадцатый век, чьей ровесницей была. Много лет спустя, когда я стал писать книги для серии «ЖЗЛ», я писал именно о веке двадцатом и не ходил дальше и глубже в историю, потому что этот век благодаря бабушке я осязал, а девятнадцатый – уже нет.
Но это случилось позднее, пока же в шестидесятые и семидесятые я жил обычной жизнью советского ребенка – детский садик, двор, стадион (как и машинка, он назывался «Торпедо»), окружная железная дорога, трубы теплоэлектроцентрали, завод «ЗИЛ», бассейн, Дворец пионеров на Ленинских горах, английская спецшкола с ее полицейскими порядками, вольный университет, картошка в совхозе «Клеменьево», дачный участок под Москвой в Купавне близ Бисерова озера, звезды, ужение рыбы, велосипед, узкоколейка, ведущая к карьеру, заброшенный храм в Кудинове, весенний лес, половодье; однако самым главным в моей жизни была жажда покинуть этот тесный мирок и увидеть мир огромный. То было целью, литература оказалась средством. Она разламывала стены, границы, перегородки между людьми, временами, странами и городами. Чтение и правда стало моим любимым занятием и не то чтобы потеснило реальную жизнь, но сделалось ее частью. И чтение же подхлестывало жажду писать самому. Я начинал с того, что выдумывал разные истории по дороге в школу, по дороге на дачу или на каток, потому что просто идти и глазеть по сторонам без книги в руках мне было скучно, а вот рассказывать что-то самому себе – интересно. Это были непонятные мне до сих пор мыслительные, душевные процессы, бесконечные внутренние потоки переживаний, реальных и мнимых страхов, комплексов, немоты, сумятицы, неясных мечтаний, желаний, снов (я всю свою жизнь каждую без исключения ночь вижу очень яркие, подробные, запоминающиеся сны), бессознательных молитв, которые просились в слово.
Впрочем, первое, что я написал, было продолжением трилогии Николая Носова о Незнайке. Мне было так жалко, что она закончилась, и я принялся сочинять продолжение «Незнайка на Марсе» в общей тетрадке за 48 копеек. (Значит, машинка была все-таки позже.) На обложке написал имя автора, страну СССР и год тысяча девятьсот семьдесят второй. Мне было тогда девять лет. Моим первым и единственным читателем стала соседка по парте Ирочка Шуваева, обнаружившая на страницах моего сиквела несметное количество грамматических ошибок, а обо всем прочем ничего не сказавшая.
Напечатался же я в первый раз в двадцать четыре года в двенадцатом номере журнала «Октябрь» за 1987 год. Я закончил незадолго до этого филфак МГУ, так и не разобравшись до сих пор, правильным или нет было это образование, но на факультете мне училось хорошо, интересно, радостно. Про Литинститут я не думал – он казался мне недосягаемым. Однако литература все больше влекла, еще на первом курсе я написал ужасный «антисоветский» роман под названием «Дачные страсти», притом что мое «бунтарство» никогда не доходило до диссидентства, однако читать самиздат, ругать власть считалась в той среде, где я вращался, хорошим тоном, а быть активистом, делать карьеру, вступать в партию – дурным. Потом я стал сочинять рассказы и почувствовал острую потребность с кем-то всем этим богатством поделиться из людей опытных, компетентных. Сначала душил по углам своих университетских друзей и охмурял в съемной квартире № 50 в Теплом Стане литературой будущую жену, а потом оказался на улице Писемского в литобъединении при Московской писательской организации. Вел его совершенно неизвестный мне прозаик Федор Колунцев – тбилисский армянин, чье настоящее имя было Тадэос Ависович Бархадурян. (Любопытства ради я взял в библиотеке несколько его книг и обнаружил, что они были очень хороши, но большой славы Колунцев не снискал, и это стало одним из моих первых литературных открытий и разочарований – как несправедлива, однако, бывает писательская судьба!)
Его студийцами, хотя это слово мы не использовали, были человек двадцать парней – литература тогда была еще преимущественно делом мужским, – каждый из которых, вероятно, считал себя если не гением, то литературно очень и очень одаренным, всех остальных графоманами, и громили мы друг друга, изничтожали по-страшному. Колунцев за этим мордобоем следил, никого из критиков никогда не перебивая и запрещая творцам во время обсуждений защищаться и твердить, что все кругом уроды и их не так поняли. «Вы уже все сказали», – объяснял он обсуждаемому избраннику, а потом недолго и тактично говорил сам, давая очень точные оценки нашим опусам, иногда, правда, выходил из себя и тоже ругался, много курил, рассказывал про свои поездки в Югославию и Испанию, – в общем, это было полезно, здорово, волнительно, а главное, готовило к будущей литературной жизни. (Когда потом меня долбала критика и так чесались руки ответить, я всегда вспоминал Колунцева и его уроки.) Продолжалось наше молодое писательское счастье года два, а в 1988-м Федор Ависович умер, и некоторое время занятия вел прославившийся после публикации «Тучки» Анатолий Приставкин, но, как это бывает, хороший писатель и хороший мастер не всегда совпадают, да и у Приставкина были куда более важные дела и заботы, чем молодые, честолюбивые оглоеды. Студия вскоре развалилась, вслед за ней развалился Советский Союз, ну и вместе с ним Союз писателей СССР, куда я не успел вступить.
И все-таки чуточку советским писателем я побывал. За свой первый трехстраничный рассказ «Тараканы», написанный в один присест, я получил 180 рублей – больше, чем зарабатывал в университете за целый месяц, преподавая русский язык иностранцам. Получил и подумал: а сколько ж тогда платят за повесть, за роман? Конечно, это были не главные мысли, я был так счастлив самим фактом публикации, тем более что в ту пору начинающим авторам пробиться в толстые журналы было делом немыслимым – все они печатали «возвращенную литературу», и для текущей места было в обрез даже для писателей с именем. Так что «Октябрю», который традиционно отдавал последний номер года молодым, я бесконечно обязан. Потом я успел еще издать первую книжечку (тиражом семьдесят пять тысяч), побывать на совещании молодых писателей в Подмосковье, которые устраивал комсомол, и на союзписательском семинаре в Пицунде, но в конце восьмидесятых это был уже сплошной разброд и шатание. В литературе все резче шло деление на правых и левых, толстые и тонкие журналы ругались друг с другом, все кричали, никто никого не слушал, рушились старинные писательские дружбы, сыпались взаимные обвинения, подписывались коллективные письма протеста, и, казалось, весь литературный мир превратился в драчливое литобъединение на улице Писемского.
Я был по своим взглядам ближе к почвенникам, мне нравилась деревенская проза, которую я как-то не оценил, учась в университете и предпочитая тогда западных авторов, но теперь Белов, Распутин, Астафьев сделались моими кумирами. Но – не Бондарев, например. Не Проскурин. Не Проханов. Приобретенный в молодости на семинарах по марксистко-ленинской философии антикоммунизм был во мне стоек, и я не мог забыть, как ходил по Садовому кольцу и упоенно орал «Долой КПСС!» в перестройку и как потом был счастлив, что советская система рухнула и в августе девяносто первого ничего у коммуняк не получилось. Само слово «советский» было для меня ругательным в противовес слову «русский». Позднее моим любимейшим и самым близким по духу писателем станет Леонид Бородин, отсидевший за свои русские, антисоветские убеждения много лет в брежневских и андроповских тюрьмах.
Девяностые были, наверное, самыми трудными, важными и прекрасными в моей жизни. Я их ненавидел и любил, у меня многое получалось, но еще больше – не получалось, я был уже женат, однако жили мы довольно скудно, и я чувствовал себя обманутым, проигравшим, тем более что почти все мои друзья-филологи ушли из профессии и занимались кто чем: торговали недвижимостью, туристическими поездками, мебелью, они разбогатели, поднялись, а кто был я? Прозаик. Про заек, как тогда острили. Я получал гроши за свои повести и романы, пусть даже они печатались в самых лучших толстых журналах, и к «Октябрю» прибавилось «Знамя», а потом «Новый мир», «Грани» – несмотря на мое почвенничество, меня печатали журналы преимущественно либеральные. У меня выходили книжки, конечно, не такими большими тиражами, как самая первая, но все же выходили. Потихоньку что-то переводилось на другие языки, моя литературная судьба складывалась как будто удачно, а между тем порой не хватало денег на фрукты детям, и я понимал, что делаю не то.
Конечно, мы не голодали, не нищенствовали в прямом смысле слова, мы не пережили в Москве то, что испытали бывшие подданные советской империи на ее окраинах. У нас была, по выражению одного моего доброго друга, «опрятная бедность», но по-человечески, по-мужски я ощущал свою несостоятельность из-за того, что не могу поехать с семьей никуда, кроме дачного участка под Москвой, и все лето вынужден вкалывать на огороде, чтобы зимой было что есть, а в оставшееся от прополки, окучивания, сбора урожая и консервирования время дотемна тюкать одним пальцем на красной югославской машинке «Unis» (я купил ее на свою первую зарплату вместо пришедшей в негодность «Торпеды», а народ уже постепенно переходил на компьютеры) не приносящую доходов прозу. Я недаром назвал свой первый роман «Лох» – словом, которое тогда только вошло в употребление, но лишь годы спустя понял, что по большому счету мои летние трудодни и трудоночи были тем счастьем, которое не чувствуешь, покуда оно есть, а ощущаешь только в воспоминаниях…
Впрочем, иногда судьба становилась ко мне благосклонней. Так, в самом конце 1995 года мне позвонили из «Независимой газеты» и попросили приехать. Ни о чем не подозревая, я добрался до Мясницкой по давно пробитому трамвайному талону, больше всего на свете опасаясь контролеров. В редакции меня завели в небольшую комнату и с таинственным видом протянули листок бумаги. В нем было написано, что накануне состоялось заседание жюри вновь учрежденной премии «Антибукер» за лучшее прозаическое произведение года и таковым была признана моя повесть «Рождение». А еще там было сказано, что победитель получит двенадцать тысяч пятьсот один доллар (на один больше, чем лауреаты «Букера», в пику которому эта премия была учреждена).
Это могло быть только розыгрышем и ничем иным. До этого я не держал в руках ни одного доллара. Первый получил 21 декабря 1995-го, то есть аккурат в день рождения Сталина, в клубе миллионеров на Большой Коммунистической улице. Зеленую купюру с хитроумным Джорджем Вашингтоном на лицевой стороне и пирамидой с масонским оком на обороте мне вручил председатель жюри, главред «Независимой газеты» Виталий Третьяков и отправил домой в Тушино на своей служебной машине, чтобы никто не позарился на остальные деньги. Но денег-то как раз и не было, вместо них я мог любоваться тощим конвертом и вложенным в него листочком, где было написано: по поводу получения остальной части премии позвонить по телефону такому-то.
И я стал звонить. Позвоните завтра, позвоните послезавтра, через три дня, после Нового года… Все мои знакомые молодые литераторы, люди в высшей степени доброжелательные и незлобивые, уверяли меня в том, что никаких денег я не получу. В газете прописали, по телику показали, церемонию в клубе миллионеров устроили, чего тебе еще, парень, надо? Я, честно говоря, тоже так подумал и даже как-то смирился. Но однажды поздним январским вечером у меня зазвонил телефон.
– Через двадцать минут выходите на угол Малой Набережной и улицы Свободы к Восточному мосту.
– А вы зво…
– Из машины.
На улице было темно и холодно. Проклятые девяностые царили на улице Свободы. Из машин в те времена позвонить было невозможно. Тем не менее мы с женой двинулись вдоль замерзшего отводного канала в нашем богоспасаемом Тушине. Мело, и не было вокруг ни души, только редкие автомобили и заблудившиеся трамваи переезжали через Восточный мост. А мы стояли и стояли, заметенные снегом, покуда черная шикарная иномарка не притормозила возле нас. Из нее выскочил невзрачный человечек в костюме и быстро сунул мне в руки небольшую подарочную сумочку. Ни фамилии, ни паспорта он не спрашивал, ни в какой ведомости я не расписывался. Машина газанула в сторону области, а мы двое, тихие и ошеломленные, не оборачиваясь, не оглядываясь по сторонам и не говоря друг другу ни слова, быстрым шагом пошли к дому, опасаясь того, что в проходных дворах на нас кто-нибудь нападет и отнимет то ли деньги, то ли «куклу». Но все кончилось благополучно: дома мы открыли пакет, в котором лежало двенадцать с половиной тыщ баксов сотенными бумажками.
Кончились они, правда, ох как скоро…
Я хотел быть писателем и ни на что больше не отвлекаться, но позволить себе этого не мог и продолжал работать в университете, защитил диссертацию, сначала кандидатскую, а потом докторскую, хотя, конечно, по большому счету это были не научные труды, а развернутые эссе на заданную тему, так что никаким ученым-литературоведом, доктором наук я себя не считал и не считаю и настоящего литературоведения боюсь и избегаю. Главным аргументом заняться наукой стали для меня даже не столько соображения карьеры, сколько свободное время – преподавать русский язык любознательным иностранцам мне поднадоело. А тут три года аспирантуры, а потом через некоторое время два – докторантуры. Написавший к тому моменту четыре романа, я справился с диссертациями довольно легко – их и вправду было писать намного проще, чем прозу. А свободой времени замечательно воспользовался.
Еще в самом начале девяностых после смерти отца у меня осталось небольшое наследство, и до гайдаровской реформы я успел купить на эти деньги избу-пятистенок на севере Вологодской области в среднем течении речки Вожеги. Это было чудесное место, и сколько же замечательных дней и недель я там провел, бродя по озерам, болотцам и лесам, скольких удивительных людей повстречал, сколько всего узнал, открыл, сколько насобирал на болотах клюквы и наловил окуней в Вожеге, а потом описывал эту местность и ее насельников в рассказах «Галаша» (это была моя первая новомирская публикация в 1992 году, и я ей страшно гордился!), «Старое» и в двух повестях, позднее опубликованных также «Новым миром», – «Дом в деревне» и «Падчевары». Последнее слово – топоним, название куста деревень, или волости, как поправил меня однажды Василий Белов.
Падчевары находились недалеко от беловской Тимонихи, и мне ужасно хотелось узнать, что бы сказал Василий Иванович, если бы ему довелось прочитать мои сочинения на деревенскую тему. Тем более что он для меня был самым дорогим среди всех деревенщиков. Не знаю почему. Я не все принимал в его публицистике и не разделял во всем его взгляды, но я всегда интуитивно чувствовал: куда бы безоглядного Белова ни заносило, он никогда, в отличие от многих писателей-патриотов, с которыми сталкивала меня судьба, не ловил рыбу в мутной воде, не искал личной выгоды и был бесконечно честен. Суров, упрям, сердит, запальчив, политнекорректен, но – неизменно благороден. И мне его мнение, мое беззаконное вступление на его территорию – горожанин, москвич, написавший повесть о его краях, его героях, его природе, что-то вроде моего деревенского ответа на его городской роман «Все впереди» – было особенно важно.
Случай представился в двухтысячном году, когда меня пригласили в Вологду поучаствовать в семинаре молодых писателей. Одним из руководителей семинара был Белов. Я подарил ему новомирскую книжку, где был напечатан «Дом в деревне», ожидая, что когда-нибудь услышу от него несколько дежурных слов, но уже на следующий день Василий Иванович вернул мне журнал, исчерканный его карандашом. Замечания были едва ли не на каждой странице – критические, одобрительные, придирчивые, возмущенные («Зачем нагнетать? Куда смотрел Залыгин?!»), но с очень лестным для меня выводом, который я не удержусь и впервые приведу: «Превосходная повесть! Если б еще не документализм, от коего подлинному художнику надо бежать как от чумы… Все равно, в „Н. м.“ вряд ли было что-то более значительное за последние годы на тему о крестьянстве, следовательно, о России. Белов. 3 декабря 2000».
С Беловым же была связана еще одна совершенно мистическая история. В 2002 году, когда ему исполнилось 70 лет, я хотел написать Василию Ивановичу письмо, поздравить, поблагодарить, сказать, как его люблю. Но – не написал, замотался, не знал адреса, и все продуманные слова так и остались невысказанными. Прошло еще несколько лет, и я снова увидел Василия Ивановича в Москве, в атриуме Большого театра, где ему вручали премию «Ясная Поляна». Подошел, поздравил его, уверенный, что он меня давно позабыл, но Белов глянул из-под седых бровей строгими колючими глазами:
– Спасибо вам за письмо.
И я так и не понял, прозвучала в его голосе укоризна или благодарность.
…А от художественной прозы я на несколько времени отошел, и как раз в сторону нелюбимого Беловым[1] документализма. Я защитил докторскую диссертацию по дневникам Пришвина, которые поразили меня не только тем, что совершенно меняли мои представления об их авторе как исключительно о певце русской природы, но и многое проясняли во взгляде на русскую, советскую историю двадцатого века, а следовательно, и на жизнь моей бабушки тоже. И именно Пришвин стал моим первым героем в серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвардия». Я писал эту книгу как монографию, для того чтобы защититься, и собирался поставить на этой работе точку, превращаться в жизнеописателя, в серийного автора-маньяка никакой охоты у меня не было. Но мой роман с биографиями затянулся. Случилось так, что в 2003 году я уехал на два года в командировку в Словакию преподавать русскую литературу. Там было очень хорошо: небольшой красивый город с труднопроизносимым названием Трнава, горы, пещеры, термальные воды, бассейн, футбол, много свободного времени – в общем, что называется – пиши не хочу, но я вдруг почувствовал, что у меня проза не идет, не пишется. А время чем-то занимать надо было. И тогда я предложил «Молодой гвардии» написать еще какую-нибудь биографию. Например, Паустовского, который мне с детства нравился и всегда казался очень интересным человеком.
– Нет, Паустовский после Пришвина – это банально, – сказал Андрей Витальевич Петров (главный редактор). – Вы лучше напишите нам про Грина. Или про Алексея Толстого.
Я был к обоим ну если не равнодушен, то спокоен. Читал, как и все в юности, «Алые паруса», читал «Петра», «Хождение по мукам», «Буратино». Но за работу взялся, потому что профессия обязывает (я именно в этот момент почувствовал, что писательство – это профессия), и это оказалось захватывающее занятие! И оба моих героя получились вдруг совсем не такими, как я себе представлял. Собственно, это открытие, переворот, погружение в чужую жизнь, растворение в ней, следование за мыслями и поступками живших столетие назад людей вышли не менее увлекательными, чем сочинительство в чистом виде. Единственная сложность состояла в том, что я обретался в Трнаве, а архивы были в Москве, и мне приходилось мотаться туда-сюда, набирать в РГАЛИ материалы, а потом возвращаться в Словакию писать. Денег на самолет не было, и я ехал на электричке сквозь Татры через всю страну, потом пешком переходил границу с Украиной в Ужгороде и дальше уже трясся в течение полутора суток по бывшему СССР. Граница между Россией и Украиной, где нас будили и заставляли показывать паспорта, казалась совершенной нелепостью, временным недоразумением. А я все больше и больше входил во вкус документальной прозы, в каком-то смысле «подсел» на нее и вслед за этим, уже вернувшись в Москву, написал биографию Булгакова, Андрея Платонова, а потом Василия Шукшина. И одну не совсем писательскую – Григория Распутина.
О каждой из этих жэзээловских книг (всего их получилось семь) я могу рассказывать бесконечно долго, о том, как они создавались, почему именно эти герои, почему в такой последовательности, кто из них мне ближе, кто дальше, кто помогал о себе писать, а кто – нет, этот опыт был для меня чрезвычайно важен, потому что он научил меня очень существенным вещам. Во-первых, героев не только что судить нельзя, но их надо обязательно полюбить. Может быть, не в начале книги, но совершенно точно в конце. Если не полюбил, значит проиграл, значит ничего у тебя не получилось. Только полюбить надо честно, по-шукшински, ничего не скрывая, не затеняя, а – любя неправых. И второе: когда пишешь книгу и, естественно, опираешься на документы – дневники, письма, автобиографическую прозу, мемуары, – ничему не верь. Врут все. Врут намеренно или по забывчивости, создают мифы или уводят от правды, но твоя задача – бережно, нежно распутывать этот клубок, разбирать тончайшие нити и наслоения и пытаться запеленговать, запечатлеть мерцающий свет ускользающей истины. Возможно, именно эта жажда докопаться до сути, понять через писательские судьбы что-то важное про собственную страну, ее историю, ее семейные тайны и родовые травмы и удерживало меня так долго на этом историческом поле и не отпускает до сих пор.
Одним из самых неожиданных и радостных последствий этой работы стал звонок Солженицына весной 2006 года, в Прощеное воскресенье, когда Александр Исаевич сообщил о том, что мне присуждена созданная им литературная премия с формулировкой «за тонкое исслеживание[2] в художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в жанре писательских биографий». Удивительно здесь было то, что Солженицыну неожиданно понравилась моя книга об Алексее Толстом, о котором сам Александр Исаевич написал довольно резкий, по большому счету справедливый, хотя все-таки и несколько сужающий образ главного героя рассказ «Абрикосовое варенье». Я же своей книгой пытался показать, что Толстой был сложнее, богаче, шире, неоднозначнее, и Солженицын, как мне кажется, косвенно мою правоту признал. И еще одно любопытное обстоятельство, с солженицынским рассказом связанное. Действие в нем происходит в конце тридцатых, когда Толстой был женат четвертый раз, но жена писателя в «Абрикосовом варенье» не участвует, про нее сказано лишь то, что ее не было дома. Этот жест, эта фигура умолчания мне кажется глубоко неслучайной: в середине 1960-х, когда началась травля Солженицына, Людмила Ильинична Толстая предлагала автору «Одного дня Ивана Денисовича» поселиться на даче Алексея Толстого в Барвихе и поработать за его столом. Александр Исаевич от приглашения уклонился, но вдову в своем рассказе «пощадил».
Я писал биографии, меня называли профессиональным биографом, кто-то с похвалой, а кто-то осуждающе, но я чувствовал, что эта тема истончается, и подспудно во мне зрел замысел романа, в котором можно было позволить себе то, что невозможно, с моей точки зрения, в документальной прозе: диалог, пейзаж, описание погоды, вымысел, свой личный взгляд на вещи. Так я стал сочинять роман, который впоследствии получил название «Мысленный волк», хотя оно родилось не сразу и образ этого «зверя из бездны» возник уже в ходе работы над романом. Я очень хорошо помню, как все начиналось. Было душное, безумное лето 2010 года, даже в ста километрах от Москвы под Рузой в лесном домике, где я сочинял первые страницы романа, не зная, куда заведет меня сюжет, пахло гарью, а я писал про лето 1914 года, когда Россия находилась на пороге войны. Писал о далеком, казалось бы, прошлом, и трудно было поверить, что его призрак вернется и слова одного из моих героев о том, что Россию окружают враги и она должна уйти из мира, потому что мир не прав, а она – права, странным образом отзовутся несколько лет спустя.
Вскоре после выхода романа мне позвонил режиссер Владимир Хотиненко и предложил снять по «Мысленному волку» фильм. У него был замечательный замысел, он очень тонко понял мою книгу и нашел опорные точки, которые могли бы лечь в основу сценария, но, к сожалению, картина выходила очень дорогой, дело застопорилось, и кино пока что так и не сняли.
А в моей жизни случилась еще одна перемена – в 2014 году мне предложили стать ректором Литературного института, где я уже работал восемь лет, вел семинар прозы, опять-таки с благодарностью вспоминая Колунцева и его наставления. Но ректорство? Это было очень неожиданное предложение. До того момента я никогда никем не руководил (и очень не любил, когда пытались руководить мной), если не считать журнала «Литературная учеба», но это совершенно особенная история, и потом там я не отвечал ни за финансы, ни за кадры, а занимался только журналом[3]. Теперь же мне предстояло совсем иное. Я колебался. Но Литинститут мне нравился. Многие из моих друзей в писательской среде вышли оттуда, и мне было симпатично их особенное писательское сообщество. К тому же я давно полюбил старинную усадьбу в самом центре Москвы, ее дворик, большие деревья, историю, мифы, тени прошлого. Я рассуждал так: конечно, я могу отказаться и написать еще одну биографию или роман, но это в моей жизни уже было. А ректорства не было. Мне показалось это вызовом, приключением, авантюрой с неизвестным исходом, но даже если я об этом пожалею, то лучше жалеть о том, что произошло, нежели о том, чего не было. И я – рискнул.
Первые недели, месяцы были кошмарными. Я просыпался в холодном поту ночами, приходил на работу напряженный, внутренне растерянный и злой, ощущая себя самозванцем, я не умел и не понимал ничего, на меня обрушилось сразу столько нового и неизвестного, что казалось, оно придавит меня своей глыбой, да еще надо было думать про реконструкцию здания, общежитие, столовую и кучу других вещей, о которых я прежде не имел никакого понятия. Но мир не без добрых людей, я встретил в Лите хороших, надежных товарищей, без которых у меня ничего не получилось бы. И не получилось бы выкроить время, чтобы написать последний (крайний) на сегодняшний день роман, относящийся к временам моей университетской юности. Я хотел назвать его «Глокая куздра», но в издательстве название отклонили. Так появилось другое – «Душа моя Павел». В чем-то оно перекликается с моей давней, опубликованной четверть века назад в «Знамени» студенческой повестью «Здравствуй, князь!». И там, и там в названии – Пушкин.
Этот роман для меня что-то вроде прощания с университетом, откуда мне психологически очень трудно было уходить. Я всегда считал себя университетским человеком, и, хотя мне не раз предлагали работу в редакциях, в издательствах, я не мог переступить через эту черту, однако, как мне кажется, именно написав эту книгу, поставил в своих отношениях с альма-матер благодарную точку.
Чем дальше живу, тем меньше склонен ругать – прошлое ли, настоящее ли, будущее, патриотов, либералов, государственников и выяснять, кто из них лучше, а кто хуже, выставлять оценки историческим персонажам и периодам, да и современникам тоже. Россия – большая, история у нее долгая, пестрая, места и времени хватает всем, надо просто уметь говорить друг с другом, не лукавить, не искать врагов и не подозревать повсюду пятую колонну. А что написать про взгляд на искусство, я не знаю. Я равнодушен к теории, мне нет дела до разницы между модернизмом и постмодернизмом, постреализмом и новым реализмом, к которому меня иногда причисляют, я не люблю партийности и верю в писательское братство, хотя и понимаю, насколько индивидуален и одинок каждый из нас. Но когда мы собираемся каждый год в сентябре в Ясной Поляне и проводим вместе несколько замечательных дней, обсуждаем, спорим, вспоминаем, выпиваем, ходим по яснополянскому парку и смотрим на звезды, это дружество становится высшей реальностью.
В начале 1990-х, когда мой первый роман еще не был опубликован, его прочитал в рукописи Вадим Валерьянович Кожинов и пригласил меня к себе домой на Поварскую. Мы долго говорили на разные темы, и я помню, как среди прочего он сказал так: «Искусство – это не рассказ о жизни, это – жизнь, которая рассказывает о себе». Не знаю, насколько мне это удается, но я испытываю к литературе невероятную благодарность за ту жизнь, которую она мне подарила. За пережитое, увиденное, встреченное. За свою бабушку.
Михаил Веллер. За слова надо отвечать
Я начал писать в городе Ленинграде, и благодаря Ленинграду, и никуда уже от него не денусь. Произошло это на канале Грибоедова, угол Гривцова переулка, в средней школе № 253. Полгода я проучился там в пятом классе, а классной у нас была Надежда Александровна Кордобовская, и лучшей учительницы в жизни быть не может. Мы в ней души не чаяли, хулиганы и отличники, с ней жить лучше было, она умела каждому так показать лучшее в нем, что получивший кол за диктант мог заплакать от благодарности, что она в него верит и сегодня ошибок уже меньше. И Пушкина мы по малости лет учили из любви к ней, а не к Пушкину.
Читатель превращается в писателя постепенно, хотя скачок происходит сразу. Мое поколение росло на ясном перечне книг. Барто-Маршак-Михалков-Чуковский, Гайдар-Носов-Катаев, сказки всех народов мира и Джанни Родари с его классовой борьбой фруктов и овощей. То было время хороших книг! Классика еще жила и светила. Луи Буссенар, Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн – и в нарушение ряда ономастики кэптен Питер Блад. Дюма, Гюго, Диккенс и Джек Лондон входили в нас неким параллельным потоком, где никто никому не мешал.
Первой книгой, которую однажды утром в воскресенье я прочитал самостоятельно, был «Мальчиш-Кибальчиш». А первая прочитанная книга – это лишение литературной невинности; это отпечатывается навсегда; это немало задает вектор литературного мировоззрения. О нашем активном коммунистическом мировоззрении родное книгоиздание заботилось; хотя вышло из этого не то, на что они рассчитывали.
А Надежда Александровна наша, лит-ра и русск. яз., вдыхала в нас литературу как главное в жизни, Новый год был морозный, а на каникулы мы получили задание: написать стихотворение о зиме. О таких заданиях вспоминают только вечером накануне.
Я знал, что напишу это плевое стихотворение легко и быстро. И, сев за стол, придумал рифму «морозы – березы». Через час, ничего больше не придумав, я впал в панику от неожиданной и полной бездарности.
За окном, вдоль Садовой, с железным воем пикировщиков летели ночные трамваи. Родители не обращали на мои муки внимания, дед посмеивался, но спать меня не погнали. В два ночи, уплывая в витые дали, я домучил свой шедевр. Правда, в первой строфе было четыре строчки, во второй – пять, в третьей – шесть, а в четвертой – семь. Однако в этом безумье была своя система, согласитесь. Не все строчки рифмовались, но «дичи – добычи» я помню.
Если первым чувством от соприкосновения с творчеством явилось тоскливое бессилие, то вторым было чувство безысходного позора. Я нес свой позор в класс.
Вот с этого дна начался путь вверх. Во-первых, потому что положения ниже и провала полнее все равно уже быть не может. Со дна воронки любой путь ведет вверх. А во-вторых, кроме меня, никто в классе вообще ничего не стихосложил. Хотя клялись, что пробовали.
А пятых классов в том космически далеком 1959 году в нашей школе было пять, и в каждом – по 45–47 человек. Время было такое. Победители вернулись с войны и родили детей. И вот во всех пяти пятых классах наша Надежда Александровна читала мое, с позволения сказать, стихотворение. Как лучшее. И почти единственное. Там еще штуки две набралось, так они были вообще. Ну не Лицей. Что делать. Дворян нет.
Много лет спустя, вспоминая, я вдруг перевел свой успех в конкурсный формат и получил первое место из двухсот тридцати (выпуска кадетов Вест-Пойнта, как же). Навара нет, но осадок остался.
…И ты думаешь о будущем, прикидываешь, кем быть, и профессия писателя (потому что поэт – это слишком негарантированно оказалось) представляется подходящей. Вот Шолохов, говорят, много зарабатывает. Не надо каждый день вставать рано на работу. Слава. И за границу пускают. Определенно это хорошая профессия.
Ты еще не читал Достоевского и не знаешь, что любовь вспыхивает в сердце – а голова в это же время прикидывает социальное соответствие и размер приданого. Но когда голова обсчитывает и одобряет то, что сердцу хочется, – значит, желание искреннее. Не смейтесь над простодушным детством – его мудрые инстинкты не маскируются.
…Школьные стихи были отроческими виршами, а первый рассказ был классикой начинающего идиота. Я был круче Бухова. Главный герой был итальянец, и он приехал в Нью-Йорк чистить обувь, но прекрасную родину бросил, а миллионером не стал: тоскует страшно. В этом опусе было все, чего я не знал – то есть ничего я не знал; но книги читал и мнение о жизни имел. Много позже я понял причину типичности подобных литературных дебютов: автор нутром чует, что искусство должно отличаться от жизни, это жизнь трансформированная, условная. А как сделать – не знает. И идет по простейшему пути: действие происходит не здесь, не сейчас, не с нашими людьми.
А школу я кончил со своей золотой первым из опять двухсот тридцати же, но классов было уже не пять пятых, а три одиннадцатых и четыре десятых, и школа совсем другая совсем в другом городе. 1966-й год, двойной выпуск, очередная реформа, 1948–49 года рождения, демографический пик. И поступил на русское отделение филфака ЛГУ – исключительно и только сюда и хотел. На тот момент – я и сейчас полагаю – это было лучшее отделение русской филологии в мире. Конкурс у нас был четырнадцать на место, половина принятых – медалисты.
С чего я вообще это пишу? Кому нужны анкеты? Пройдет еще пять лет – и анкеты станут так нужны и важны, что важнее некуда. В школе моей последней мы учились по очень жесткой программе, и всех медалей с серебром было семь на двести тридцать рыл, плюс одну умную свезли в дурдом от переутомления. А на первом нашем филфаковском курсе, триста рыл стационара, я был один такой с нетитульной фамилией неприветствуемого образца. Евреев не брали. Идеологический факультет. Все объясняли: меня не примут. И однако.
Это я к тому, что когда потом меня десять лет закатывали в асфальт – вместе со всем поколением – я их всех в гробу видал. Я не считал их выше себя и не считал их вровень с собой. Весь их официально-редакторский, литературно-общественный и союз-писательско-кэгэбэшный государственный институт имени Игнатия Лойолы. Они были – тяжелая глина на сапогах, просто нужны терпение и силы пройти дорогу.
Литературных способностей, таланта – писателю мало. Нужна неколебимая вера в себя. Готовность пробить стену головой, и еще нужна уверенность, что ты ее пробьешь. Да и время было – по всем самодеятельностям только и читали: «Гвозди бы делать из этих людей». Ох нужно перед стартом ощутить ноздрей запах удачи – хоть раз. Потому что выжить в семидесятые годы тому, кто только входил – было практически невозможно.
Мы ездили в стройотряды на Мангышлак и Таймыр – и это давало характеру больше, чем чтение книг. Когда потом меня мотало по Союзу, по разным работам с разными людьми – тюрьма-то он был тюрьма, да стен за горизонтом не видно, – жизнь входит через ободранные бока, и внутри что-то затвердевает еще незнакомыми формами. И я часто думал потом, что не прошел бы я с гуртом весь скотоперегон от Монголии до Бийска, с мая до октября в седле по горам – не издать бы мне в Союзе книгу. Потому что только в работе с нормальными мужиками ты понял закон: «Не сдох? Ну так паши дальше, нормально».
В университете, общажными ночами с бутылками и свечой, мы соглашались, что писать надо только так, как никто еще не писал раньше. А потом ты много месяцев угрызаешься, что годы идут; а потом наконец садишься за стол, чтобы написать рассказ, какого никто никогда не писал. И тогда оказывается, что ты не только писать – ты и читать-то не умеешь. Вот тогда в четвертом часу ночи охватывает тихий ужас: неужели ты бездарь? и все надежды – пустые? и жизнь – псу под хвост, не будет у тебя ничего!..
Мне было двадцать пять лет, когда я начал читать всерьез. Такой умный, такой образованный, такой начитанный, ай-яй-яй, дурак дураком! Я начал читать не как просто читатель, и не как студент по программе, и даже не как журналист, пишущий рецензию. Я стал читать по слову, по словосочетанию, по обороту, по фразе. Пять, десять, пятнадцать минут на предложение, на короткий абзац. Прогревая текст внутри себя. Чтобы проступили невидимые швы между словами. Чтобы стали читаемы кусты опущенных смыслов и ассоциаций. Чтобы пытаться постичь законы прозосложения.
Боже, сколько гениев оказалось в мировой литературе! Как они были мудры, остроумны, блестящи; как замечательно, как невообразимо неожиданно и точно они умели стыковать слова!.. Что ты читал раньше, куда ты смотрел, хрен с тобой!.. И видишь благородную скупую изысканность «Хроники времен Карла IX» в переводе Кузмина, и мощь Бальзака в «Полковнике Шабере»… в общем, видишь все, что надо, и что мало кто видит на самом деле: потому что ты-то всерьез вознамерился писать так же, но иначе. Ты примеряешься к их фразам, ловишь в мозгу их интонацию.
А если ты хочешь писать короткую прозу – я сам для себя придумал это выражение году еще в 72-м, потому что все рамки и каноны рассказа были размыты совершенно – так ее же надо знать! Были чудные антологии американского рассказа, французской, австрийской, итальянской новеллы. Был полубезумный гений Эдгара По и непостижимый гений Акутагавы Рюноскэ. Был Амброз Бирс, Шервуд Андерсон и О. Генри, Бабель и Зощенко; Борхес еще не добрался до нас, но Юрий Казаков, Аксенов и Шукшин были на слуху; а вот книжки такой, учебника, курса лекций, единой антологии, семинара, – не было в природе. Фигня была разная, и той не много. К тридцати годам я был первым специалистом в мире по короткой прозе. Звучит скромно, но опровержения я пока по жизни не встречал.
Прав был Лем: чтобы проследить и открыть все истоки одного стихотворения поэта, придется исследовать и понять Вселенную. Сущность государства и взаимоотношения художника и власти – вечная тема. Застой семидесятых – огромная тема. Удушение советской литературы в застое – отдельная трагическая тема. Разбивание «молодых-начинающих» мордами об стену – тоже отдельная тема. Как объять необъятное, если его не хочется обнимать, а хочется проклясть и забыть?..
Я писал категорически «нестандартные» рассказы. По композиции, по устройству, по оборотам идеи – непривычные, неоднозначные, ни на кого и ни на что не похожие. И все они были разные. Какой смысл писать два, устроенных одинаково? Я был так девственно наивен, что ожидал редакторских фанфар: смотрите, что он нам принес! И одновременно знал, что новое поначалу обычно отвергают, понимание приходит не сразу. Терпения у меня было море, и упрямства тоже.
Кафку я не люблю, но он был гений. Советские редакторы 70-х оказались милейшие люди. Умные, образованные и доброжелательные. Вспомните мемуары Сансона: славный был человек, а палач – это просто работа.
«Застой» обозначал в литературе следующее. Во-первых, бюджет страны резали, и издательский пирог становился все меньше – а едоков с билетами Союза писателей СССР плодилось все больше: ряды уплотняли оборону, росла конкуренция на опубликование! Во-вторых, любой новый автор рассматривался как возможный источник неожиданных проблем: а вдруг родственник за границей, или негласные претензии КГБ, или задерживался милицией, или официально нигде не работает, или дружит с диссидентом – а в рукописи его скрытые намеки на наши недостатки. А уж укоренившийся член СП точно бенц закатит, если вместо него напечатать молодого.
Из этого следовало, что «самотек» самозваных рукописей сразу предназначался в отбой. Часть его отдавали для подкормки знакомым на рецензию: для того был фонд. Отказ писался, почти не читая, формы были: комплиментарная («хорошо, но, увы, не наша тема»), отшибная («большие недостатки»), советующая («а вы вот так улучшите»), покровительственная («печататься рано, автор в поиске»). А бо́льшая часть лежала, потом выкидывалась, нередко и возвращалась (на то были почтовые средства и ставка зав. редакцией).
«Мартин Иден» был знаковой книгой молодых. Слово «пробиться» не имело отношения к военной или горнорудной теме. Устойчивость на удар, выносливость на давление, стойкость к любым соблазнам и верность своему делу – были качеством необходимейшим и главнейшим. Без этого – литературные способности и амбиции вели к депрессии, алкоголизму, деградации и суициду.
Никто не сосчитает, сколько нас спилось, опустилось, сошло с круга, исчезло. Спивались неинтересно, неопрятно, истерично. Я помню «Сайгон» с его поэтами, гомосексуалистами, наркоманами и стукачами; еще пили кофе на втором этаже над кассами «Аэрофлота», Невский угол Герцена. И Конференции молодых писателей Северо-Запада помню: это была защитная псевдодеятельность отделов культуры и пис. организаций по нейтрализации молодых и сливе их в слепое русло. И самое высокопоставленное ЛИТО города – студию рассказа при журнале «Звезда»: там прощупывали тридцатипятилетних «молодых» перед впуском в литературно-публикабельную жизнь; и как там разнесли отличную повесть Бори Дышленко «Пять углов»: почуяли запах некоммунистического мировоззрения.
А вот богемной жизнью я не жил совсем. Во-первых, меня интересовал только уровень шедевров. Во-вторых, меня не интересовало жаловаться и читать друг друга: «внутрилитературной жизни» я не понимал. В-третьих, меня интересовали публикации и общее признание, а ничьи личные мнения были вообще не нужны. И в-четвертых, я жил с осени до весны на пятьдесят копеек в день, редко на рубль, летние заработки всегда пролетали быстро, пить на халяву неизвестно с кем и зачем я не мог.
Это уже срабатывал инстинкт. Я мог быть последним неудачником – но я не мог войти в клан неудачников. Один – я делал что хотел. Социальная группа – это уже признание своего статуса и судьбы. Это признание своего сегодняшнего положения возможным и терпимым: другие же живут. Это шаг к смирению и озлоблению, к маргинализации как эскалатору судьбы.
Господа: важная деталь! Литературное дело в тоталитарном государстве – производная от политики, да? 1967 год – это израильско-арабская война и разгром наших друзей: следствие – усилить борьбу с сионизмом, а сионистов в литературе окопалось до черта, и ни один не разделял любовь к арабам. 1968 – год великий: это Пражская весна и наши танки, а в Париже и в США – студенческие бунты, революция ЛСД, хиппи, сексуальная, пацифистская и что угодно, но все тлетворно. Вот тогда гайки стали завертывать по периметру.
Но! Даже в 76-м году мы еще не понимали, что мрачное N-летие давно наступило и идет в полный рост! Уже и Кузнецов остался в Англии, и Бродского выдавили, и Солженицына лишили всего и выслали, и Гладилин уехал, – а мы все еще дышали ветром оттепели из шестидесятых, нам все еще казалось, что все наши трудности и беды – это частное, а в общем – мы пробьемся!
Да не писал я ничего антисоветского! Более того: рассказов пять были даже скорее патриотические. Я так представлял. На что через двадцать лет в Штатах один русский журналист хмыкнул: «Прочитав твоего „Дворника“, я и решил валить: у тебя там была антисоветской каждая запятая, каждая интонация, ты что, правда не понимал?..»
Мой интимный патриотизм был там абсолютно честен. Нужно быть самоубийцей и идиотом, чтобы писать не абсолютно честно. Потому что в прозе честность, ум и талант – это смежные понятия. Скривил правду – мир скривил, так кому ты нужен, и самому мерзко.
Ни нынешние поколения, ни будущие нас никогда уже не поймут. Когда печататься было так трудно, так непередаваемо трудно, и так мучительно долго, – писать хуже, чем ты вообще способен, вложив все, что можешь, по самому верху, разбившись в лепешку, – писать хуже этого не имело смысла. Уж если что-то пойдет, что-то останется, что-то издадут потом – так только шедевры. Писать не шедевры просто не имело смысла.
Известность авторов тогдашних молодежных повестей и рабоче-патриотических романов была презираема.
Нашего поколения не было без Хемингуэя. Культ честности. Культ голой честной фразы. Дай нейтральную деталь одним обычным словом – чтобы встал весь подтекст.
Будучи максималистом, я исповедовал старую французскую максиму единственно верного слова. Да и Свифт говорил, что стиль – это нужное слово в нужном месте. Узоры и красоты презирались. Плетение словес – украшение дикаря побрякушками.
Делается чертовски жалко красивых фраз! Изысканных, точных, эффектных, штучной работы. Но! Если надеть стильный галстук, дорогой пиджак, брендовые брюки и туфли ручной работы – ты еще не одет хорошо. Ты можешь оказаться попугаем, манекеном, плебеем. Важен ансамбль. Стиль. В одежде это ясно всем.
При этом. Писатель иногда полагает, что произведение – это набор красивых, хороших, мастерских фраз. Десять страниц – рассказ, триста – роман. О нет. Вещь имеет смысл только целиком. Достоевский писал плохо, а романы великие. Мериме писал блестяще, а Стендаль шероховато-коряво – так у кого осталась книга лучше? Слово работает на фразу. Фраза – на абзац. Абзац – на весь текст, будь то рассказ или роман. Поэтому, скажем, ритм и дыхание плотной короткой прозы не годится для романа – густо, дышать нечем, от метафор не протолкнуться.
Куб из расписных изразцов – это еще не архитектурный шедевр!
Иногда стилистом считают декоратора и инкрустатора. Являет читателю изящные изыски. Тогда Хемингуэй и Бабель – не стилисты? Да нет. Стиль – это родниковая вода, от которой вдруг пьянеешь. Сработать простую фразу так, чтобы читатель повторил ее про себя и запомнил, – вот верх стиля. Когда фраз не замечаешь – а от книги закачало: примерно так надо.
Молодой писатель, если он добросовестен, максималист – переоценивает читателя. Он ставит плуг на слишком большую глубину. Он работает с текстом вначале как каменотес – а в конце как ювелир. Он еще не знает, что читатель глотает текст блоками и проглотит все, поэтому работать можно мазками крупными, как Тернер или Ван Донген: цвета и линии совместятся в желаемую картину в процессе восприятия.
Но! Короткая проза имеет смысл только как закодированный роман! В этом ее отличие от небрежной и необязательной миниатюры-зарисовки. Короткая проза – это «Станционный смотритель», «Легкое дыхание», «Бумажные шарики», «В чаще», «Соль».
Когда ты пишешь короткую прозу – в голове у тебя роман, и из этого романа ты выбираешь крупицы, пробуя на вкус и цвет и подгоняя друг к другу, чтобы маленькая, но объемная и многоцветная мозаика, голограмма, миниатюра – содержала в себе отзвуки и оттенки всего огромного романа, послом которого, синопсисом которого она является. Будучи при этом самостоятельной вещью в собственной эстетической системе.
Через все это и многое другое в первые годы необходимо пройти. Предъявлять себе немыслимые, невообразимые требования. Можно зациклиться на фразе и неделю ее крутить, ничем больше не занимаясь. Можно сокращать черновик и в два, и в десять раз. Презирая при этом мелкость и необязательность окружающей беллетристики.
Да, я мог без труда выстукивать из любимой трофейной «Олимпии Элиты» пятнадцать страниц в день, и друзья – разумные молодые люди, университетские гуманитары – радостно кричали, что это и есть настоящая проза. То есть верить нельзя никому.
Пройдет тридцать лет, и обычный журналистский вопрос будет: «Для кого вы пишете? Каким вы видите своего читателя?» И еще вопрос: «Почему вы пишете?»
Если писатель не коммерсант с конкретным прицелом – ответ всегда один: «Для себя – и для Господа Бога. Который во мне и в котором я и весь мир. А читатель – любой человек, любого возраста, профессии, образования, взглядов – которому это понравится и который поймет это так же, как я сам». Вот люди разные, сложные, многогранные, и в натуре каждого может найтись такая маленькая площадочка, которой он соприкоснется, совместится с такой же площадочкой моей книжки. Так что человек, который идет по улице без моей книги под мышкой, идет в сущности зря.
А вот почему писатель пишет – это равносильно вопросу о причинах и смысле существования искусства. В сорок лет я читал об этом лекцию в Иерусалимском университете, она потом переиздавалась в нескольких моих философских сборниках. Суть в том, что в процессе жизнеобеспечения все животные создают посредством центральной нервной системы прогностические информационные модели. Стая волков составляет план, как загнать и перехватить добычу. Человек с его мощнейшим мозгом оторвался от собратьев на порядки. У человека высочайшая энергетика, он потребляет на единицу своей массы и на единицу производимой работы в четыре-пять раз больше энергии, чем любое животное сходного веса. Его мозг потребляет до трети всей глюкозы организма. Его способность к созданию информационных прогностических моделей действительности, по мере роста культуры, в тысячи раз превосходит необходимую для простого выживания. А разделение функций в усложняющемся социуме резко упрощает жизнь, выживание уже не зависит жестко от единственно верного твоего решения, все подсказано и определено.
Огромная и избыточная способность человека к созданию информационных моделей начинает все дальше отходить от удовлетворения насущных потребностей. И приобретает самостоятельную значимость, становится самостоятельной информационной системой среди прочих, обеспечивающих выживание и развитие человека. Прикладная необходимость исчезает. Обряды охотничьей магии станут через тысячелетия скульптурой, живописью и хэппенингами.
А выкрики для координации действий в охоте или сражении и сообщения об опасности или добыче – превратятся в байки у костра, в мифы, Гомера и великие литературы. Для выживания это не нужно! – но развитые способности и возможности требуют реализации. А сложный многофункциональный социум стирает для автора и адресата разницу между реальным действием и его информационной моделью.
Для массового потребителя д’Артаньян осязаемее и значительнее Дюма, а зритель «Шерлока Холмса» может сегодня не знать имени Конан Дойла. Писатель богаче шахтера и знаменитее солдата, хотя создает только информационные модели, никак напрямую не связанные с жизнью.
А уж в наше электронно-компьютерное время фейков и сенсаций – не важно, что ты сделал, важно, что я написал/снял/изобразил.
Непосредственное преображение окружающей реальности все больше сменяется преображением информации, связанной с реальностью очень косвенно или никак вообще.
Доля и назначение человека во Вселенной – действовать, и любыми своими действиями, фактом существования, преобразовывать мир, окружающую реальность, энергоматерию. Литература – это преобразование информационных моделей реальности. В основе ее лежит инстинкт жизни и действия. Тысячелетия культурного нарастания опосредовали и окультурили этот глубинный первоинстинкт.
На языке синергетики: литература – это структурирование сильно неравновесных вербальных систем из аморфной словарной массы с предельным уровнем языковой энтропии. То есть. Словари дают весь запас слов по алфавиту, скажем. Где каждое отдельное слово имеет свои значения – и только. Литература строит из этой огромной кучи кирпичей стройные здания на разные случаи.
Еще раз. Работа автора-детективщика отличается от работы грабителя банков тем, что: оба создают добросовестную модель ограбления – но грабитель грабит банк и берет деньги с риском сесть, а писатель несет подробный план издателю и получает гонорар, а люди платят деньги за погружение в условную информационную модель.
Вспомните «1984». Журналист создает героя О’Гилви – и людям будет все равно, реальный герой или вымышленный: они адекватны в информационном пространстве.
В аспекте социопсихологии литературное творчество – это самореализация, самоутверждение, стремление к статусу, славе и деньгам.
В аспекте вселенской эволюции – это вкладывание личных усилий в эволюционный процесс на уровне его обеспечения эволюцией информационной.
И тогда понятней становятся аспекты традиционные. Эстетический – как стремление двинуть процесс вперед, создать нечто новое, потребность в создании гармонии и достижении идеала. Этический – как служение этой идее и потребность достичь идеала (что недостижимо в принципе) – потому что стремление к идеалу обеспечивает напряжение всех сил и возможностей, обеспечивает максимум результата, на который ты вообще способен.
А моя любимая Флэннери О’Коннор ответила на этот сакральный вопрос – «Почему вы пишете?» – проще всех: «Потому что у меня это хорошо получается».
Все это – часть устройства мира, и задумался впервые я об устройстве мира, вернее – ощутил некое смутное влечение постичь его во всех связях – тоже в Ленинграде, я помню этот момент, осенью на четвертом курсе, я ехал в трамвае в Университет, вышел на Дворцовой, вместо занятий закурил и пошел по желтой мокрой аллее Александровского сада: пытаясь поймать эту зыбкую паутину, которая связывала трамвай, Зимний, историю Петербурга и Ленинграда, весь студенческий Университет, все любови и дружбы, Советскую Власть с наукой и связь танковых колонн с русской литературой; больше я никогда не переставал думать об этом, а через семь лет я купил во дворе «бука» на Литейном «Домой возврата нет» Томаса Вулфа за пять номиналов, за пятнашку у холодняка, и когда начал читать в своей комнатке восьмиметровой на Желябова, Вулф поразил меня тем самым, томительным стремлением постичь все связи всего в жизни как общее, единое, мировой узор.
Не знаешь ты наших старожилов, сынок, сказал Мэйлмют Кид. Он всю ночь будет поить тебя, лишь бы ты сидел и слушал его рассказы. Кому вы расскажете, глупец, коменданту Бастилии? Классе в девятом меня поразили «Мои скитания» Гиляровского. Это был супермен. И заповедь серьезных ребят я запомнил: «Видел – молчи. Слышал – молчи. Знаешь – молчи». Это не о писателях? Это о том, что любые понты – дешевка. Сколько встречал я реально крупных людей – атрибутирование профессии в обиходе, любое щеголянье профессией и намеками на особые возможности – презирается как дурной тон, дешевка. «Он талантлив в жизни, во всем, что делает» – означает неполноценность и компенсаторную функцию свистка вместо двигателя. Мне доводилось знать салонных болтунов (каков банальный оборот, прошу оценить, но это именно о них).
В тридцать один год, имея две сотни отказов из всех мыслимых редакций и издательств, с тридцатью рассказами, которые… в общем, не было больше таких рассказов, я уехал в Таллин готовым человеком. Книга выходила около четырех лет: выкидывали, писали донос, слали на отшибную рецензию в Москву, грозили рассыпать набор из Комиссии по эстонской литературе при правлении СП СССР, урезали тираж и переносили сроки. Это было нормально. Я только знал: пока книга не в магазинах – ничего не считается.
И вскоре после смерти Брежнева, книга с названием «Хочу быть дворником», с заголовками рассказов «Свободу не подарят», «А вот те шиш» и прочее, где на обложке была рука с задранным большим пальцем – с Новым 1983 годом вас!
Мне выплатили 1600 рублей (нормальная зарплата за год). Я купил 500 экземпляров – рассылать и дарить всем. И пил до июня. Тихо, один, закусывая, тупо глядя в окно. Я ничего не чувствовал и ничего не хотел. Меня пробивало на бессмысленную слезу. Я повторял Лондона: «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула».
Вообще – это было невозможно. И я это сделал. И, может, потому, что я абсолютно честно готов был сдохнуть, но сделать свое, ни капли пара в свисток, боясь дыхнуть на тень удачи, – Тот, Кто Наверху, милостиво протянул мне палец.
Дважды в те невыездные годы мне снился Нью-Йорк. Один раз голубые призрачные небоскребы таяли в небе, в другой – длинные деревянные молы выдавались далеко в серый океан, и волны перехлестывали через них. Я мечтал, как поднимусь по трапу самолета с легким кейсом в руках, никакого багажа, достану из кармана белый носовой платок, отряхну с туфель пыль родины и пущу его на бетон.
Может, и зря не уехал. Во-первых, в России всегда любили несчастненьких, бедных, гонимых, слабых, неудачников. Я никогда, никому, ни в каких условиях не позволял сделать себя несчастным; озлобленным, загнанным. Во-вторых, Господь Бог не создал Россию для философии, теософская эссеистика начала ХХ века названа «философским ренессансом» из самообольщения; моя философская система, соединяющая здание мировой философии, здесь редко нужна и понята толком.
…Сейчас, на пороге семидесятилетия, я удивляюсь, как много я прожил до тридцати семи и как много у меня переиздавалось книг после пятидесяти. Сорок лет я писал в среднем по одной книге в полтора года, ничем больше не занимаясь. Но когда два десятка твоих книг в разных обложках стоят в магазине рядом, ловишь себя на пожелании английского кровельщика, пролетающего мимо седьмого этажа: «Господи, хоть бы это подольше не кончалось».
Судьба одарила меня высшими наградами. Когда на встречу с автором приходит издательский корректор, или таможенник ночью в поезде бросает обход, садится напротив и говорит, как ему помогла твоя книга, или книжные лотошники на Трех Вокзалах (тогда еще не уничтожили книготорговлю) сбегаются все за автографом, мешая с другом выпить пива, – остается сказать спасибо Наверх.
Это был он, законодатель жизни юных лет наших, Хемингуэй: «И именно потому, что писать хорошо трудно, так невыразимо трудно, награда, когда она приходит, бывает очень велика».
Всю жизнь я делал что хотел, избегая вообще соприкасаться с тем, что «надо», – процентов на 95. Привет Эмерсону: «Нужно что-то – возьми и уплати положенную цену».
2001–2012 годы были Золотым Веком нашего книгоиздательства. Российское книгоиздательство было лучшим в мире. Нигде элитная и массовая книга не издавалась так хорошо, так быстро, и забивала тиражами от полумиллионных до полутысячных все щели спроса, и не стоила так сравнительно недорого.
Мы вступили в тяжелый, страшный, чреватый катастрофическими переменами период. Российская ментальность – где даже в литературе не стыдятся травить инакомыслящих и категорично превозносить своих – гарантирует авторитарное самоустройство государства, какими бы оптимистичными ни были переходные периоды между культами. А на Западе левацкий либерал-социалистический истеблишмент не желает понимать, что строит будущий «англсоц», ГУЛАГ и Кубинскую модель.
Да – Искусственный Интеллект все полнее заместит наш, киберы всех видов все полнее заместят нас на рабочих местах, кочевая элита будет править глобальным миром, а массы плебса без разницы между расами, полами и интеллектами будут вымирающими, ненужными нахлебниками.
И все, что нам остается, – это как всегда. Писать максимально хорошо, даже если не прочтет вообще никто. Думать только честно, как бы тяжело это ни было. Говорить только правду, всю правду, и ничего, кроме правды. Быть верным себе и своему делу, чем бы это ни грозило.
Да, я понимаю: пафос, патетика, выспренность и высокий штиль. Но время всеохватной иронии кончилось, и время игры в бисер тоже. Наступил страшный век конца нашей цивилизации. В начале ее было Слово, и кроме тебя некому будет за него ответить.
Евгений Водолазкин. Поющий в степи
Мне было лет восемь, когда я написал свой первый рассказ – о том, как на нашу страну напали немцы. Если мне не изменяет память, это было вольное переложение одной из советских песен. А потом пришла моя тетя (она преподавала русский язык в университете) и сказала, что рассказ малохудожественный. Я не понял, что это значит, но с тетей спорить не стал. С тех пор вопрос художественности обрел для меня особое значение.
Потом был довольно большой перерыв. До сорока лет я написал лишь несколько небольших вещей – не предназначавшихся для публикации, что-то вроде пробы пера. О писании в стол речи не было. Было, скорее, другое. Предчувствие, что литература – это та сфера, которая когда-нибудь может стать моей. С этим предчувствием я, видимо, и пошел когда-то на филфак, как идут туда многие – не имея еще конкретных жизненных планов, из влечения к слову как таковому. Другое дело, что филологическое образование – это я понял уже потом – к писательству особо не приближает. Иногда даже отдаляет, поскольку свое умение писать литературно филолог способен ошибочно принять за что-то большее.
Гладко написанный текст – это еще не литература. Литература – это то, что возникает над текстом, как электрическое поле вокруг проводов. И для того чтобы создать это поле, автору нужна особая энергетика, особое умонастроение, ви́дение (вéдение?), которое появляется с опытом. Под опытом я понимаю не механическую сумму пережитого, а результат внутренней работы, который включает и пережитое, и выводы из него, и что-то такое, что приходит без всякой видимой причины. Это возникает чаще всего в зрелом возрасте.
Когда меня спрашивают, жалею ли я о том, что время упущено, отвечаю: нет, не жалею, потому что время упущено не было, внутренняя работа шла. Начни я писать раньше – мог бы, наверное, публиковать тексты, создающиеся на чистой технике, – детективы, фантастику, еще что-нибудь. Но жанр, стиль (а с ними – глубина погружения) обладают удивительной цепкостью, и не всегда у начавшего «в легком жанре» впоследствии получается сменить регистр. Я знаю талантливых людей, которым, несмотря на все усилия, это так и не удалось.
Ко времени публикации моих первых вещей вопрос самореализации (а он важен для всякого человека) в моей жизни уже не был основным. «Опорной» ногой я стоял в науке (медиевистике), и страха «не состояться» у меня не было. В случае литературной неудачи я бы продолжал заниматься Древней Русью (как, впрочем, занимаюсь ею и сейчас), эта работа доставляет мне радость.
Вообще, у каждого человека существует внутренняя логика развития. Это только кажется, что поезд внезапно сменил колею. На самом деле стрелка была уже давно переведена. Я обратился к литературе не потому, что наука изменилась, – изменился я. Вообще говоря, обращение к писательству не может быть произвольным, для всякого высказывания должна возникнуть необходимость. Помните старый анекдот о лорде Генри, который до тринадцати лет не говорил – и вдруг произнес фразу: «Однако сэндвич подгорел». Сбежался весь дом, все стали спрашивать: «Лорд Генри, почему вы молчали тринадцать лет?» И он ответил: «Потому что тринадцать лет с сэндвичами все было в порядке».
В завершение разговора о личном два слова о том, что называется «взглядами». На вопрос о политических взглядах я отвечаю, что у меня их нет. По крайней мере – нет такой их совокупности, которую я всегда мог бы предъявить. Я не принимаю ни одну политическую идеологию как систему. Отдельные положения идеологий могут быть вполне симпатичными. Так их и нужно обсуждать – по отдельности, но, честное слово, не стоит ничего принимать в пакете. Ни одна идеологическая система полностью не укладывается в границах нравственности: что-нибудь обязательно выпирает. Политическая идеология – это своего рода комплексный обед. Так вроде бы и дешевле, и мороки меньше, да только обязательно подадут и то, чего не любишь. И проследят ведь, чтобы все съел, – такая это кухня.
Я не поклонник революции как таковой. Это не лучший способ решения общественных проблем. Несмотря на красивую фразу о том, что революции – локомотивы истории, эта самая история упорно показывает, что в какой-то момент локомотив обязательно идет не туда. Но самое печальное в этом виде транспорта то, что с него уже не соскочить. Когда оказываешься в людском потоке, начинают работать совсем другие законы, безжалостные и от тебя не зависящие. Поэтому я, как персоналист, считаю, что в такие моменты надо блюсти себя и не сливаться с массами. Хочешь сделать добро обществу – борись с бесами в себе самом, их там достаточно. А всякая попытка исправлять зло в целом, спасать мир глобально мне кажется бессмысленной.
Вообще, я бы сказал, что переломные эпохи – не лучшее время для литературы. Возьмем, скажем, Петровскую эпоху или время большевистского переворота. Писать по-прежнему уже нельзя, а как по-новому – еще не очень понятно. Это не значит, что в такие времена не бывает хороших произведений, – несмотря на избыточную нервность, публицистичность, они появляются. В такие эпохи труднее всего приходится роману, который на одних эмоциях не напишешь. Это дальнобойное орудие, которое требует дистанции (вспомним, когда был написан лучший роман о войне 1812 года).
Мы сейчас живем после очередного катаклизма, землетрясения, вызванного распадом СССР. Текущий момент можно определить как «послетрясение» (так я русифицирую сомнительный термин «афтершок»). Подземные толчки еще ощущаются, но почва уже тверда: общество с постсоветской реальностью в целом освоилось. Герои романов привыкают к спокойной обстановке, когда мотором действия являются не пожар или киллер, а, так сказать, внутренние ресурсы персонажа.
Возвращаясь к чисто литературным проблемам, замечу, что любая книга только наполовину создается автором – вторая половина создается читателем, его восприятием. По большому счету сколько читателей – столько и книг. Меня не пугают даже самые странные интерпретации моих книг: значит, и это было заложено в моем тексте. Не обвиняю читателя даже тогда, когда он не хочет быть соавтором – и попросту закрывает мою книгу. Это ведь я и никто другой написал что-то такое, что родило в читателе подобный отклик.
Навыки создания текстов, как и возможность продолжения рода, человек обретает в довольно раннем возрасте. Но эти опыты – даже вполне состоятельные стилистически – еще не означают, что брак автора с литературой заключен. Важна духовная составляющая, некое силовое поле, в котором созданная конструкция оживает. Создание литературного произведения (поскольку всякий автор – демиург) неизбежно напоминает сотворение человека: в созданного из персти Адама вдувается жизнь. Делать глиняных человечков не так уж сложно, но ведь главная задача – заставить их двигаться.
Создание литературного героя уподоблю отцовству. Автор предоставляет героям некий генетический материал, и закономерно возникает ожидание (в том числе у самого автора), что страницы романа будут усеяны маленькими авторскими копиями или копиями отдельных его черт. Когда же эти человечки появляются на свет, выясняется, что они не очень похожи на автора. Потому что зачатие – процесс двусторонний, и в качестве партнера автора выступает то, что мы называем «объективной реальностью». Эта реальность, сидя в голове у того же автора, вынашивает и формирует плод, именно она делает героя неуправляемым. Когда же автор волевым образом вмешивается «от себя», он, на мой взгляд, добавляет не столько то, что ему, автору, свойственно, сколько то, что ему несвойственно: это своего рода компенсирующая функция литературы. Сходство автора с героем чаще всего обманчиво.
«Историю» я люблю придумывать сам, поэтому не пишу биографических романов и не написал ни одной книги в «ЖЗЛ». Не рассматриваю это как большое свое достоинство. Я очень ценю писателей, которые способны влезть в шкуру исторического лица – и сантиметр за сантиметром исследовать логику его поведения. Это великий дар и великое терпение, которых я, видимо, лишен. В моих романах почти нет исторических лиц. Когда я пытаюсь о них писать, мне чудится окрик конвоя: шаг влево, шаг вправо… Для того чтобы хорошо описать историческое лицо, надо быть великим актером и вживаться в роль. Я же по типу скорее режиссер – и требую от героев действовать так, как я скажу.
Иногда меня называют постмодернистом. Не могу сказать, что «чистые» постмодернисты мне как-то по-особому близки. Постструктуралистское заявление о том, что автор – инструмент языка, было понято ими слишком буквально. Философия художественного творчества учит нас (из современных авторов это хорошо выражено у о. Владимира Иванова), что у настоящего произведения должен быть свой эйдос, первообраз, выражением которого это произведение является. Один из недостатков постмодернизма (а у него, разумеется, есть и свои достоинства) заключается в том, что за стилевой эквилибристикой порой ничего не стоит. Такая себе рама без портрета. Другое дело, что какие-то характерные для постмодернизма приемы могут быть использованы для отражения эйдоса. И это – случай Венедикта Ерофеева и Саши Соколова. Вещи их – настоящие, боль – невыдуманная, а все остальное – вопрос средств выражения.
Что касается моих предпочтений как человека пишущего, могу сказать, огрубляя, что ценю реалистическое сюжетное повествование. Из чего, разумеется, вовсе не следует, что я должен писать, как Мамин-Сибиряк. Я учитываю современную литературную технику, и иногда – как в хорошем автомобиле – мне доставляет удовольствие нажимать на разные ее кнопки и педали. Важно лишь не забывать, куда едешь.
Несколько слов о двух моих романах – «Лавре» и «Авиаторе». Приступая к роману «Лавр», я хотел рассказать о человеке, способном на жертву. Не какую-то великую однократную жертву, для которой достаточно минуты экстаза, а ежедневную, ежечасную жизнь-жертву. Культу успеха, господствующему в современном обществе, мне хотелось противопоставить нечто иное. Несмотря на «нравственную» проблематику, менее всего меня привлекала возможность учить: это не дело литературы, да и права такого мне никто не давал. Пока писал книгу – сам учился, мы с ней делали друг друга. Литература призвана изображать, а уж читатель решит, нравится ему изображение или не нравится и что он вообще будет с ним делать.
Я понимал, что, взятый с нынешней улицы, такой герой будет неубедителен, а то и попросту фальшив. И обратился к древней форме – к житию, предназначенному для такого рода повествования, только писал это житие современными литературными средствами. И определил его в итоге как неисторический роман.
История этой неисторичности такова. В традициях издательства – помещать на обложке слоган, короткое определение содержательной специфики книги. Меня попросили такое словосочетание придумать. И я придумал – в беседах с Еленой Данииловной Шубиной, моим издателем. При оформлении обложки слоган оказался под названием – и неожиданно для меня стал восприниматься как подзаголовок. Теперь я вижу, что по своему типу он действительно очень напоминает подзаголовок, хотя ни в коем случае таковым не является. В качестве части названия его теперь нередко фиксируют и в библиографических описаниях, что – ошибка, потому что по правилам библиографии книжные данные следует списывать не с обложки, а с титульного листа.
Если же говорить о сути определения, то мне хотелось дистанцироваться от исторического романа, решающего, как правило, другие проблемы. При таком взгляде на вещи точность исторических деталей – дело второстепенное, хотя и в этом крупных ошибок я старался не допускать. Исторический роман – подобно детективному, фантастическому, любовному – принадлежит к так называемой жанровой литературе. Ее мотором является не столько характер героя, сколько сюжет – историческое событие, преступление, перемещение в будущее, адюльтер и т. д. В «Лавре» меня интересовала не история, а, выражаясь по-лермонтовски, «история души». Определение романа как неисторического – это сигнал читателю. Рекомендация не искать в книге того, чего в ней нет.
Есть два основных типа отношения к истории. Одни ищут в прошлом то, чего нет сейчас, другие – наоборот – то, что существует и в современности. И то и другое приводит к захватывающим открытиям. В своих занятиях историей я в разное время принадлежал к обоим типам. Сейчас же я все больше склоняюсь к мысли, что история – это не более чем сцена, которая предоставляется каждому для его неповторимой роли. Костюмы, декорации – все это выдается каждой конкретной эпохой и от человека не зависит, как не зависит от него и игра других актеров. Единственное, за что человек отвечает, – это его собственные действия, и вот здесь-то следует проявлять предельную сосредоточенность. Иными словами: история всеобщая есть лишь фон для истории личной. Личная история для человека как индивидуальности – самая важная.
Для меня самого этот роман стал совершенно неожиданным. Я понимал, насколько непростое занятие – писать о святом. Кроме того, никогда не думал, что как писатель вообще буду приближаться к древнерусским делам, хотя бы потому, что это моя профессия.
Я почти тридцать лет занимался средневековым миром – он очень отличается от современного. У этого мира есть много достоинств, которые, к сожалению, не видны: то, что читатель узнаёт о Древней Руси по историческим романам, часто имеет лубочный, неподобающий вид. Эта культура стала частью меня, а я – как это ни странно – ее частью, потому что продолжаю ее воспроизводить тогда, когда она уже стала историей. Если взять количество прочитанного мной в жизни, то древнерусских текстов окажется больше, чем современных. Просто потому, что по много часов в день я читаю древнерусские тексты. Постепенно я почувствовал, что у меня есть понимание того, как они строятся, – глубинное понимание. Мне кажется, что, если бы меня перенесли в XV век, я был бы неплохим древнерусским писателем: я знаю, как тогда требовалось писать. Но поскольку меня в XV веке никто не ждет, я решил перенести тот опыт, который у меня есть, в литературу века XXI.
Мне повезло в том, что мой личный опыт вошел в резонанс с современным состоянием литературы. Я использовал множество древнерусских приемов, которые еще несколько десятков лет назад показались бы экзотикой и были бы литературой отвергнуты. А сейчас они оказались ко двору – современная культура была к ним подготовлена посредством постмодернизма. Совершенно по другой дорожке литература сейчас пришла к тем вещам, которые когда-то были основами средневековой поэтики. Но я пришел к ним со стороны Средневековья.
Еще Бердяев основывал идею нового Средневековья. Девяносто лет назад он написал работу о дневных и ночных эпохах в жизни человечества. Дневные эпохи (античность, например) – яркие, брызжут энергией, искрятся. А ночные – эпохи внутренней работы, собирательства, переживания дневных впечатлений и снов. Средневековье он считал ночной эпохой, когда человек направлен не столько вовне, сколько внутрь себя или на Бога. Бердяев видел признаки того, что на смену блистательному, выполнившему много задач Новому времени придет эпоха большего внутреннего сосредоточения.
Я не философ, и не в моей компетенции обсуждать проблему в целом, но, если обратиться к жизни слова, можно увидеть поразительные вещи. Для Средневековья характерны отсутствие идеи авторства, внеэстетическое восприятие текста, его центонная структура, фрагментарность, отсутствие жестких причинно-следственных связей и границ. Все это мы видим и в новейшей литературе. Видим провозглашенную Бартом смерть автора – центонный текст постмодернизма, видим фейерверк стилевых и текстуальных заимствований, как в Средневековье, когда заимствовали не просто идеи или описания, а собственно текст. Новое время – и это было чрезвычайно важно – преодолевало коллективное сознание, оно было временем роста персональности. Теперь коллективное сознание возвращается в литературу в виде многочисленных цитат, явных и скрытых. Как литературовед, я (и не только я) фиксирую возвращение средневековой поэтики в широком масштабе. Все, что выработало Новое время, – портрет, пейзаж, художественность, психологизм – становится для современной литературы вещью по-средневековому необязательной. Это уже не нуждается быть выраженным, а может подразумеваться имплицитно. Интернет вновь разрушает границы текста, установленные когда-то Гутенбергом, он также возвращает к отсутствию границы между литературой профессиональной и непрофессиональной. И что, как не средневековая литература «реального факта», аукается в сегодняшнем напряженном внимании к нон-фикшн?
Примерно полгода я обдумывал стиль романа «Лавр». Вернее, это были полгода ожидания, после которых я мало-помалу стал осознавать, что необходимую манеру письма нашел. Стиль в романе – один из главных героев. Он не должен был иметь отношения ни к историческому роману, ни к этнографическим экзерсисам. Это не должен был быть сюсюк в духе превратно понятого благочестия. Я мечтал о тексте, который бы читался не только глазами, но и душой, который бы раскрывал красоту русского языка в самых разных его пластах – временны́х, социальных и т. д., который бы, наконец, свидетельствовал об отсутствии времени.
В моем романе герой проживает четыре жизни под четырьмя разными именами. Мы смотрим на человека во времени – и видим человека вне времени. Вне времени и пространства. Мне рассказывали, что этот эффект «Лавра» одна питерская студентка замечательно охарактеризовала словом «хронотоплес». «Лавр» – попытка упразднить время и пространство, точнее – показать, что все достигается работой духа, если понимать свое время как часть вечности. Средневековый человек жил в вечности. Его жизнь была длиннее за счет того, что она была разомкнута: не было времени, не было и часов в нашем понимании. Время определяли по солнцу. И с пространством было иначе, чем сейчас. Дойти до Иерусалима было подвигом – настоящим, без кавычек. Но при этом люди понимали, что двигаться в пространстве не обязательно. И то, чего они хотят достичь за морем, вполне можно обрести и здесь. Вообще, в Средневековье время не переоценивалось: в отсутствие идеи прогресса с его течением не связывали особых надежд. Исходили из того, что люди лучше не становятся, поскольку технический прогресс не приводит к улучшению духа и мысли. В определенном смысле личная история человека казалась важнее истории человечества: народы не совершенствуются, совершенствуются люди.
Мой уход в прошлое связан, скорее всего, с тем, что тогда существовала традиция описания «добрых людей» (выражение В. О. Ключевского), а сегодня она как-то растворилась. Это вовсе не значит, что «добрых людей» сейчас нет, просто описывать их все труднее. Положительный герой – это вообще головная боль литературы Нового времени. Литература Средневековья таких проблем не испытывала – потому, может быть, что это была не совсем литература. Иными словами, для «положительно-прекрасного человека» я выбрал соответствующую ему историко-литературную среду. Разумеется, есть и другие пути, и современный материал, но для того, чтобы написать второго князя Мышкина, нужно быть известно кем.
Роман «Авиатор». В нем я описывал безделушки начала XX века, автомобили, крики охтинских молочниц, стук колотушек по торцовой мостовой. Все это было передним краем истории, ведь жизнь существует не в виде абстрактных исторических законов. Она предстает перед человеком в своих бытовых подробностях, в той повседневности, которая и становится первой жертвой времени.
Загадочные взаимоотношения людей и предметов позволяют оживить те временные отрезки, которые мы впоследствии называем историческими эпохами. Среди описываемого быта этих лет особую роль играют вещи, которые мы используем и сейчас. Они работают на стыке известного и неизвестного, «вытаскивая» за собой все ушедшее – то, что мы называем приметами времени. Лишают их экзотичности и насыщают воздухом.
В «Авиаторе» я пытался предложить читателю разделить со мной радость творчества и стать соавтором. Ступая, как по мосткам, на то, что продолжает существовать, читатель подходит к тому, чего уже нет: к звукам, краскам и запахам старого Петербурга. Номинальный автор – всего лишь камертон: он задает тональность, начало ассоциативной цепочки, которую достраивает уже читатель, основываясь на своем собственном опыте.
А когда эта цепочка выстроена, попробуйте ее удалить – и вы поймете, что такое потеря. «Авиатор» – это роман о потерях, о том, что нет замены ушедшим и «никто не придет назад», как сказал бы Блок. А еще – о вине и покаянии.
Человек живет среди тех людей и предметов, которые ему даны с его временем. Он любит их и испытывает перед ними чувство вины, как это происходит с героем «Авиатора». И нет у человека другого времени и других спутников. И описать это может только литература.
По сути дела, литература – это последовательное проникновение в сферу невыразимого, отвоевывание у нее новых пространств. Художественные новации возникают не из праздного интереса, они – инструменты, при помощи которых с явлений снимают проклятие невыраженности. Новые инструменты появляются только тогда, когда старые уже не достигают цели. Как читателя меня интересует то новое, что удалось выразить. Как исследователя – те инструменты, при помощи которых удалось выразить новое. Как писателя – то, что все еще остается невыраженным.
Призвание писателя – быть чем-то вроде блюдца на спиритическом сеансе: крутиться в центре стола и составлять из букв тексты. Писатель должен уметь конвертировать бытие в слово. Писательство – это, по сути, называние. Присвоение слов тому, что волновало, но оставалось безымянным – будь то соленая хрупкость кожи после пляжа или проветривание (морозное марево в форточке) больничной палаты. Первым писателем был Адам, которому Господь дал право наименовать окружавших его животных. Давая животным имена, Адам перевел их из единичного в общее – и сделал достоянием всех. Дело писателя – ловить музыку сфер и переводить ее в ноты. Быть, если угодно, «лучшим акыном степи»: петь о том, что видит. Что, подчеркну, видят и все там живущие. А поет – только он, потому что он способен превращать степь в текст.
Анатолий Гаврилов. Еще остались слова…
Родился я в Мариуполе в 1946 году.
Отец и мать работали на заводе «Азовсталь».
Послевоенная жизнь – бедность, нищета, восстановление города из руин, бандитизм, прочее.
Радость – речка, друзья, книги, кино, прочее.
В школе учеба и поведение – то хорошо, то плохо.
Первые литературные опыты.
После школы поступил на завод, откуда был уволен за прогулы.
Армия, ракетные войска.
Служил то хорошо, то плохо.
Продолжение литературных опытов.
Демобилизация – это радость освобождения и тревога, что делать дальше.
Некоторое время работал на заводе, а потом завербовался в Якутию, где работал на стройке, но быстро вернулся домой.
И снова – что делать дальше.
Устроился на железную дорогу сцепщиком вагонов.
На работе сцеплял вагоны, дома – слова.
Женился, поступил в Литературный институт на заочное обучение.
Получил диплом.
Продолжал сцеплять слова и вагоны.
Мариуполь надоел.
Уехал во Владимир.
Устроился на химзавод аппаратчиком по отжиму и сушке хлопка.
На работе – отжим и сушка хлопка.
Дома – отжим и сушка слов.
Устроился на почту разносить телеграммы.
На работе разносишь телеграммы, дома пишешь рассказы в телеграфном стиле.
Появились первые публикации – журналы «Юность», «Енисей», «Волга», «Октябрь», «Знамя», «Новый мир».
Появились первые книги.
Появились переводы на иностранные языки.
Появились литературные премии.
Жизнь продолжается.
Еще остались слова, чтобы рассказать про жизнь, которая продолжается.
Михаил Гиголашвили. Одиночество – молчание – музыка
Я родился в 1954 году в Тбилиси (Грузия), в семье филологов-русистов: отец, Георгий Михайлович, профессор Тбилисского университета, всю жизнь преподавал русскую литературу. Мама, доктор русской филологии, Светлана Станиславовна Кошут – из рода народного героя Венгрии Лайоша Кошута (чей брат Эдуард, прадед моей мамы, попал на Кавказ). В семье мамы говорили на русском языке. И в нашей семье тоже традиционно говорили по-русски. Раньше традиции русского языка в Грузии были очень сильны, ещё с царских времён практически все образованные и интеллигентные слои тбилисского общества владели обоими языками, часто одинаково хорошо, многие были просто полными билингвалами.
Вторым моим языком был грузинский – язык большой красоты, лексической гибкости, фонетической силы, экспрессии и энергии. Стихи и песни на этом языке звучат чарующе и завораживающе. И мне очень жаль, что моего грузинского языка недостаточно, чтобы писать на нём.
С детства я также учил третий язык – немецкий. В Тбилиси моего детства были развита система частных немецких садов, где немки (из числа кавказских немцев) собирали и вели группы детей, не разрешая ни слова говорить на других языках и устраивая всё «на немецкий лад», начиная от манеры общаться и кончая празднованием Рождества или Пасхи. Я посещал такой немецкий детский сад. К тому же у нас дома в Тбилиси собрана огромная библиотека, где, помимо русской классики, есть практически вся западная литература в переводах. Таким образом, контакты с европейской культурой у меня происходили уже с детства.
Так я рос под благодатной сенью двух культур: грузинской (городской тбилисской) и русской, причём русская литература была без преувеличения самым почитаемым предметом в нашем доме – и отец и мама занимались ею, обсуждали, спорили, читали вслух. Термин «городская тбилисская культура» я применяю потому, что старый Тбилиси имел свою ауру, субкультуру, которая вырабатывалась веками и была основана на толерантности и взаимоуважении всех проживавших в этом, не менее вечном, чем Рим, городе. «Тбилисец» – это очень конкретное понятие, вмещающее в себя много разных составных частей, в числе первых – это гостеприимство, веро- и просто терпимость, душевность, хлебосольность, бесконечный юмор, оценка человека по его сути, а не по рангам, стремление понять душу другого, приоритет поэзии и художественного слова над всеми другими проявлениями жизни, уважение к искусству, внутренняя деликатность.
Немецкая поговорка гласит: «Нельзя плясать на двух свадьбах одновременно». Плясать, может, и нельзя, но жить под защитой разных культур вполне возможно. Это помогает: зная и понимая мотивы и мысли людей разных (порой противоположных) менталитетов, можно сравнивать, наблюдать, делать выводы, искать ответы у разных авторитетов духа, а не быть зашоренно впряжённым в какую-нибудь одну колымагу. Такое положение увеличивает обзор и расширяет горизонты понимания разных менталитетов, есть возможность сравнений, обобщений, нет замыкания в своём мирке, как у того всяк-кулика, который только своё болото хвалит. Есть возможность трезвым отстранённым взглядом смотреть на людей и явления. Недаром Карл V, владевший половиной Европы, сказал: «Человек столько раз человек, сколько языков он знает». А если ты ещё и живёшь в разных социокультурных пространствах, то это только усиливает этот тезис, ибо ты знаешь жизнь изнутри, в деталях и реалиях, подчас таких, какие чужим не показывают, а для прозаика очень важно знать подкладку, исподнее, скрытое, сокровенное, личное, тайное. Но в целом я вырос на русской классике, где «проза требует мыслей и мыслей», мне нравилось вариться в бульоне идей, столкновений, сократического диалога, сопереживать героям, думать о них, страдать с ними. Меня всегда влекла динамическая русская проза с глубокими корнями смысла, чувств героев.
В 1976 году я закончил факультет русской филологии Тбилисского университета и начал работать там же преподавателем (параллельно преподавал два года в средней школе № 125). Потом поступил в аспирантуру и начал писать диссертацию по Достоевскому. Этим гением я занимался очень плотно на протяжении десяти лет, почти ничего, кроме его текстов (и спецлитературы), не читал. Моим руководителем был замечательный человек и авторитетнейший учёный, академик Г. М. Фридлендер, я часто ездил в Ленинград, в Пушкинский Дом, имел честь быть знакомым со многими выдающимися специалистами, которые тогда осуществляли титанический труд по изданию 30-томника Достоевского. В результате мною был приобретён разнообразный опыт, как научный, так и личный, человеческий.
Диссертацию я защитил по теме: «Образ рассказчика в раннем творчестве Достоевского». Типичный рассказчик дороманного творчества – это портрет молодого Достоевского, содержащий все основные черты судьбы и личности писателя. В каждом рассказчике выделен типичный набор свойств: молодость, сиротство, переезд из Москвы в Петербург, одиночество, бедность, незнатность (иногда – незаконнорождённость), лишённость общественного положения, мечтательность, наивность, честность, фланёрство, болезненность. Также все рассказчики лишены внешних данных и являются запойными читателями, чьи взгляды на литературу совпадают со взглядами самого молодого Достоевского.
Уже будучи в Германии, я задумал докторскую диссертацию «Образы немцев/иностранцев в русской литературе». Написал ряд статей по этой теме (есть в интернете). Тема предельно интересная, яркая, динамичная, весёлая. Тенденции таковы: русские (а потом и советские – Ильф и Петров, Зощенко) писатели в основном изображали немцев с сатирической стороны, высмеивали их пунктуальность, педантизм, прижимистость, страсть к классификациям и схемам, но отмечали такие их положительные черты, как работоспособность, терпение, усидчивость, размеренность и разумность жизненного устройства, успехи в точных науках, научное логическое рациональное мышление и т. д.
Общение с текстами Достоевского (особенно с его записными книжками и подготовительными материалами) всегда труд и польза. Наверное, Достоевский научил меня искать истину в диалогах, придавать важнейшее значение фигуре рассказчика, заботиться о том, чтобы читателю было интересно читать твой текст, то есть по большому счёту привил уважение к читателю (о чём забывают многие нынешние авторы). Ну и конечно, научил вниманию к каждому существу на земле, осознанию этого существа как отдельной Вселенной. Научил следить, как в душе человека Бог борется с дьяволом – повсеместно и ежечасно во всех нас в той или иной степени.
Параллельно я начал сам пытаться писать, по-русски. Первые же рассказы в 70-х годах попали в сборники «Дом под чинарами», которые издавались в Тбилиси на русском языке. Это меня очень воодушевило, я написал два небольших романа, «Иудея» и «За решётками», но в переездах и хлопотах они потерялись (раньше компьютеров не было, три копии на машинке – и всё). Но потом что-то застопорилось во мне, причины были разные, но главным препятствием, как я сейчас понимаю, было отсутствие жизненного опыта, столь важного для прозаика. Я перестал писать прозу и полностью перешёл на Достоевского.
В 1991 году я получил приглашение на работу в университет земли Саар (ФРГ) на кафедру русистики (в Германии, после падения Берлинской стены, резко возрос интерес ко всему русскому, в том числе и к языку, срочно потребовались преподаватели, и я попал в эту струю). С тех пор и по сей день живу и работаю в Саарбрюккене (ФРГ), преподаю русский язык.
После десяти лет жизни в Германии я сдал экзамен на переводчика и в 2001 году начал работать русско-немецким переводчиком, часто переводил в лагере для мигрантов. Каждый день слушал истории о жизненных крахах, которые постигли тех, кто просит убежища в Германии. Кому-то верилось, кому-то – нет. Жалел людей, которые были вынуждены сняться с якоря и отправиться в неведомое, чужое, чуждое по языку и менталитету немецкое открытое море.
Постепенно количество перешло в качество, я начал кое-что записывать, домысливать, прикидывать. Потом написал пять глав, объединив их в повесть под названием «Дезертиры», которая и вышла в журнале «Знамя» в 2001 году. Текст был хорошо принят, это меня воодушевило писать дальше. И если вначале мне были нужны прототипы, то потом я мог обходиться без них и конструировал образы целиком «из головы».
Так написался мой первый большой роман – «Толмач» (2003). Дезертиры, обманщики, бандиты и бизнесмены, наивные романтики и клинические безумцы, мнимые и подлинные жертвы режимов, растерянные беглецы, отчаянно жаждущие новой жизни, – это герои «Толмача». Череда людей, надеющихся осесть в Германии, – это паноптикум, где каждый не таков, каким кажется. Лев Данилкин писал: «В „Толмаче“ продемонстрирован трюк на манер пушкинско-гоголевского: анекдоты про бывших гражданах империи, продающих западным либералам свои фантомные несчастья; совершеннейшие мёртвые души ведь».
Два сюжета – чёрная комедия о Европе в состоянии либерального маразма и галерея лингвистических портретов – сплавлены воедино через фигуру рассказчика-резонёра. Формально «Толмач» – это роман в письмах. Каждая глава начинается с «дорогой друг», «как дела», «как здоровье». Реальных признаков «дорогого друга» в романе не обнаруживается, но эти лирико-комические отступления (вступления) к каждому письму придают роману некий размах. В этих отступлениях героя тянет пофилософствовать, поразмышлять о судьбах мира. Принцесса Диана, коровье бешенство, одолеет ли Буш Гора или Гор – Буша, анафемы доктору ухогорлоносу, жалобы на болезни и нищету, история народонаселения в Китае, какие-то житейские премудрости, вывернутые наизнанку, – ничто не оставляет его равнодушным. А беженцы со всех краёв света всё едут и едут в Германию, просят у немецких властей убежища, унижаются, врут и юлят. Но хоть толмач и видит (слышит), что люди явно врут, всё равно он не может удержаться от наплыва эмоций, и у него после каждой встречи с искорёженной судьбой остаются следы, царапины, шрамы и занозы на сердце.
Не уверен, что «Толмача» можно перевести на другие языки – слишком много в речи персонажей языковой игры, макаронической речи, варваризмов, арготизмов, жаргона, диалектизмов (в том числе суржика и трасянки) и т. п., которые вряд ли поддаются адекватному переводу, а без этого роман теряет свои качества.
Все герои «Толмача» – фигуры вымышленные, не слепки с натуры, а типизированные персонажи, в которых обобщены черты разных прослоек социума. Если при чтении «Толмача» у читателя и возникает ощущение документальности и натуральности, то это отнюдь не благодаря «списыванию с натуры», а результат работы над языком персонажей, результат их индивидуализации (и типизации).
«Чёртово колесо» (2009) – мой второй роман. Первая часть была написана ещё в Грузии, перед отъездом в Германию, и в 1994 году была опубликована в приложении к журналу «Сельская молодежь». Вряд ли кто-нибудь в те непростые годы её видел или читал. В 2006 году я решил продолжить роман и дописал вторую часть за два года. Таким образом, между началом и концом лежит большой отрезок времени. Такой разрыв, с одной стороны, преимущество (можно априори проследить, куда пошло общество и люди), с другой – препятствие, потому что за этот отрезок времени и я сам, и моя манера письма изменились, и мне приходилось в чём-то сдерживать и корректировать себя, чтобы избежать разрыва между частями и сохранить единство стиля и лексики.
Когда я писал эту вещь, я меньше всего думал о социальном фоне, меня интересовали судьбы людей, подробности их быта, чувств, поступков. То, что потом этот калейдоскоп сложился в большую социальную картину, было неожиданностью для меня самого. Меня в первую очередь интересовало не то, отчего погиб Советский Союз, а то, почему погиб или мучается тот или иной человек, что закрывает индивиду дорогу к счастью, какие процессы происходят в его душе и теле, а наркотики в «Чёртовом колесе» играют роль лакмусовой бумажки. Роман ограничен 1987 годом, это, по сути, предыстория тех трагедий, которые произошли потом. В целом же думаю, что да, падение советского режима, ослабление контролей всех видов привели на первых порах к анархии, вседозволенности и беспределу и понадобится много лет (или десятилетий), чтобы перевести эти состояния в гармонически действующие структуры, наподобие западноевропейских.
Роман «Чёртово колесо» по сути – о падении Союза, о причинах развала, поэтому критики называли его «реквиемом по Союзу», «романом-зеркалом», «романом-отражением». Дополнительно интерес мог быть вызван тем, что в романе была вскрыта доселе неизвестная ниша – тайная жизнь наркоманов, которые на самом деле больные люди (так на них смотрят на Западе, и во многих странах даже начали выдавать им зелье как лекарство). У нас же на них смотрели исключительно как на преступников, хотя где логика, если две трети преступлений совершается под алкоголем, который не признан «преступным», а «под травой» человек и мухи не обидит?.. Может быть, свою роль в успехе романа сыграл тот факт, что он написан в классическом ключе, а читатели просто соскучились по нормальной прозе, без вывертов, понтов и эпатажа, чем была наполнена русская литература 90-х годов? В любом случае в романе есть попытки понять, почему Советский Союз повторил судьбу «Титаника» – с виду был надёжен, прочен, велик и безопасен, а затонул за два часа.
Во многих статьях по «Чёртову колесу» упорно проводится мысль, что суть «Чёртова колеса» – мировой пессимизм, круговорот зла в природе, что поворот чёртова колеса необратим, все будут теми, кто они есть, автор не видит выхода и т. д. На самом деле это не совсем так (или совсем не так). В романе есть вставная новелла об отшельнике-шамане и его ручном бесе. Бес сбежал от своего хозяина и отправился бродить по свету, а шаман пытается его уловить обратно. В этой новелле символически отражена главная идея романа – мысль о том, что даже лёгкое, простое, даже неосознанное прикосновение к идеям Христа может начать изменять природу человека (и даже беса). На первом этапе – это отождествление себя с другими, других с собой, понимание слов «это брат мой» не номинально, а сердцем и душой. И герои романа постепенно меняются – медленно, натужно, неуклюже, но движение есть: например, у инспектора Пилии этот катарсис наступил в сарае, где он, пойманный и связанный, ждёт казни и по-звериному, всем нутром, в самом жутком виде, чувствует то, что ощущали те, кого он мучил и истязал. И он даёт себе клятву никогда никому не причинять никакого зла. Другой главный герой романа, вор в законе Нугзар Ахметели, складывает с себя воровской сан, бросает колоться и пытается зажить человеческой жизнью – он устал от зла. Два героя – Большой Чин и Анка – кончают самоубийством, потому что больше не хотят так жить, а разве самоубийство – не самый экстремальный вид «изменения участи»? В каждом из героев есть подвижки к лучшему. Да, эти ростки малы и хилы, но они есть. Если бы их не было, не стоило бы писать роман, чтобы доказать, что чёрное – это чёрное. Как из чёрного получается вначале серое, а потом белое – это интересно и важно. Я сам – человек хиппи-революции, рок-музыки, запаха свободы, я много чему отдал дань. Но главное – отделять зёрна от плевел и не попадать в зависимость – ни от людей, ни от веществ, ни от существ, ни от алкоголя, ни от секса.
Мой третий роман – «Захват Московии» (2013), суть которого вкратце такова: молодой человек, немец, студент-лингвист, приехал из Германии в Россию совершенствоваться в языке, однако реальная жизнь оказалась совсем не такой, какой он представлял её себе по учебникам. По ходу дела он случайно завязывает контакты с группировкой так называемых граммар-наци (грамматических нацистов), которые ввергают его в разные неприглядные истории. По структуре своей это плутовской роман, novela picaresca. В романе есть вставная новелла – подлинные записки немца-опричника, наемника Ивана Грозного, Генриха фон Штадена, авантюриста и ландскнехта, который провёл в России немало лет, а затем, после разгона опричнины, сбежал обратно в Европу, где написал книгу о том, что видел, слышал и делал при московском дворе, стал ездить по европейским государям с бредовым планом присоединения Московии к Австрийской империи.
Главный герой, Манфред Боммель, или Фредя, – образ собирательный, тип молодого наивного иностранца, пытающегося своими силами разобраться в стране, о которой он знал по романам Достоевского, по балету «Лебединое озеро» и по полёту Гагарина в космос, но после столкновений с сегодняшней реальностью от него только перья летят. Я двадцать пять лет общаюсь с такими ребятами и достаточно хорошо знаю детали и нюансы их мышления. Я хотел сделать героя наивным и безгрешным, таким современным клоном князя Мышкина.
Задач в романе было две: с одной стороны, сделать рассказчиком иностранца и через его новый свежий взгляд дать картину нравов, с другой стороны – сделать героем романа русский язык во всей его необъятности, который в процессе письма стал доминантным и стянул на себя всё внимание и вообще стал гулять сам по себе, как Нос майора Ковалёва.
Критики уделили большое внимание «Захвату Московии». Кто-то считает, что язык романа – это «гремучая смесь, к которой надо привыкнуть, а привыкнув, получаешь удовольствие»; другой отмечает «лингвистические кундштюки, словесные головоломки, иллюстрации разницы мышления и лингвистики европейской и российской, невероятно изобретательное жонглирование»; третий уверен, что в романе «проговаривается значительное количество фундаментальных истин… но важнее всего сам текст, ювелирная работа автора с языком»; кому-то кажется, что «сделано это всё удивительно – такое ощущение, что в это феерическое роуд-муви пускаются вслед за героем сами слова, сами буквы русского языка! Меняясь местами и выпадая из обоймы, они образуют какие-то уморительные словесные конструкции – ввиду этого становится очевидно, что возможности русского языка поистине безграничны!»; кто-то видит в плутовских коллизиях «своего рода вертел, на котором поворачивается основное блюдо, чтобы пристальный авторский взгляд мог пропечь его с разных боков. Блюдо это – русский язык, который совершенным образом отражает нашу реальность, с её пластичностью и человечностью и одновременно – абсурдом, ненадёжностью и „словариком жлобского языка“, который герой таскает в кармане».
Книге предполагалась врезка Дины Рубиной: «Известный литературный приём – заставить взглянуть читателя на его привычную жизнь глазами чужака – в новом романе Михаила Гиголашвили сработал с изумительной гротесковой мощью. Немецкий студент, идеалист, вдохновенный романтик, влюблённый в „великую русскую культуру“, угодил в сегодняшнюю российскую жизнь, как кур в ощип, причём чуть ли не в самом буквальном смысле. Роман написан мастерски: временами дико смешно, временами страшно; а когда отхохочешься… так и хочется воскликнуть вслед за А. С. Пушкиным: „Боже, как грустна наша Россия!“».
Работа над романом была для меня очень важна – выбранная фигура «неумелого иноязычного рассказчика» помогла под иными углами зрения рассматривать язык и в принципе сняла все запреты и стоп-сигналы – что с бедного иностранца возьмёшь?.. А для меня стали выявляться необычайная толерантность и щедрость русского языка, его могучая способность к неологизации, его снисходительная, даже барская терпимость к новым формам слов и различным лексическим манипуляциям.
Для меня «Захват Московии» значил, может быть, больше других текстов потому, что здесь я полностью лингвистически раскрепостился, снял все запреты и плыл по волнам языка, не оборачиваясь на запретные буи типа «так не говорят» или «так сказать нельзя». Можно всё – другое дело, примут ли эти новшества читатели, поймут ли… (Помнится, примерно такое же чувство освобождения, свободы, безграничности логоса я чувствовал, когда читал «Петербург» Андрея Белого.)
Мой четвёртый роман – «Тайный год» (2016) – посвящён Ивану Грозному. В романе я был сосредоточен на трагедии одной личности, всё остальное передано через эту призму. И эта личность при ближайшем рассмотрении оказывается очень значительной и важной – ведь Иван Грозный, покорив Казань и Астрахань, Пермский край, область войска Донского, Башкирию, черкесов, Ногайскую Орду, Кабарду, перевалив через Урал и начав движение в Сибирь, заложил основы российской империи (начал этот процесс Иван Великий, дед Грозного). Он был вынужден тридцать лет вести оборону северо-западных рубежей от сильной Польши и хищной Швеции. Основал множество городов и крепостей, прекратил междоусобицы, реорганизовал армии, приструнил крымчаков, составил земельные кадастры, ввёл Судебник, создал систему церковно-приходских школ, запретил рабский труд, упорядочил налоги, начал чеканку собственных денег, открыл первую типографию и т. д., а в народном фольклоре Иван Грозный изображён всегда мудрым, строгим, но справедливым – чего ещё надо, чтобы царю ставили памятники?..
Стиль посланий Грозного, чтение его прозы, стихов, прослушивание сочинённых им музыкальных канонов было теми толчками, которые заставили меня взяться за эту работу. Я понял, что первым русским прозаиком был отнюдь не протопоп Аввакум, а писавший за сто лет до него Иван Грозный. Я был очарован прозой Грозного, его виртуозными переходами с высокого стиля на самый низший, его метафорами, сравнениями, вовремя ввёрнутым библейским словцом, умением строить мизансцены. Был опутан всем строем его речи, очень красочной, звучащей по-современному (читал я в русском переложении). Удивило умелое чередование лести и угроз, похвал и запугиваний, посулов и намёков, ладана и ругани (Курбский язвительно упрекал Грозного за его площадной мужицкий язык: «словно вздорных баб россказни», «бранишься как простолюдин»).
Таким образом, весь текст романа писался под влиянием стилистики Грозного, что понятно: если он – главный герой, то и передано всё через его сознание и речь. Притом стиль прозы Грозного отражает, на мой взгляд, черты его характера: те же перепады настроения, нервность, противоречивость, резкость поступков и слов, склонность к юродству, судорожный страх перед Богом, подозрительность, внезапные взрывы агрессии и последующего раскаяния. Сам процесс архаизации лексики был довольно труден, это дело техники, не буду на ней останавливаться, но скажу, что для архаизации текста романа я проштудировал разные источники (в том числе Словарь редких и старинных слов, архаизмы и неологизмы, русские говоры, старинные имена, старинные ругательства, латинские выражения, поговорки и прибаутки, татарские пословицы, крылатые слова и выражения и др.).
Я увидел в Иване Грозном человека, стоящего перед дилеммой «быть ли христианином, прощать врагам своим, подставлять щёки или быть грозным владыкой, который огнём и мечом мстит и от которого шарахаются народы (и свой в том числе)»? Дальше стал копать глубже, читать материалы, историю, и Грозный открывался передо мной своими новыми необычными сторонами. Захотелось поделиться этими знаниями. (Кстати, в своём христианском исступлении он напомнил мне первых христиан – у него на лбу был мозольный нарост от биения об пол во время молитв.)
В романе я часто использовал такие приёмы, как сны, видения, болезни, мечты, галлюцинации, навязчивые идеи, бред. Через подсознание, в пограничной психической ситуации, обнажается зерно личности, её истинные намерения, мысли и желания, и это для романиста очень удобно и важно – показать через экстрим правду о герое. Вообще фантасмагория – элемент человеческой жизни, в XVI веке тем более, а уж в связи с Иваном Грозным – почти обязательный компонент. Сам он до конца жизни верил волхвам и ведунам и был не только писателем и актёром, но и режиссёром, который ставил страшные сцены (будь то усмирение Новгорода или взятие Казани), в которых лилась живая кровь и горели реальные города.
Корневые проблемы русской истории «что делать?» и «кто виноват?» были актуальны и во времена Грозного, и сейчас (я перечитал «Петра I» Толстого, и там схожая проблематика). Впрочем, разве не логично, что в империи, которую Рюриковичи основали на татарско-византийский манер, продолжают действовать законы, заложенные в неё изначально, в колыбели, и страна время от времени впадает в тиранию разного уровня жестокости, после чего обычно следуют смута и резня?.. Испокон веков бранятся и дерутся бояре, князья чванятся и строят заговоры, опричники рыщут, режут, грабят, хватают, сажают, дьяки берут взятки, стряпчие делят поборы, судьи требуют мзду – «золотого гуся» (жареного гуся, набитого золотыми монетами), церковь сжирает всё, что пролетает мимо, воеводы раздувают пожары, чтобы поживиться на войне, а народ молча взирает на всё это – а что ещё делать? – и радуется, что есть ещё еда в лавках.
Главный вопрос, который часто задают во время интервью: «Если писатель живёт вне речевого поля, это ему помогает писать или мешает?» Я постепенно прихожу к выводу, что изоляция и языковое одиночество писателю скорее помогают, чем мешают: он может беспрепятственно погружаться в глубины своего языка, он как бы уходит из зоны контроля, где он постоянно, со всех сторон, окружён полифонией чужой речи (часто примитивной). Ведь вне языковой среды нет каждодневного наплыва и давления речи десятков людей. Вначале писатель учится языку у людей и книг, а потом люди учатся у писателя его языку, поэтому возникают такие понятия, как «язык Достоевского» или «язык Гоголя» (кстати, каждый из них прожил много лет за рубежом, где вообще было создано немало шедевров русской литературы).
Одиночество – колыбель всякого творчества, а любая изоляция – языковая или иная – подталкивает писателя к погружению в глубины своего тезауруса, к словотворчеству, словообразованию, к экспериментам со своим языком, который, по меткому выражению Михаила Шишкина, писатель «всегда носит с собой». Можно только добавить, что язык надо не только носить, но время от времени перетряхивать, пересматривать, разглядывать и перебирать, чем, собственно, все пишущие и занимаются. По большому счёту писатель – не ученик, а учитель языка, не стабилизатор, а трансформатор языка, чья специфика выражена в отборе лексем, предпочтениях, выборе словоформ – словом, в работе с тем, что имеется в мозговом компьютере. И мне кажется, чем писатель старше, тем меньше он нуждается во внешней подпитке языка и тем более склонен к манипулированию собственными резервами. Молодые писатели пишут о том, что было, зрелые – о том, что могло бы быть, а старые – о том, чего не могло быть, но, вопреки здравому смыслу, случилось на страницах их текстов.
Чтобы писать, мне нужна триада «одиночество – молчание – музыка». Всё это я нашёл в Испании, на побережье Коста-Бравы, в маленьком городке, куда выезжаю, чтобы там писать сырые болванки текстов. Встаю и засыпаю с мыслями о романе, живу в нём, обговариваю вслух диалоги. Роман – это огромный дом, где кипит жизнь, только её надо вскрыть, обнаружить, вынести на поверхность. Так по мановению твоего пера творится вторая реальность. Это лучшие минуты жизни – просветления, подъёма духа и сил, когда понимаешь, что на самом деле на свете есть две вещи, ради которых стоит жить и будет жаль потерять после смерти – литература и музыка. А самому писать – высшее счастье, дар, он спасёт и вывезет из любой катастрофы, коих не счесть на человеческом пути.
Германия, 2018Александр Етоев. Не сам о себе, так кто?
…О себе писать неприлично, возможно – скверно. Когда знаешь, что до тебя о себе писали такие… такие… Ну, надеюсь, вы поняли, какие такие авторы писали до меня о себе. Я однажды записывался на телепередаче с профессором Борисом Авериным и ляпнул сдуру что-то про Гоголя в контексте с самим собой. И, мне потом рассказывал мой товарищ Павел Крусанов, дочь историка литературы профессора Наума Берковского Мария Наумовна Виролайнен (жена Аверина) смеялась надо мной так, что люстра чуть с крюка не сорвалась и не упала на обеденный стол с напитками. Сравнил, мол, репей с подсолнухом. «И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую…» – как-то так. Скверно, я понимаю.
Но литература вообще вещь скверная. Если она литература, а, скажем, не простокваша, которая бережёт желудок, а сердцу и голове никакого проку. Для наглядности возьмём алкоголь. Например, мой товарищ писатель Носов, когда пишет, алкоголесодержащие жидкости не употребляет в принципе – употребляет, только когда напишет. Врёт, конечно, но он это сам сказал. И это ему помогает в прозе. Мне, к сожалению, – нет, не помогает. То есть не то чтобы я, если пишу, не отрываю горлышко бутылочное от губ, но иногда прикладываюсь. Проза после этого пляшет, как синусоида, а поэзия и того извилистее…
Знаете, кстати, что некоторое время назад всех пьющих людей планеты поразило удивительное открытие, сделанное британскими астрономами. В космосе они обнаружили гигантское газовое облако, состоящее из паров метилового спирта протяжённостью порядка четырехсот шестидесяти трёх миллиардов километров. Оно, это облако (цитирую сообщение), «имеет форму гигантского моста, накрывающего область формирования новых звёзд в нашей галактике, и вращается вокруг центральной звезды по орбите, подобной орбитам планет».
Представляете? Ведь если в родной галактике свободно в больших количествах плавает в виде пара метиловый спирт, то где-то по орбите другой звезды наверняка вращается спирт этиловый. Это ж сколько бутылок алкоголесодержащих жидкостей можно сделать из такого объёма протяжённостью в четыреста шестьдесят три миллиарда километров?!!
Это так, отступление в сторону. Теперь по делу. Один писатель написал песню. Такую:
Как бы так правильно жить, чтобы душа не болела, чтобы не старилось тело… Как бы так правильно жить? Как бы так правильно жить, чтобы жена не ругала, чтобы меня не пугала, что перестанет любить? Как бы так правильно спеть, чтобы подросшие дети помнили песенки эти… Как бы так правильно спеть? Как бы так правильно жить, чтобы мой дом, что я строил, выстоял, не обескровел… Как бы так правильно жить?Как правильно жить писателю, чтобы книжки его писались и при этом ещё и читались? Гамлет, ты где? Ответь! Мёртв Гамлет, молчит.
Как правильно жить писателю?
Давайте это дело расследуем.
Начнём с азов. Ты написал книгу. Роман (повести и рассказы не предлагать). Выложился, рассказал, как плохо тебе живётся, как мышь повесилась в холодильнике, как тебя девушки не любят, как пахнет у тебя из-под мышек.
Написал, предложил в редакцию. А редактор, сволочь поганая, плюнул тебе в святое (где оно, это святое, – вопрос индивидуальный, у каждого святое своё), отписался в электронном письме: извините, мол, такого товара и без вас лопатой не разгрести. И ты, униженный, оскорблённый, идёшь и вешаешься, как народный поэт Есенин, и всё из-за паскуды-редактора, который не дал твоему творению ходу до читательских масс и до увековечивания тебя в зале литературной славы.
Писатель прав, редактор – говнюк (это так считает писатель).
Но как мудро сказал в своё время поэт Сергей Михалков, написавший советский гимн: «Ну, говнюк („гимнюк“, конечно, и не о редакторе он сказал, а о братьях-писателях, осудивших его за якобы лизоблюдство за столом верховного руководства. – А. Е.), а что? Всё равно слушать будете стоя».
Вот и стойте стоя, и слушайте слушая, уважаемые товарищи писатели.
Потому что издатель прав (это так считает издатель).
…Моя жизнь в литературе не состоялась. Лень, алкоголь, женщины… Отойдёшь от неё, от женщины, хлопнешь стакан вина, подойдёшь к столу, посмотришь на недописанное, зевнёшь… Лень. И снова вино и женщины.
Семнадцать книжек за одну жизнь. Одна жизнь и семнадцать книжек… Смешно! Лев Толстой насочинял сочинений на целых девяносто томов, и каждый размером с гроб. А я семнадцать тоненьких книжечек. Толстого отлучили от церкви. А меня только из комсомола выперли. Толстой подался пешком в Астапово, которое потом переназвали в Львово-Толстово, а я как сижу в спальном районе в Питере, так из этого сонного района и не вылазю. Сплю в нём.
…Книжечка «Как мы пишем», изданная в 1930 году и переизданная в 1989-м, мною изучена основательно. Хорошие в ней представлены имена. Белый, Горький, Замятин, Зощенко…
Очень мне нравится у Андрея Белого описание его работы над романом «Москва». Белый пишет, цитирую: «Я прочёл четыре истории математики, чтобы понять психологию Коробкина в третьей части романа… а читатель не встретит ни цитат, ни „вумных“ рассуждений, всё это убрано внутрь жеста, с которым Коробкин разрезает цыплёнка».
Представляете? Прочитать четыре истории математики, чтобы описать траекторию ножа, которым режут цыплёнка!
Я в своё время залез на крышу старого дома в Прядильной улице, где когда-то жил, чтобы узнать цвет железа, вернее, краски, которой оно, кровельное железо, было покрашено, и всунуть этот реальный цвет в повесть, которую сочинял. Мог бы, кстати, и сверзиться – осень была, и скользко, – и не узнал бы ни один из читателей на земле цвета этого долбаного железа.
Но писатель – мужик настырный, если он, конечно, не баба, – залезет хоть на скользкую крышу, хоть на гору Килиманджаро, как американец Хемингуэй.
…Очень не люблю авангард. «Идущих впереди», если перевести с французского. Люблю идти позади. А то и вообще в сторонке. Клюкву собираешь в лукошко, рыжики, другие грибы. Опёнки там, прочую землянику.
Ну скажите, что есть «Чёрный квадрат» Малевича? Что есть сам Малевич, в конце концов? Ксения Букша, ау, ответь?! Почему он прогнал Шагала из Витебска? Антисемитизм, что ли? Или большевизм в чистом виде? Столкни ближнего и нагадь на нижнего? Как в курятнике? Или подсказал Эль Лисицкий? Ох уж эти евреи!..
Следую по ассоциативной цепочке, как кот у Пушкина на дубе у лукоморья. Мой главный, мой любимый еврей – это Женька Йоних из маленькой повести для больших детей «Бегство в Египет». Если перевернуть фамилию, то получится Евгений Хиной. Где он сейчас, Хиной? Жив, здоров ли? Не знаю. Эфир, интернет молчит. Может, он на Проксиме Центавра, куда бежали евреи в поисках земли обетованной на звёздном корабле, ведомом капитаном Бобом Хайнлайном? Вполне вероятно, кстати.
Почему я пишу об этом? Потому что эта странная повесть, я имею в виду «Бегство в Египет», всплыла неожиданно на поверхность и оказалась не поражением, а удачей.
Вот список премий, которые я получил за неё:
1998: Мраморный фавн. Что это за премия, я не знаю – видимо, виртуальная. Вручает её по личной инициативе критик и писатель из Киева Михаил Назаренко.
1999: Интерпресскон.
1999: Странник.
1999: Золотой Остап.
Самая весомая – это «Странник», килограмма два, если не больше, – гляньте в интернете, как она выглядит, и убедитесь, что я не вру. Самая золотая, самая блестящая и любимая – «Золотой Остап». Золото, конечно, в ней липовое, как всё у Остапа Бендера, но фигурка благородная, как в романе. По поводу этой премии случился мини-скандал. В том же году, 1999-м, на премию номинировался роман питерского писателя Андрея Измайлова (название не помню, забыл). Победил я. Измайлов провёл расследование и выяснил, что я (то есть я, Етоев) – фигура фиктивная. То есть по всем показателям победить должен был он – по качеству прозы, по юмору и так далее. Но ведь мировое закулисье стоит на страже. Сказано: «Измайлову не давать» – значит Измайлову не давать. Ему и не дали. Вот он и обижен с тех пор на фиктивную фигуру Етоева, писателя, который не существует.
Премии – дело третье. Про первое дело не говорю, про второе в деле писательском стоит сказать особо.
А второе дело в деле писательском это вот что.
Скажем, вы придумали что-то типа сюжета. Есть репка, дед её посадил, его объявили кулаком, репрессировали в тридцатом году, сослали в Сольвычегодск добывать для родины соль. Внучка плачет, собачка плачет, мышка трётся хвостом о кошку, переживает. И тут приходит товарищ Сталин и объявляет амнистию. Дед возвращается из ссылки, поливает репку, она растёт – растёт и растёт, растёт и растёт – и дорастает в конце концов до Луны, спутника нашей родной планеты. Хочет расти выше, а на Луне – селениты (читай Уэллса). И селениты эти репке не дают расти дальше, они, селениты, косят её своими селенитскими косами. Но наши космонавты не дремлют. Они как выпрыгнут из лунного корабля, как дадут этим селенитам по харе, и селениты, понявши сразу, что во Вселенной все люди братья, подносят космонавтам цветы и зарывают косу войны, которой они косили репку, в твёрдое лунное основание.
Этот сюжет не мой. Таких тридцать три сюжета присылают мне каждый день (я, как редактор «Азбуки», крупнейшего из российских издательств, осуждён на пожизненное заклание такими вот высокохудожественными писаниями) и говорят, что это оригинально. Я отвечаю: да, это оригинально, пишите дальше. То есть не даю остывать писучей энергии человеческой, заставляю её работать.
Так что же это за второе дело такое, о котором я заикнулся только что? А чёрт его знает, друзья мои, пока писал про репку – забыл. Но, скорее всего, суть в том, что раз уж ты назвался писателем, так пиши, как сказано выше, дальше.
…Теперь скажу как писатель… Нет, чуть-чуть помолчу. Потому что Пришвина вспомнил. Приехал он как-то в свою деревню, автор уже известный, правда в узком кругу, но гонорары имел приличные. Местные мужички его спрашивают: «Как живёте? Чем на хлеб зарабатываете?» Пришвин мнётся. «Писатель я, – говорит, – книжки пишу». Те на него смотрят, как на блаженного. «Книжки? – говорят. – Ты к нам приходи косить, будешь жить, – говорят, – как человек, а не какой-то, прости боже, писатель». Пришвин молчит, неудобно Пришвину, он за час работы с бумагой получает больше, чем они за неделю. А сказать стыдно.
Сейчас о таком благополучии писательском можно только мечтать. А раньше было. «Инженеры человеческих душ» – так сказал Юрий Олеша. И Сталин его процитировал на знаменитом балу писателей в московской квартире Горького. И одесскому острослову Олеше это спасло жизнь. Спился, правда, потом, но это потом.
…Я уже говорю о главном. О третьем, не главном, о втором, тоже не главном, я уже немножечко рассказал. Главное – не слово, не форма, главное – сам писатель. Чем живет, чем дышит, какими органами работает. Ластами ли. Прилипалами. Или нервными окончаниями.
Писатель – работа славная. Денег только не платят, если ты не Пелевин, не Сорокин и не Дарья Донцова. Но если ты не Сорокин и не Донцова, то тоже работа славная. Пиши себе всё, что хочешь. Если написал хорошо, возможно, тебя где-нибудь напечатают. Известным станешь, как Сумароков. Оставишь Холмогоры, как Ломоносов, и пойдёшь пешком покорять Москву. Таблицу Менделеева сменделеишь. Гашиш какой-нибудь сгоношишь. Писатель – работа славная.
…Я не ощущаю писательство как работу. На работу ходишь, а здесь сидишь, из дома не выходя, разве только когда мусор на помойку выносишь. Сидишь, сидишь, отвлекаешься всё время на что-то мелкое, на муху какую-нибудь за окном, на облако пухлое, на сносях, готовое вот-вот разродиться, находишь себе оправдание в том, почему сидишь, ничего не делаешь, потом перечитываешь написанное вчера, позавчера, неделю, месяц назад, правишь что-то, возвращаешься снова к последней фразе, вычёркиваешь её. Смотришь на муху, на облако, успевшее, пока ты вычёркивал, разродиться каким-нибудь археоптериксом, и вдруг находишь нужное слово и – потекло, поехало…
…С 2000 года стал вести электронную записную книжку, до этого записывал на всём, что под руку подвернётся, или фиксировал в дешёвых блокнотиках на плохой бумаге. Вспомнил историю какого-то человека, ведшего амбарные записи в бурный XIX век, которые были изданы, по-моему, БАНом (Библиотекой Академии наук). Там, в этих записях, только вздохи, ахи и – цены! То есть сидит человек, носом ткнувшись в своё писание, прикидывает: сколько с этого я сдеру, сколько с другого, какое варенье (чтоб подешевле) на стол для гостей поставлю, в который час свечку погашу, чтобы не нагорала… А в это время в Петербурге декабристы бунтуют, Кавказ дыбом встаёт… А здесь, в записях, – цены, свечки, варенье… Благодать!
У меня записная книжка примерно такая же. Свечки, варенье, цены… Помните, кто не помню, но кто-то из французов посетовал: мемуаров-де осталось от свидетелей эпохи читать не перечитать, а ни одной расходной книжки домохозяйки с записями цен на покупки, на то, на это, не сохранилось. А ведь все эти бытовые чёрточки значимы в истории не менее, чем убийство Хрущёвым Сталина. Или Сталиным Хрущёва – кто знает, подскажите, как правильно, а то я с этими Хрущёвыми – Сталиными запутался уже подчистую.
Всё это уходит в работу, любая мелочь. В рассказ вставишь фразу из записной книжки, в повесть введёшь фамилию из услышанных, запомненных, реже – придуманных, ещё куда-нибудь что-то перенесёшь на грядку, чтобы цвело после полива и глаз радовало. Важный для писателя инструмент – записная книжка. Обратите на это внимание, граждане, в литературу входящие.
…Теперь о моём взгляде на мир, вернее – на мироустройство. У нас, у вепсов (а я из вепсов), всё, как ни крути, анти. Даже антиматерия и та – анти. Мы, со своей Вепсской возвышенности, смотрим на мир (мироустройство) – налево, на Европу, направо, на Азию и Америку, прямо – на Африку, Австралию и острова, к Африке и Австралии прилежащие, – как на что-то сморщенное и мелкое, озабоченное смешными проблемами вроде демократии, толерантности, феминизма, плюрализма, абстракционизма и прочих искусственных пузырей, извлекаемых из обмылков жизни… Всего этого в природе не существует. В природе существует природа. В природе существует язык, на котором говорит Бог, и язык этот не родня привычному – человеческому, языческому, эстрадному, телевизионному, политическому, трамвайному, бытовому, кухóнно-рыночному, – на котором говорят люди. Или предпочитают говорить.
…То же и революция. Вот мой бывший товарищ, киевский писатель Адольфыч, агитировал меня за майдан. Это когда я повис на нём, уговаривая сделать рассказ для сборника «Русские женщины». Он не прислал рассказ, сославшись на их майданную революцию: революция, мол, важнее. Я считаю наоборот: самое важное в этой жизни оставить после себя не развалины (следствие любой революции), самое важное в этой жизни (которая коротка, кстати) – оставить после себя рассказ, повесть, роман, что-нибудь, претендующее на вечность, – вдруг читатели в будущем выковыряют из литературных окаменелостей твоё сочинение и скажут: «Сие хорошо есть».
…И тогда я пошёл в фантасты. Это я вам о том, как человек входит в литературу. Автору начинающему что нужно? Правильно! Чтобы кто-нибудь сказал начинающему: да никáка, брат, ты писáка?!!
Где-то к середине восьмидесятых я вдруг почувствовал себя великим писателем. Написал двухсотстраничное сочинение о лучшей в мире реке Фонтанке и двух придурочных недотёпах-школьниках, живущих на её берегах (много позже, отжав всю лирику, я переделал эту долгую прозу в маленькую, на три листа, повесть для больших – так я обозначил её – детей). Но почувствовать – это одно, а быть признанным великим – совсем другое. Чтобы тебя признали, нужен круг единочаятелей-читателей (спасибо писателю Рыбакову за хорошее слово «единочаятель»), способных оценить твою гениальность.
И вот тут Бог послал мне Плейшмана.
Плейшман – не человек, он люден. Кто такие, спрóсите вы, людены? К человечеству они отношения не имеют, это не люди – нéлюди, некое братство вроде масонского, свихнувшееся на братьях Стругацких и вызывающее на своих тайных сборищах дух летучей марсианской пиявки и земного её товарища ефремовского олгоя-хорхоя. Что есть по Стругацким людены – это самозародившаяся (или осеменённая инопланетным разумом? – здесь я не совсем понял) нетупиковая ветвь человечества (в отличие от нас, тупиковой), развивающаяся не как мы – в плоскости, – а устремившаяся в высоту, в мудрость, в единое вселенское братство.
Плейшман (когда я с ним познакомился, он был ещё не люден) маскировался под прожжённого спекулянта-книжника, паразитирующего на главной слабости российского интеллигента тех лет (80–90-е годы) – на дефицитных книгах. Что-то мне он тогда продал впятидорога, и я, попавший в спекулянтские сети, поведал Плейшману о своих проблемах.
«Нет проблем», – ответил спекулянт Плейшман и рассказал о семинаре Стругацкого: что, мол, там он со всеми на «ты» и за руку, и Борис Натаныч, младший из братьев, лично консультируется с ним по многим щекотливым вопросам. «Только чтобы туда попасть…» – спекулянт Плейшман сощурился, глазки его забегали, потом он сосредоточил взгляд и пристально посмотрел на меня. Я вздохнул, потому что понял, что не единым искусством живут писатели с великими именами, потянулся рукой к карману, но Плейшман мою руку остановил. «Чтобы туда попасть, надо представить Борису Стругацкому пару образцов своей прозы. Фантастической».
Особый упор спекулянт Плейшман сделал на прилагательном «фантастической».
У меня же, как на грех, к тому времени с фантастикой в современном её изводе были прохладные отношения. Кроме классики, Жюля Верна, Уэллса, Обручева, Ефремова, я ее практически не читал. И не знал, что пишется в этом жанре. В чём Плейшману мгновенно и повинился.
Плейшман вызвался меня просветить и тут же выложил с десяток фамилий наиболее продвинутых авторов. Помню, были среди них такие гиганты, как Гуляковский, Тупицын, Павлов, кто-то ещё, всех уже не упомню. В то время (середина восьмидесятых) из плейшмановской большой десятки я не знал ни одного имени. И тут же принялся упущенное навёрстывать. Осилил Павлова, прочёл Гуляковского, на Тупицыне не выдержал и сломался.
Зато я понял, как делается фантастика.
В общем, сел я за пишущую машинку и бодро изобразил что-то из жизни роботов. Передал сочинение Плейшману, и тот унёс его на высокий суд. Ответ я ждал, как ждут приговора. Плейшман позвонил через месяц. «Плохо, – передал он ответ. – Но мэтр сказал, что задатки есть. Приходи на Воинова, 18, очередной семинар такого-то».
Так я стал сначала участником, а скоро и полноправным членом странного фантастического сообщества под названием «Семинар Бориса Стругацкого». О чём ни чуть не жалею, потому что люди там были славные, пили много (шеф наш, Борис Натанович, постоянно нас укорял: «Пить надо меньше, а писать больше!», сам он не пил практически, при мне выпил единственный раз рюмку водки, когда мы поминали замечательного киевского писателя Борю Штерна в ноябре 1998 года), а в промежутках писали прозу. Фантастическую, бывало – хорошую.
…А потом я пошёл в поэты. То есть пошёл-то я в них давно, лет, наверное, в тринадцать-четырнадцать, чтобы понравиться девочкам-одноклассницам, но, должно быть, флегматичные одноклассницы были холодны к высокой поэзии, потому и не оценили мои пространные кладбищенские поэмы, предвосхитившие лет на тридцать сочинения в стиле хоррор, от которых отбою не было в «лихие» девяностые годы, да и сейчас они востребованы, по-моему (правда, в прозаическом виде). Вот начало одной из них:
На кладбище номер шесть с мертвецов сбривали шерсть…Как вам такое начало? По-моему, готовый зачин для народного сериала «След». Далее – работа продюсера. А девочкам не нравилось почему-то. Дуры, думаю, потому что.
…Придя в поэты (кажется, 1990-е – начало 2000-х), я тут же из них и вышел. Должно быть, время стало другое, поэты заговорили громко, как во времена стадионов, Евтушенко и ботинка Хрущёва на Генеральной ассамблее ООН.
Быть не громким снова стало не модно. Не подай себя с приправой из рэпа, не атакуй барабанные перепонки безумной поэтической канонадой, не потрясай при публике тощим членом, не читай стихов в водолазном костюме со дна реки или, того лучше, из шкафа, который на руках добровольцев возносится по пролётам лестницы, – и кураторы из поэтического начальства скажут тебе: «Отстой!»
Но ведь поэзия жива не эффектами. Бог поэзии не в жесте, а в сути. Как русский Бог не в силе, а в правде.
Суть поэзии, как это ни банально звучит, в передаче себя другим. Словá могут быть какими угодно, жесты, способ подачи слов тоже могут быть самыми неожиданными. Главное – не потерять сути, того, собственно, чего ради человек и говорит рифмами, чего ради существует поэт. Не затем же он выстраивает в столбик слова, чтобы удивить окружающих, срифмовав «Шахерезада» с «шахтёр из ада». И уж наверняка не затем, чтобы предъявить слушателям малый отросток тела, который скрывается под трусами, о чём я упомянул выше.
Я, наверное, рассуждаю, как ретроград, этакий архаист-законник, живущий позавчерашним днём. Но для меня поэзия – вещество внутреннее, впитываемое не одними ушами. Для меня в ней важно сочувствие. Это значит чувство поэта, выраженное в его стихах, обязательно должно резонировать с чувством слушателя, читателя, то есть меня. Если такое не происходит, получается холод и пустота. А тогда уж никакие эффекты не дадут мне ни радости, ни тепла. Тогда хочется бросить в лицо фигляру фразу, по-маяковски грубую: закрой свое поэтическое хлебало!
…Я учился у всей русской (и не только русской) литературы (вернее, питался ею), и трудно выбрать из океана, мною прочитанного, каплю, определившую меня как меня.
Началось всё, насколько помню, с Курочки Рябы. Мне четыре года, мама читает мне эту величайшую из трагедий об утраченном яйце-счастье, и я плачу и кричу маме: «Хватит, мама, не надо!» Яйцо мне жалко. Не надо разбивать яйцо! Мышеловку поставить надо, чтобы мышка, сволочь, не махнула своим хвостиком-червяком. Или хвост отрубить ей, гадине!
«Трёх мушкетёров» (почти 800 страниц, Детгиз, 1955 год) я прочёл за 20 часов, примерно. Скорость чтения, считайте сами, – сорок страниц в час, 0,666 страницы в минуту.
Жюля Верна я проглатывал за вечер роман. Прочитал всего, весь серо-голубой двенадцатитомник «Худлита» 1950-х годов. Даже сибирского «Михаила Стогова» прочитал… Вру, «Строгова». Стогов – это наш, питерский, не француз, хотя и перекинулся в католичество, и не Михаил, а Илья.
Шпионские книжки с косой полосой на обложке («Библиотечка военных приключений») я прочитывал в вечер по две, по три. «Конец Большого Юлиуса», «Кукла госпожи Барк», «Приключения майора Пронина», «Атомная крепость», «Над Тиссой», «Объект 112»… Это было счастье, когда я читал их. И несчастье, когда книжка кончалась и шпиона разоблачали. Разоблачали б его подольше, чтобы подольше длилось для меня счастье читать про шпиона неразоблачённого.
А удивительные, прекрасно-великолепные, таинственно-романтические «Внуки Марса» и «Пылающий остров» писателя-фантаста Александра Казанцева. А романы Георгия Мартынова, сны о которых навязчиво, как безбилетник в кино, приходят ко мне по сей день ночами, – «Звездоплаватели», «Гость из бездны», «Каллисто», «Каллистяне»…
Знаете, что такое бьеньетостанция? «Бьень» – на каллистянском языке означает «передача». «Ето» означает «волна». Если объединить их вместе, получается «волнопередающая станция».
Каллисто – планета моей мечты. Имя командира каллистянского корабля-шара с сотами-иллюминаторами по бортам звучит для меня слаще музыки Моцарта и Чайковского, вместе взятых. Диегонь. Только вслушайтесь в звуки этого волшебного имени. Хлебников за такое имя разбил бы доски всех в мире судеб и полжизни ходил лунатиком, пробуя на язык каждый звук.
А мавзолей героев каллистянского народа – корабль на дне неземного моря с развевающимся зелёным знаменем? Это вам не конструктивистский пенал с трибунами по фасаду на Красной площади. Это романтично, как бригантина из песни на стихи Павла Когана.
Мир моего детского чтения прекрасен, как сад из рассказа Вильгельма Гауфа о принце-аисте.
…Реализм я в свою калитку не допускал. Он сам в неё вломился в начале 1970-х, когда я чудом оказался на чёрном рынке в садике на Литейном проспекте позади магазина «Подписные издания», где собиралась подпольная книжная субкультура и где я потерял невинность. Случилось это после того, как зимой 1970 года интеллигентная общественность Ленинграда жгла ночные костры, перед тем как откроются двери книжного магазина и тебе достанется заветный талон на тридцатитомное Собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Там-то, в этом стоянии, какой-то из любителей подписных изданий и подсказал мне, что здесь, в саду, собираются по выходным книжники.
Так Етоев стал спекулянтом.
Да, я продавал книги. Но деньги, вырученные за них, я обращал во что? В книги же. То есть продал на рубль, а купил на три, на четыре. Не виноватый я, они сами, книжки проклятые, сгубили меня, несчастного.
И КГБ (для тех, кто не знает или забыл, – Комитет государственной безопасности, нынешняя ФСБ) меня из-за них потряхивал. Вот выписка, перепечатанная моею рукой (сканера тогда у меня не было; все мелкие недочёты, пропущенные знаки препинания и проч. сохраняю, как в документе):
«СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление КГБ при Совете Министров СССР по Ленинградской области
ПРОТОКОЛ ОБЫСКА
1 марта 1978 г.
Гор. Ленинград
Старший следователь Следотдела Управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской области ст. лейтенант Гордеев совместно с оперативными сотрудниками: ст. лейтенантом Добродубом, лейтенантом Белозеровым и следователем-стажером Рыжковым по поручению нач. отделения Следотдела УКГБЛО м-ра Савельева на основании постановления о производстве обыска от 1 марта 1978 г. с соблюдением ст. ст. 169–171, 176–177 УПК РСФСР, произвел обыск в квартире Етоева Александра Васильевича по адресу: гор. Ленинград, ул. Седова, д. 21, кв. 11.
При обыске присутствовали: Етоев Александр Васильевич и понятые: Побегалов Евгений Серафимович, прож.: Ленинград, наб. Фонтанки, д. 64, кв. 19 и Дмитриев Алексей Николаевич, прож. Ленинград, ул. Рентгена, д. 10, кв. 718…»
В классическом варианте понятых обычно берут на месте: это или дворник, или сосед; нет, наверное, не «или», а «и». В моем случае понятые ждали у двери дома, то есть их предупредили заранее, чтобы ровно во столько-то они были возле нужной парадной, дожидаясь чёрной оперативной «Волги».
Итак, «при обыске присутствовали…»
Далее: «Перед началом обыска в соответствии с требованиями ст. 170 УПК РСФСР Етоеву А. В. предъявлено постановление о производстве обыска от 1 марта 1978 г. и предложено добровольно выдать: предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, включая „самиздатовскую“ литературу, на что он, Етоев А. В., заявил, что в его квартире имеется „самиздатовская“ литература и после этого добровольно выдал следующие издания…»
Насчёт «добровольно» – это и вправду так. Самиздат у меня лежал на самых видных местах в комнате, поэтому заявлять, что мы, мол, не местные и ничего такого у нас, бедных, отродясь не водилось, было бы просто глупо.
А вот список обнаруженной и изъятой литературы, выбранные места:
«1. Документ, размноженный электроспособом, на 35 листах под названием „Сказка о тройке“ – из сумки, с которой Етоев А. В. был доставлен с работы на обыск.
2. Два тома (1-й том на 337 страницах; второй – со стр. 339 по 651-ю), размноженные электроспособом, под названием: Марина Цветаева „Неизданные письма“.
3. Книга, размноженная электроспособом, под названием: Бенедикт Лившиц „Кротонский полдень“.
4. Книга, размноженная электроспособом, под названием: Борис Пильняк „Повесть непогашенной луны“».
И так далее, всего 62 позиции.
Самым страшным обнаруженным и изъятым в результате обыска сочинением была книга Леонарда Шапиро «Коммунистическая партия Советского Союза». Ст. лейтенант Гордеев как увидел её, так прямо засветился от радости.
«Ну всё, Александр Васильевич, – так, кажется, сказал он, – это уже тюрьма».
От тюрьмы меня сохранил Бог. Единственное, чего я лишился, кроме изъятой и так и не возвращённой литературы, это работы в закрытом проектном учреждении Союзтрансмашпроект, куда меня распределили после окончания Военмеха. Но это оказалось на благо: я устроился в Эрмитаж, надышался музейной пылью и теперь, выпивая с приятелями, первый тост поднимаю, как водится, «за масло парижских картин», а второй, как это принято в обществе приличных людей, – за сосны савойские и их музыку, которую никогда не слышал, – только в таком порядке.
…Теперь расскажу притчу.
Был у меня в детстве приятель, Женька Йоних, он же Женька Хиной, который играл на скрипке (о нём я где-то в начале уже писал). Жил Женька на углу Прядильного переулка и нашей Прядильной улицы (это в старой петербургской Коломне), окна его комнаты на первом этаже в коммуналке глядели: левым окном в переулок, правым окном – в улицу.
Однажды к Женьке в ухо забрался клоп. Там раздулся, набравшись крови, и обратно выйти уже не смог. Утром в школе (а это был третий класс 260-й школы, на углу Лермонтовского и Садовой) клоп выползти побоялся – яркий свет, урок, шумные дети, – кто угодно выползти побоялся бы. Клоп погиб – от страха или от робости, – его вытащили пинцетом в медкабинете. А Женька Йоних после этого случая потерял музыкальный слух. Клоп укусил его за важную какую-то жилку, ту, которая заведует музыкальным слухом. Скрипка Женьки перестала играть. Он и так и этак тиранил её смычком, только звуки выходили убогие. В повести «Бегство в Египет» я об этом не написал, пожалел Женьку.
Если о слепом музыканте нам известно по повести Короленко, то о музыканте глухом информация отсутствует вообще. Был Бетховен, но Бетховен был гений, статистика таких не учитывает.
Так из Женьки не получился Менухин. Яша Хейфец из него тоже не получился. Сидит если не на Проксиме Центавра, то где-нибудь на израильском бережку, кидает в мёртвую еврейскую воду мелкие камешки-голышки́ и нюхает розу Иерихона, если в ней осталось ещё что нюхать.
Эту притчу о случае и таланте я вам рассказал неспроста.
Клоп в ней – аллегория жизни. Жизнь, как клоп, кусает не спрашивая, и стремления, надежды, мечты, желания вдруг трещат и отлетают от человека, как непрочная яичная скорлупа. Человек остаётся один на один с реальностью. Реальность, строгая, сухая, непримиримая, в глухой вонючей клопиной коже, говорит человеку жёстко: смирись или умри, человек.
Один смиряется. Другой умирает. Третий…
Третий говорит: ладно. Ну пропал у меня музыкальный слух, но голос-то не пропал, вроде бы. Попробуем себя в другом деле. И занимается другим делом. И дело у него получается. Вроде бы получается. Но об этом судить другим. Читателям, которые судьи.
Эй, читатели дорогие! Судите, да не судимы будете…
Это я обо всех, кто разочаровывается в себе.
Не надо разочаровываться в себе. Я разочаровался в шахматах, я разочаровался в людях, в жёнах в том числе, в детях, я разочаровался в химии, физике и прочих науках, я разочаровался в будущем, каким его описывали Стругацкие, я разочаровался в будущем, которое обещал Хрущёв. Но я не разочаровался в… чём? Подумайте и ответьте сами.
…«Не сам о себе, так кто?» – называется этот очерк.
Есть частушка, начало её не помню, конец такой:
…Как в народе говорится: главное – затихариться.Мысль частушки, думаю, в том, что чем тише живёшь, тем жизнь у тебя надёжнее. В том смысле, что смерть, ежели ты спрятался за кустом, не заметит тебя и убьёт соседа. Это правильная политика. Прячьтесь за кустом – и спасётесь. И жизнь вечную обрящете, это точно.
А есть люди, неумные, неумелые, которые говорят с похмелья: надо, мол, написать честно, чтобы ты, если напишешь, знал: если придут враги, то тебя за эти твои слова не пощадят, убьют…
…P. S. Веры я православной, русской, мужицкой. Не протестантской, не лютеранской. Ни в Ленина, ни в Лютера особо не верю, следую известной, мною же придуманной коротенькой песенке:
Уважаемые люди, не толкуйте о пустом: что нам Ленин, что нам Лютер, этот в кепке, тот с крестом.На этом писать кончаю (а не «заканчиваю», назло редакторам).
Ваш,
Александр Етоев…P. P. S. Забыл написать о важном. О городе, в котором родился, жил и живу поныне. О Ленинграде, о моём Питере.
Живя почти безвылазно в нём, я сменил столько районов, улиц, домов, квартир, что город, весь, целиком, стал моим вечным домом. Куда ни приду, на какую скамейку в каком угодно сквере, саду ни сяду, везде мне улыбаются тополя, садовые решётки, фонтаны, урны даже и фонари, чувствуют во мне своего, местного, послевоенного ленинградца, помнят меня мальчишкой, знают, что этот не нарисует свастику или бранное слово в подворотне или на стене дома.
Есть районы, для меня особенно близкие. Центр, Коломна, Васильевский остров, Невский район… Все они вошли в мою прозу, потому что они мои. И вся моя проза – их, этих родных районов.
Если говорить отвлечённо, то я живу в интересном городе. В нём, где ни пройдёшь, обязательно споткнёшься о камень, о который до тебя спотыкались Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков и классики калибром поменьше, что вышли из их бакенбард, шинелей и сюртуков. Многие жители Петербурга даже не подозревают об этом. Возьмём меня. Я три года ходил на службу твёрдо выученным маршрутом: от площади Восстания по Лиговке, за БКЗ «Октябрьский» сворачивал на 5-ю Советскую улицу, с неё на Греческий и шёл по Греческому проспекту до стен издательства, в котором нёс тогда трудовую вахту. Ходил, особо не задерживаясь вниманием на домах на моём пути. Ну, порой зацепишься взглядом за какую-нибудь диковинную лепнину, фикус какой-нибудь за стеклом, сморщившийся в своём горшке, в основном же бежишь, не думая о молчаливом каменном окружении.
Но однажды, перечитав Шкловского, то место в «Сентиментальном путешествии», где автор описывает события, сопутствовавшие его бегству в Финляндию в марте 1922 года, я посмотрел на угловой дом по Греческому и 5-й Советской, тот, что по диагонали от БКЗ, совсем другими глазами.
Именно сюда, в квартиру Тыняновых, пришёл Шкловский, чтобы провести ночь, когда в его собственном жилище в ДИСКе, Доме искусств на Невском, устроили засаду чекисты. А чуть позже, охотясь за бывшим эсером Шкловским, чекисты устроили на него засаду уже в квартире Тыняновых. Но Шкловский оказался хитрее.
Умудрённый такими знаниями, теперь я не пробегаю рысью мимо этого неброского здания, но всякий раз смотрю с уважением в окна на втором этаже, пытаясь разглядеть за стеклом призраки его былых обитателей.
Плохо, когда ходишь по городу и не видишь те великие тени, которые его наполняют.
Пусть даже не великие тени. Пусть тени невеликих людей, «маленьких», персонажей Гоголя, обитателей трущоб Достоевского, сумасшедшего пушкинского Евгения, грозящего медному истукану, неприкаянных довлатовских алкоголиков или легендарных митьков, не желавших никого победить.
Эти люди, хоть и выдуманы умом, такие же правомерные обитатели каменных ущелий и подворотен, такие же обретшие вечность почётные граждане Петербурга.
Близость человека и города держится не на квадратах жилплощади, не на штампе о городской прописке. Родство камня и человека крепится ощущением связи с людьми, жившими до тебя, теми, не будь которых «мы бы давно оскотинились, мы б осволочели», как написал в одном небезызвестном стихотворении один небезызвестный поэт.
Теперь уж точно кончаю.
Ещё раз
Ваш,
Александр Етоев.С Вами было очень приятно.
Шамиль Идиатуллин. Иду на грезу
Получено под роспись
Книги пишут, чтобы ответить на вечные, они же проклятые и дурацкие, вопросы. Чтобы высказаться. Чтобы стать богатым. Чтобы не работать в цеху или на «скорой помощи». Потому что нравится сам процесс. Потому что без этого слова нахлынут горлом и убьют. Потому что есть еще куча вариантов, в которой число «чтобы» и «потому что» примерно совпадает с числом отвечающих.
Он вообще дурацкий и бездонный, вопрос «Зачем люди пишут книги?», сопоставимый с «Зачем люди едят?». Или «Зачем играют?». Или «Зачем любят?». Не то чтобы не существовало единой для всех причины – она есть, наверное. Но каждый человек, спроси его десять раз, если по-честному и без подготовки, даст на один и тот же вопрос десять разных ответов.
С другой стороны, есть надо трижды в день, любить всегда и часто, а играть – пока недоиграешься. А зачем – с этой вот другой стороны – писать книги? После Пушкина, Шекспира, Гомера, не говоря уж о Хиросиме и Освенциме.
Да, вменяемый автор быстро перестает равняться на великих и ревновать к Копернику, протаптывая свой путь и лепя свой мир, не всегда всерьез веря, что кому-то этот путь и этот мир нужны. Не верит – но надеется. И может быть, зря. Может быть, натоптанное и налепленное им останется просто незамеченным человечеством, которому комфортнее в давно уже явленных мирах Пушкина, Шекспира, Гомера и заново заселенных Хиросиме с Освенцимом. Так случается. Сплошь и рядом.
Пока это трагедия одного, пяти, сотни отдельных авторов – с этим можно жить. Но нельзя исключать, что человечество и впрямь ударится вдруг в культурный фундаментализм и решит отказаться от побегов в разных смыслах этого слова. Сбросит листья, почки и будет держаться корней и ствола. Наступление нового Средневековья отмечается на отдельных участках суши по всей Ойкумене, так что нельзя исключать и того, что культурная парадигма нового времени будет держаться средневекового же культурного золотого стандарта: есть Библия (Коран, Тора, Упанишады и т. д., в зависимости от места действия), для особо одаренных есть античное наследие – ну и хватит с них и с нас.
Это, в принципе, уже происходит. Пока в отдельных сегментах: зачем нужен Гарри Поттер, если есть Том Сойер, зачем нужен Веркин, если есть Гайдар, зачем нужен Алексей Иванов, если были Вячеслав, Георгий, Валентин и даже Анатолий, зачем вообще нужна современная отечественная проза, если есть советская, зарубежная, литературная классика – ну и Библия с античным наследием, понятно.
А вот зачем.
Литература, как известно, не просто развлекает, занимает, наполняет голову идеями, а живот бабочками – она ищет и, если надо, создает смыслы. Что делать, кто виноват, кому выгодно, зачем мы нам, дальше-то что – проклятые вопросы меняются в зависимости от места и времени, а ответы на них бывают очень разными: очевидными, невероятными, мудрыми, наивными, неисполнимыми и дурацкими – но всегда необходимыми и всякий раз заточенными под, опять же, место и время. Логикой, индукцией-дедукцией и здравым смыслом эти вопросы берутся не всегда. И так получилось, что ответственность – от слова «ответ» – за них лежит в основном на литературе. Существовавшей сперва в виде гимнов и текстов, потом их официальных изданий, скрепленных металлом, огнем и кровью, потом – их ремейков различной степени вольности, а потом просто вольных упражнений.
Это не лучший способ добывания и хранения ответов, очень затратный, неточный и уж точно не гарантирующий ни их корректности, ни эффективности. Но других вариантов, если всерьез, у человечества нет.
Как и у отдельного человека, заваленного свинцовыми мерзостями, странными особенностями и даже вполне банальными обстоятельствами жизни, нет особых вариантов. Он может посоветоваться с родителями или друзьями, свалить все на подчиненных, отдаться воле начальства либо Божьего провидения – но если без дураков, то со своей жизнью ему придется справляться самому. Или не справляться. И тут всего-то два тактических приема: первый – ковать железо, пока горячо; второй – переспать с проблемой.
Во сне мы летаем, растем и находим ответы, в том числе невыразимые.
Литература – это пересып человечества. Если не во всех, то во многих смыслах.
Сон из руки
Сон, как известно, позволяет утилизовать ворох впечатлений, сваленных в черепную коробку за день. Пока мы спим, сознание и подсознание распихивают по полкам, нишам и аппендиксам все, что случилось с нами и не с нами в течение дня, недели, всей жизни, что могло и не могло произойти, бойко перемалывая все в зависимости от позы, глубины усталости, степени насморка, внешних помех и сугубо внутренних предчувствий, произвольно накидывая на жернова то, что случится завтра и творится сейчас, пока мы спим, а бодрствующий мозг ловит: тихую атаку выжившей мухи, рев перфоратора, курение соседа по балкону, дрожь кровати от снегоуборочной армады под окнами. Необязательная и непредсказуемая ерунда меняет рисунок сна, выпинывая его на совсем диковинные повороты. Сон строит модели, прогоняет варианты, помещает небывалые события в привычные декорации и наоборот, дарит нам счастье и победу, оставляет без штанов, роняет в объятия симпатичной соседки и несимпатичного начальника. Готовит, в общем, к жизни как уж может.
Понятно, что у сна есть множество прочих отличительных черт и обязанностей. Он позволяет отдохнуть, и даже красиво, перезапустить метаболический и иммунный цикл, отрепетировать вечный покой и прогулку по облакам, забыть обо всем или вспомнить самое важное, он может развлечь и завести, расслабить и напрячь, снять груз сердечных мук и тысячи лишений и увидеть таблицу периодического закона о чем-то большем. Сны как грезы (эта пара значений существует, наверное, в большинстве языков), сладкие, томные либо просто интересные, для сознания и подсознания играют примерно ту же роль, что и оргазм для процедуры репродукции и размножения: формально штука необязательная, но без нее поди обеспечь вдумчивое, постоянное и всеобщее внимание всего живого к теме. Сладостность и увлекательность грез, соответственно, лишь побочный эффект основного действия, направленного на упорядочивание собранных данных, выживание их носителя и его удержание в здравом уме и твердой памяти.
Примерно тем же самым в масштабе, увеличенном от одного человека до отдельно взятого общества, занимается литература – только, как правило, более целеустремленно и осознанно. Книги – это сны общества, раскладывающие по полочкам текущую реальность – с разной степенью умения, эффективности и доступности, понятно.
Рефлексия и стратегическое планирование – штуки очевидно скучные, поэтому их приходится прятать, как шершавый кулак в мягкую и гладкую боксерскую перчатку. Именно поэтому, а не только по закону Старджона, большая часть книжек, а также их высокотехнологичных производных, стоящих на костяках книжек, развлекает, отвлекает, возбуждает или просто позволяет не думать. И именно поэтому главная задача литературы связана все-таки с вопросами осмысления, ориентировки, целеполагания и выживания.
Настоящим героям покой только снится, а настоящие литераторы топят героев и читателей в грезах без сладости и покоя. Они тасуют людей и куски жизни, пробуя их на излом, разрыв и сжатие, с оглядкой в первую очередь на себя, близких и всех, до кого дотянутся. Это не всегда увлекательно, иногда неприятно, и хуже приятно пугающего кошмара вязкий морок, в котором ни ударить, ни убежать, ни проснуться. Приходится жить – а как, придумает автор. Хочет не хочет.
Тексты сплошь и рядом оказываются умнее автора, да и читатель давно наловчился извлекать из книги совсем не то, что закладывал автор. Так это и работает. Хоть и не всегда.
Но сон твоего дедушки твоей проблемы не решит – просто потому, что происходит в других декорациях и под другое звуковое сопровождение. И сон незнакомого тебе разного прочего шведа подходит тебе не всегда, несмотря на глобализацию и постиндустриальный предклониализм. Всякому читателю, как бы он ни стонал про желание отдохнуть от свинцовых мерзостей жизни, забот и бытовухи, интересно читать про себя и про свою жизнь здесь и сейчас.
Сон актуален, пока живет человек. Литература актуальна, пока живет человечество. Свежая местная литература актуальна, пока существуют языки, государства и социальные группы.
Полное собрание сбережений
Это не вечность и даже не слишком затяжная история. Феномен национальных государств и феномен общедоступной книги возникли более-менее одновременно – и, наверное, не по случайному совпадению. Книга полтора века была едва ли не единственным общедоступным утолителем сенсорного голода. Других почти не существовало, либо они были редки, дороги и специфичны. За это время человечество так привыкло к ней, что всерьез считает текущий формат единственно возможным и достойным бессмертия.
Как подсказывают ученые, книга – уникальный прикладной инструмент, превращающий личинку человека в сапиенса. Он легко и просто активизирует важнейшие отделы головного мозга, подключая логическое, образное, предметно-абстрактное и семиотическое мышление: ребенок учится распознавать символы, складывать символы в слова, а слова в предложения, переводить лексические конструкции в образы, закрепляя за каждым поведенческую характеристику, и каждый – за типом и группой (и не будем забывать про мелкую моторику, связанную с пролистыванием и разглядыванием книги). Такого функционала до сих пор нет ни у одного самого продвинутого и захватывающего носителя информационного или развлекательного контента.
Книга (детская, но не только) выступает и в роли поведенческого мануала, который может доступно, интересно, честно и весьма запоминающимся образом показать читателю (как правило, от противного), как в этой жизни принято знакомиться, дружить, драться, учиться, выбирать, не предавать, не сдаваться, – и что бывает с героями, которые действуют так, как не принято.
Книга, конечно, может всего этого и не показать: например, если показывать некому, потому что читателю книга не досталась – эта или вообще.
Мы никогда не были самой читающей страной, а последние годы окончательно развеяли прах этого ярлыка. Тираж от двух до пяти тысяч экземпляров стал стандартным и зачастую не выкупается почти 150 миллионами потенциальных читателей (еще 50 русскоязычных миллионов за границей – отдельная история). Да и нет у нас стольких читателей. Половина россиян не читает от слова «совсем», половина оставшихся читает в среднем раз в неделю, в основном то, что задали. Потому что некогда, потому что книги дорогие и неинтересные (а сериалы, игры и соцсети дешевые и интересные), потому что в детстве начитался. А на самом деле потому, что нет привычки читать.
Эта привычка нарабатывается на всю жизнь – и в довольно короткий жизненный период, где-то между 12 и 16 годами. В это время подросток во всех смыслах нащупывает себя и свое место в жизни, критически осмысляя все, что было раньше, и старательно отпинываясь от всего, что считал несомненным, авторитетным и важным. Вдруг выясняется, что родители ни фига не понимают, учителя врут, друзья просто дебилы, а жизнь – боль. Вытерпеть эту боль помогают новые друзья, зачастую воображаемые. И вот тут огромную роль могут сыграть книги, которые именно что не лезут в душу, но раскрывают ее и дают тысячи подсказок, в том числе довольно годных (потому что это смысл литературы – объяснять, что и это уже было, и кончилось вот так или вот так) либо просто сладко резонирующих с тихим плачем души (потому что это суть литературы – подхватывать стон, называть его песней и завершать припевом, помогающим жить дальше).
И если книга сыграет такую роль, вытащит мальчика-девочку из невыносимых, хоть и стандартных юных страданий, то читать мальчик-девочка, скорее всего, не бросит – потому что ништяками такой степени прокачанности не разбрасываются. С 16 до 22 будет почти неизбежный перерыв на первую любовь, ЕГЭ, студенчество и начало самостоятельной жизни – но потом привычка почти так же неизбежно возьмет свое. Если, опять же, вовремя подвернется нужная книга.
Если не подвернется, человек перестанет читать навсегда. Ну или начнет писать сам. Говорят, такое бывает сплошь и рядом.
У меня, впрочем, было немножко по-другому.
После детских припухших желез
Я решил стать писателем лет в десять, когда точно понял, что в морские пехотинцы меня не возьмут, – и жил с этой никому не выдаваемой мечтой года четыре. Происхождение мечты было абсолютно банальным: кроме книг, меня мало что интересовало. Пара хронических болезней укладывала меня в больничку в среднем три-четыре раза в год, а там и тогда других развлечений для паренька, привыкшего читать лет с четырех, просто не существовало. Читал я все и везде. В основном фантастику и детективы, конечно, но их было мало, потому в замес шли любые печатные листочки, попадавшие под руку, по пять книг одновременно. Когда книг не хватало, пытался писать сам – лет в десять начал фантастический роман про пиратов, затевающих мировую войну с лазерами наперевес, первую строчку до сих пор помню: «Дэвид Трайс стоял у штурвала». Подростком написал несколько рассказов разной степени позорности, парочку даже послал в журналы «Юность» и «Парус». Ответы меня, понятно, оскорбили, особенно в части рекомендации заняться журналистикой, поскольку «литературные задатки у Вас есть, но опыта явно не хватает». Погоревал я, подумал и смирился с тем, что писатели – это специальные босые люди в бородах и со лбом до макушки, особый класс млекопитающих, примкнуть к которому мне вряд ли позволят эволюция и повышенная лохматость. А к рекомендации сотрудника журнала есть смысл прислушаться. Тем более что папа с мамой и классная руководительница твердят то же самое. И еще раз тем более, что журналистский дебют у меня случился лет в двенадцать: камазовская многотиражка (реальная многотиражка по нынешним-то временам, 40 тысяч экземпляров, что ли) перепечатала патриотический этюд, который я летом написал для пионерлагерной стенгазеты (в обмен на компот и разрешение профилонить тихий час).
Если бы я не мечтал о писательстве, я бы, скорее всего, не стал журналистом. Если бы я не стал журналистом, я бы наверняка не написал ни единой книжки.
Неохота повторять трюизмы про рукопись, лежащую в нижнем ящике стола у всякого уважающего себя журналюги, и про то, что писать роман начинают все газетчики, но лишь полпроцента заканчивают. На то они и трюизмы, чтобы быть бесспорными, но я в данном случае могу говорить только за себя. Я стал корреспондентом в шестнадцать лет и очень долго работал в режиме, который предусматривал сдачу в печать от трех до семи заметок в неделю. Такая нагрузка, ясное дело, не оставляет в организме буковок и мыслей на посторонние темы, какой уж тут роман, – да и отпуска проходят под известным по анекдоту лозунгом «Подальше от станков». Но порочные устремления все равно не попускали. После первого курса я перевелся с заочки на дневное и почти полгода обходил газеты стороной. Тогда и навалял простенький, нарочито вторичный и не предназначенный для публикации боевик толщиной ровно в общую тетрадь минус листочки, выдранные для записочек на лекциях. С махачами, перестрелками, гангстерскими войнами и изысканным названием «Я этого не хотел». Преследовались две цели: набить руку и доказать себе, что могу закончить начатое. Я поразил обе цели и успокоился лет на десять.
А через десять лет я стал редактором. Необходимость выдавать горы собственных текстов отпала. И обнаружилось, что железы, ответственные за буковки и мысли в организме, расторможены навсегда – они продолжают качать и бурлить, буковки и мысли копятся, просят выхода, а если не находят, собираются в неприятные шишки, которые зудят и не дают ни расслабиться, ни именно что уснуть – для себя, как заведено у нормальных людей.
И однажды ночью я сел и написал кусок текста, в котором маленький сын будит отца, чтобы показать, как далеко за окном НАТО бомбит Казанский кремль. Так получился пролог к роману «Rucciя», сюжет которого я вяло перекатывал по извилинам уже несколько месяцев. И понеслась.
А что, если – серьезно
Исходить приходилось из того, что если не я, то никто больше про это (про переход удалых политических игрищ в холодную, а потом и опаляющую войну Казани с Москвой, далее с Вашингтоном) не напишет. Естественно, я оказался не прав, но хотя бы успел коснуться темы одним из первых, а коснувшись – счастливо от нее отбежать. Ну и нашел относительно безвредный, хоть и весьма утомительный, метод сброса затапливающих голову мыслей, образов и сюжетов, никак не применимых в работе и в быту.
Я мучился с романом лет пять, оставлял и возвращался, горевал, что никогда это не кончится. И происходили все эти страдания в выходные и праздники – точнее, вместо выходных и праздников, потому что в нормальное время я продолжал работать редактором. Выматывал такой досуг страшно – особенно тем, что мог тянуться бесконечно: отсутствие дедлайна расслабляет профессионального журналиста до полного разложения.
Повезло: я увидел в сети объявление о том, что через месяц завершается прием работ на конкурс приключенческих романов. Уже и не помню, что обещалось победителю, – главное, возник повод за месяц, кровь из носу, добить текст. Добил. Даже отправил на конкурс. Ни в какие призы, понятно, не попал, да и конкурс не факт, что чем-то завершился. Зато у меня на руках была готовая книга. Ее можно назвать сырой, наглой, неумелой, слишком журналистской, слишком политизированной, остросюжетной, скучной, приключенческой и так далее – ради бога. Существенно другое.
Ее. Можно. Назвать.
Потому что она есть. В отличие от множества куда более ловко придуманных и ладно начатых текстов авторов поумелее да поленивее.
Так я сформулировал один из важнейших принципов, которого держусь до сих пор. Если не уверен, что сможешь дописать, – не начинай. А если начал – дописывай.
Этот принцип сформировал писательские привычки. Их две: не писать, пока возможно, а когда накопленные возможности исчерпаны, искать предельно короткий и малозатратный маршрут к новым.
Мне очень не нравится само занятие книгописанием, это как чирей выдавливать: долго, муторно и лучше без посторонних глаз. К тому же забирает оно от полутора-двух лет до трех-пяти, в течение которых я рассеян, раздражителен плюс время от времени запрещаю себе читать худлит и смотреть фильмы с сериалами, чтобы не отвлекаться и не подпадать под чужой слог, ритм и смысл. А не читать для меня – мука мученическая. Гораздо приятнее просто жить, читать, трепаться с детьми или валяться на диване в свое удовольствие. Так я и стараюсь делать, пока очередная история не возьмет за горло совсем плотно, не позволяя ни вздохнуть, ни уснуть. Тогда я, неслышно бурча, выползаю из теплой кровати и сажусь за комп. С намерением, понятно, спихнуть это ярмо поскорее. Поэтому я стараюсь как можно детальней продумывать план и как можно быстрее его реализовывать. В поставленные сроки, конечно, ни разу уложиться не удалось, но накопленный опыт все равно позволяет выпрыгивать из этого состояния быстрее и с меньшими моральными потерями.
К счастью, я быстро ухватил и смирился с тремя пусть не принципами, но принципиальными особенностями того, что получалось: для массовой аудитории мои тексты слишком сложны, для аудитории высоколобой мои тексты слишком остросюжетны, а сам я другие тексты писать не хочу. Я хочу писать то, что сам страстно хотел бы прочитать – чтобы про нас здесь и сейчас, чтобы интрига, без соплей, зато с честным ответом на вопрос «А что, если» – ключевой, вообще-то, для воображения, стратегического моделирования и актуальной сюжетной прозы. Общественно полезного сна, в общем.
А что, если вялые потягушки федерального центра со строптивым регионом наберут жара и остроты, а потом вмешается мировой жандарм, а строптивый регион решит не вставать, потому что мать не велела, пусть даже придется идти в отмах со всем миром? Ответом на этот вопрос стал дебютный технотриллер «Rucciя» (вышел под названием «Татарский удар»).
А что, если прекраснодушные россказни про великое советское наследие и техническое могущество, дремлющее на запасном пути, окажутся правдой, будут обильно политы деньгами, подкормлены политической волей – а потом неизбежно упрутся в политические, административные и финансовые пределы? Так появился «СССР™», грустная утопия про Илона Маска в Сибири – за десять лет до явления миру реального Илона Маска.
А что, если нормальный родительский страх «Как же дети без меня» воплотится не в крайней даже, но предельно нечеловеческой форме древней беспощадной жути в современном городе? Тогда появится дилогия «Убыр».
А что, если разведчик-нелегал, чудом выживший после цепочки предательств и скрывающийся ото всех, узнает об аресте единственного кровного родственника, дядьки, с которым герой поссорился и плохо расстался сто лет назад? И ничто дядьку не спасет – кроме разве что нелегала, если тот готов, конечно, подставить себя и свою семью ради забытого, неприятного, грубого, но единственного (если не считать сына) во всей Вселенной человека одной с ним крови. Так придумывался шпионский триллер «Варшавский договор», опубликованный под названием «За старшего».
На тот же вопрос, хоть и не столь явно, отвечает даже роман «Город Брежнев» – хотя не должен. Он исторический, а в истории все «если» меняются на «почему» с легким поклоном «если бы». История вообще является вечным вызовом для авторов: во-первых, она уже случилась и не изменится; во-вторых, срослась почему-то именно так, а не иначе; в-третьих, ровно поэтому мы стали такими, а не сякими. Каждый из трех названных пунктов классно ложится в повествовательную ткань, а когда их сразу три – чего еще желать-то? Привычного «А что, если». И оно там есть, в количествах – просто тщательно растворенное в сюжетных извивах.
Мне так интересно, а по-другому – не очень. Могу себе позволить.
Какое мое дело
Пишу я в свободное от работы время, – от работы, которая, в отличие от книг, приносит мне нормальные деньги. Поэтому книгами я занимаюсь по ночам или в праздники. Семья ворчит, я устаю. Смысла в этом нет никакого. Ни один гонорар не превышал моей месячной зарплаты. И чем меньше я этим занимаюсь, тем больше радуюсь. Но иногда какая-то тема хватает за кадык и тащит. Не дает жить, не дает вздохнуть. Просыпаешься с мыслью, лежишь, лежишь – надо записать. Нет, не буду записывать. Заспать не получается. Через полчаса все равно встаешь и записываешь. И так всю жизнь. А зачем тратить жизнь и делегирование сна невидимому другу на то, что даже мне не очень интересно? Это бессмысленно и неправильно.
А за тяготение к низкому жанру пусть топчут. Без интриги и ложиться неинтересно.
Важнее держаться конкретных героев, не пытаясь давать типажи, срезы общественной жизни и картины быта с прицелом на внимание несчастных словесников, полвека спустя обреченных пытать несчастных школьников твоей нетленкой (господи упаси). Литература – она вообще про частное, иначе это уже публицистика, социология, да что угодно, но не литература. К названным дисциплинам я отношусь с почтением, но читать люблю книжки про миры отдельно взятых людей, уже самостоятельно сводя эти миры в равнодействующие или противодействующие фронта. Не факт, что мой подход корректен или там оптимален – но другого у меня нет и не будет.
Есть такая тонкость: я с юных лет в журналистике, но всякий раз работал в не очень тиражных газетах, которые были особо популярны не у публики, а у экспертов и коллег из тиражных изданий. Так что я совсем не удивился, когда с книгами получилась похожая ситуация: меня вроде бы уважают некоторые коллеги и узкий круг особенно продвинутых читателей (в большинстве это почему-то женщины 35–55 лет с высшим филологическим образованием, а то и со степенью, меньшинство составляют начитанные мужики-технари), а за пределы этого круга имя громкое Козьмы почти не выносится. «Город Брежнев», спасибо премии «Большая книга» и сопутствующему хайпу, радиус чуть увеличил. Это страшно радует. Успех мне не слишком нужен, но мне нужен читатель, мой читатель, который, думал я, возможно, бродит россыпью и тоскует без моей яшмовой прозы – безотчетно, потому что просто не подозревает о ее существовании. Если узнал и встретился – ура.
Я всегда старался писать книги, которых мне не хватало как читателю. Десять лет назад у меня было ощущение совсем лютого несовпадения моих читательских интересов и пристрастий с, так сказать, массовыми или просто заметными. Сейчас лютость ослабла. Может, я изменился, может, читательский мир, а может, оба – изменились и оказались ближе друг к другу.
За последнюю пару десятков лет мы привыкли к тому, что новая проза, как и многие другие явления, образует пирамиду: в основании коммерческая фантастика, детективы, дамские романы и прочий треш, издаваемый гигантскими тиражами, на этом базисе покоится нестыдная беллетристика (средние тиражи), а вершину составляют образцы высокого стиля и отточенной мысли (тиражи небольшие, но «выстрелившие» книги могут посоревноваться со средним ярусом). Так вот, пирамида давно превратилась в неровный столбик: тиражи фантастического и криминального треша, быстро и успешно убивающего себя и своего читателя, скукожились и сравнялись с показателями так называемой большой литературы (2–5 тысяч экземпляров), а серединка истончилась: детектив умер как класс, триллер и родиться толком не успел, хорошая фантастика малозаметна, как и крепкая реалистическая проза.
Ну и надо сказать про перекос вершины: просвещенная общественность с почтением относится к биографиям, историческим романам и семейным сагам, не слишком приветствуя прочие темы. Хотя во всем мире несущими колоннами, скажем так, премиального мейнстрима служат также остросоциальный роман, интеллектуальная фантастика и роман взросления.
Мне очень не хватает таких книг.
С другой стороны, любимые издательства, сарафанное радио и литературные премии каждый год позволяют открывать как минимум одного-двух авторов, работающих в интересных мне направлениях.
С третьей стороны, несмотря ни на это, ни на то, что книга сегодня существует в заведомо проигрышном соревновании с горами куда более яркого развлекательного контента, доступного по щелчку, число упорных читателей до сих пор вполне сопоставимо с советским. И это искушенный, закаленный, алмазной твердости читатель.
Писать для такого – честь, удача и счастливый сон.
Павел Крусанов. Наука спасения
В одиннадцать лет отправился в первое самостоятельное путешествие. В Африку. Стоял белёсый ленинградский апрель, балтийский ветер гонял по улицам вихри серой зимней пыли. За плечами болтался школьный ранец, в котором были аккуратно сложены шорты, сандалии, отцовская фляжка с маминым компотом, часы старшего брата и учебник географии. В кармане звенела мелочь – месяц экономил на школьной столовой. Со мной вместе в Африку собрались Вова Жуков, Вася Стебловский и Паша Погосян – дружная дворовая компания. Почему в Африку? В среде товарищей я считался специалистом по этому знойному континенту – в восьмилетнем возрасте целый год прожил в Египте, где мой отец следил за монтажом гидротурбин на Асуанской ГЭС.
Ехать собирались товарными поездами до Кавказа. Дядя Погосяна служил в пограничных войсках на турецкой границе – Паша заверил, что проблем с переходом границы не будет. А там и до Африки недалеко. На чужбине по мере необходимости будем продавать часы (все взяли с собой часы) и на вырученные деньги обеспечим себя насущным. Ну а в Африке – уж как-нибудь, там тепло, там булки на деревьях. Словом, план был основательно продуман.
Прокололись на ерунде. Не знали, что грузовые составы формируются на специальных станциях в промзоне, и были задержаны бдительным постовым на Московском вокзале, где тщетно искали попутный товарняк.
Куда подевались мои дворовые друзья? Обычное дело: приходит время, и тебе кажется, что тот или иной приятель предпочитает твоей компании какие-то иные, и ты ревнуешь. Но вскоре понимаешь, что он изменился и ты изменился, и теперь просто не знаешь, как завести с ними разговор, который был бы живым и обоюдно интересным. Вы как-то незаметно разошлись, и от былой душевной близости, которая лежит в основе всякой дружбы, не осталось и следа. Просто все понемногу росли, как растут молодые побеги, но тянулись в разные стороны – словно солнц было много, и они светили нам одновременно со всех краёв неба. И каждый выбирал себе своё солнце. И тянулся к нему.
Теперь – предыстория.
Мой отец Василий Васильевич Крусанов, будучи родом из Костромской области – Галичский район, деревня Чёлсма, – в Ленинграде оказался ещё до войны: дед по отцу, Василий Александрович, сначала каждую зиму отправлялся сюда на заработки, а потом устроился в штат Фрунзенского райпищеторга столяром-краснодеревщиком. В 1932-м, когда моему отцу исполнился год, переехала в Ленинград и вся семья. Жили на улице Боровой, 24, – дед Василий Александрович, бабушка Нина Андреевна, отец, его младший брат Георгий, а вскоре родилась и сестра Капа. На всех – одна пятнадцатиметровая комната в коммунальной квартире. Дом не сохранился – в конце 1942-го в него угодила бомба.
В том же 1932-м в Ленинград из Чёлсмы перебрался и тесть деда, мой прадед Андрей Иванович Чухонин. В деревне он бросил дом и хозяйство, поскольку в колхоз вступать не захотел, а частников стали нещадно давить налогами. В Ленинграде устроился разнорабочим на Обуховский завод. Жил с женой, моей прабабкой Екатериной Андреевной, и двумя взрослыми сыновьями в Кузнечном переулке.
В начале войны отец с матерью, братом и малолетней сестрой отправился по эвакуационному удостоверению на родину родителей в Чёлсму. Дед остался в Ленинграде – тогда он уже работал на военном заводе им. Коминтерна и не подлежал мобилизации по брони. В первую блокадную зиму он умер от истощения. 20 февраля 1942-го пришёл к своей сестре Александре Александровне, жившей на Университетской набережной, и сказал, что хочет отойти не в пустой квартире на Боровой, а у неё. Той же ночью и умер. Ему было тридцать восемь. Дети сестры на санках отвезли моего деда на Серафимовское кладбище, где похоронная команда круглые сутки жгла костры, отогревая землю, чтобы поддавалась лому и лопате. Там он и лежит – в братской могиле ленинградцев, умерших в первую блокадную зиму.
А незадолго до того погиб мой прадед Андрей Иванович Чухонин – 2 февраля 1942 года не вернулся с Обуховского завода домой, на Кузнечный. Должно быть, попал под артобстрел или бомбёжку. Ему было шестьдесят два. Где захоронен, неизвестно.
В Чёлсме отец, двенадцатилетний пацан, ходил в школу, а летом работал подпаском, зарабатывал трудодни – вместе с двумя взрослыми пастухами управлялся с колхозным стадом в 150 рогатых голов. Потом ему доверили быка, обученного работе в упряжи (почти всех лошадей мобилизовали на фронт), и он, ставя быка в одноколку, вывозил на поля навоз, а с полей – снопы овса и ржи.
Весной сорок пятого, когда война уже шла к концу, бабушка Нина Андреевна решила вернуться с детьми в Ленинград. Дом был разбомблён – жить негде. Чтобы получить служебную жилплощадь, устроилась дворником – на четверых дали двенадцатиметровую комнату в большой коммуналке. Прокормить себя и детей на дворницкую зарплату бабушка не могла, поэтому мой отец, старший из детей, поступил в ремесленное училище при Ленинградском металлическом заводе, где учеников брали на гособеспечение – одевали, обували и кормили.
После училища работал токарем на ЛМЗ. Одновременно – вечерняя школа. Потом – вечернее отделение Политехнического, армия. Отслужив, женился на моей матери. Работал по-прежнему на ЛМЗ, но уже не в цеху, а в конструкторском бюро. Он так всю жизнь и оттрубил на одном заводе, начав токарем и закончив ведущим инженером-конструктором – старейшим сотрудником корпорации «Силовые машины».
В 1958-м родился мой старший брат Андрей.
В 1961-м родился я. Тогда мы уже жили в отдельной трёхкомнатной квартире.
Мы с братом не единственные его детища. Спроектированные отцом гидротурбины дают так и оставшееся для меня полной загадкой электричество на дюжине отечественных ГЭС, включая Братскую и Саяно-Шушенскую, и на дюжине в дальнем и ближнем зарубежье – в Египте, Киргизии, Сирии, Анголе, Вьетнаме, Аргентине, Турции, Финляндии, Югославии, Румынии и на двух станциях в Бразилии.
В конструкторском бюро ЛМЗ, вошедшем в структуру «Силовых машин», моего отца, как уникального специалиста, держали до восьмидесятипятилетнего возраста – некем было заменить, – и он каждый день к восьми утра отправлялся на работу. Он и теперь, в восемьдесят восемь, как мальчик летает на пятый этаж.
Моя мать Майя Павловна Крусанова (в девичестве – Орлова) родилась в Ленинграде, но корни её – в Архангельской области, на Русском Севере: дед Павел Георгиевич Орлов из деревни Борисовской Вельского района, а бабушка Анастасия Михайловна (в девичестве – Шайтанова) из деревни Олидово Онежского района.
Отец Павла Георгиевича, мой прадед Егор Гаврилович Орлов, был крепким, ладным мужиком, в деревне его прозвали Круглый. У него был большой дом с зимней и летней избами, хозяйственные постройки со скотным двором и конюшней. Хозяйство помогали вести пять сыновей, жена Анна Ивановна, дочь Екатерина и невестки. Все с этого хозяйства кормились и жили в достатке.
Прадед был остёр на язык и вспыльчив. В 1929 году, в начале коллективизации, за драку с каким-то прыщом из сельсовета он был подвергнут «административной репрессии» (официальная формулировка в документе) – отправлен в ссылку на лесозаготовки, где в 1930 году и умер в возрасте шестидесяти лет. Ни жены, ни его детей «административная репрессия» не коснулась. Дети, собственно, к тому времени уже жили самостоятельно – кто-то в Ярославле, кто-то в Архангельске, кто-то в Мурманске, кто-то в Хабаровске, а мой дед Павел Георгиевич – в Ленинграде. В 1928-м его призвали в армию и направили рядовым срочной службы в 10-й Туркестанский стрелковый полк, который почему-то формировался и базировался в Ленинграде. Через год дед уже командовал взводом.
Его будущая жена Анастасия Михайловна, моя бабушка, в начале двадцатых, сорванная вихрем революционных перемен, оставила родной дом в деревне Олидово и перебралась сначала в Архангельск, а потом в Плесецк. Её отец, мой прадед Михаил Петрович Шайтанов, имея за плечами лесопромышленное училище, каждый год с началом навигации на Неве отправлялся в Петербург, где до наступления морозов работал управляющим по отгрузке пиломатериалов на лесоэкспортной бирже А. П. Беляева. В юности (семнадцать лет) по причине несчастной любви он пытался застрелиться – пуля прошла навылет через лёгкое. Остался жив, но на здоровье первая любовь сказалась: в 1912 году, тридцати семи лет от роду, он скоропостижно умер, оставив жену и семерых детей практически без средств к существованию. Помогали родственники, но обрушившаяся благополучная жизнь уже не могла подняться из нужды.
Павел Георгиевич и Анастасия Михайловна были знакомы ещё по Архангельску; в 1929-м, взяв краткосрочный отпуск, дед специально приехал в Плесецк, чтобы жениться на бабушке. Через год родилась моя мама.
Демобилизовавшись, Павел Георгиевич поступил в Инженерно-экономический институт, окончив который какое-то время заведовал производственным отделом Древхимлеспромсоюза.
С первых дней Финской кампании дед вернулся на военную службу и, уже не снимая сапог, прошёл две войны: начал командиром взвода 17-й лёгкой танковой бригады на Финском фронте в 1939-м, а закончил начальником информационного отдела штаба 23-й армии в 1945-м. На Ленинградском фронте в сорок втором – сорок третьем служил во фронтовой разведке, ходил во вражеские окопы брать языка. Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
Маму в июне 1941-го отправили в эвакуацию с группой детей от завода Спортивного судостроения, где работала бабушка. Сама бабушка всю блокаду провела в Ленинграде. Выжила.
Мама вернулась в Ленинград через полтора месяца после снятия блокады – с первым эшелоном, который вёз в город строителей, подрядившихся на восстановительные работы. Окончив школу, поступила в Педагогический институт. В институте у неё была подруга – Валя Чухонина, двоюродная сестра отца. Через неё мои родители и познакомились.
Назвали меня в честь геройского деда – по его просьбе. Когда он умер, мне было четыре месяца.
Почему так подробно о предках? Потому что в этой капле виден океан.
С детством всё сложилось как надо: ясное, беспечное, окутанное пыльцой рая. Таким ему и следует быть. Вся последующая жизнь для нас – лишь расплата за это недолгое блаженство. Играл в казаки-разбойники и в ножички, в лапту и двенадцать палочек, пил газированную воду из автоматов и молочный коктейль за одиннадцать копеек, ездил на Пулковские высоты откапывать мины-«летучки» и немецкие гранаты-«колотушки», зимой лепил снеговиков и гонял шайбу в дворовой команде, летом плавал в озере и ходил по грибы в боры-беломошники…
В юности сочинял стихи. За многими водится этот грех – словно бы Евтерпа в поисках чистого вещества поэзии берёт с каждого второго виршевую пробу, как врач берёт из пальца кровь. Так буровая компания сверлит скважины на воду – где-то и через триста метров не находит жилу, где-то попадает в водоносный пласт, но вода годна лишь на хозяйственные нужды, а где-то пробьётся в подземное озеро, и оттуда захлещет чистейшая струя – такая, что не исчерпаться ей и не заилиться. Мой случай – второй. Скважина дала негодные стихи: на половинку серединка. Зато их можно было петь – ведь первоклассная поэзия, как это ни странно, поётся плохо. То же и в театральных декорациях – там не нужны ни лунный свет Куинджи, ни мазок Ван Гога.
В те времена самый чудесный город на земле был в очередной раз отмечен персональным вниманием небес. В него ударил пучок незримых молний, твердь дрогнула, и повсеместно – от Васильевского и Петроградской до Средней Рогатки и дикого Купчина – забили фонтаны взвившихся энергий. Их распылённым ядом был напитан сам невский воздух, он отравлял людей, и они галлюцинировали, обнаружив себя искажёнными в искажённом пространстве, – тогда не быть музыкантом, поэтом, художником значило то же, что не быть вовсе. Не быть по самому высшему требованию небытия. Как в греческом городишке-государстве неотменяемой обязанностью гражданина было участие в общей жизни, так Ленинград конца семидесятых и все восьмидесятые требовал от своих подданных безумств и небывалых творческих свершений. Тот, кто не участвовал, тот, безусловно, идиот (в эллинском, конечно, смысле слова). Но главным содержанием жизни всё же оставалась музыка. Она и была жизнью.
Если правда то, что юность – гормональная суета, не умеющая отличать озарение от наваждения, то правда и то, что лишь она способна безрассудно впитать дух времени и счастливо упиваться им, воплощая его в собственной судьбе. Зрелость же по большей части предпочитает духу форму и идёт по контуру, обмеряя внешние параметры своей вселенной взятой на вооружение линейкой. С возрастом закрываются, что ли, какие-то дверцы, и мир с его стремлением захватить человека в свой бешеный круговорот остаётся снаружи – остаётся и, отсечённый, превращается в зрелище. При закрытых дверцах, наблюдая мирскую бурю в щёлочку, можно заделаться ценителем определённых завихрений, но нельзя самому стать порывом, движением – нельзя стать той причиной, благодаря которой эти вихри вьются. Зрелости недосуг пленяться – она закоренела в прошлом, поскольку опыт не позволяет ей считать достаточной опорой настоящее и питать иллюзии в отношении будущего, а у юности – вечность для того, чтобы влюбляться и остывать, прельщаться и разочаровываться.
В выпускном классе школы, едва успев освоить гитару, я собрал свою первую группу.
А уже к середине восьмидесятых музыка осталась в прошлом. Все эти взрывные полуподпольные концерты, ленинградский Рок-клуб, весёлая атмосфера братства, торжество нестяжания, домашние посиделки под гитару и портвейн с Майком, Цоем, Рыбой, Свином и околомузыкальными друзьями, свадьба Майка в квартире, которую мы с первой женой снимали в наполовину расселённом доме возле железнодорожных путей Московского вокзала… Музыканты, те, кто упорствовал, уже знаменитые в пределах контркультурного подполья, с середины восьмидесятых засияли на всю страну. Я любовался ими. Я был счастлив – сбывались наши мечты. Но сам уже стоял в стороне: музыка, когда играешь её сообща, не позволяет тебе отвечать за каждую сыгранную твоими музыкантами ноту – за каждую в отдельности. Мне хотелось высшей меры ответственности: если нельзя – за каждую ноту, то можно – за каждую букву. Так вновь вернулась литература. На этот раз – проза.
Возможно, именно возвращение, повторение однажды уже испробованного и пройденного позволяет по настоящему войти во вкус, оценить что-то в полноте его достоинства. Первый раз – всегда только проба, прикосновение, ещё не открывающее всей глубины переживания. Так – с литературой, лакомством, местами, в которых побывал однажды. Только вдохнув аромат вновь, отдашь должное и ему, и вспыхнувшим воспоминаниям.
Писал трудно, мучительно нащупывал собственный мотив (и в нём свой мелос – душу и свой ритм – сердце), который был бы личным, не заёмным, чтобы в тебе самом отдавался радостным колокольчиком. Видимо, нащупал – первый же роман «Где венку не лечь», толком ещё не отлежавшийся, был опубликован в 1989-м редким по нынешним временам тиражом – тридцать тысяч экземпляров. Потом, заново вычитанный, он уже переиздавался под другим названием – «Ночь внутри».
Вскоре время весёлых и дерзких нестяжателей было погребено под обломками страны, а потом выметено вместе с сором новой генерацией алчущих деляг. Не то чтобы в той стране все были весёлыми и дерзкими, а в следующей (девяностые), межеумочной – посредственностями и делягами, но нестяжание в этой, межеумочной, определённо перестало считаться доблестью и сделалось объектом злых насмешек.
Лев Гумилёв, лекции которого на геофаке университета посещал вольнослушателем, в восьмидесятые утешительно обещал России, исполнившей по его представлениям свою провиденциальную задачу, двести лет золотой осени. Однако реальность предложила нечто куда менее поэтическое – пепелище, гноище, разобщение, апатию, потерю ориентации, торжество корысти и неприятие идеи беззаветного служения, равно как и вообще любой инициативы, не связанной с извлечением сиюминутной выгоды. Хочется верить, что этот позор миновал.
В девяностые писал мало – полдюжины журнальных публикаций и небольшая книга рассказов клубным тиражом. А потом прорвало – «Укус ангела», «Бессмертник», «Бом-бом», «Американская дырка», «Мёртвый язык»… Одиннадцать книг за семнадцать лет. Зачем так много, если гонорары, учитывая их денежное выражение, не были и не могли быть источником существования? Затем, что проходило время, и вновь казалось, что главное так и не сказано. Впрочем, не настаиваю – дело может быть не в этом. Как выражается один мой знакомый художник, когда хватается за работу: «Меня прёт». Сознательное заземление – романтические позы в ходу у плутов и бездарей.
Странные чувства испытываешь, вспоминая себя того. Странные. И дело не только в перенастраивающих голову и подчиняющих волю гормонах… Тот, молодой, весёлый и дерзкий, – какое-то заколдованное существо, знакомое и вместе с тем совсем чужое. Гораздо более чужое, чем мальчик, собирающий школьный ранец для побега в Африку.
С девяностых и по сию пору вылупившиеся из кладки позднесоветской диссидентуры общечеловеки (по большей части агностики и атеисты) настойчиво призывают страну к покаянию. Я, как гипотетический субъект покаяния, помнится, примеривал так и сяк призыв на себя и недоумевал: в чём и перед кем каяться? Тяжких грехов не нажил – так, по мелочи, – а каяться за чужие – какое-то извращение ума и сердца. Недоумевал, пока не догадался: под покаянием общечеловеки понимают осуждение. Именно так: я должен осудить своих пращуров, своих дедов, своего отца и мать за то, как прожили они свои жизни. За то, как пахали, как воевали, кого оплакивали (на фронте и в блокаду моя семья потеряла восемь родственников по линии отца и четырех – по линии матери), во что верили. Осудить своих предков! Подумать только! А вот хрен с коромыслом. Уважение к ним, к своим предкам, к их памяти и судьбам – главный корень гордого человеческого стояния. Не будет этого корня – рухнет человек. Тут и сообразил: общечеловеки – рухнувшие люди. Ведь подразумевается, что они своё «покаяние» уже совершили, дело за остальными.
Вот-вот: они – не остальные, всегда, при любых обстоятельствах не остальные. Они морщат нос, глядя на окружающую «вату», и считают себя духовной аристократией. А на деле они – духовная буржуазия с наморщенным носом. Буржуазия в самом её позорном изводе – стыдящаяся своего низкого, буржуазного происхождения, готовая отречься от него и как угодно – через куплю-продажу или мезальянс – выторговать себе титул. Но благородство купить или взять взаймы нельзя – не банковский кредит. Об этом, помнится, писал русский глашатай нового средневековья. Ведь достояние аристократа даровое, наследственное, а не добытое трудом и пóтом собственных усилий, – раз это так, то оно невольно определяет в нём ряд характерных черт. Скажем, аристократу чужды рессентимент, обида, зависть и вообще любые копошения на этот счёт, свойственные человеку из подполья. Аристократ способен быть обидчиком и даже часто обижает, но быть обиженным – увольте, никогда. Обида, как и зависть, не входит в арсенал его переживаний. Всякую обиду аристократ воспринимает как хуление чести – своей и своих предков – и в тот же миг готов отстаивать её с оружием в руках, смыть кровью оскорбление – поставить жизнь на кон, но ни мгновения не быть обиженным.
Ау, общечеловеки, не дай вам Бог столкнуться с настоящим аристократом духа – размажет за один намёк об этом вашем «покаянии». Костей не соберёте.
Читал с детства, сколько себя помню. «В стране дремучих трав» Брагина, «Айвенго» (сегодня через Вальтера Скотта продраться уже не по силам – пробовал), «Капитанская дочка», «Тарас Бульба», волшебный «Левша»… Читал с упоением – проживал книги навылет, как проживают жизнь, так что опыт чтения становился частью личного опыта. Своего рода метемпсихоз – дух мой вселялся в героя (или наоборот) и жил его чувствами до финальной точки. Теперь иначе: теперь открываешь книгу и смотришь, как она сделана. Обретая навык строительства собственных лабиринтов для читателя, теряешь способность самозабвенно плутать по чужим.
Вспоминаю, как читал прежде, и невольно сознаю, что, помимо формы организации досуга и интеллектуального наслаждения, книги – это и способ влиять на реальность. В конце концов, литература – прямая наследница магии, сложной практики наведения образа, к которому подтягивается действительность. И раз это так, а это так, то авторская воля, коль скоро ей удалось найти верные слова-заклинания, способна изменить окружающий мир угодным ей манером. Изменить через читателя, потому что хорошая книга – это такое заклятие, которое сбывается не снаружи, а внутри нас.
Именно литература (в России – в первую очередь она) своею силой, своим художественным языком создаёт тот культурный миф, с которым мы все себя в той или иной мере отождествляем, который позволяет нам чувствовать свою исключительность, свою неравность остальному миру. А без того не быть счастью. Потому что без собственного яркого и могучего культурного мифа мы сиры, ничтожны, никчёмны, а это ощущение – главная язва, глодающая счастье человека. Не объём купли-продажи, не производство и потребление, не валовой продукт и рост благосостояния – культурный миф народа делает его жизнь осмысленной и достойной, позволяет одолеть беду не через личную измену, а через общее сверхусилие. И позволяет противостоять экспансии чужого культурного мифа, издавна ведущего с твоим тихое соперничество и всегда готового взять тебя себе в услужение. Да, здесь всегда идёт незримая битва: состязание грёз, война соблазнов – ни горячая, ни холодная, ни на жизнь, ни на смерть – война на очарование. Быть зачарованным чужим культурным мифом в исторической перспективе – сущая беда. Когда чужой язык, чужая культура и чужой образ жизни начинают казаться более соблазнительными, чем твои собственные, – это и есть поглощение.
И в этом смысле Великий Американский Аниматор (Дисней) и Великий Американский Терминатор (Шварценеггер) оказали Америке куда большую услугу, чем победоносные бомбардировки Багдада.
Окончил ЛГПИ им. А. И. Герцена, факультет географии и биологии – тогда он был сдвоенный, так что, согласно диплому, я имел право преподавать сразу две дисциплины. Но по специальности не работал – только закрепил тягу к странствиям и на всю жизнь подцепил страсть к энтомологии. Благодаря этой страсти странствия обрели смысл – в дальних краях делал сборы, из которых составилась приличная коллекция жесткокрылых.
Жуки – чудесные существа. Не путать с тараканами и клопами. По разнообразию видов жуки – самый крупный отряд на планете, что свидетельствует о симпатии к ним самого Создателя. Они покорили все стихии, кроме огня: землю, воздух, воду… Им дарованы все цвета радуги и все их сочетания. Они прекрасны. Я ловил их в Таджикистане, на Алтае, во Вьетнаме, в Туркмении, на Кавказе, в Казахстане, в Провансе и много где ещё. Даже в сельве Амазонки.
Однажды недалеко от небольшого перуанского городка Пуэрто-Мальдонадо, что стоит на притоке Амазонки Мадре-де-Дьос, повстречался с группой бёрдвотчеров. Вооружённые фотоаппаратами, биноклями и небольшими телескопами, птичники ожидали на берегу реки прилёта попугаев, которые в определённые дни и часы пёстрой стаей появлялись здесь, чтобы поклевать целебную глину. На высоченных деревьях в прибрежной сельве висели в кронах ленивцы, в зарослях шуршали капибары, но они ничуть не интересовали бёрдвотчеров. Всё их внимание было привлечено к обрывистому берегу, глаза их горели. В голову мне тогда пришла мысль: человек – это программа, приложение, встроенное в генезис третьей от Солнца планеты специально для наблюдения за птицами. И конец света для человека – всего лишь выпуск очередного обновления этого пока ещё недостаточно совершенного приложения.
Порой кажется, что так примерно всё и обстоит на самом деле. Предположение не новое. Ведь в масштабах нашего разумения никакого смысла в жизни человека нет. Кого же удовлетворит ответ: рождён, чтобы родить? Взять для примера часы. Скажем, какой-нибудь мыслящий анкер вполне может описать работающий механизм и перечесть видные ему пружинки и зубчики на колёсах, но анкеру будет невдомёк, что снаружи есть циферблат и стрелки, которые показывают что-то вполне целесообразное Тому, кто эти часы сотворил, или тому, кто ими просто пользуется. И уж если человек – функция вселенского организма, как бы он сам к этому известию ни относился, то долг его в том, чтобы осуществить вложенные в него устремления. И не суетиться попусту. А суета уходит, когда перестаёшь изменять своим вчерашним убеждениям в угоду веянию нового дня, подувшему из форточки с видом на Содом, или общепринятому взгляду, продиктованному здравыми соображениями корысти. Ведь мудростью сердца мы понимаем – а если не понимаем, то ощущаем, и порой довольно болезненно, – что путь Башлачёва вернее пути Вексельберга. И все разговоры о том, что, выбирая дорожку, мы не знаем, куда она приведёт, – лукавство и обман. Знаем. Отлично знаем: будет смерть и будет суд. В этом смысле с будущим всё просто. Так вот, когда выдворяешь из личного пространства повседневной жизни позу, зависть и тщету, тогда и начинаешь без оглядки на обстоятельства делать то, что должен, – а лучшего занятия в жизни для нас никто ещё не придумал.
Попугаи в тот день не прилетели.
Вначале нулевых небольшая группа петербургских писателей сплотилась в своеобразное художественное движение – литературную банду «Петербургские фундаменталисты» (Наль Подольский, Александр Секацкий, Сергей Носов, Сергей Коровин, Татьяна Москвина и ваш покорный слуга, не считая сочувствующих и попутчиков). Пожалуй, этих людей, помимо душевной, экзистенциальной и эстетической близости, объединяло ещё своеобразное чувство юмора. Притом что произведения их на удивление не схожи.
До сих пор были известны две версии фундаментализма: протестантский и исламский. Ни с тем, ни с другим петербургский фундаментализм ничего общего не имел. В данном случае фундаментализм – это установка на возрождение глубинной традиции в культуре. (Если сузить культуру до литературы, то здесь почему-то принято считать, что традиция – это следование канонам реализма, однако реализм на древе литературы возник в результате ветвления лишь в XIX столетии. Возник и узурпировал право первородства, а между тем литература не одну тысячу лет черпала совсем из другого источника – предания, мифа.) Здесь в основание фундамента легли осмысленная широта жеста и величие порыва, право на непредвзятое мнение и право во времена тотального давления политкорректности называть вещи своими именами.
Весёлая была пора – озорная, сумасбродная и резкая. Передать сущностное содержание движения невозможно никаким вербальным способом – ни устной речью, ни письменной вязью. Петербургский фундаментализм – это такая форма благодати. А благодать невыразима. Тем не менее был утверждён определённый ритуал застолья и характер публичных акций, заработал сайт «Незримая Империя».
Тогда же, в начале нулевых, последовал ряд заявлений, похожих на манифесты, и ряд манифестов, похожих чёрт знает на что, которые оглашались на открытых выступлениях во всевозможных местах – от Центрального выставочного зала «Манеж» и Ледового дворца во время проведения там Петербургского международного книжного салона до клуба «Проект О. Г. И.», Московской международной книжной ярмарки в павильонах ВДНХ и Зверевского центра современного искусства.
В различных СМИ было опубликовано несколько открытых писем главам некоторых государств. Так, в частности, петербургские фундаменталисты ещё в апреле 2001-го напоминали президенту РФ, что право небесного мандата обеспечивается только чётко поставленной и интуитивно очевидной сверхзадачей, в связи с чем было бы не только весьма уместно, но и чрезвычайно конструктивно вновь возвести идею овладения Царьградом и проливами в ранг русской национальной мечты. Сверхзадача сама по себе ещё не гарантирует успеха, но империя, озабоченная лишь чечевичной похлёбкой, обречена на поражение в любом случае. Сделать это (вернуться к мечте) требуется хотя бы по соображениям метафизического свойства: не имея впереди сверхзадачи, трансцендентной цели, государство не в силах добиться целей реальных. В качестве реальной цели петербургские фундаменталисты готовы были взять на себя заботу о формировании Правительства крымской жужелицы в изгнании.
А президенту Франции Саркози петербургские фундаменталисты рекомендовали восстановить Бастилию, поскольку сегодня это выглядело бы куда более революционным актом, чем некогда её разрушение. Восстановление Бастилии послужило бы наглядным проявлением настоящей общеевропейской воли – воли к обузданию анархии, террора и дикой пляски безответственности, воли к созиданию своего, а не чужого будущего.
Сейчас нет заявлений, манифестов и писем. Балаган отшумел, он сделал своё дело. Сейчас есть поездки с выступлениями в Чечню, в Крым, в Латвию, в Ингушетию, в Донецк и доставка медикаментов на Донбасс совместно с ветеранами Новороссии.
Балаган отшумел, но дух петербургского фундаментализма по-прежнему крепок. Когда по поводу и без повода меня спрашивают о войне – о конкретной или о войне как таковой, – я отвечаю: безусловно, я предпочёл бы решать разногласия миром, но если вопрос стоит так: война или позор, война или отказ от моего представления о справедливости, война или уничтожение того, что я считаю неотчуждаемым смыслом моего бытия, пусть это всего лишь моя прекрасная сказка, я выберу войну.
Осталось выяснить ещё кое-что. Красота. В широком смысле красота. О ней пока не сказано ни слова. А между тем красота волнует всякого человека, даже того, кто так или иначе причастен искусству. То есть его волнует и подавно. Волнует, несмотря на то что красота, как часто кажется, лишена практического смысла (если она не включена в состав потребительской стоимости товара). Посмотрите на павлиний хвост. Разве он способствует процветанию вида? Разве воробьи и вороны с их скромным нарядом не более успешны в борьбе за ареалы обитания, чем райские птицы? Так в чём же состоит неочевидный смысл красоты?
Не стоит забывать, понятие «красота» – сугубо человеческая категория, её не существует вне нас как зрителей, слушателей или ценителей чего бы то ни было ещё, помимо визуальности и звука. Природе не известно это свойство предметов, звуков и существ, она оперирует понятием «совершенство», если допустить, что она вообще способна оперировать понятиями. Редкий человек, не кривя душой, назовёт паука красивым, в то время как с точки зрения природы, если она способна на собственную точку зрения, он – безупречная в своём совершенстве выдумка. Совершенны сколопендра, нетопырь, дождевой червь. Но красивы ли они?
Человек – существо вёрткое, в оправдание своих пороков и своей алчбы он способен сочинить что-нибудь вроде эстетики безобразного, обаяния зла и даже почище того. Скажем, в кровавой бойне разглядеть поэзию войны. Мы как будто чувствуем, что наличие красоты уже само по себе способно возвышать и оправдывать. И пользуемся этой уловкой. Похоже, пользуемся не мы одни. Увидев роскошные перья, пава, которая во имя сохранения потомства должна была бы выбрать самый куцый хвост, восклицает: боже мой, если, несмотря на все опасности и невзгоды жизни, этот павлин сумел сохранить своё прекрасное убранство – это воистину великий павлин!
Красота – то качество, которое человек способен выделить в череде природных объектов и произведённых им самим вещей, но при этом он сам же в эти объекты и предметы данное качество закладывает. Зачем? Хороший вопрос. Ведь красота, кроме того, что доставляет нам радость, возвышает и оправдывает, ещё и ставит массу проблем. Например: что происходит с одеждой, когда она выходит из моды? Красота покидает её? Или вот ещё: все хотят жениться на красивых, а некрасивых-то куда? И тут вёрткий ум находит в неказистом теле внутреннюю красоту. С моей стороны говорить так – вовсе не цинизм. Подобным путём обычно и реализуется право на непредвзятое мнение.
Одним словом, красота нам желанна. Она примиряет нас с действительностью. И именно таким образом она спасает мир, ибо, примирившись с действительностью, нам уже не так отчаянно хочется порвать мир в клочки. Согласитесь, ради будущей выгодной застройки снести ансамбль Дворцовой набережной довольно проблематично. А район промзоны – запросто. Так что, если хочешь, чтобы твоё изделие духа претендовало на вечность, сделай его как минимум красивым. Пусть даже бессмысленно красивым. Так ты его спасёшь. Потому что красота – она же безупречность (в нашем случае безупречность мелодии текста, состоящая из интонации/мелоса и порядка/ритма верных слов) – это и есть художественная правда. И через неё, свою художественную правду, спасёшься сам. Речь не о спасении души, речь о спасении от забвения твоего неповторимого присутствия.
Выходит, умение понимать, ценить и производить красоту – самая главная наука. Потому что это наука спасения.
Тут и обрубим – по широкому краю.
Вячеслав Курицын. Высокая (на самом деле не очень) болезнь
1
Мой любимый друг умер осенью 2017 года на окраине большого немецкого города; сам город, выросший некогда вокруг шахт промцентра, очень скучен, но упомянутая окраина – подобие рая земного. Едва заметную под зарослями цивилизации монастырскую гору, на вершине которой возвышается пятиметровый 150-летний Христос (мой друг в один из Хеллуинов покрасил его серебристой краской, а реставрировать трудно, так и стоит в этом новом, слегка хипстерском обличье), окружают парки и увесистые фрагменты лесов, рядом радует глаз мощный памятник индустриальной культуры – угвазданный музеями и фестивалями угольный разрез, а за лесами и шахтами начинается веселая Голландия, к дарам свободы которой мой друг всегда испытывал неподдельный интерес.
Он был, как ныне принято, артистом широкого профиля, живописцем, модельером, шоуменом, режиссером, издателем и просто художником жизни. Изрядно пошумев во всех этих качествах в девяностые – нулевые сначала в родном Львове, а потом и в самой брильянтовой Москве, он освоил параллельно слишком много спиртоносных изделий, подорвал здоровье и удалился от дел, на попечение терпеливой жены, на райскую окраину, богатую застывшим временем и свежим воздухом. Дочь его к этому времени уже отучилась на что-то медийное в модном Кёльне, покатилась по многомесячным стажировкам в Южную Америку и Японию, сняла фильм, получила приз: что еще нужно сердцу родителя? Друг мой, располагаясь на балконе с чашкой кофе, с доброй трубкой, а очень часто и с тем или иным нагрянувшим из Москвы или из Киева на недельку-другую товарищем, партнером долгих философских бесед, посвятил полтора десятилетия выделыванию из фольги, камня и стекла волшебных миниатюрных фигурок, невероятно изящных, которые сам он позиционировал не как искусство, а как магические объекты. Он сделал их несколько тысяч, оставлял их на развилках дорог, на зеленых холмах, на столиках в кафе, на пролетах мостов и крышах архитектурных шедевров, одна вот уже скоро десять лет украшает плечо серебряного Христа. Это была практика уровня Бог, проблески просветления, белые облака вечной жизни… почти нирвана… дао мудреца: вообще-то, вершина карьеры художника. Тем более что друг мой очень уважал всякие буддистические формулировочки.
Но включался, прости господи, гаджет, вползала в дом кучерявая социальная лента. Змеилась, хохотала всеми пузырями радуги, пучилась голубыми и рыжими лайками надличностная метареальность. Вид на ярмарку тщеславия после ковровой бомбардировки. Тут и там догорают, плюются искрами агоний костры амбиций. Мой друг не мог простить миру, что недостаточно знаменит. Что его имени нет в списках инновационных премий, что его картины не покупают музеи, что на его интернет-коллажи, где в живопись соцреализма ловко имплантировались фрагменты какого-нибудь сюрреализма, не приходили один за другим запросы от кураторов, желающих распечатать коллажи размером шесть на шесть метров и выставить на престижной биеннале. При этом друг мой выпускал из виду элементарные технические подробности: не важно, что собственно живописи нарисовано очень мало («пусть сначала купят эту»), не важно, что коллажами в подобной технике забит весь интернет («те, которые монетизируются, ничуть не лучше моих»), не важно, что, раскрасив Христа, он сам объяснил это полиции не художественными, а религиозными мотивами («Бог во сне пришел и велел»). Фиксировался он на другом – как, дескать, чудовищно, что уходящий с радаров (в данном случае уехавший из Москвы) автоматически вываливается из контекста.
Что сюжеты таких страданий очень неплохо развивает водка (совершенно, казалось бы, избыточная в означенном хронотопе) – можно не добавлять.
А вот о самой идее сравнения стоит порассуждать. Во фразах типа «я рисую не хуже Иванова и Каца, а у них медальки, а у меня нет» друг мой чаще был прав в констатирующей части, Иванов и Кац и впрямь производили и производят беспросветно бессмысленную муру. Проблема состояла в установке: в идее соревнования художников.
Сама мысль, что художник должен быть признан обществом, что софиты (конечно, желательно обмазанные калом золотого тельца) являются целью творчества – продукт новых времен. Ее носитель забывает о том, что художник, вообще-то, это тот, кто сидит на опушке леса и скручивает из фольги и камня магическую скульптурку и оставляет ее под кустом ежевики, где ночью зажгут свои брачные огоньки сто тысяч светлячков. Художественный дар открывает путь к магическим линиям, напрямую подключает тебя к энергиям, к космосу, к полям, которых не касались ноги, глаза и душа другого какого-нибудь человека. Путь к волшебному одиночеству, а не на сцену. К софитам можно пробиться многими путями, к «удовольствию от текста» – только сосредоточившись на удовольствии от текста. Текущее общество формирует представление об искусстве как о пространстве соперничеств и достижений. И тут же рядом Зависть с Водкой, а в конкретном случае и ранняя смерть; другу моему было 52 года.
Так что же, я против монетизации дара лепить из букв и красок стихи и пейзажи? Вовсе нет. Монетизация – это очень приятно. Или я против мышиной беготни премий и прочих институциональных конструкций, корпоративного позиционирования? В том же 17-м году я вел в одном большом русском городе некий массовый литературный конкурс и предложил позвать в жюри очень ценимого мною местного писателя Н. «Теперь можно», – ответили мне организаторы. «А когда было нельзя?» – удивился я. «В прошлом году еще было нельзя, он был нерелевантен для СМИ, а теперь он получил небезызвестную премию, а потому можно» – таков был ответ. Но я не хочу иронизировать и не могу быть «против»: и сам я отдал много дани разным нелепым возням и по причинам, о которых ниже, вообще избегаю в последние годы критических высказываний о других, ну и, кроме того, людей, заброшенных в сей жестокий мир, очень жалко, смеяться над их наивными играми – последнее дело.
Но если дорогая редакция спросила, можно и ответить: кризисна любая эпоха, всякая по-своему, а кризис последних европейских столетий проявляется, в частности, в том, что в мотивациях людей творческого труда все больше места занимает корпоративное позиционирование и все меньше – идея служения таинственным силам. Так вот: для меня литература – это служение таинственным силам, и я надеюсь, что служил бы им, не приноси мне это служение вовсе никакого капитала, ни реального, ни символического, и я знаю очень-очень много авторов, которым не приносит и которые естественным для себя образом продолжают служить. При этом подобное служение вовсе не обязательно доблесть… может, напротив, болезнь.
2
Лет, наверное, в шесть, то есть году примерно в 1971-м, я начал рисовать комиксы про утенка и двух обезьян. Они жили втроем на необитаемом острове, плавали куда-то на лодке, были похожи просто на плохо нарисованных людей и совершали еще какие-то, не помню какие, но наверняка нехитрые действия. Слова «комикс» я тогда, скорее всего, еще не знал.
Лет в восемь-девять на меня нацепили колючий белый свитер и повели в Новосибирский театр оперы и балета на балет. Само представление в памяти не осталось, зато запомнилась деревянная (костяная? каменная?) резная картина в музее театра, и не сюжетом запомнилась, а информацией, что автор работал над ней двадцать лет. И еще: накрытые столики в буфете. Да-да, часть столиков почему-то была сервирована, прямо сверхобильно заставлена бутылками, ананасами и сырокопчеными колбасами, вещами в те времена в нашем городе категорически дефицитными; это выглядело сценой из фантастического кино. Я так и не понял тогда статуса этих столиков, да и сейчас не вполне понимаю: что ли, можно было за такой заранее заплатить, а потом культурно располагаться за ним в каждый из длинных балетных антрактов, как-то так.
Но они натолкнули меня на литературную идею. Дома я написал на обложке голубой (на самом деле розовой) тетрадки название романа: «НГАТОИБ». Сюжета-героев в голове не было, зато был финал: большая драка в буфете оперного театра с обильным метанием сырокопченых колбас под бой зеркал. Финал и название – аббревиатура театра.
Тетрадка не выпросталась из замысла, но ближе к средним классам школы я выпустил несколько рукотворных номеров самиздатовских журнальчиков (формат: разрезанная по горизонтали на три равных сегмента тетрадка же). Назывался журнал «По непроверенным данным», содержал различные материалы из жизни купца Крокодилова (помню, он хотел построить суперсовременный общественный туалет, при котором расположились бы магазин, аптека и кинотеатр), а также похождения лисы Сосиски и еще других достойных существ, имена коих канули в Лету вместе с вышедшими номерами, о чем я сожалею, ибо хранились они у мамы долго, и только моя тупость – причина торжества Леты этой неладной.
Я помню важные интуиции тех же среднешкольных лет: иду я домой после уроков, смотрю на трещины в кирпичах, образующих почти невидимый уже круг на месте старого фонтана, и рассуждаю, что нет почему-то литературы, в которой описывались бы эти трещины, перемежающиеся не сюжетом о желтом чемоданчике или мертвом сезоне, а обрывками недокрученных мыслей. Или: стою я на остановке 35-го автобуса и размышляю, как прекрасны были бы две вещи. Во-первых, книги, автор которых мог после наблюдений за людьми на остановке 35-го и обрывков их реплик разместить текущую таблицу чемпионата СССР по хоккею в первой лиге, где играла тогда «Сибирь», и еще бы туда же и фантик от конфеты наклеить. А во-вторых, чтобы я мог посвятить свою жизнь написанию таких книг.
Анализируя все вышеперечисленное, я понимаю теперь: хоп, фрагментарность, хоп, смешение жанров, гибридный фикшн – нон-фикшн-дискурс, хоп-хоп, желание облагородить текст графическим измерением, идея впендюрить в него реди-мейд, нелинейность… Именно это все и происходило тогда в искусстве, клубившемся за сотни занавесов от меня… словно я уже начитался-насмотрелся Пригова и Кабакова, Рубинштейна и Сорокина, которые что-то такое как раз и сочинили недавно или даже начинали только-только сочинять. С точки зрения общей теории духа ничего странного в этом нет. Разлившийся, бла-бла, по ноосфере субстрат концептуализма, тынц-тынц, просочился органичным бесконтактным образом из космоса прямо на улицу Котовского в Новосибирск.
Но должны быть и какие-то особенности принимающей личности, подходящий штекер: не во все порожние души просочилось это замысловатое дело. Тут я грешу на специфику структуры моего чтения: помимо шкафа с Толстым – Чеховым – Лермонтовым (но без Пушкина и Гоголя), был еще диван на кухне, заполненный старыми журналами, крокодилами-огоньками, науками-и-жизнями, отчасти разодранными, представленными отдельными страницами, статьями без продолжения. И была еще – чу! – бабушкина кладовка, в которой дожидались смертного одра дебелые «Поджигатели» Шпанова и «Краткий курс истории ВКП(б)» с фотографиями, на иных из которых до ста процентов фигурантов красовались с замазанными синими чернилами лицами (вроде реликвия, но что именно эта дрянь спозналась с Летой, я не грущу). Шкаф, диван и кладовка в совокупности и составили ту самую постмодернистскую – да, это слово прозвучало – смесь, которая, в общем, и по сей день составляет основу моей, так сказать, поэтики.
При этом главным писателем моей жизни, больше всех на нее повлиявшим, был алтайский прозаик, родившийся в Латвии, по имени Лев Израилевич Квин. Учась в седьмом классе, я прочел его книжку о юных археологах и подумал: ну вот ведь как оно, надо же как, вот. Поступил в археологический кружок, в ближайшее лето один месяц провел в экспедиции, но после восьмого и девятого классов – уже все лето кряду я теребил лопатой тени старых костей и горшков, а весной и зимой выезжал на разведки и музейные практики. Собрался пойти на истфак НГУ, ни о какой богемной карьере по-прежнему не помышляя. И, уже окончив школу, уже готовясь к экзаменам, я написал заметку о своем археологическом кружке и отправил ее в газету «Молодость Сибири». Мне оттуда не звонили, не писали, но в одно прекрасное утро заметка, сильно сокращенная и отредактированная до неузнаваемости, появилась в почтовом ящике. А когда я пошел в редакцию за гонораром, то встретил там прекрасных практиканток из Свердловска, которые сказали мне, что, вообще-то, на журфак УрГУ берут всех, кто пишет без ошибок слово «корова», и я решил, а почему нет. И уехал на Урал.
А там недалеко уже была перестройка, первые шаги которой совпали с моими первыми робкими заметками в импрессионистическом стиле, доставленными в отдел культуры «Вечернего Свердловска», и совсем скоро обильно понадобились авторы, пишущие «по-новому». Я начинал писать про литературу и публиковаться под музыку наступающего постмодернизма, тынц-тынц, смешение жанров, тынц-тынц, интерактивность, решительная деконструкция бинарностей, засыпаниеграницпересеканиервов, неразличениефикшнинонфикшн, комментарии к комментариям, ха-ха-ха, борьба с фаллологоцентризмом, со всеми и всяческими вертикальностями; я вычитывал обрывки этих идей из каких-то полуграмотных рефератов, делал вид, что вычитал в первоисточниках (тогда я вообще не интересовался иностранными языками, только совсем плохо знал французский; лишь в новом тысячелетии пробудился во мне соответствующий интерес), пересказывал их своими словами и вскоре имел успех как спикер в высоких московских аудиториях (моей версии постмодернизма, не зная о ее полной домотканости, внимали студенты ВГИКа и РГГУ или там аспиранты Института философии), а другой (то есть это даже раньше) успех имел как литературный критик в редакциях подавляющего большинства журналов, а и то, хочется же прогрессивному редактору (-рке) опубликовать текст молодого модного провинциала, который может прервать рассуждения о конкретном произведении лирическим абзацем без запятых, посвященным кружению фиолетовых искорок в глубине рыбьего ока, а третий (это меньший, но много товара и не было) успех имел у других редакторов как непонятный, но, возможно, оригинальный прозаик, которого лучше опубликовать, а то вдруг киксанешь, завернешь, откажешь, а он – Модильяни.
Интуиции мои совпали с глобальным трендом, и я предавался «удовольствию от текста», пользуясь карнавальностью эпохи и общей дезориентированностью культурных институций, которые, впрочем, всегда дезориентированы и клюют на яркое и шумное; именно таким я и был начиная с конца восьмидесятых в течение целого десятилетия. Да-да, тот, кто скажет, что легко безотчетно плескать брызгами самостийного таланта в ситуации, когда это совпадает с эпохой, тот будет прав: мочиться против ветра гораздо сложнее. Но у меня вот совпало: я плыл на волнах доминирующего тренда и служил при этом честно таинственным силам, я же не примкнул к моде, я опознал ее, дождался, сам выткал; я видел весь этот постмодернизм в своих детских снах.
Собственно искусство, личная карьера и более широко понятая социальность («общественная роль») – три полезные координаты. К своему искусству, созданному в 90-е, я отношусь неоднозначно, об этом ниже. На карьеру мне в это время жаловаться не приходилось. Что до третьей координаты: теоретически я всегда лелеял за пазухой сладкое представление о том, что искусство – оно не совсем тут, не поверяется социальностью… отмокает в каких-то своих автономных тазах. Но это теоретически, а на практике постмодернизм в девяностые ассоциировался с экономическим либерализмом, с «демократией», с «западничеством»; логоцентристы, уверенные в единых смыслах, противостояли в одном флаконе и тому и другому – и я охотно, нелепо и слишком часто сваливался в зону публицистики; а как! – я же несу свет передовых идей в дикой стране.
Мне реально казалось, что они всем на руку, эти идеи, что сопротивление летучему духу девяностых – результат недопониманий и шероховатостей; еще чуть-чуть, и все устаканится. В день похорон Ельцина я напился перед телеэкраном, на котором к гробу Бориса Николаевича тянулась цепочка политиков и певиц, вышел с двумя стаканами водки на Сенную площадь Петербурга, где тогда обитал, и стал приставать к прохожим с предложением помянуть светлую память первого президента России. И меня, дурачка, удивлял накал ненависти, с которой почти сто процентов опрошенных отозвалось и обо мне, и о покойном.
Мысль, что бурление говн, все более смачно затапливающих мое отечество в третьем тысячелетии, есть прямой результат неосторожного обращения с окнами девяностых, овладела не всеми моими коллегами по насаждению широко понятого постмодерна, но для многих, в том числе для меня, сегодня этот факт, увы, очевиден. О том, какими именно хитрыми макарами прекрасные идеи равноправия правд, толерантности, смешениядискурсовипересеканиярвов конвертировались в вечный автомат Калашникова, – тема для многих монографий, если будет кому их сочинять. Тема эта отнюдь не специфически российская. Ризоматичность (это когда нет центра, а все растет одно из другого) – конструкция хорошая, честная, лично мне милая, но ведь имеет значение и то, как она работает, а не только то, правильная она или нет. Вон в Кёльне в недавнюю новогоднюю ночь свежие арабские беженцы общупали тысячу немецких женщин, и нет ли причины в том, что они поняли ризоматичность иначе: наше (говорю я от лица «цивилизованных европейцев») нежелание доминировать понимается как слабость: ну ок, тогда доминировать будем мы. Ради защиты своей самости нужно бы подрихтовать врата толерантности, да идеология (постмодернизм прекрасно оброс бюрократией, которая существует за счет визгов о чистоте политкорректности) не велит. Выяснилось, что дело не в идеях, а в том, какие люди и в каких целях в них заворачиваются. И формула «ворюга милей, чем кровопийца» не работает, ибо после первых, как выяснилось, автоматически приходит слишком много вторых.
Не буду углубляться в глобальную картину провала, есть сюжет конкретнее: про себя я понимаю как минимум, насколько я раздражал мирную часть населения. Я выводил на бесконечных глянцевых страницах образ лирического героя, порхающего с перформанса в Париже на кинофестиваль в Роттердаме, небрежно запивающего вернисаж текилой; нет ничего дурного в порхании с перформанса на фестиваль, но упиваться этим можно деликатно, а можно неделикатно, и я часто сваливался во второй вариант. Я рассказывал на страницах общенациональных газет о том, что деление полов на мужской и женский в нашу эпоху смехотворно, что полов бесконечное множество, что они суть конструкты, меняющие конфигурацию от малейшего трепыхания контекста, и если в новых буржуазных изданиях типа газеты «Сегодня» и «Независимой газеты» это было, наверное, уместно, ибо соотносилось с картиной мира инвестора и читателя, для которых была важна тема многих возможностей и их любопытных плодов, то вот как это должно было действовать на читателя «Литературной газеты», традиционно укорененной в провинциальных библиотеках? – думаю, он делал выводы, что в столицах бесятся с жиру и, не исключено, отчасти за его счет. А в журнале «Октябрь» я и вовсе написал как-то, что спокойно лечу на пляж в ту минуту, когда голодный шахтер режет себе горло, ибо таково ведь веление времени, а позитивная-то динамика налицо.
Я, допустим (то есть не «допустим», это горькая правда), вообще пребывал в нравственной слепоте бо́льшую часть своей жизни, совершил бездну мерзких, не только текстуальных, но и бытовых, поступков (знаю, что звучит как рисовка, но однажды стоило это написать; данный сборник – хорошая оказия), только последние годы я как-то слегка поочистил, если мне не кажется, представления о добре и зле. Но демонстративное потребление элитарной культуры и агрессивное насаждение правильных идей в неготовых к этому средах – факт не только моей биографии, сотни коллег продавливали с вилами наперевес это правильное, да и сейчас многие не перестали, хотя разбитые корыта повапленные повзлетали из болот уже эскадрильями. Такова сила волны: если она тебя захлестнула, а ты ликуешь, да еще, как в моем случае, понимаешь ее не лишь как историческую, но и как эстетическую благодать, снижаются шансы отстраниться, глянуть со стороны. Я отстранялся очень неловко, в результате в ужасе смотрю на многое содеянное и сознательно последние годы избегаю по возможности открытых (критических, публицистических, фейсбучных) высказываний; в девяностые я имел доступ ко многим микрофонам и недоволен тем, как воспользовался этим доступом.
3
Мои книги не имели и не имеют больших тиражей, переводов на иностранные языки мало. Единственная премия, которую я получил, это премия Андрея Белого, ее номинал 1 рубль (я его сохранил, сидит в конверте). Таким образом, доходы я получаю из других источников, погружаясь периодически в пучины разных работ. Я занимался журналистикой, редактировал газеты, сайты, книги, устраивал фестивали различных искусств, владел круглосуточным заведением общепита с концертами, работал «политтехнологом» на выборах, курировал художественные выставки (и сам в 2017-м дебютировал как «художник», выставив инсталляции в московском музее «Гараж» и в Петропавловской крепости в Петербурге), вел шоу в клубах и по телевизору, написал две книги в качестве литературного негра, сыграл милиционера в художественном фильме и изучал возможности увеличения комфортности пассажирских железнодорожных перевозок (перечисляется то, чем я занимался, став уже «известным литератором», разные юношеские труды дворником-сторожем-конюхом сюда не включаю).
Отношение у меня к этому двоякое. С одной стороны, конечно, приятно жить на роялти от баснословных продаж или на какие-то иные выгодные гонорары, в ус не дуть, творческие силы на суету не разбазаривать. С другой – сам я в своих собственных книжках ценю то, что они все или почти все совсем или заметно разные – не только жанрово, но и интонационно, и тематически, и, так сказать, вообще. Мне приятно слышать в очередной и очередной раз изумление неофита, обнаружившего, что «Матадора на Луне» и «Набокова без Лолиты» сочинил один и тот же я. А то, что «слышать» – тщеславие, с идеей которого я так яростно боролся в первой главке, что же, друг мой умер и не сможет захохотать, что и я зависим от мнения толпы и лишь неловко это скрываю.
Разнообразие – не универсальная, видимо, ценность. Многие замечательные авторы всю жизнь пишут похожие один на другой тексты, работают, так сказать, в рамках канона, что, возможно, тоже прекрасно. Но мне нужно, чтобы сочинения выходили сильно разными, и амплитуда моей трудовой занятости, а также то, что я жил и живу все время в разных местностях (в Сибири и на Урале, в Москве и в Петербурге, в Германии и в Черногории), каким-то образом способствует искомому протеизму. Но что важно: сумму знаний о том, как устроен мир, приобретенную в ходе путешествия по этому миру, не стоит переадресовывать в тексты непосредственно. Пусть эти знания влияют на дыхание, на стиль, на структуру, на идеалы автора, но не на тематику сочинения. Единственный случай, когда я впрямую попытался запихать какие-то знания в роман, окончился провалом, о чем также позже. Однако это позже – момент предъявления списка кораблей – уже начинается.
Итак, что я понаписал.
А) Малая проза. Ее я сочинял всю жизнь и продолжаю иногда сочинять, она собрана в книжки «7 проз» (2002), «Книги Борхеса» (2009), «MTV: покорми меня» (2009), «Опус для Димы, другого Димы, Кати, Миши и Юли» (2015), это все бумажные книги, а также в электронную книгу (можно найти на Букмейте и в Грибоедов.ру) «Берлинские рассказы» (сочинены в 2009–2013). В основном это опыты сильно на любителя, тексты специфические, часто лабораторные. Но в силу некоторой необязательности малого жанра, меньшей, что ли, ответственности, здесь чаще удается отделаться от всех вообще представлений о предшествующей литературности и отправиться в языковой полет, добиться свободы, о которой наяву и не мечтаешь. Какая-то часть малой прозы – шлак, но не слишком большая, а в книжки я стараюсь шлак не допускать.
Б) Культурная журналистика, литературная критика и все такое. Вот пункт, где шлака очень много, даже в сборнике «Журналистика» (1998), который избранное, многое читать сейчас невозможно. Это как раз апофеоз девяностых, карнавал, требования дать право камням и животным основывать политические партии, смешение дискурсов, насаждение ризомы. При этом я включаю «журналистику» в список «литературных произведений», эстетическое обоснование чему см. в гл. 2. Кроме того, эта книга, что называется, «памятник эпохе», яркое свидетельство состояния соответствующих мозгов. Все это можно сказать и о построенных как отчет о заоконной реальности письмах из книги «Переписка с Алексеем Парщиковым» того же 98-го года; надо добавить, что между текстами пунктов а) и б) разница порой практически стирается (см., напр., в сети мой электронный сборник «Заметки автора»).
Тот же плюс – роскошный бал контекстов – есть у книги «Курицын-уикли» (2005); этот компендиум моих окололитературных сетевых обзоров я без особой скромности рекомендую всем, кто интересуется гранью нулевых – десятых первого третьего. Тут меньше минусов: карнавал и дискурсы брыкаются, подчас сбрасывая седока, но в целом я уже крепче держу поводья, и качество текстов сильно выше, чем в «Журналистике» и «Переписке» (имеется в виду моя часть писем, со стороны Парщикова проблем с качеством не возникало). И еще «Курицын-уикли» вышли очень красивой книгой, с закладочкой, со страницами для заметок, на пулеметной бумаге – книгу издавал как раз мой любимый покойный друг.
Надо еще упомянуть здесь литературно-критические статьи, созданные в период краткого возвращения к критике, в 2009–2011 годы для журнала «Однако» в уникальном формате – 4 журнальные страницы, 16 000–18 000 знаков на одну книгу, в дюжину контекстов можно засунуть и пригоршней аллюзий поперчить. Вообще, в девяностые и начале двухтысячных моя лит-крит деятельность имела временами даже и избыточный резонанс. А здесь не было почти никакого: возможно, потому, что статьи печатались в откровенно антилиберальном издании (что не мешало им носить вполне либеральный характер; в деле цензуры «охранители» очень часто бывают куда корректнее «прогрессистов»), а возможно, просто потому, что с течением лет литкритика в целом превратилась в литжурналистику; высказывание длиннее одной страницы стало интересно лишь автору рецензируемого сочинения. Так или иначе, в связи с обстоятельствами, указанными в последних абзацах гл. 2, минимизация резонанса была мне даже и выгодна, а удовольствие от текста я получил.
Возьмусь ли я когда-либо вновь за описание (или хотя бы за чтение) современной мне словесности, сказать сложно: я бы мечтал никогда в актуальность не возвращаться, но обстоятельства, конечно, могут сложиться по-разному.
В) Монография «Русский литературный постмодернизм» (2000). Так себе книжка, написана с переборхесом птичьего постструктуралистского языка, перенабита цитатами, композиционно недопродумана, выбор материала довольно узок. Но в конкретных главах много занятных, как мне кажется, хотя и не всегда хорошо сформулированных идей; тому, кто интересуется темой, монографию эту прочесть полезно.
Г) Два романа про Матадора, майора-наркомана из ФСБ; пародийные боевики. Первый – «Акварель для Матадора» (1999) – полный кал. Я не мог выбрать интонации, писал-переписывал (в сумме года три), так и не выбрал, в общем – дрянь, не советую, если вы не фанат. А вот второй – «Матадор на Луне» (2000) – совсем другое дело. Герои там телепортируются на Луну, чтобы спасти Россию от злобной американской провокации, один даже лишается полового органа, и все это во имя России.
Жанр, как и в первом случае, лютый треш, но здесь найден адекватный стиль. Книга писалась на гребне социальных успехов автора, он думал, что ему сейчас вообще все можно, потерял всякий страх и пр.; в реальной жизни все это чаще свинство, но литературе иногда помогает – «Матадор на Луне» написан с высочайшей степенью, как бы это выразиться, фабульной и стилистической безоглядности, какую я вообще редко в искусстве видывал, не только в своем.
Д) Роман «Месяц аркашон» (2004). Довольно кондитерская туристическая проза; книга для романтических барышень, объездивших еще не всю Европу; эротико-мистико-детективные приключения в далеком Бискайском заливе. Сюжет не выстроен, провал с характерами, но есть определенный шарм, ощущение, что ли, стилистической свежести. Эту книжку я сочинял в соавторстве со своим уральским другом Константином Богомоловым (она сначала печаталась под псевдонимом Андрей Тургенев; сейчас позиционируется как текст двух авторов).
Е) Роман «Спать и верить» (2007), очень хорошая книжка. Действие происходит в Ленинграде в конце 1941 года. Главный герой – человек, который живет сильно лучше других в адской ситуации и может пить водку с мясом, когда у других нет воды с хлебом (тема, уплотнившаяся внутри автора за годы его странствий), а блокада – отличная для такого героя декорация. Книжка далась непросто, я для нее переехал в Петербург, прочел с сотню тяжелых источников, говорил с блокадниками, выпил вагон водки, даже микроинфаркт во время одного из запоев пережил и не заметил, город весь скрупулезно изнюхал, пешком измотал – словом, труд вложен, тема прочувствована, мышцы прозы накачались, и результат налицо.
Ё) Роман «Чтобы бог тебя разорвал изнутри на куски!» (2008), дрянь. Мой покойный друг, любивший приговаривать «разорви-меня-господи-если-это-не-так-разорви-меня-господи», полагал, что я украл у него название, но дело, конечно, далеко не только в этом: надуманный сюжет, тяжелый слог и памфлетная (не сплошь, но во многих местах) интонация. Это и есть тот единственный случай, когда я попробовал конвертировать в текст реальные знания о жизни, в данном случае о том, как устроен «контемпорери-арт»; действие происходит на вернисажной неделе Венецианской биеннале. Только для фанатов.
Е) и Ё) тоже сначала вышли как тексты Андрея Тургенева, но потом вернули мою фамилию.
Ж) Монография «Набоков без Лолиты» (2013). Вторая очень хорошая книжка. Я двадцать лет изучал Набокова, нарыл тыщу мелких филологических фактов (скажем, обнаружил, что публикация первой же шахматной задачи Набокова в газете «Руль» была сделана с опечатками в задании), сформулировал сколько-то мелких и крупных концептуальных идей, изучил и намазал на зеркала эпоху и поставил все это на матрицы своей биографии: получилось ровно то, о чем я мечтал в детстве, натыкаясь во сне на модели каких-то невиданных книг. Разве что картинок (схем, рекламок, карикатур и пр. черно-белой графики) в книгу попало всего двадцать с чем-то вместо ста, издатель воспротивился, а я не настоял, но во всем остальном это был отличный издатель, а картинки я верну с лихвой в новой версии, которую хочу выпустить лет через пятнадцать после первой, такого рода книжку есть чем дополнять.
В обеих книгах, которые я назвал «очень хорошими», в «Спать и верить» и «Набокове без Лолиты», налицо все те же сакраментальные постмодернистские ходы, смешение дискурсов, децентрализация рассказчика, нелинейные фокусы, все дела. Но если в девяностые меня просто несла волна, то теперь оказалось, что волну можно и оседлать, обращаться с арсеналом осмысленно, заставить высокую болезнь служить не космическим своим означаемым, а ответственным задачам автора.
З), И) и т. д. Есть еще куча разной мелочовки, которую сложнее распределить по буквам. В середине девяностых я пообещал написать стихов для выступления в одном из московских литературных салонов; написать не написал в связи с тем, что писать их не умею и проворонил время, а читать было надо; последний вечер посвятил перепечатыванию на машинке текстов из собр. соч. Апухтина (особо даже стихи не выбирал, двадцать первых попавшихся), а назавтра прочел их со сцены, Апухтина не упоминая. После чтения один из присутствовавших издателей предложил издать стихи книгой, я, конечно, согласился, в результате мою библиографию украшает брошюра «Стихи, прочитанные 23 ноября 1995 года в салоне „Классики XXI века“» (1996). В конце нулевых, думая, чем наполнять свое клубное шоу, сочинил басню для пения «Путин и зайцы», исполнил ее несколько раз, а потом один из мастеров арт-бука издал «Зайцев» коллекционным тиражом 10 экземпляров на толстом картоне формата А3, проложив страницы папиросной бумагой, набрав текст высокой печатью (все ли помнят, что это такое? – а несколько станков сохранилось в России), снабдив коллажами и картинками, приложив к экземплярам живописные портреты автора и запаковав все это дело в красивые футляры (книга вышла в 2011-м). Есть у меня пьеса «Антиссыкалка» (2015), она напечатана в журнале, на сцене ТЮЗа Екатеринбурга была «читка» с элементами спектакля, но пьеса, если честно, не самый фонтан. Зато я доволен несколькими редакторскими работами: антологией «Стихи в Петербурге, 21 век» (составил вместе с Людмилой Зубовой, вышла в 2005-м), антологией «Поэтический путеводитель по городам России» (составил вместе с Андреем Родионовым, вышла в 2012-м) и антологией «Черногорцы. 8 + 11 + 1 + 9» (2015), а также участием в петербургском журнале (позже интернет-проекте) «Прочтение» (2008–2010). Да, еще осваиваю аудиозаписи своих произведений – читаешь рассказ, нет-нет ведь да прокомментируешь или что изменишь, письменная литература перемешивается с устной.
Последние годы, подобно многим сегодняшним литераторам, я обратился к жанру телевизионного сериала. Я сижу в тихой деревне и сочиняю длинную историю из семидесятых, вернулся в эон утенка, двух обезьян, купца Крокодилова и замысла романа «НГАТОИБ». Изучаю быт тогдашней Москвы, в которой несколько раз оказывался ребенком, вычитываю из огоньков-и-наук подробности эпохи, переслаиваю факты с воспоминаниями (это очень прекрасно, скажу я вам, плыть по своему детству), проедаю аванс и верю в популярную теорию, что сериал – это и есть сегодняшняя форма классического романа. Конечно, реальность вряд ли сдалась, скорее, затаилась: может выясниться, что никакой формы романа тут нет, а есть тупое производство, а еще хуже, выяснится, что я к этой деятельности не приспособлен. Но пока я верю, что занят интересненьким искусством, и, пока не доказано, что не приспособлен, я чувствую себя даже и слишком незаслуженно хорошо.
Впрочем, интересненькое искусство интересненьким искусством, но никакой самый выгодный сериал не заменит удовольствия от сложносочиненной совершенно антивыгодной бумажной книги; и я пустился в новое большое исследование. Оно посвящено «Войне и миру», самому значительному произведению одного графа-артиллериста, талантливого автора, работавшего во второй половине девятнадцатого века; это необычное произведение, речь в нем идет то о войне, то о мире, художественные фрагменты уступают место философским конструкциям, и наоборот; я надеюсь представить свое исследование в виде книжки с картинками и таблицами буквально через несколько не самых длинных лет.
конец
Вадим Левенталь. Дилемма заключенного
Если вообще есть история как логичная последовательность событий, существующих по способу следования одно из другого, то применительно к себе я могу рассказать такую историю, начиная с седьмого класса. Все, что было до того, – тающие на языке снежинки: я помню их вкус, но снежок из них не слепишь.
Вот мы выходим с мамой из парадной на улице Скороходова (позже я узнаю, что в этом же доме недолгое время жил Блок); моя рука высоко задрана: ее держит мамина; только что прошел дождь, и мостовая кишит выползшими из газонов червями. То есть буквально – некуда ступить; и не надо мне говорить, что так не бывает, в моей памяти – именно так.
Помню полукруглую лестницу из нежнейшего мрамора в занявшей старинный особняк детской поликлинике, в которую мы ездили на трамвае с бабушкой, – и мгновенно узнал ее, как только в первый раз привел в эту же поликлинику своего сына; он все не мог понять, почему я чуть не плачу, глядя на нее: какая же она красивая, ты только посмотри, какая она красивая.
Но бог с ними, с детскими секретиками; их вообще посторонним не показывают: случись человек недобрый, надави на стеклышко носком ботинка – и тогда прости-прощай, волшебное нутряное свечение; нет, нет, не дам.
Вот вам вещи попроще: август девяносто первого. Бабушка выкручивает ручку приемника; мы на даче, в Сиверской, танки движутся по дороге совсем недалеко от нас; я сочувствую бабушке, а бабушка недовольна Ельциным (что ж тебе все неймется-то); впрочем, мое сочувствие скорее формальное. По-настоящему слезами я заливался в прошлом августе, когда разбился Цой, а победа демократии для меня – абстракция не конкретнее учебниковых пунктов А и Б, между которыми вечно движется безликий поезд (в огне, ага).
Зато конец проклятого совка изрядно вдохновляет моих родителей – по крайней мере, точно маму; папа, кажется, на эту тему высказывается мало, тем более что ему пришлось уйти из НИИ, в котором он работал, и распрощаться с мечтами об аспирантуре. Папа – инженер; мама – журналист; мы были обыкновенной преуспевающей советской семьей, с дедушкой-полковником и дедушкой – ведущим инженером в «почтовом ящике», не было никаких проблем с едой, у меня была тьма ярких замечательных игрушек, книжек, и нам только что дали квартиру, пусть на окраине города, зато двухкомнатную. Но в свободном мире все делают бизнес, и мама мечтает о бизнесе – так что теперь у нас семейный бизнес, и вместо того чтобы учиться, играть и заводить друзей – я торгую. Сначала я торгую книгами с раскладного столика во дворах Капеллы (и вожу их с рынка в ДК Крупской), а потом и газетами в переходах метро.
К счастью, мои родители – воспитанные советские люди, а не злобные ящеры, которые готовы убивать и, по Гегелю, в любой момент быть убитыми, поэтому сделать бизнес в девяностые у них нет, разумеется, ни единого шанса. Как, впрочем, и устроиться на работу, на которой платили бы деньги. Поэтому у нас на столе чаще всего пустые расплывшиеся макароны (сварить их нормально невозможно: они наполовину из крахмала); покупка новых ботинок – это событие года, которое обсуждается всеми родственниками несколько месяцев до и после; на день рождения я мечтаю о шоколадном яйце: любая другая мечта была бы бессмысленно дерзкой; маме и папе тотально не до меня, и семья, как это часто бывает с семьями, оказавшимися в беспросветной нищете, распадается.
В школе я – очкарик; дети, как им и полагается, воспроизводят в миниатюре мир взрослых, а в этом мире очкарики – самые презираемые люди на свете. Мне, стало быть, лет примерно тринадцать, и, насколько я помню, нет ни дня, чтобы я не думал о самоубийстве, во всяком случае куда чаще, чем об этом думают в среднестатистическом пубертате. Для меня очевидно, что само мое появление в этом мире не более чем ошибка: я, такой, какой я есть, должен был появиться не в этом – лишенном света, благородства, добра и справедливости – мире, а в каком-то другом. В Средиземье.
Книга про Кольцо всевластья и связанные с ним проблемы стала для меня чудесным порталом – такой рисовал на стене своей одиночной камеры герой другой саги, про волшебный янтарный мир, чтобы сбежать из тюрьмы, – я начинал читать ее снова, едва закончив, и так шестнадцать раз подряд. Ничего хорошего в этом, разумеется, не было. Но, с другой стороны, не исключено, что темно-коричневый четырехтомник в переводе Каменкович и Каррика в буквальном смысле спас мне жизнь.
Книги, прежде всего фантастические книги, стали для меня способом побега от действительности – именно с этой формулировкой детей ругали и по поводу детей сокрушались взрослые. Но хотел бы я посмотреть на детей, которые не хотели бы сбежать из той действительности, которую эти взрослые им устроили. Дело, конечно, было не в том, чтобы сбежать на время чтения: пока читаешь, тебя нет, а закрыл книжку, и ты снова здесь – нет, какой же это побег. Сбежать нужно было радикально, навсегда. Поэтому я стал как бы читать даже с закрытой книгой. Так что литература, если уж выпал случай говорить о ней, прямо показывая на нее пальцем, с самого начала была для меня не развлечением и не просвещением, а побегом.
Дилеммой заключенного называется в теории игр простейшая игра, в которой двое заключенных могут отсидеть по полгода, но сидят в результате по шесть лет. Дилемма состоит в том, что ты можешь молчать, но тогда подельнику будет выгоднее сдать тебя, а можешь сдать подельника, но тогда лишишься и призрачного шанса на скорое освобождение.
У меня была своя дилемма: то ли учиться жить жизнью тюрьмы, выучивая ее законы и встраиваясь в ее структуры, то ли совершить иллюзорный побег внутрь самого себя. Я выбрал последнее, и не я один – ведь по условиям задачи переговоры между заключенными запрещены.
Для многих билетом на самолет стали наркотики (с серебристым крылом, ну да). Оказываясь на кладбищах, я часто обращаю внимание на эти могилы (1980–1994, 1979–1995, 1981–1996, 1980–1995…) и думаю о том, что в такой же мог бы лежать и я – только у меня не было друзей, и мне негде было взять.
Книги и литературное, кхм, творчество были путем маргинальным, прежде всего потому, что крайне ненадежным. Нет, то есть мама отвела меня в ЛИТО, в которое когда-то ходила сама, и там несколько мальчиков и девочек раз в неделю недолго чувствовали себя почти в безопасности – но все остальное время мир отчаянно хватал тебя за грудки, тряс из стороны в сторону и орал на тебя ты чё сука умный нашелся ща получишь ты уроки сделал вот наказание а не ребенок почему ты у доски не можешь стоять как человек. Нужно было что-то сделать, куда-то забиться, прибиться куда-то, где будет не так страшно. И вот в седьмом классе я принял первое в жизни решение – решение, с которого начинается моя личная история: я решил, что перейду в другую школу.
Так получилось, что этой школой оказалась физико-математическая (та самая на Васильевском острове, для тех, кто понимает). Надо мной смеялись: с тройкой по математике, а туда же. Задача была из разряда невозможных: за полгода нужно было с нуля научиться решать конкурсные задачи; конкурс был примерно двадцать человек на место. И тем не менее весной я сдал экзамен и стал учеником одной из лучших школ страны; и если вам показалось, что это похоже на какую-то историю из книжки, то так оно и есть (ср. Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота).
Оказалось – уже за эти полгода я понял, – что математика помогает сбежать не хуже книжек. Небо математических абстракций не описано Данте, но в нерелигиозной картине мира оно, безусловно, идет под номером десять: весь остальной мир – лишь эманация Числа, что движет солнце и светила. Улетая в это небо, напрочь исчезаешь из реальности; мало того, от тебя еще и отстают взрослые: не трогай его, не видишь, занимается.
На остатках рухнувшей страны шла гражданская война, по телевизору каждый день показывали пьяного президента и сразу вслед за ним – разными энергиями заряжающего воду экстрасенса, в Москве из танков расстреляли Парламент, культурная элита нации призывала к дальнейшей деконструкции родины, в Чечне сровняли с землей Грозный, сокрушительный дефолт вверг народ в нищету, и так несколько раз подряд в течение нескольких лет, по серому, полуразвалившемуся, грязному и вонючему Петербургу уныло брели толпы уставших, плохо одетых и плохо питающихся людей с пустыми от тоски глазами, а еще катались осоловевшие от безнаказанности банды человекоподобных рептилий – для внутренней жизни моей души все это происходило как бы одновременно, и мне еще предстоит совершить усилие, чтобы пробиться к истории, – смотреть на все это нормальному человеку и не сойти с ума было невозможно; я и не смотрел. Я был совершенно в другом месте – там, где одно утверждение бесспорно доказывалось с помощью другого, заранее доказанного, и бесконечные, то есть по крайней мере в одну сторону бесконечные ряды этих бесспорно истинных утверждений разрастались, переплетались и уходили в такую головокружительную высь, что сердце заходилось от восторга при виде этой торжественной архитектуры истин.
Посреди улицы Желябова как-то весной ко мне наконец пришло решение уравнения, над которым я бился две недели, – да не просто решение, а решение предельно изящное, тонкое, всего в три строчки. Это решение было прекрасно, как пушкинская строка, как палладиева волюта – и это я, я его придумал, – с тем же самым чувством, я знаю, Блок однажды написал «сегодня я гений».
За недолгое время занятий математикой в доброжелательной и уважительной обстановке я окреп, как крепнет теперь у меня на подоконнике моя маленькая драцена, когда я возвращаюсь из путешествия и поливаю ее, и тут оказалось, что я вовсе не ненавижу всех людей, а с некоторыми из датских заключенных могу даже вступить в переговоры.
Переговоры по условиям задачи запрещены, однако мы обманывали правила – переговоры шли не о том, как выйти из тюрьмы или тем более разрушить ее, а о том, как вместе понадежнее сбежать из нее в картинку на стене. Не вдвоем и не втроем, а сотнями и тысячами мальчиков и девочек – всем вместе шагнуть в мир эльфов, рыцарей, магов и прекрасных дам. И прежде чем ухмыляться ролевым играм, спросите себя еще раз: а что вы сделали для того, чтобы вашим детям захотелось остаться в созданном вами мире?
Там, в лесу, где мы жили в палатках, ходили одетыми в яркие плащи и говорили друг с другом языком переводных романов о королях и королевах, – там не было Березовского, не было семибанкирщины, не было грязных, как пристанционный сортир, выборов девяносто шестого года, не было унизительного, годами без продыху, безденежья, а что касается невкусной и бедной еды, то в лесу из котелка она даже воспринимается как часть игры: у нас же тут Средние века, чего вы хотите.
Так что у меня не найдется слов осуждения для тех, кто принял решение остаться там навсегда и стал по жизни Галадриэлями и Митрандирами с повязками на голове, взглядами с поволокой, неустойчивой психикой и любовью к бесконечным заунывным балладам о любви Берена и Лютиэн. Что касается меня, то мне просто повезло – у меня была математика и у меня была литература.
Насытившись книжками про мечи и магию, я из любопытства стал листать наугад, что было дома. Дом был полон «Митиными журналами», «Часами», «Арионами» и «Алконостами». Так получилось, что Коровина и Кондратьева, с которыми дружила моя мать, я прочитал раньше Толстого и Чехова. Больше про мечи и магию я не читал никогда. Это тоже была эскапистская литература – только побег здесь совершался не такой простой, в мир бессмертных эльфов и волшебных посохов, откуда любой дурак мог вернуть тебя простым их не существует, тут все было хитрее, потаеннее, зато и еще надежнее – это был побег в структуры речи, к машинам письма и внутренним формам слов: на-кася выкуси, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
Смешно, но взрослые дяди и тети хотели, в сущности, того же, что и завернутые в занавески дети, – во что бы то ни стало спрятаться от пронизывающего ветра истории, забиться с ушами в маленький уютный мир. Мир мелочей, в котором нет ничего важнее фигур, которые выплясывает, кружась, дым твоей сигареты, и проблем, связанных со способами их репрезентации на письме, мир ближайшей телесности, в котором ощущение, подаренное тебе мимолетным прикосновением к шершавой поверхности стола, важнее минимального размера оплаты труда, мир лабиринтов памяти, в котором давно забытый, но вдруг напомненный запах каменного угля важнее судеб миллионов. Взрослые создали реальность и теперь изо всех сил прятались от нее, – ей-богу, я испытываю к ним нежность. Так кот чиркает пару раз лапой по линолеуму и с независимым видом забирается в угол дивана. Говоря о нежности, я не иронизирую: ведь это нежность в том числе и к своему детству, в котором я оказался так заворожен этими перекатывающимися и постукивающими друг о друга словами, заколдован отсветами и тенями чужих чашечек кофе, потертых кресел и крашеных подоконников, воспоминаниями о прочитанных кем-то книгах, о сорванных в полумраке поцелуях, о запахе открытой с зимы дачи и прихотливых узорах на фризе неведомой мне базилики (я так долго могу) – так, говорю, зачарован, что в таком же роде вдруг километрами бросился писать сам. Мужики выражали сомненье, и таращили бабы глаза.
Вот вполне себе лакановское сближение: одновременно с высвобождением потока речи у меня вдруг прорезался голос. Оказалось, что у меня есть какой-никакой слух и что я могу петь – могу так, чтобы заплакали девочки, а могу и так, чтобы дрожали стекла в окнах соседних многоэтажек. От всероссийской славы, ревущих стадионов и ранней смерти от кокаина меня уберегло отсутствие музыкального образования: я кое-как научился аккомпанировать себе на гитаре, но сочинить даже самой простой мелодии не мог, как ни бился. Слова слушались меня или, по крайней мере, делали вид – нот, наоборот, приходилось слушаться мне. Зато по некоторому – лишь недавно отмененному – закону умеющий хоть как-то петь человек с гитарой автоматически перемещался на самую козырную шконку в хате – зверь тщеславия был напоен кровью девственниц и временно затих, и занятиям литературой я посвящал себя мало. И слава богу: представляю, какую прозу нашептывал бы обчитавшемуся Гальпериным пополам с Рудневым подростку этот зверь, будь он злой и голодный. Видите, даже сейчас: чуть ослабишь поводок – начинает красиво изъясняться.
Мальчики сбрасывали пепел в кофе и уверяли, что кофе от этого только вкуснее, девочки закалывали прохудившиеся штанишки булавками, мы пили дрянную водку, разведенную каким-нибудь «юпи» (порошок из пакетика нужно было высыпать в банку и развести водой), и закусывали жареными пельменями – это был вроде как деликатес, но на самом деле их попросту не было смысла варить, они мгновенно расплывались, такое было тесто, – но пели мы, разумеется, про охоту на единорогов, шары из хрусталя, лебединую сталь и прочую музыку серебряных спиц. Мы даже не были инженерами на сотне рублей и тем не менее отчаянно чувствовали себя именно ими – гордыми членами старинного ордена, хранителями Тайны Серебряной башни: как от проказницы Зимы, запремся также от Чумы! До сих пор я включаю иногда какое-нибудь «Равноденствие» или там «Русский альбом», и сердце мое сжимается от жалости к юным, красивым, таким хорошим мальчикам и девочкам, которые, сбившись в кучку, тянули сееереееброоо гоооспода моегооо, тянули отчаянно и слезливо, потому что чувствовали, что скоро их жизнь необратимо изменится – кто пойдет работать официантом в ресторан, кто в отдел продаж пивоваренной компании, кто в стриптиз-клуб, а кто барменом – инженеры в этом мире были на хрен никому не нужны, даже на сотне рублей.
И опять мне необъяснимым образом повезло: я никогда не был театралом, среди знакомых и родственников не было артистов, я вообще никогда не думал о сцене даже в предположительном ключе – и тем не менее после одиннадцатого класса я совершенно случайно оказался не в Институте психоанализа, как планировал, а на актерском курсе. Кто хоть раз оказывался в театре – я имею в виду не вечером в зрительном зале, а кто попадал в него жить, – тот знает: то, за что другие люди платят – кинотеатрам, туристическим компаниям, музеям, наркодилерам, тем же артистам – эмоции, игра на оголенных органах чувств, непосредственное проживание момента, – артистам достается совершенно бесплатно круглые сутки. Я не доучился, ушел с середины третьего курса – но я прекрасно понимаю людей, которые, даже со средним талантом, даже зная, что их потолком всегда будет какой-нибудь безымянный пьяный прохожий, повар или горничная, тем не менее остаются в театре, и попробуйте их убедить, что, возможно, они были бы хорошими менеджерами по продажам, логистами или бухгалтерами: они в театре – одно это компенсирует все уродство мира.
Я был в театре – и не заметил ни я устал, я мухожук, ни финального акта Чеченской войны, ни даже одиннадцатого сентября. И все же театр не был процарапанной на стене картинкой, он был вещью реальности, пусть и аномальной вещью, вроде черной дыры или червоточины. Через такие червоточины, если верить физикам, мы когда-нибудь сможем не только путешествовать в пространстве и времени, но и проникать в другие вселенные. Проблема в том, что целая вещь не может пройти сквозь червоточину, – она будет разобрана даже не на молекулы, а на кварки. Театр разобрал меня на куски и собрал заново и выкинул – обратно в литературу.
В математику, музыку, театр, куда угодно еще – я путешествовал: долго ли, коротко ли, но туризм не эмиграция. К литературе я вернулся, как молодой барин в романах девятнадцатого века возвращался в родное поместье из дальних странствий – обосновываться прочно, на остаток жизни. Нужно было учиться искусству ведения хозяйства, основам животноводства и растениеводства, началам архитектуры и управлению персоналом и еще тысяче разных мелочей – я поступил на филологический факультет (в физмате меня научили системному подходу, ага). Молодому барину в таких случаях полагалось еще жениться – я сделал и это. Последний шаг оказался роковым.
Легко быть страусом, когда ты один, – но когда рядом с тобой царевна-лягушка, которая изо всех сил бьет лапками, чтобы взбить из молока сливки, с головой в песке перестаешь чувствовать себя комфортно. А высунув голову наружу, невозможно не задуматься о реальности. Речь, разумеется, идет о необходимости поработать локтями, раз уж не случилось у тебя ни родителей-миллионеров, ни наследства американской тетушки, – но разве не через эту необходимость непосредственным образом и проявляет себя наличный зов истории?
Как оказалось, первое, что хочется сделать высунувшему голову из песка человеку, – это спрятать ее обратно. Вот почему, таская подносы в ресторанах, продавая кредиты в мебельных магазинах, верстая металлургический журнал, снимаясь в сериалах или занимаясь любой другой скучной и унизительно малооплачиваемой работой, любую свободную минуту я использовал, чтобы совершить тот же самый побег, что и маленький мальчик с Толкином или Желязны в руках, – только на этот раз это были Бахтин и Пропп.
Рвались бомбы в Тушино, в московском метро и на «Пушкинской», взрывались поезда и самолеты, месяца не проходило, чтобы не подорвала себя в толпе какая-нибудь смертница, в заложники захватывали зрителей на Дубровке и детей в Беслане – девяностые отползали, щелкая зубами и оставляя за собой кровавые подтеки. Тексты, тексты о текстах, метатексты и собственные тексты снова стали для меня той мягкой складкой в структуре реальности, в которой можно было схорониться. У меня теперь не всегда было на это время, но я все еще хотел сбежать в нарисованную на стене картинку, – правда, теперь я мог нарисовать картинку намного качественнее, чем раньше.
Опыт создания персонажей на сцене научил меня тому, что еще увлекательнее, чем просто заподлицо приставлять друг к другу слова, – придумывать других людей, их историю, ставить их в предлагаемые обстоятельства и щелкать рубильником волшебного «если бы». Мало того – теперь я умел разбирать тексты по винтику на детальки и знал, как сделаны их механизмы. Оказалось, что нет ничего интереснее, чем пробовать собрать такой механизм самому. Плохо ли, хорошо ли у меня получалось – меня увлекала сама эта работа: приладить колесики одно к другому так, чтобы они цеплялись и крутились вместе.
Подвох тут крылся вот в чем: выяснилось, что для того, чтобы качественно придумать героя и его историю, чтобы собрать аморфный язык в жесткую структуру текста – нужно вылезти из мягкой, теплой складки внутреннего мира в холодную, опасную реальность и начать изо всех сил внимательно за ней следить, быть настороже, постоянно думая, что бы у нее такое украсть. Наблюдатель же неизбежно превращается в вопрошающего. Я продолжал трудиться на производстве хитроумных литературных машинок – каждая следующая изящнее и изощреннее предыдущей, – но параллельно с этим во мне стали, как вирусы, поселяться вопросы. Вопросы не о том, почему так или иначе работают тексты или даже как развивалась история литературы, а о том, почему так, а не иначе устроена реальность вокруг меня.
Ответов на вопросы не было ни у Шмида, ни у Лотмана, их не было даже у Гоголя с Андреем Белым. На некоторые вопросы ответы были у Хайдеггера и Мамардашвили, но лишь на те, которые имели отношения к способу присутствия моего «я» в этом мире – про себя, конечно, интересно, но куда интереснее про других: как, по каким законам существуют люди в обществе? Какова природа социальной реальности? Как взаимодействуют люди друг с другом сейчас и в истории? Мне пришлось снова погрузиться в теорию, чтобы выслушать все имеющиеся объяснения в диапазоне от Маркса до Фридмана, от Фрейда до Лакана, от Лукача до Фуко (полна, полна коробушка, есть и ситцы, и парча), и наконец согласиться с тем, что реальность исторична, что история – это прежде всего история производственных отношений, что «я» – это воображаемая функция субъекта, а самые интересные в жизни вещи – это не воображаемые миры и мистические откровения, а политика и секс. Я обнаружил, что мои взгляды на действительность радикально переменились, а вместе с тем перевернулось и отношение к литературе – в том числе и в том в ней, что до сих пор делал я сам.
Инкубационный период вопросов-вирусов длился несколько лет, за это время я успел написать несколько сот рецензий на чужие книги, десятка два рассказов, повесть и роман. На все на это я теперь смотрю примерно так же, как на детские рисунки своего сына: они, разумеется, вызывают умиление, и все же – хороши они или плохи – это только детские опыты. Сегодня мне тридцать шесть, на разных книжных мероприятиях по всему миру меня представляют как современного русского писателя, иногда даже как знаменитого (ой ли?), но что уж совершенно точно – я часть (большая ли, маленькая ли – какая-то) русской литературы, и я чувствую себя так же, как когда-то, написав первый удачный (и напечатанный) рассказ, – в начале. Если я и впрямь научился управлять литературной машиной, не задумываясь переключать передачи, пропускать помеху справа, обгонять и вписываться в повороты, то теперь мне предстоит задача, может быть, труднейшая – развернуть эту машину и использовать все, какое ни есть, мастерство, чтобы двигаться в противоположную сторону. Не в сторону побега от действительности, а прямо в гущу гудящего на пределе нервов потока. Использовать все известные мне приемы и фокусы для того, чтобы слова не драпировали действительность, а чтобы они обнажали ее, объясняли ее и в пределе – ее меняли. Как это делать, я пока не знаю. Но надо попробовать – все остальное мне уже неинтересно.
Заключенный сидит в камере два на два. Условия задачи таковы, что у него всего один ход, две опции, и одна хуже другой. Он может процарапать на стене озеро, облака, тонущие в синеве очертания холмов, изумрудную траву и малахитовые кроны деревьев и даже, если он такой умный, башню. А может внимательно осмотреться по сторонам, попытаться понять, как устроена темница, и сделать все, что в его силах, чтобы помочь другим расшатать ее палимпсестом покрытые рисунками стены.
Игорь Малышев. Где я? Кто я? Зачем я?
Что такое творчество? Зачем оно? Зачем люди пишут?
У меня есть некоторое количество объяснений этому феномену. Не все они вполне ясны даже для меня самого, но творчество вообще и писательство в частности всегда было и будет тайной. Так что немного тумана точно не повредит.
• Прежде всего, мне кажется, что творчество, это такие сталкеровские гаечки с бинтами, которые кто-то (слепая, всегда действующая наугад природа?) забрасывает на территорию неведомого, чтобы выяснить, что из этого получится. По сути, искусство – это разведка и исследование новых территорий, а творческие люди – бета-тестеры новой реальности.
И если кто-то подумал, что речь идёт исключительно о фантастике, то он глубоко заблуждается. Достаточно вспомнить, что после выхода в свет «Страданий юного Вертера» Иоганна Вольфганга Гёте по Европе прокатилась волна самоубийств среди молодёжи. Или как советские дети после прочтения «Тимура и его команды» Аркадия Гайдара, часто без всякого влияния со стороны взрослых, создавали тимуровские отряды.
Есть теория, что Бог создал человека от бессилия, когда исчерпал свои силы и таланты, и человек должен помочь Ему придумать, что делать дальше со Вселенной. Если эта теория верна, то люди искусства находятся где-то на переднем крае выполнения задачи.
• Ещё есть творчество как толкование реальности, как попытка втиснуть огромную, невообразимо широкую палитру мира в довольно узкие рамки человеческого восприятия. Потуги немого спеть Бранденбургские концерты Баха или изобразить пальцами импровизацию Колтрейна.
Объяснить реальность, передать всё многоцветие мира при помощи чёрного карандаша и белой бумаги.
Дело сложное, неблагодарное, но часто совершенно необходимое, чтобы не сойти с ума и остаться в более-менее привычной системе координат. Хотя тут есть большой вопрос: творчество ли это вообще?
• Творчество как попытка стать «не-я». Укутаться в чужую шкуру. Не важно, человека ли давно ушедшей эпохи, современника, человека будущего или даже вовсе не человека – зверя, духа, машины… Хоть предмета мебели. Человеку скучно. Человеку всегда скучно. И даже попытка представить себя прикроватный тумбочкой в больнице для безнадёжно больных выводит его из круга скуки. Что уж говорить о роли легионера на галльской войне или батьки Махно на российской Гражданской.
Если говорить конкретно о писательстве, то можно сказать, что эта его ипостась ближе к актёрству. Но так что же с того? Прежде чем актёр погрузится в образ, в образе должен пожить писатель.
• Ещё есть ипостась творчества как уход в небытие.
• Творчество как возвращение в прошлое. Как попытка зафиксировать минувшее. Попытка победить время. Время победить нельзя, но можно попробовать обмануть. Тут, правда, существует вероятность обмануть самого себя, поскольку память – материя слишком ненадёжная, изменчивая и – увы! – податливая для внешних факторов.
При этом мы живём в не самые приятные времена, когда людской памятью манипулируют с ловкостью напёрсточников на привокзальной площади. И именно поэтому важность памяти совершенно несомненна. И, кроме того, когда у человека отбирают всё, очень часто последнее, что у него остаётся, – это память.
• Творчество как сопротивление, как неприятие нового, как противостояние. Как демонстрация омерзительности новых реалий. Или же того, как всё могло быть, не допусти мы их появления.
• Иногда творчеством начинают заниматься оттого, что не могут найти в существующей литературе или музыке того, что хотелось бы прочесть или услышать.
• Творчество как оправдание. Попытка представить себя или своего героя жертвой обстоятельств непреодолимой силы или объяснить мотивы так, чтобы читатель максимально проникся ими и простил героя.
• Творчество как крик. Иногда человеку требуется прокричаться. Своего рода предохранительный клапан. Воспринимать это не всегда приятно, но часто небезынтересно, как интересно любое проявление честности.
• Творчество как осмысление истории. Личной ли, своего народа, истории рода человеческого – не важно. Закрытие гештальта, принятие ситуации целиком, со всеми деталями и сторонами.
• Творчество как поцелуй спящей красавицы. Попытка пробудить нечто, давно исчезнувшее из нашего мира.
• Творчество как побег. «Куда угодно прочь из этого мира».
• Творчество, происходящее от гордости и тщеславия. От желания выделиться и прославиться. Творчество как самопрезентация. (Выглядит так, как будто я осуждаю таких людей. Ничуть. При наличии у них таланта, конечно.)
• Творчество, а точнее, именно писательство, происходящее от заворожённости языком, от восторга, сопровождающего плетение словес и течение речи.
• Бывает, что произведение неведомым образом зарождается в человеке, растёт, зреет и вырывается наружу, совершенно независимо от творца. Творение как нечто самостоятельное, использующее человека как инструмент. Часто такие люди становятся авторами одной песни, книги.
• Творчество как средство заработка. Звучит не очень красиво с позиций идеализма и чистого искусства. Но можно вспомнить, что тот же Достоевский писал именно ради денег.
• Творчество как средство привлечения внимания особей противоположного пола. Для многих, я уверен, это крайне важный побудительный момент, пусть в этом и не каждый признается.
• Творчество как утоление сенсорного голода…
Ну и так далее и тому подобное…
Наверняка я что-то проглядел. Но тут, согласитесь, трудно было бы что-то да не упустить. Впрочем, любой желающий может добавить в этот список свои причины и побудительные мотивы.
Я перечислил именно эти, поскольку все они так или иначе действовали на меня, и когда я начинал писать, и сейчас, когда продолжаю заниматься этим не всегда простым, иногда откровенно выматывающим, но, по счастью, всё ещё очень интересным для меня делом.
Перед тем как сесть за свою первую книгу «Лис», я долго искал в литературе что-то такое, что соответствовало бы некой, давно и настойчиво звучащей во мне ноте.
Хотелось чего-то лесного, ночного, звёздного, потаённого, с домовыми, водяными, лешими, русалками, живого-живого до последней чёрточки.
Что-то созвучное слышалось мне в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки», что-то в шекспировской «Двенадцатой ночи», но это было, во-первых, не совсем то, чего я хотел, а во-вторых, этого было мало.
Помню, некоторое время я даже играл в электростальском любительском театре «Слово и голос», поскольку надеялся, что они поставят «Двенадцатую ночь» с моим участием и это как-то успокоит меня. Но Шекспира они так и не поставили, да и быть актёром, при моей интровертированности, оказалось вовсе не просто. «Театральный» этап метаний был завершён где-то через полгода.
Примерно в то же время я начал заниматься музыкой, писать песни, и это в какой-то мере стало отдушиной. Но всё равно тоска не отпускала, и однажды, я уже и не вспомню, в какой момент, я сел за «Лиса». И тут выяснилось, что писать очень легко. Истории, а повесть состоит из множества небольших рассказов, рождались быстро, без усилий. Я периодически ловил себя на мысли, что просто сижу и наблюдаю за тем, как разворачиваются события и ложатся на бумагу строчки. В определённом смысле всё это напоминало кино или спектакль. Мне было лет двадцать пять, но от ситуации я испытывал совершенно детский восторг, словно ребёнок, заглянувший утром первого января под ёлку и увидевший подарок, который давно выпрашивал у родителей.
Говорят, что вторая книга идёт гораздо труднее, чем первая. Я бы не сказал, что «Дом», который последовал за «Лисом», «строился» с большим трудом. Нет. Но его я именно что писал сам, а не наблюдал за процессом со стороны. То же самое можно сказать и о ещё одной детской повести «Там, откуда облака».
А в промежутке меж ними я и вовсе написал книгу почти что на заказ – «Корнюшон и Рылейка. Приключения маленьких человечков». Моему сыну тогда было чуть больше года, и я решил сотворить для него что-нибудь совсем-совсем детское, чтобы, когда ему исполнится года три, можно было читать перед сном. Оказалось, что и такая работа может приносить вполне определённую радость, хотя и без «полёта и парения».
Ощущение того, что я не пишу, а снова «смотрю кино», что книга «пишет сама себя», вернулось, когда я сел работать над «Номахом» (книга о Несторе Махно и Гражданской войне). Опять достаточно было сесть за стол, как фантазия начинала рассказывать историю за историей, так что рука едва успевала записывать.
Меня, помню, несколько озадачил этот момент, почему одни книги создаются легко и свободно, а другие требуют определённых усилий и напряжения. Потом, анализируя ситуацию, я понял, откуда берётся лёгкость. Дело в том, что и за «Лисом», и за «Номахом» стояли долгие годы подготовки и накопления впечатлений.
В случае «Лиса» это были десятки летних месяцев, что я провёл в деревне посреди чернозёмных полей, светлых рощ и глубоких, как пропасти, оврагов Липецкой области. Это сотни ночей, проведённых с друзьями и подругами в садах и рощах у костров, это рыбалки, прогулки, купания, поездки на лошадях, ночёвки в стогах. Это запах земляники и полевых трав, которыми пропитан там воздух, это звуки падения яблок, первые влюблённости и постоянная опасность стычки с местными… Присутствие опасности очень важно. Оно заставляет все чувства работать на пределе, кровь кипит от адреналина, мозг впитывает информацию, словно мощнейший регистратор.
А что касается «Номаха», то, помимо впечатлений, перечисленных в предыдущем абзаце (Махно всё же по большей части действовал в сельской местности), свой вклад внесло огромное количество фильмов и книг о Гражданской войне, что я перечитал. Это и Шолохов, и Гайдар, и Бабель, и Фурманов, и Леонов, и Вс. Иванов, и Лавренёв, и Есенин, и Маяковский плюс к тому большое количество документальной литературы, воспоминаний, фотоматериалов… Можно взяться перечислять фильмы на ту же тематику, начиная от «Александра Пархоменко» и «В огне брода нет» и заканчивая сериалом «Девять жизней Нестора Махно», но это займёт слишком много времени и места.
Есть и ещё один момент, давший немало впечатлений для «Номаха». Со второй половины восьмидесятых годов гражданская война не сходит с газетных полос и экранов телевизоров. Речь, понятно, не о той «единственной Гражданской», а о той, которая то тлеет, то полыхает в Средней Азии, Нагорном Карабахе, Осетии, Абхазии, Приднестровье, Чечне, Донбассе…
Мы привыкли к ней, как к вечному запаху гари от пожаров на подмосковных торфяниках. Но она идёт постоянно, то ныряя под землю, словно ожидая, пока мы забудем о ней, то выходя на поверхность и внезапно уничтожая целые города.
Две трети своей жизни я прожил при гражданской войне, это не могло не сказаться…
Когда пишешь, нельзя притворяться. Когда сидишь перед чистым листом, за дело должен браться маленький мальчик внутри тебя. Реагирующий безыскусно, отвечающий, не подумав, знающий некую изначальную правду, которую мы получаем с рождения, а потом, ударяясь о стены и потолки этого мира, получая шрамы и неумолимо грубея, забываем.
Он не умеет притворяться, этот мальчик. Он, несомненно, имеет доступ ко всему опыту, которыми ссудит нас жизнь, но притворяться он не научится никогда.
Наверное, это его имел в виду Егор Летов, сочиняя «Евангелие» («Своего Христа»). Тот, кого «пеленают надёжными цепями» и «душат послушными руками»…
Он чуткий, этот мальчик. Он никогда не научится врать. И даже если внезапно заговорит зрелым и взрослым языком Гоголя и Шукшина, это не потому, что врёт, а потому, что учится. Он всегда голоден до знаний, таково свойство детства.
Всё лучшее, что есть в тебе, это он, ребёнок.
И если ты решишь писать, то пусть пишет он. Пусть даже он чего-то не знает и не понимает, но это к лучшему. Не всё в этом мире стоит знать, а уж тем более понимать. За «понять» часто следует «простить», а там совсем близко и «принять». Принимать же слишком многое из существующего нельзя ни в коем случае.
У ребёнка большие яркие глаза. Он видит яснее тебя. Твои глаза выгорели. Твои руки, спина, плечи перегружены грузом гордости, амбиций, глупых претензий. У мальчика ничего этого нет. Он воздушен, подвижен, не стеснён.
У него в каждом движении свобода, у тебя – скованность. Он пьёт росу и купает в рассветах глаза, ты грызёшь камни и портишь зрение под лампами дневного света. Он зальётся хохотом там, где ты лишь слегка улыбнёшься. Он заплачет там, где ты… Где ты снова лишь слегка улыбнёшься.
Пусть пишет он, ребёнок. Не перечь ему, не прячь его, не ссылай во внутреннюю Сибирь. Пусть он всегда остаётся рядом. Так будет больнее жить, но так будет правильнее, честнее, по совести.
Мои слова отдают казённостью и казармой, но для нашего внутреннего ребёнка все слова чисты и незатасканны. Он может не знать их, они просто прорастают в нём, как кровеносные сосуды.
Всё, что происходит в так называемом реальном мире, призвано загнать нашего внутреннего ребёнка, маленького, сплошь состоящего из нежности и нервных окончаний, как можно глубже внутрь. Просто чтобы было не так больно жить. Но когда мы сядем перед чистым листом, написать на нём что-то стоящее сможет только наш внутренний мальчик, нежный, чувствующий.
Писатели не вырастают. Стареют, влюбляются, женятся, заводят детей, умирают, да. Но не вырастают.
Если уж говорить по совести, каждый время от времени должен садиться лицом к лицу со своим внутренним ребёнком и задавать самые простые вопросы: что со мной происходит? Правильно ли я живу? Что мне делать дальше?
Простые и самые важные вопросы.
В мире есть нечто главное, настоящее, правильное. И наш ребёнок знает, что это.
Часовые этого мира – наши внутренние изначальные дети. То, что мир до сих пор не рухнул, – их заслуга. Неизвестно, до каких глубин мерзости и ужаса мы могли бы дойти без них.
Мир качается на кончике детского пальца.
Начну издалека.
Когда я был юн и беспечен, то какой-то, очень непродолжительный, период слушал лекции по теории музыки. Преподавал молодой человек лет тридцати, к тому моменту успевший окончить консерваторию, побыть учеником Родиона Щедрина, но потом внезапно увлёкшийся джазовой импровизацией и ушедший от классики.
Был он избыточно кудряв, относился к нам, двадцатилетним безродным рокерам, без всякого снобизма и, помимо азов нотной грамоты, время от времени выдавал риторические импровизации на самые разнообразные темы. Одну из них я помню даже двадцать пять лет спустя.
– Я не понимаю, – говорил наш преподаватель, – когда мне говорят о тайне смысла жизни. Нет никакой тайны. Всё очевидно донельзя: смысл жизни – в её продолжении. И не выдумывайте ничего сверх того. Глупости это всё.
Тогда я, честно говоря, лишь внутренне отмахнулся. Тайна, над которой тысячелетиями бьются учёные и философы, не может быть настолько простой и даже, что уж там, несколько глуповатой.
Но, как бы то ни было, слова запали мне в голову, как та пресловутая песчинка в раковину жемчужницы. И я год за годом, событие за событием, снова и снова возвращался к этой формуле.
И чем далее, тем больше смысла я в ней обнаруживал.
В формулировке есть, конечно, мощный чисто животный посыл. Каждое живое существо, слон ли, амёба ли, скорпион, озабочено собственным выживанием и выживанием своего рода.
И можно было бы возразить, что правила животного мира неприменимы к человеческому сообществу и во многом даже противопоказаны, если бы не то обстоятельство, что человек, как ни одно другое существо на земле, склонен к самоистреблению и истреблению себе подобных.
А с тех пор как у нас появилось ядерное оружие и мы можем уничтожать целые планеты, наша опасность для самих себя и Вселенной возросла в бессчётное число раз. Мы всё больше напоминаем обезьяну, забавляющуюся с гранатой, притом что обезьяна, сколь бы умной она ни была, не понимает, с чем имеет дело, мы же вполне в курсе. Человечество знает, что не стоит кидаться камнями в стеклянном доме, но упорно продолжает развязывать войны то в одном, то в другом углу планеты.
И это сходит с рук, пока одним из этих уголков не станет загнанная в угол страна с ядерной бомбой в активе – Северная Корея, Пакистан, Израиль, Россия…
Человек гораздо более, чем любое животное, свободен от инстинктов, в том числе и от инстинкта самосохранения. И это опасно. Поэтому в качестве замены базовым инстинктам появились законы. Люди ли сами их придумали, или их дал людям Бог, обсуждать не имеет смысла. Но суть их сводится ко всё той же простой формуле.
Возьмём хотя бы всем известные десять заповедей.
Непосредственно к физическому выживанию там относится только одна, под номером шесть – «не убий». Пятая заповедь и те, что с седьмой по десятую (неуважение родителей, прелюбодеяние, воровство, ложь, алчность), касаются только морали, но они удерживают человека от того, что может легко привести его к нарушению шестой. Криминальные хроники переполнены сообщениями о насилии и убийствах по этим мотивам. Логика железная: разрушение морали ведёт к физическому разрушению.
Заповеди с первой по четвёртую устанавливают взаимоотношения человека с Богом и призваны обеспечить святость и нерушимость остальных шести.
В основе любого нравственного закона лежит всё та же сермяжная правда: смысл жизни – в её продолжении. Разрушение морали – такая же угроза физическому выживанию человечества, как война, мор и природные катаклизмы.
Ну и конечно же, как высшее проявление морали – любовь к ближнему. Где любовь, там и жизнь. Там нет ни эллина, ни иудея, ни араба, ни индуса, ни славян, ни англосаксов. Только жизнь без конца и без края.
Человек, сидящий перед чистым листом бумаги, как перед чистым полем, которое ему предстоит перейти, должен писать так, чтобы после этого хотелось жить.
Вся наша русская литература об этом. Это её главное и основное свойство. Она всегда о том, почему жить стоит. Всё, что не об этом, – не русская литература. Русскоязычная, если написана на русском языке, но не более того.
Я определяю принадлежность какой-либо книги к русской литературе именно по степени любви автора к своим героям. Все наши классики – от Пушкина и Гоголя до Достоевского и Толстого – видели своих героев как людей, достойных любви.
Взять хотя бы Иудушку из «Господ Головлёвых» Салтыкова-Щедрина. Неприятнее персонажа трудно придумать. Человек всю свою жизнь занимался тем, что творил подлости и издевался над близкими. Но даже этой, словно бы изъеденной кислотой, натуре Михаил Евграфович оставил шанс на спасение. А что уж говорить про Достоевского с его Свидригайловым, Раскольниковым и «карамазовской породой», способными одновременно явить и самые тёмные стороны человеческой природы и достичь высот, доступных далеко не каждому. Или вспомним Гоголя, у которого в «Мёртвых душах» и «Ревизоре», как кажется на первый взгляд, действуют сплошь одни отрицательные персонажи. Типичный тарантиновский конфликт плохого с худшим. Но ведь это же только на первый и поверхностный взгляд! Гоголь сумел показать своих героев, всех этих плюшкиных, коробочек, земляник и бобчинских-добчинских, так, чтобы у чувствующего читателя ни в коем случае не возникло ненависти и презрения к этим людям. И это принципиальный момент. Жалости достойны эти люди, но не ненависти и презрения.
Настоящий русский писатель в своих книгах, по сути, выполняет функцию Бога. Для него, как пел Александр Башлачёв, «нет тех, кто не стоит любви». Он каждому оставляет шанс, в каждом видит что-то светлое, пусть маленькое, глубоко скрытое, но живое.
Невероятно трудно, а иногда, быть может, даже и невозможно показать прозрение, очищение и возрождение человека, как это было в случае со вторым томом «Мёртвых душ» Гоголя, но здесь речь идёт не о результате, а о намерении автора.
Человек пишущий не должен увеличивать количество зла в мире.
В искусстве есть масса заслуженных и не очень персон, которые занимаются не чем иным, как клонированием накопленных внутри помоев. Изливают их на бумагу, типография размножает, и в итоге у каждого прочитавшего в душе образуется такая же лужа нечистот, какая была у «автора».
Хорошо ещё, если «автор» скучен. Читателя, что называется, не «зацепит», он захлопнет книгу, и грязь, которой она написана, минует его. Ну а если талантлив? Мне доводилось читать произведения, после которых начинала жутко болеть голова. И я точно знал, что причина боли именно в прочитанной книге, в той жуткой атмосфере духоты и безысходности, которой я дышал несколько часов. Если бы «автор» об этом узнал, он, вероятно, порадовался бы столь блестящему доказательству его мастерства. А высочайшей вершиной писательского искусства для подобных «авторов», похоже, следует считать самоубийство читателя.
Я очень не люблю книги о том, что мир отвратителен и жить по большому счёту не стоит. Я читал об этом не раз и не вижу большого ума в такой позиции. Я хочу знать, почему жить стоит.
Искусство, так или иначе, должно отражать реальность, а мир таков, что в нём хватает и высокого, и низкого, и прекрасного, и отвратительного. Тот же, кто рисует мир исключительно оттенками чёрного, сознательно уродует его. Человеку может быть плохо, может быть очень плохо, его жизнь может превратиться в ад, но, что бы ни происходило, всегда есть небо над головой и хорошие люди под ним. А если писатель, действуя по алгоритму мухи, находит в жизни только уродство и живописует исключительно его, то это говорит о нём как о, простите, уроде.
Наша классическая литература велика прежде всего потому, что милосердна и даёт человеку надежду, что бы ни происходило с ним и вокруг него.
Братья Стругацкие в качестве эпиграфа для «Пикника на обочине» взяли фразу поэта и писателя Роберта П. Уоррена: «Ты должен сотворить добро из зла, ибо больше его сотворить не из чего». И если последняя часть утверждения скорее эффектна, нежели справедлива, то первая не подлежит сомнению: нужно творить добро из зла.
Есть одно мудрое правило: если тебя обидели или просто накатило настроение из разряда «хоть в петлю лезь», сделай что-нибудь хорошее. Пусть не обидчику, это высший пилотаж, есть риск стать святым при жизни, сделай приятное другому человеку, родственнику, знакомому или постороннему. Станет легче. Происходит мистическая вещь, зло превращается в добро. От этого что-то ощутимо двигается внутри. Это непросто, требуется усилие. Иногда большое, иногда не очень. На первых порах, как правило, всегда большое. Так что это занятие для сильных.
Русская классика – дело больших и сильных людей. Пушкин, Гоголь, Шолохов, Лесков, Достоевский, Тургенев, Толстой, Горький – в их книгах совершается алхимическое превращение «свинцовых мерзостей» в золотые самородки жизни.
Все лучшие книги русской литературы о любви. О любви героев друг к другу или автора к своим героям.
И когда литературоведы задаются вопросом, почему сейчас нет никого сопоставимого по таланту с гигантами прошлого, и выдумывают для этого теории разной степени запутанности и высоколобости – то у них «форма романа исчерпала себя», то «постмодернизм разрушил старые каноны», то «всему виной клиповое сознание», – я уверен, всё это чушь и заблуждение.
Из литературы исчезает любовь.
Есть масса писателей, владеющих необходимыми инструментами: выстроить сюжет, отшлифовать фразу, поиграть плотностью повествования или тональностью речи героев… Но это всё пустое. Не звучит, не живёт, не играет, если автор не любит читателя и героев. Если он недостаточно силён, чтобы обнять ребёнка, прячущегося в каждом из нас, посадить этого несчастного, задёрганного, затюканного малыша себе на колени, вытереть слёзы, погладить по голове и сказать:
– Что, трудно, брат? Знаю, трудно. Но что же делать? Жить-то надо. И мы будем жить.
И рассказать историю, сказку, выдумку, прослушав которую малыш уже с сухими глазами спрыгнет с твоих коленок и скажет:
– Спасибо тебе, дядька. А теперь я побегу. У меня ещё уроки не сделаны, да и маме я помочь обещал.
И жизнь никогда не кончится.
Анна Матвеева. Встреча с неизвестным читателем
Вообще-то, я не люблю рассказывать о том, как работаю. Писательское дело – оно тихое, одинокое. Интимное. Подробности и откровения здесь только мешают. При этом посторонние люди мне во время работы как раз таки не мешают – я вполне спокойно пишу в самолёте, в кафе, в школе на родительском собрании (надеюсь, что этот текст не попадётся на глаза классной руководительнице сына!), в машине (когда приехала за сестрой в сад, а она ещё не вышла). Поезд и автобус не годятся – там трясёт и убаюкивает.
Дома вроде бы должно работаться лучше всего – здесь под рукой словари и другие нужные книги, здесь банка с леденцами и любимая чайная чашка, но здесь ещё и чада с домочадцами. Идиллическая картинка, когда семья ходит на цыпочках и перешёптывается с умилённым видом: «Тсс, она работает!» – это явно не про мою «фамилию». То есть, конечно, домашние стараются не беспокоить меня, если я сижу за компьютером «с изменившимся лицом», но всё-таки имеют право получить ответ на жизненно важный вопрос про ужин и чистые джинсы.
А потом приходит газовщик, потом, к примеру, сантехник, потом – вечно голодный кот с жалобой на безобразное обслуживание, потом является младший сын с просьбой проверить слова для английского диктанта… В общем, довольно часто я сбегаю из дома с планшетом – иду в одну из двух любимых кофеен и за час делаю там больше, чем за три часа дома.
Замечательно работается в гостиницах – особенно если прилетишь туда, где разница во времени несколько часов в пользу Екатеринбурга. Встаёшь на заре и пишешь, не опасаясь пропустить то, ради чего приехала, – оно обычно вечером.
Писательские резиденции – ну это вообще мечта сочинителя! Там всякого ждут стахановские «тыщи знаков» – потому что вокруг тебя одни писатели, которые заражают друг друга вдохновением, как простудой. Единственное, что мешает работать в резиденциях, – это чувство вины перед домашними, которых ты оставила на целый месяц, и они сами теперь вынуждены разбираться с ужином и чистыми джинсами.
Я не люблю рассказывать о том, как работаю, прежде всего потому, что эти рассказы вводят меня в опасное заблуждение о том, что дело сдвинулось с места. Это похоже на то, когда делишься с кем-то свежей идеей или сюжетной находкой – произнесённое вслух почему-то становится фактом, дарит ложное ощущение того, что работа уже сделана. Или хотя бы начата.
Ещё одно неприятное открытие связано с тем, что чем старше я становлюсь, тем медленнее работаю. В прекрасные годы юности, не ведая сомнений, я могла работать все дни напролёт, а теперь, бывает, хожу кругами вокруг компьютера, как вокруг клетки с тигром, в которую всё-таки придётся войти. Роберт Вальзер сказал однажды: «Только работа, собственно, это настоящая жизнь, удовольствие, внутреннее веселье, радость бытия. Надо лишь смело прыгнуть в холодную с виду воду, которая сначала тебя ужасает, но потом по-царски забавляет и услаждает». Но пока прыгнешь, столько времени пройдёт зря!
Никогда не думала, будто способна к прокрастинации – а с годами выяснилось, что я в этом деле настоящий мастер. Написать статью, обработать фотографии, подготовить лекцию – сгодятся любые дела, лишь бы не приниматься за главное. Почему? Да потому что страшно. Страшно повторяться, расписывая одну и ту же историю. Страшно экспериментировать – а вдруг не поймут? Страшно проболтаться – и страшно не рассказать о главном… Но самое страшное – а вдруг я утратила свои способности? Выход один – бросаться, по рецепту Вальзера, в ледяную воду. И после этого мне уже совершенно ничего не мешает – ни страх, ни сомнения, ни музыка в кафе, ни чужие голоса рядом. Я прихожу в себя спустя несколько часов – в буквальном смысле слова выныриваю из текста, с удивлением отмечая, что прошло уже так много времени, и, кажется, я опять опоздала на какую-то важную встречу. Оставленный текст некоторое время продолжает жить и развиваться в мыслях, после чего, естественно, искра угасает – на сцену выходит быт, с аппетитом поедающий вдохновение большой ложкой… И всё повторяется заново на следующий день: бассейн с ледяной водой и манит, и пугает, чувство ответственности сражается с ленью и страхом.
С рассказами лично мне всегда проще – этот жанр совершенно равен моему дыханию, и, придумав какую-то историю, я обычно знаю, чем она окончится. Значит, дело за малым – сесть и записать. Как правило, на рассказ у меня уходит около месяца – от того момента, когда завязался сюжет, и до того, когда готовый «плод» можно добавить в новый сборник. Я, впрочем, пишу не сборники, а, скорее, циклы рассказов, объединённые какой-то общей темой или идеей. Пусть даже эта идея не сразу и не всеми прочитывается, всё равно она есть. В «Лолотте» это был Париж, настоящий и вымышленный, в «Девяти девяностых» – 90-е годы, а истории из новой книги «Спрятанные реки» объединяют случайные встречи, попутчики, те люди, которые появились в нашей жизни лишь на короткое время, но почему-то остались в памяти навсегда. Чем дольше я работаю, тем чаще убеждаюсь в том, что сюжеты не нужно изобретать специально – жизнь подкидывает их по мере работы: достаточно лишь по-настоящему увлечься тем, о чём пишешь. А по-другому я и не умею – пишу только о том, о чём хочу рассказать. И стараюсь рассказывать только о том, что хорошо знаю. Но, разумеется, я не могу хорошо знать всё, поэтому, прежде чем замахнуться на описание совершенно незнакомой сферы жизни, собираю о ней все сведения, любую информацию, которая только может быть доступна. Здесь мне очень помогает журналистское образование – пусть журфаку не хватает классической базы, зато там прекрасно прививают умение общаться с людьми, открывать двери в любые кабинеты, чётко формулировать вопросы, работать с документами и так далее. Предварительный период под условным названием «Сбор материала» может растянуться на много месяцев или даже лет – этого потребовала работа над романами «Перевал Дятлова», «Есть!», «Завидное чувство Веры Стениной». Я не повар, не турист, не искусствовед, но, чтобы описывать жизнь поваров, туристов и искусствоведов, мне нужно было проникнуться ею, примерить к себе каждую из этих профессий. Ну и вообще, с романами всё происходит совсем не так бойко, как с рассказами, – большое сочинение требует полного погружения, никаких ледяных купаний, а ежедневный упорный труд. Как только оставишь роман пусть даже на три дня, нити повествования, любовно собранные в единое целое, тут же путаются, написанный текст мертвеет, и оживить его можно только одним способом – заново перечитать. Но если роман большой, перечитывание занимает много времени… И сам автор «выпадает из контекста», увлекается чем-то другим, или же тема (а они поистине витают в воздухе!) вдруг оказывается раскрыта кем-то из коллег (такое со мной пару раз случалось). В общем, роман оставлять без присмотра нельзя – и я, делая это, каждый раз себя искренне ругаю.
Не могу сказать, что я неорганизованный человек. Всё наоборот. Но даже если всё в жизни выстроено правильно, «палочки попендикулярны» и производительность труда на зависть всем, не получается реализовать всё, что задумано. Я уже несколько лет с гордостью рапортую на встречах с читателями, что пишу сразу три книги – роман, сборник рассказов и книгу эссе, но на самом деле ни одна эта книга ещё даже наполовину не сделана (надеюсь, что этот текст не попадётся на глаза моему издателю! Уж лучше классному руководителю сына). Придать себе скорости – вот моя главная мечта и главная проблема. Я пытаюсь обмануть собственную лень разными способами. Очень помогает жёсткий дедлайн – мой главный источник вдохновения. Как все современные авторы, я часто пишу рассказы для коллективных сборников, составители которых всегда ужасно торопятся и нервничают. Для одного такого сборника я написала рассказ в самолете – правда, перелёт был долгий, Москва – Хабаровск. Но не могу сказать, что это был мой самый лучший рассказ. Лучшие рассказы всё-таки пишутся, когда над тобой не висят сроки, когда ты свободен и спокоен. Прошлым летом, когда я всем была что-то должна, вместо того чтобы сосредоточенно вычеркивать один пункт за другим в списке дел, я неожиданно для себя самой написала пьесу. В упоении работала над этим новым для себя форматом – и пьеса получилась. Скоро будет премьера в театре. Может, в этом и есть главный секрет? В упоении? В том, чтобы всегда делать что-то новое? Я панически боюсь повторений.
Жёсткий дедлайн на самом деле очень полезная, хотя и жуткая вещь. Несколько лет назад я задумала написать книгу о натурщицах великих мастеров – «Картинные девушки». Три первых главы написала на едином дыхании, а потом всё как-то приувяло. Поскольку я человек прижимистый, мне и кусок хлеба жаль выкинуть, а тут – целых три больших текста, которых так никто не увидит?! Я решила поставить над собой эксперимент – и объявила, что буду устраивать публичные чтения новых глав раз в месяц, а это, я вам скажу, очень серьёзная заявка. История каждой героини-натурщицы по сути своей – история художников, которые её рисовали, история отдельно взятого направления в искусстве, это и просто история в глобальном смысле слова… К тому же я лихо обещала слушателям украсить каждое чтение презентацией с картинками – новое время требует новой подачи. А эту презентацию сделать тоже не так просто, как мне казалось поначалу. Но обещала – изволь выполнять. Тем более читатели откликнулись, я получила тот самый волшебный пинок, который был мне так нужен, – и на сегодняшний момент готово уже десять глав книги, а слушатели, с которыми мы подружились в процессе чтения, не дают мне поблажек – откладывать работу нельзя, люди ждут, люди специально приходят, чтобы услышать новую главу.
Поддержка читателей помогает не меньше жёсткого дедлайна. Всякое бывает, думаешь – зачем я вообще всё это делаю, никому не нужны мои сочинения, надо было выбрать другую профессию. И в тот самый момент вдруг получаешь письмо от незнакомого человека из Риги или, например, из Тель-Авива. В письме – подробнейший разбор твоей последней книги, признание в любви и заверение в том, что человек из Риги или, например, из Тель-Авива страстно ждёт твой новый роман. Ничего не остаётся, как тут же усадить себя за письменный стол – и прыгнуть, и зайти, и работать.
Недавно я была в Лондоне, поездка оказалась непростая, и работала я там урывками. Правила рукопись новой повести, как только выдавалась свободная минутка – в метро, в ресторане, утром в гостинице. В итоге несколько страничек рукописи я совершенно случайно оставила в ресторане на Уайтхолл – вместе с любимой ручкой. Хватилась ночью – нет моих драгоценных бумажек! Побежала на другой же день в тот ресторан, спросила у официантки: может, кто находил измятые почёрканные листочки?
– На каком языке рукопись? – спросила официантка. И, услышав, что на русском, принесла мне моё сокровище вместе с любимой ручкой. А наверху одной из страниц написано чужим почерком по-русски – «Супер!». После такой высокой оценки я просто морального права не имела не окончить эту повесть. И ту «встречу» с неизвестным читателем буду вызывать из памяти всякий раз, когда мне потребуется поддержка и участие.
Я не верю в то, что можно научить человека писать, – и все эти школы литературного мастерства, которых нынче развелось в изобилии, вызывают у меня недоумение. Другое дело – поделиться кое-какими секретами и наработками с теми, кто только начинает путь в литературу. Однажды меня попросили дать мастер-класс юным прозаикам, и я сформулировала для них то, чему научилась за двадцать пять (ужас какой!) лет практики. Вот мои советы начинающим.
1
Первое правило – нет никаких правил. Писатель совершенно свободен. Над ним никого нет, и это самая прекрасная сторона нашей профессии. Вы вольны писать обо всём, что вас волнует, о том, что кажется вам интересным, достойным того, чтобы об этом рассказать.
2
Второе правило – начиная работу над текстом, не думайте о том, какой успех он вам принесёт. Не думайте о том, что вы сказочно разбогатеете и прославитесь, о том, как отреагируют читатели, – это будет сбивать вас с толку и мешать работать. Вообще ни о чём не думайте, ваша задача – сосредоточиться на своей истории, той теме, которую вы выбрали. Умейте уходить в свой текст, как под воду с головой, – или представьте, что вы закрылись в комнате на ключ и оставили за дверью этой комнаты все посторонние мысли. Вы должны жить в своей истории, переживать каждый её поворот со своим героем, сливаться с ним, мыслить и действовать вместе.
3
Третье правило – пишите только о том, что вы хорошо знаете. Исторические романы получаются только у историков, и то с натяжкой. Незнание реалий прошлого, описание чувств, которые вы никогда ещё не испытывали, рассуждения о профессиях, которыми вы не владеете, – всё это только навредит вашему тексту. Те, кто будет иметь дело с вашим текстом впоследствии, – редакторы, критики, читатели – обязательно заметят недостаточную фундированность ваших знаний и скудость вашего опыта. Когда вы станете профессионалом, вы сможете писать на любые темы – писателю помогают интернет, новости, чужие рассказы, но только в том случае, если он уже знает, как использовать чужой опыт в своих целях. Начинать лучше с истории, которую вы пережили лично, – может быть, она случилась с вами во время путешествия или этот сюжет связан с каким-то семейным событием, не важно! Важно, чтобы вы были включены в него на каком-то этапе.
4
Четвёртое правило – не опасайтесь реакции людей, которых вы станете описывать в своём рассказе. Да, не всем нравится, когда их описывают, – будут и возмущения, и обиды, и, возможно, потерянная дружба. Но если вы выбрали для себя этот путь, будьте готовы к испытаниям. Каждый из нас пишет о себе, но точно так же он пишет и о других. Писатель должен быть максимально откровенен – в творчестве для него нет ни своих, ни чужих тайн. Максимум, что здесь можно сделать, это спросить разрешения: ты не против, если я об этом напишу? Конечно же, я поменяю имя и фамилию, место жительства и внешность, но фабула останется прежней, ты не возражаешь? Как правило, люди отвечают согласием. А иногда бывает так: писатель не имел в виду своего знакомого, но знакомый почему-то всё равно узнал себя и обиделся. У одной моей знакомой произошёл разрыв с подругой детства – она решила, что та вывела в своей книге её маму, и сделала это иронически. Будьте готовы и к такому развитию событий.
5
Идеи витают в воздухе, темы водятся повсюду. В транспорте, в школе, в магазине у кассы, во время маминого телефонного разговора, который вы случайно услышали, в рассказе соседки, в бассейне, в поезде, в лифте, во сне. Будьте всегда наготове, не пропустите свою историю – она ходит где-то поблизости. Доля реальности – 60 %, доля вымысла – 40 %, это лично моё соотношение, у вас оно может быть другим. Герои не обязательно должны быть «перенесены из жизни точь-в-точь», они могут быть сложены из нескольких разных характеров, важно, чтобы место «склейки» не бросалось в глаза.
6
Записывайте даже те сюжеты, которые кажутся вам сомнительными, – не исключено, что однажды они вам пригодятся, лягут в канву сюжета. Вообще, записывайте всё интересное, что видите и слышите, – необычное сравнение, которое пришло в голову, уличная сценка, выразительное лицо, которое запомнилось, необычное, меткое слово, соскользнувшее с губ другого человека… Пополняйте свою копилку впечатлений, всегда носите с собой блокнот и ручку, ведите записи в телефонном блокноте.
7
Будьте наблюдательными, как герой сериала «Ясновидец»: он еще в детстве мог с ходу сказать, сколько людей в головных уборах находится в помещении. Замечайте всё – вы не знаете, что сможет вам впоследствии пригодиться. Развивайте свои языковые способности – прежде всего, больше читайте. Читайте сложные книги, выписывайте незнакомые слова, расширяйте лексикон. Пишет тот, кто читает, – это правило работает всегда.
Делайте простые упражнения – по дороге из школы, когда едите, когда сидите в очереди к врачу: например, белый, как… что? Снег – это банально, что ещё может быть белым? Ищите сходство между вещами и явлениями, у которых на первый взгляд нет никакого сходства. Это умение нужно писателю не меньше, чем фантазия и наблюдательность.
8
Три важных составляющих хорошего текста – сюжет, мысль, язык (стиль). Придумывая тему, всегда помните о том, что вы должны не просто рассказать какую-то историю, задача писателя ещё и высказать мысль, идею и/или проявить чувство, на которое отзовётся читатель.
9
Начиная писать, вы должны знать, чем начнётся история и чем она закончится. Всё, что происходит между двумя этими полюсами, может варьироваться – иногда второстепенная линия меняет повествование. Но не увлекайтесь дополнительными ответвлениями сюжета, не перенасыщайте историю подробностями, не вводите множество героев одновременно. Помните, что вы несёте ответственность за каждого появившегося в тексте героя, за любую деталь – если в самом начале появился Саша, то читатель имеет право знать, куда Саша испарился по ходу действия и почему о нём больше нет никаких упоминаний.
10
Надо ли писать план? Я обхожусь без него, мне достаточно погрузиться в нужное творческое состояние, чтобы войти в свою историю и двигать её дальше. Но если вы чувствуете себя неуверенно, составьте краткий синопсис истории – и пишите с оглядкой на него. Если же вы вдруг почувствуете, что надо идти вразрез с этим планом, не переживайте – доверьтесь своей интуиции, она очень важна для писателя, и её тоже надо развивать.
11
Научитесь придумывать название до того, как вы начали писать саму историю. Во-первых, это очень полезное умение, оно пригодится не только писателю, но и журналисту, и редактору, и критику. Во-вторых, название – если оно удачное – будет аккумулировать в себе главную идею рассказа или романа, оно не позволит вам растекаться мыслью по древу, но будет держать в рамках придуманного сюжета.
12
Мы начинаем работу. Самая сложная часть – усадить себя за компьютер. Я советую вам использовать для работы именно компьютер, даже если вам нравится писать от руки. Скорость мысли не всегда успевает за скоростью руки, плюс вам все равно потом придется набирать текст с помощью компьютера, так как написанные от руки сочинения не принимают теперь ни в каких издательствах.
Итак, самое сложное – усадить себя, заставить работать. Всё время вспоминаешь про другие дела, а ведь есть ещё и удовольствия, и развлечения.
Как только вы сели за стол, сразу же ныряйте в текст. Начинайте как придётся – начало (если это не яркая фраза, которая буквально зажигается в мыслях) в большинстве случаев переписывается. Когда почувствуете, что история захватила вас – и вы несётесь по ней, как по волнам, работайте столько, насколько хватит сил. Останавливайтесь всегда на самом интересном или самом ясном для вас месте – это мой личный секрет, самообман, который всегда действует. Когда вы вернётесь к работе на следующий день, то вам будет интересно писать дальше и вы преодолеете начальный, для всех одинаково сложный этап.
13
В перерывах между работой не прекращайте думать над своей историей. Проверяйте историю на правдивость – может ли мальчик десяти лет говорить, как сорокалетняя женщина? Идёт ли снег в Париже зимой? Существовали ли подсолнухи в Древней Руси?
Задавайте вопросы людям, которые могут вам помочь, – вообще учитесь задавать вопросы, это очень важное умение не только для писателя, но и для любого человека. Читайте готовые фрагменты вслух – это помогает избежать неудачных звуковых сочетаний («наш же шашист»), ненамеренной иронии, невнятности, немузыкальности.
14
Не бойтесь писать о том, что вас по-настоящему мучает, угнетает, или о том, чего вы стесняетесь. Но и не волнуйтесь, если по какой-то причине пока что не можете на это решиться – и прикрываете свои тайны от посторонних глаз. Это нормально для молодого человека. Но вы должны понять, что настоящая литература требует полной откровенности. Рано или поздно вы к этому придёте – поймёте, что читатель откликается только на то, что написано по-живому.
15
Когда текст покажется вам законченным, не торопитесь отправлять его редактору, подруге или маме. Каждый рассказ должен отлежаться – провести в «отстойнике» как минимум две недели, после чего вы посмотрите на него свежими глазами. Перечитайте его заново. Убирайте повторы, неясности, безжалостно выбрасывайте неудачные фрагменты, исправляйте ошибки – они обычно становятся видны, когда вы отвлечетесь от текста, перестанете жить в нём.
16
Кому показывать текст? Тем, кто вас любит, и тем, чьему мнению вы доверяете. Если два этих показателя совпадут, дерзайте. Но будьте готовы принять критику – и вы, и я не золотой червонец, чтобы нравиться всем поголовно. В то же время надо понимать, как вас критикуют – по делу, конструктивно, указывая на ошибки, неточности, нарушения мотивации, или для того, чтобы отбить у вас всякую охоту к писательству? К сожалению, довольно часто близкие люди бывают к нам безжалостнее, чем чужие, поэтому лучше всего будет попросить совет у опытного человека со стороны: редактора или критика.
17
Я советую начинать продвижение с литературных журналов, благо они в России ещё выходят. В редакциях этих журналов работают с присланными материалами, читают самотёк. А на публикации здесь обращают внимание и читатели, и издатели, и критики.
18
Не стремитесь сразу же издать книгу. Продвигайтесь маленькими шагами.
19
Не бойтесь подражать любимым авторам – с этого начинают почти все. Пока вы найдёте свой собственный стиль, вам надо на чём-то учиться.
20
Не останавливайтесь. Просто пишите – и всегда помните о том, что для каждого писателя найдётся свой читатель.
Александр Мелихов Трезвости бой!
Мои литературные достижения, если допустить, что таковые имеются, всегда порождались не столько удачами, сколько неудачами, и притом не только моими личными, но и неудачами отцов и дедов. Начиная с того, что, если бы моего отца не выслали в Северный Казахстан, он бы не встретился с моей матерью и я бы не появился на свет. Впрочем, и мать бы там не оказалась – кто бы поехал в этот гиблый край по доброй воле! – если бы ее деда туда не выслали с Украины за участие чуть ли не в знаменитом Чигиринском деле. Так что во мне вместе с половиной еврейской крови Мотеля Аврумовича Мейлахса течет и половина украинской крови Любови Кузьминичны Кириченко.
Для золотодобывающего поселка Степняк, где я провел увлекательнейшее детство, звукосочетание Мотеляаврумович было слишком сложным, и потому весь городок и его окрестности знали моего отца за Марка Абрамовича. Он преподавал историю, английский, географию, в какой-то период даже логику и слыл тем самым Учителем с большой буквы, какие обычно встречаются только в легендах. Однако я самолично слышал, как молодая мама умильно ворковала над распакованным младенцем: «А вот Андрюша вырастет, да пойдет в школу, да скажет: Марк Абрамович, примите меня в школу…»
Это притом, что мой отец никаких начальственных постов не занимал и приемом в школу не занимался.
Короче говоря, отец был всеобщим любимцем на территории, равной трем Франциям или уж по крайней мере Бельгиям. Однако рядом с ним жил и здравствовал фантом Еврея – хитрого, подлого, трусливого, жадного, и я, сколько себя помню, изо всех сил старался показать, что я-то не такой, я честный, щедрый, самоотверженный, каким и надлежит быть русскому человеку. Для жизни такое психологическое состояние не очень приятно, а для творчества драгоценно: без этого бы я мог никогда не понять, что в основе национальной вражды лежит ненависть не к людям, а к фантомам. Если бы я вырос в более культурной среде, умеющей создавать для своих сказок более наукообразное прикрытие, я бы мог и не догадаться, что нацию создает общий запас воодушевляющего вранья. А именно эти открытия и позволили мне написать «Исповедь еврея» («Изгнание из Эдема»), вошедшую в мой главный роман «И нет им воздаяния».
Разумеется, никакая идея не может создать художественное произведение, ибо главный материал для художника – материальный мир, и это не тавтология, а скорее каламбур. Но детские впечатления много лет лежали бесформенной грудой, пока идейный скелет не помог им обрести форму.
«Право на жилище я осуществлял с такой полнотой, что даже не догадывался, что такое теснота: на восьмиметровой кухне сквозь чугунные трещины дышала вулканическим огнем плита, сосредоточенно клокотало белье в баке, царственными облаками расходился пар, впятеро утолщая и искривляя стекла и стекая с подоконников по старому чулку в чекушку; более деловой, но зато сытный пар от неочищенной горошистой картошки для свиньи рождал уют и аппетит. Папа Яков Абрамович после Воркутинских лагерей никак не мог поделиться таким сокровищем с нечистым животным, не выхватив и себе пару серых яблочек в лопнувших мундирах. Кадка с водой, снаружи тоже как бы в сером мундире, да еще и трижды туго подпоясанная, внутри маняще и пугающе краснела („Лиственница“, – полагалось уважительно отзываться об этой красноте) сквозь толщу воды – в такой же кадушке захлебнулся вверх ногами соседский мальчишка, мой ровесник (только чужая смерть дает настоящую цену нашей жизни); скакал и жалобно звал невиданную им маму теленок; жалась к полу железная дедушкина койка, на которой дед Ковальчук тоже роскошествовал, как богдыхан, подставив под ноги специальный деревянный ящик (койка была коротковата), перегородив им выход в сенцы».
Я даже педалировал тогдашнюю тесноту и нищету, но, если бы это не был мир, в котором я был счастлив, я никогда бы не додумался окрестить его Эдемом, что, как мне кажется, и создает любимую мною смесь лирики с иронией и даже сарказмом.
Что не исключает и развития нескольких ключевых мыслей.
Поскольку и Дмитрий Быков, и Сергей Чупринин считают, что я пишу «романы идей», разъясню, как я это понимаю. В своих романах я вовсе не стремлюсь дать ответ на какой-то абстрактный философский либо социальный вопрос, но лишь стремлюсь изобразить человека, для которого такой вопрос становится вопросом жизни и смерти. То есть почти каждый мой роман – это вовсе не поиск некой истины, а поиск выхода, поиск спасения. Так, например, конфликт духа и плоти у меня возникает не в качестве философской проблемы, а как невыносимое мучение влюбленного романтика, для которого у его возлюбленной не глаза, а звезды и не голос, а виолончель, но при этом обнаруживаются лопнувшие вены и тараканы в постели. Которая и сама по себе становится для героя орудием пытки как из-за самой необходимости обнажать плотскую природу своей богини, так и из-за переживаемого им острого простатита, который я постарался изобразить так же жестко, как изобразить поэтично любовные переживания.
Короче говоря, идейные поиски для меня – это всегда поиски защиты от какого-то страха или унижения. Которое, впрочем, тоже страх – страх за достоинство, за красивый образ самого себя: любая герцогиня позавидовала бы осанке какой-нибудь нашей «Едвиги» Францевны, удаляющейся в перспективе жердей и плетней над голозадыми пыльными пацанятами и степенными курами, чопорно роняющими плевочки помета.
Так вот, и образцы достоинства я тоже вынес из того же степняцкого Эдема, в котором деревянные бараки выглядели почти элегантными среди мазанок и прочего самостроя, окруженного горами щебенки, извлекаемой из шахт, и зунтами – отходами обогатительной фабрики.
Вся горстка тамошней интеллигенции попала в эту дырищу из дырищ в результате какой-то жизненной катастрофы, но решительно никто из них не позволил себе опуститься ни в одежде, ни в манерах, никто ни разу не произнес ни одного лозунга и не подпел никакому начальству. И когда в годы свободы обрела популярность подловатая шутка, что при Сталине одни сидели, а другие тряслись, я понемногу начал чувствовать себя оскорбленным именно за них, кто и отсидел, и многие годы прожил под дамокловым мечом нового ареста, ничем не выдавая своего напряжения, – именно стремление защитить их память сделалось еще одним идейным двигателем романа «И нет им воздаяния».
Ну а шоферско-шахтерская братия вообще никого не боялась, скорее, начальство само ее побаивалось, я ни разу не видел ихних шляп и плащей в нашем Шанхае, населенном «куфайками» и кепками. Подозреваю, что если бы я вырос в столичной семье еврейского профессора, кем, обойди репрессии его стороной, несомненно был бы мой отец, то я и считал бы только свою компашку маменькиных сынков стóящими людьми, а прочий плебс – чем-то вроде опасных животных. Но поскольку мне и самому пришлось вкусить блатной романтики и пощеголять кирзовыми сапогами с завернутыми голенищами, где прячется переточенная из напильника финка, то мне гораздо легче оказалось понять, что двигало большинством этих пацанов вовсе не стремление к жестокости, а стремление к героике и что желание людей ощущать себя красивыми не менее важно, чем желание иметь хорошую квартиру и поликлинику. Эта идея со временем тоже сделалась для меня одной из самых долгоиграющих, я и сейчас считаю эстетический авитаминоз одной из причин распада Советского Союза, а также серьезной хворобой современной России.
Прорыв в небывалое воодушевляет даже далеких от него людей. Я помню, с каким счастливым лицом встретил меня отец на каменно-слоеном школьном дворе: «Человек в космосе!» Это притом, что отец был типичнейший интеллигент – в любом подвиге немедленно высматривал его цену: не лучше ли было настричь портянок для ребят? А тут все портянки были немедленно забыты.
И у меня – хотя что мне был этот космос? – тоже вдруг сделалось необыкновенно хорошее настроение. Правда, лишь года через два до меня окончательно дошло, что самые крутые люди – это не моряки, летчики и блатные, но физики – это они запускают ракеты в космос, раскалывают атомные ядра, обуздывают плазму… И как только я понял, что физика – это красиво, я впервые в жизни всерьез за нее взялся, и, разумеется, вскорости пошли и успехи: я вышел в чемпионы области по физике и математике (мы к тому времени уже переехали в Кустанай), сделался призером Всесибирской олимпиады по физике – физика влекла меня сильнее, там было больше героики: плазма, термояд, космос…
Но главный кустанайский эксперт по математическим дарованиям преподаватель пединститута Ким прочел мою чемпионскую работу и сказал мне, что такой логики он еще не видел и мне нужно идти в математики. «А как же ракеты, атомные реакторы?» – «С математическим образованием ты сможешь работать где угодно».
Так я оказался на ленинградском матмехе – математико-механическом факультете. Обе математики, устную и письменную, сдал на пятерки и впоследствии за пять лет не получил по математическим дисциплинам ни одной четверки; правда, из-за троек по истории КПСС и научному коммунизму красный диплом не получил. Но математика для меня была только прелюдией к покорению космоса или чему-нибудь столь же героическому, и тут к нам на распределение приехала суровая дама из атомного Арзамаса-16 и в меня прямо-таки вцепилась: все преподаватели называют ваше имя, а я вам сразу гарантирую квартиру, двойную зарплату и новое направление – задачи преследования. Из чего я догадался, что речь идет о преследовании в космосе, о чем я только и мечтал. А что жить придется за колючей проволокой, так это меня особенно пленило.
И вдруг меня не пропускает Первый отдел. Можно было только гадать, что было причиной – еврейская фамилия или отсидка отца, но не скрою – это был шок: государство отказывается признать тебя полноценным гражданином, заслуживающим доверия. Чтобы примириться с этим, следовало признать не заслуживающим уважения само государство, но к такому революционному повороту я был не готов. И впоследствии в «Исповеди еврея» я на это и намекнул в финальном монологе главного героя: не слабому и кратковременному презирать могучее и долговечное, эмоциональное слияние с государством – один из главнейших способов экзистенциальной защиты, защиты от ощущения собственной мизерности и мимолетности. Так что и это мое открытие началось с неудачи.
Зато лет через тридцать-сорок невозможность приобщиться к покорению космоса в романе «И нет им воздаяния» разрослась чуть ли не в символ национального поражения – в дни моего личного поражения такое мне и в голову не могло прийти. Тогда я отправился на шабашку в Республику Коми, потом, подрабатывая грузчиком, поднялся по Оби от Салехарда до Тобольска и, вернувшись к жене и ребенку при кое-какой, как ее тогда называли, капусте, начал обходить те самые организации, которые на распределении рвали нас друг у друга из рук. Но оказалось, что все мои однокурсники нужны, а я не нужен. Иногда кто-то за меня ухватывался – в дипломном вкладыше сверкали сплошные «отлично», – но отдел кадров безоговорочно клал наметившемуся роману конец. Как мне потом разъясняли, именно в те годы по отношению к евреям началась политика «трех НЕ» – не брать, не увольнять, не повышать.
Пару месяцев я болтался без работы и почти уже без надежд, но меня разыскал и взял на работу в новый институт вычислительной математики при Ленинградском университете мой бывший заведующий кафедрой. Научная работа так меня увлекала, что, если бы мне не давали постоянно ощущать, что я не вполне свой, возможно, мне и в голову не пришло бы помыслить о литературном творчестве – с меня вполне бы хватило запойного чтения Толстого, Чехова, Достоевского – далее везде.
Но «три НЕ» постоянно о себе напоминали – каждое повышение, защита диссертации, – всякий раз возникали какие-то трения. Хотя в конце концов все я получал и уже свободно печатался в лучших академических журналах – этот опыт тоже мне открыл, что, для того чтобы чувствовать себя изгоем в собственной стране, не требуется никаких погромов и лагерей – вполне достаточно мелких унижений. Этих «мелочей жизни» более чем достаточно, чтобы перестать чувствовать свою жизнь красивой – при полном материальном благополучии, которое я уже обрел. И все-таки меня грызла тоска – только я еще не осознавал, что это тоска по утраченной красоте: в ту пору я никогда бы не решился даже произнести вслух это слово – оно казалось мне высокопарной пошлостью. Я думаю, к нему и сегодня не решаются обратиться миллионы людей, чахнущие от эстетического авитаминоза, пытающиеся глушить его алкоголем, наркотиками, сексом, баблом, айпадами…
Я же не без успеха пытался лечить его книгами, я помнил, как без малого в осьмнадцать лет я обомлел от восхищения, раскрыв Чехова на еще неизвестной мне «Скучной истории».
«Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и несомненно полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей… Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic’ом. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – всё лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве когда бываю я болен tic’ом, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого, при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: „По-видимому, этот человек скоро умрет“».
И ведь у этого старца все было ужасно, а у меня все хорошо, но порою я, кажется, готов был с ним поменяться, чтобы наполнить свою жизнь этой бесконечно печальной красотой.
Прощай, мое сокровище!.. Через много лет я сопровождал на операцию по поводу опухоли мозга профессора математики, далеко не столь знаменитого, как чеховский Николай Степанович такой-то, просто отличного специалиста, и он всю дорогу горячо толковал о корреляционных функциях – я даже порадовался, что операция, наверно, не такая страшная, раз его настолько волнуют корреляционные функции. Тем не менее через месяц он благополучно отправился к праотцам, но мне и тогда не пришло в голову, что чеховский герой про свою науку практически ни разу не вспомнил, а если и вспомнил, то в столь общих выражениях, в каких настоящие ученые о своей работе никогда не мыслят…
Однако я сильно забежал вперед с подозрениями насчет достоверности Чехова, вернусь в свои научные годы.
Сослуживцы, частью поддерживающие «три НЕ», а частью считавшие их чем-то естественным, пребывавшие, как всегда представляется отверженцам, в чрезмерной гармонии с господствующей силой, тоже представлялись мне личностями незначительными – единственно загадочной личностью мне представлялся один бородач.
Не такой уж и молодой, за тридцать, кажется, перевалило. Он был мало того что не математик (его держали для редактирования институтских сборников и особо важных отчетов), но еще и писатель, что было совсем уж смешно. Ведь если бы даже его печатали, он бы и тогда оставался жалкой и ничтожной личностью, потому что все порядочные писатели обязаны быть давно умершими, но его еще и не печатали! И получал-то он не больше юных мэнээсов, да еще и жил на съемной хате, однако же считал себя вправе не только носить бороду, но еще и надменно ее вскидывать.
И вдруг я увидел его фотографию в журнале, если не путаю, «Литературная учеба»! Кто-то, видимо из маститых, хотя все мои маститые давно пребывали на островах блаженных, рекомендовал его как молодого прозаика, подающего надежды. И я принялся читать его с замирающим сердцем: я надеялся там увидеть себя. Нет, не себя лично, но свою жизнь, которая – кто знает! – вдруг каким-нибудь чудом тоже чем-нибудь наполнится, чем-то таким, чего мне так не хватает.
Я проглатывал абзац за абзацем, но не находил не то что себя – я не находил НИЧЕГО. Это был сплошной подтекст без текста. Похоже, мой бородатый коллега (то-то борода у него была так коротко подстрижена!), подобно многим молодым людям того поколения, подобно самому Хемингуэю, воображал себя Хемингуэем. За кадром творилось что-то страшно трагическое, а герой реагировал необыкновенно мужественно и сдержанно: «Значит, все потеряно? Что ж, значит, потеряно».
Подробностей не помню, тому уж миновало черт-те сколько лет, высокие натуры столько и не живут, но я прекрасно помню, что чувствовал себя буквально оскорбленным: так для него нет не только меня, это бы ладно, черт со мной – кто я для него! – но для него как будто бы нет И ЕГО САМОГО!
Что же это за писатель, если он хочет быть выше даже собственной жизни! В реальности его каждый день возят мордой по столу, а в рассказе своем он только сдержанно играет желваками. Какого пинка ему еще нужно отвесить, чтобы он наконец честно вгляделся в собственную жизнь?!.
Тогда-то я и придумал свой первый рассказ «Инцидент», о неудачливом писателе, влачащем жалкое существование, но сочиняющем при этом суперменскую прозу. И вдруг однажды его на улице останавливает какая-то опасная компашка и, убедившись, что это не тот, кого они поджидают, отпускают подобру-поздорову, напутствовав пинком пониже спины. И это заставляет его взглянуть без прикрас на свою «жизнь и творчество».
Я только долго не мог решить, как начать – залихватски, типа «Эх, не повезло Глебушке!..», или величаво: «На город спустилась вечерняя мгла». Я еще не знал, что выбирать нужно не слог, а характер рассказчика, и выбрал стиль монотонный, можно сказать, бубнящий: когда ни на что не претендуешь, меньше шансов оконфузиться.
Тем не менее в журнале «Нева» меня довели аж до заместителя главного редактора, прежде чем окончательно отказать: рассказ-де слишком утонченный для нашего бесхитростного журнала, мы, что называется, для пионеров и пенсионеров, вот журнал-де «Звезда» – он для интеллигенции.
Что оказалось большим преувеличением. Однако мой рассказ «Провинциал» был с большим энтузиазмом принят Мишей Паниным – «это прямо про меня!» – мы даже подготовили его к публикации, но главред Холопов швырнул его обратно. Так меня и перебрасывали низовые интеллигентные редакторы друг другу, а начальство неизменно рубило: психологизм считался чем-то антисоветским. И я долго думал, что виною тому идеология, марксизм-ленинизм, и лишь недавно до меня дошло, что марксизм-ленинизм был вовсе даже ни при чем: просто к власти пришли тупые бездарные люди, которые по совершенно личным мотивам ненавидели все, что им недоступно.
И все-таки их интеллигентным заместителям время от времени удавалось что-то «протащить». Так мой «Инцидент» был в 79-м году опубликован в журнале «Север». Но таково было тогдашнее внимание к литературе, что тут же критик Дмитриев в телеобзоре предложил обратить на меня внимание, а Владимир Бондаренко в «Советской России» написал, что ему было противно читать про «униженную рептилию», да еще в журнале, предназначенном для мужественных покорителей Севера.
Это притом, что Север и для меня был романтическим краем: я туда отправил в поисках смысла жизни героя моей первой повести «Весы для добра», о которой редактор «Советского писателя» Игорь Кузьмичев сказал, что ее пока показывать нельзя – смысл жизни должен быть нашей молодежи известен, а вот во вторую книгу…
Повесть действительно была опубликована во второй моей книге «Весы для добра» в 1989 году через каких-нибудь десять-двенадцать лет. Книга же «Провинциал» вышла в 1986-м сразу же после начала перестройки. Если бы не перестройка, я, скорее всего, до сих пор ходил бы в подающих надежды и боролся за первую книгу. Так тупицы, овладевшие нашей жизнью, плодили неудачников, а следовательно, и врагов той власти, которую они якобы защищали. На самом же деле они защищали свое право на тупость и бездарность.
В общем, меня сталкивали в диссиденты, хотя никакая политика – ни рынок, ни «честные выборы» меня совершенно не интересовали: торговать мне было нечем, а выбирать некого. Первые рассказы – «Провинциал», «В родном углу» – я писал под звездою Чехова: на поверхности всего-то влюбленный провинциал приходит в гости к столичной девушке, а она болтает с приятелем, не обращая на него внимания; у молодой женщины назревает личная драма, а зануда-отец плющит ее проповедями – но что творится в глубине!
Меня пленял мир, в котором вроде бы ничего особенного не происходит, а при этом рушатся судьбы и так далее. Порою я просто упивался тем, что в мире нет мелочей: вглядись как следует во что угодно, и все понемногу нальется значительностью (психиатр, возможно, назвал бы это ощущение бредом значения). Лишь через много лет я осознал, что главный пафос Чехова – эстетизация бессилия, а образ чеховского мира – гениальная клевета на подлинный мир: все предельно достоверно, но ничего восхитительного, ни одного красивого и сильного человека. Но я это заметил лишь тогда, когда обнаружил, что моя собственная жизнь сложилась не по Чехову, а по Шекспиру. Я видел и великую любовь, и предательство, и самоубийство, только все это являлось мне растянутым на годы, если не на десятилетия. Но чтобы выразить это впечатление не в эпопее, а в относительно короткой вещи, необходимо отступить от реализма – требуются преувеличения, а то и фантасмагория. Именно символической фантасмагорией я и закончил свои последние романы десятых годов «И нет им воздаяния», «Свидание с Квазимодо» и «Заземление».
Это, если угодно, теория. Но обратиться к Шекспиру еще на рубеже девяностых меня заставила довольно жестокая практика. В конце восьмидесятых я начал заниматься психологической помощью людям, пытавшимся совершить самоубийство; это и вообще казалось мне, да и кажется важным, но я к тому же проблеме самоубийства уделил много внимания в романе «Горбатые атланты» («Так говорил Сабуров»). Тогда во всех газетах и журналах писали о благодетельности рынка, о том, сколь много нам недодала социалистическая экономика, а годы литературных неудач открыли мне, что для творческой личности главная трагедия не в том, что ему чего-то не дают, а в том, что у него не берут того, чем ему до смерти хочется поделиться. А мой герой, Сабуров, создает такие вещи, которые не может оценить никакой рынок, и новоявленный культ рынка его добивает (в сочетании с неудавшейся любовью), и он пытается покончить с собой.
Сюжет там сложный, у Сабурова отыскивается однофамилец-утопист, который стремится уничтожить все, что возвышается над человеком, – государство, церковь – и наконец преображает какой-то уголок света по своим идеям. Там воцаряются чистота и порядочность, но возникают самоубийства. И утопист понимает, что причина самоубийств – свобода. Там, где люди не имеют свободы выбора, они не кончают с собой.
Вполне вероятно, что эта теория содержит в себе значительную часть истины, но когда мне пришлось беседовать с суицидентами в коридоре клиники скорой помощи у отрогов Волковского кладбища, помощи она ни мне, ни им оказать не могла. Не мог же я сказать несчастному или несчастной, что если бы они жили на острове, где веками молятся одним и тем же богам и ловят одну и ту же рыбу, то им бы не пришло в голову кончать с собой. Так что начинал я с обычных глупостей, стараясь утешать людей, преуменьшая их беду, и с ними действительно, как правило, не случалось ничего такого, чего не случалось бы с каждым из нас. Но я быстро понял, что преуменьшение их горя лишь оскорбляет несчастных, они хотят, напротив, чтобы их несчастье преувеличивали. Я понял, что убивает не просто несчастье, а некрасивое несчастье, сочетание потери или неудачи с унижением. А если изобразить несчастье красивым, человек наполовину спасен. Я понял, что психотерапевт должен быть отчасти и Шекспиром, а еще лучше – своим личным Шекспиром каждый должен быть сам.
Так понемногу я и дошел до своего сегодняшнего представления о назначении литературы: ее назначение не столько отражать реальность, сколько защищать нас от реальности, защищать от совершенно обоснованного ощущения нашей мизерности и бренности, вносить в жизнь смысл и красоту, которых она сама по себе не имеет.
Именно поэтому для каждого народа так важна его национальная и современная литература. Если даже иностранные или давно ушедшие писатели создают гораздо более талантливые произведения, все равно они предоставляют народу зеркало, в котором он не находит сам себя, и ощущение своей второсортности и ненужности со временем в нем начинает только обостряться. Поэтому в последние годы я вполне сознательно стараюсь дать понять своему читателю, что его жизнь достойна воспевания ничуть не менее, чем жизнь Ромео и Джульетты или жизнь Наташи и Андрея. Если она даже и ужасна, она все равно красива. И если сегодня популярны призывы трезво смотреть на жизнь, то я веду свою одинокую борьбу скорее под лозунгом «Трезвости бой!».
К сожалению, единомышленников в литературе я нахожу не так много, а в политике так и вовсе ни одного. Хотя я довольно давно пытаюсь проповедовать, что выстраивание коллективной экзистенциальной защиты – одна из важнейших обязанностей государства. Для этого государству нужно не только заботиться о рутинном наращивании уже известного, чем оно сегодня и занимается, чтобы сделаться не хуже прочих ординарностей, но и о прорывах в небывалое, способных оставить бессмертный след в истории. Ориентация же на символическое бессмертие не может опираться на демократическую идею, но разве лишь на аристократическую.
Эти соображения я так давно развиваю в своей публицистике, что, возможно, уже приближаюсь к статусу городского сумасшедшего, к статусу, за которым я вовсе не гонюсь. Что и подсказывает мне на этом месте остановиться, дабы не впасть в размышления, как нам обустроить Россию.
А жизнь пусть покуда продолжается, и все новые и новые неудачи продолжают питать мои мысли и фантазии.
Татьяна Москвина. Беспокойная я
С уважением, Мускатблит. Этими словами завершалось письмо из журнала «Юность», куда я отправила в середине 1980-х годов своё сочинение о бездомных кошках под названием «Чужая жизнь». Состояло произведение из нескольких новелл («Торговка и Авантюрист», «Юность Маришки», «Смерть Аристократа» и так далее) и поэтически преображало действительность ленинградского района Купчино, где кошки годами бесконтрольно размножались и стали по численности чуть ли не превышать человеческое население района.
Сильная была вещь – «Чужая жизнь». В ту пору тексты, отправленные в редакцию без протекции, назывались «самотёк», и на самотёке сидели и отвечали трудящимся вот такие внимательные и вежливые мускатблиты. Потому как прежде всего ты – советский человек, а потом уже графоман… На товарища Мускатблита (а может быть, на товарища Мускатблит, поскольку тайной истории остался пол ответившего мне редактора) моё сочинение произвело благоприятное впечатление. Он/она сообщил/сообщила мне, что-де рассказы мои литературно грамотны, однако редакция отдаёт предпочтение темам из современной жизни, и, если у меня что-то такое есть, я могу смело присылать.
Я решительно не понимала, почему мои купчинские кошки несовременны. Дала их почитать в ленинградский журнал «Аврора», но там завязалась драма. Дело в том, что в те годы я уже писала рецензии и была примерно таким же критиком, как и сейчас. То есть пишущим ровно то, что он думает. Я приписываю это загадочное свойство кастрюле с кипящим молоком, которую в детстве на мою голову пролила бабушка (у кастрюльки внезапно отвалилось дно). Тогда думали, что последствий нет, но последствия, как оказалось, были. Там что-то прижглось и отпало у меня внутри головы напрочь. Поэтому в газете «Ленинградский рабочий» (орган ленинградского обкома КПСС) на полосе культуры появилась моя статья «Парадоксы актуальной пьесы», где я выражала обоснованные сомнения в художественной ценности спектакля Большого драматического театра «Последний посетитель».
В этом спектакле на приём к министру (Кирилл Лавров) приходил посетитель-правдоруб. И упрекал того в недостаточном внимании к населению (на дворе 1986 год, юность перестройки). Помню, как посетитель гневно показывал на шкафы в приёмной министра, где выстроились томики Собрания сочинений Ленина, и обличающе кричал: «Вы хоть открываете шкаф, читаете Ленина?» На что я скептически заметила в статье: ну, откроет он Ленина, и что дальше? Мысль моя неглубокая состояла в том, что пьеса и спектакль безнадёжно фальшивы. Ладно, написала и написала, но аврорский редактор В. П., с которым я была отлично знакома и могла надеяться на протекцию, являлся в те годы страстным ленинцем. Он разгонистым почерком параноика написал мне письмо на двадцати четырёх страницах. Где утверждал, что я оскорбила Ленина. Поэтому кошки мои, понятно, попали под колесо истории и погибли.
Какой-то обрывок машинописи, страничек пять, я нашла недавно – а, «Чужая жизнь»! Несостоявшийся литературный дебют. Который в результате моей лени и трусости (ах, что скажут!) произошёл лишь в 2004 году, когда в «Амфоре» вышел мой роман «Смерть это все мужчины». До той поры я оставалась критиком, хотя у меня начинается лютая тоска от одного этого слова – «критик».
Да, лень, а что же ещё? Допустим, к писателю прилетают крылатые кони, шляющиеся по эфиру музы, бездельники-даймоны и прочая сомнительная публика, и наступает состояние так называемого вдохновения. Но для этого он должен сидеть на заднице, с пишущим агрегатом данной эпохи, и сидеть плотно, часами, днями, годами. На этот счёт у нас есть океан свидетельств. Как Жорж Санд заканчивала один роман, ставила точку и тут же принималась за другой. Как с неистовым упорством пахаря корпел Лев Толстой. Как Фёдор Михайлович в своих смутных ментальных бурях въезжал в бессонную ночь с коробкой папирос и чифирём, под девизом «А, под пером разовьётся!». Не говоря уже о массиве советских писателей, которые буквально зарабатывали «трудодни», сооружая тысячестраничные эпопеи. Вы читали когда-нибудь роман Анны Антоновской «Великий Моурави»? Шесть томов. Памятник труду, на который вряд ли способны наши современники, всегда готовые увильнуть от каторги сочинителя эпопей. Не все, не все. Но я точно.
При этом через фильтры вечности пролезает немногое. Кто-нибудь ведает, что аббат Прево написал десятки сочинений, кроме маленькой повести про шалаву Манон Леско? Мог бы, в принципе, не утруждаться, сочинил «Манон» – и хватит, но кто ж при своей жизни знает, чему суждено идти сквозь времена, а чему – погрузиться в пески забвения.
На горе стоит ольха, А под горою – вишня, Сочинить бы два стиха, Остальное – лишнее… –написала я как-то в 1990-х годах. Конечно, имея в виду Аполлона Григорьева, неутомимо производившего горы критических статей (и отличных по тому времени), а оставшегося в активной памяти культуры благодаря «Две гитары, зазвенев…». Притом в цыганской венгерке, в том тексте, который исполняется, григорьевских-то именно два стиха.
Итак, надо работать, хотя, вообще-то… Виктор Гюго, страшный дед, родитель «европейских ценностей», был патологически работоспособен и оставил нам целый шкаф сочинений, а Альфред де Мюссе был пьяница-импровизатор и мог посвятить литературе разве пару часов далеко не каждый день. Предпочитал творить стихи и маленькие пьесы. Каким-то чудом ухитрился сочинить что-то вроде романа («Исповедь сына века»), но и там видно, как писал-писал – и надоело, бросил. Но и он оказался мил и нужен, потому как литература, наподобие стихии воды, так разнообразна, что принимает всех – трезвенников и пьяниц, тружеников и лентяев, жизнелюбов и мизантропов… вот только насчёт красавцев у неё есть какое-то предубеждение.
Красавцы среди писателей – принципиальная редкость. Это потому, что, в сущности, писателю внешность не нужна. Идеальная внешность писателя – примерно как у Томаса Манна: какой-то затрапезный аптекарь. Василий Розанов даже изумлялся своей внешности, писал, вообще нет у меня внешности, какой-то комок дрожащей бесформенной плоти. Писатель – «внутренний человек». Если его «внешний человек» привлекателен, это чаще всего означает какую-либо драму. Николай Олейников в 1920-х годах для смеху попросил справку в сельсовете, что он «действительно красив» (Олейников утверждал, такая справка обязательно нужна для поступления в Академию художеств), и ему такую справку дали. Однако Евгений Шварц вспоминает, что Олейников мучительно страдал от невозможности работать, он не мог писать месяцами, пытался избавиться от зажима какими-то хитрыми системами оздоровления, но ничего не помогало. Не единичный случай. Но этот барьер я преодолевала без труда: не красавица, я могла бы не отвлекаться от литературы. Легко сказать!
Ведь чтобы писать, надо жить, а мне-то как раз и нравилось жить, просто жить, без всякого смысла, как амёбе. Ведь никто не требовал подвигов, никто не просил, не заставлял, не толкал меня к писательству, многих абсолютно устраивала Таня Москвина, способная девчонка, иногда поющая в компаниях смешные песенки собственного сочинения. Некоторые даже любили такую Таню. Охотно печатали «критику». На это всегда был спрос – а я склонна идти туда, куда зовут, и делать то, что нужно. (Не без мистического оправдания: а вдруг это сама судьба выдаёт именно такой запрос…)
Чего же ради мне отказываться от жизни и преодолевать естественную лень тела, не желающего мучений? Детям нужна мама, мужу нужна жена, друзьям нужна подруга, издателям – острый критик, а писателя Москвину никто не ждёт, и никому она особенно не нужна.
Кроме…
Да, вот это «кроме». Оно и вышло решающим.
Было начато несколько романов, но дальше десяти-пятнадцати страниц дело не пошло. Притом сочинение уже существовало во мне в виде зерна или ещё чего-то, таящего все возможности роста, и, будучи не рождённым, не воплощённым, не обретшим плоти, – томило и обременяло. Я ходила хронически беременной и не рожала. По-моему, именно от этого я толстела на физическом плане. Я мужественно боролась с собственным призванием. Я делала это вдохновенно и упорно. А призвание, со своей стороны, мучило и грызло меня, обременяя совесть чувством неисполненного долга. Но кому я должна? Это неизвестное лицо так и не отыскалось. Перед кем я оправдываюсь сегодня, указывая на книжную полку, целиком заставленную моими книжками, и бормоча: ну нет, всё-таки, всё-таки… «Она что-то знала» – разве плохо? А «Жизнь советской девушки»? А вот пьески какие славные…
Но неведомая сволочь совершенно неумолима. Она равнодушно отмахивается от сделанного и злобно вопрошает: а где «Люди как цветы», где «Отец Вениамин, мать Ангелина», где «Путешествие Аграфены» – и прочие, пока что не написанные мной сочинения, ради которых я обязана отказаться от посиделок с друзьями, от просмотра сериалов на планшете, от чудесной размеренной жизни на Шестой линии Васильевского острова, где есть всё: церковь, прокуратура, аптека, школа автовождения… никаких объяснений тому, отчего именно ко мне привязался Неизвестный, требующий, чтобы я писала, у меня нет. Как я пишу, я не знаю.
Опять-таки Шварц вспоминает: зашёл на дачу в гости к писателю Федину. А у того на столе – огромная схема с кружочками, квадратиками и стрелочками. Что такое? Оказалось, схема нового романа. Шварц в ужасе смотрит на это сооружение. Тут появляется писатель Эренбург. Шварц признаётся ему, что не понимает, зачем нужно чертить подобное. А как же! – строго отвечает Эренбург и вынимает из кармана свою геометрическую химеру. – Обязательно! И Шварц мысленно съёжился, оцепенел и пришёл к мысли, что он никакой не писатель вообще, потому что ему дико и странно рисовать схемы перед началом работы. Да, думал Евгений Львович (он нам поведал о том в дневниках) – я импровизатор какой-то, не писатель… вон как настоящие писатели действуют…
Человек, за три недели создавший «Дракона», горевал, что никакими принципами работы не располагает, а так как-то – садится, пишет… Горевал, конечно, не вполне искренне. Возможно, схемы надо чертить – кому-то. Не Шварцу, который ещё в 20-х годах не понимал, как литературное произведение можно объявить суммой приёмов… Добавим, что тот же «Дракон» идёт сегодня в десятках театров, а романы Федина и Эренбурга поглотила «медленная Лета» (значительно ускорившаяся в ХХ веке).
У меня тоже нет никаких принципов работы. Единственное, что удалось отрефлексировать: то, что я хочу написать, уже есть во мне, в виде, который я объяснить не могу. Эти образы волнуют и обременяют меня. Когда удаётся от них избавиться – а это возможно только путём их рождения/воплощения, – они удаляются от меня, став общим достоянием. Появляются новые. Опять рожать! Не хочу! Но при чём бы тут было – не хочу… От хронической борьбы с собственным призванием я стала существом крайне беспокойным.
Ах, Самара-городок, Беспокойная я… Беспокойная я, Успокой ты меня!Если бы я нашла своё место в системе правоохранительных органов – а из меня, полагаю, мог бы выйти и толковый следователь, и убедительный прокурор, – беспокойства было бы куда меньше. Служи Отечеству да продвигайся по службе. Чин и мундир значительно успокаивают человека. Но в области моего призвания нет ни чинов, ни мундира. Кто я сейчас в своём деле, если пересчитать выслугу лет на военный лад? Лейтенант, майор, полковник? Люди измеряют свои достижения, чтобы успокоить себя, а поскольку мне не будет покоя, видимо, никогда, нет смысла добиваться «чина и мундира». Потому как Неизвестному, ко мне приставленному, на это чихать. Он никогда не отвяжется. Всё, что я могу, – вымолить себе задержку, отпуск, ретардацию месяца на два, на три. Чтобы каждый день своего отпуска с тоской вспоминать, что я опять провинилась и того-сего не написала.
И вот, приплывают два образа. Первый: на берегу озера в собственном доме сидит в творческом кризисе американский писатель. Он развёлся с женой и пьёт много виски. Бросил курить. Ему настойчиво звонит его литературный агент. Предыдущий роман нашего писателя пять месяцев держался в списках бестселлеров, и агент требует нового текста… Второй: в доме творчества сидит в творческом кризисе советский писатель, член Союза писателей СССР. Он пьёт водку и курит. Через две недели он должен сдать текст нового романа в журнал «Октябрь». Через месяц он должен представлять советскую интеллигенцию на зарубежной конференции по миру во всём мире. Жена и дочь писателя ушли купаться…
Всё это для меня – марсианские хроники. Я попала в ситуацию, когда у писателя нет билета на скорый поезд истории и твёрдого места в Системе. Получая аванс за книгу, не превышающий моей месячной зарплаты в газете – а писать книгу год минимум, – я думаю: интересно, а зачем мы вообще пишем? Ведь писать ради заработка всегда было существенным мотивом для литератора. И народу понятно: человек деньги получает, не махая кайлом и не ворочая шпалы, это очень извинительно, чистая работа. Какие у нас бонусы? Встречи в библиотеках, редкие интервью, титул «писателя» перед фамилией? Получается, Неизвестный, который издевается надо мной, явился не только мне. И в его загадочных действиях уже нет никакого фактора соблазна. Ни малейших козырей в рукаве! Заманивать нечем. Он, гад, на совесть давит, требует долги платить, а кому и за что – не сообщает.
Радость творчества? Радость иногда бывает, когда я перечитываю написанное и оно мне нравится. Когда пишу, радость (удовольствие, наслаждение) не чувствуется с той непреложностью, с какой она поглощает всё моё существо, если я бросаюсь в море. Нет, тут речь не о приятных ощущениях, их можно насобирать по жизни.
Речь о том, чего в жизни нет. О выходе за пределы тела. Об ужасном сверхскоростном расширении «я». О том, что ты – не очень-то ты, когда пишешь.
Хоть что-нибудь – хоть строчку, хоть дитя. Вон из себя, из пагубной темницы, Где мысли пленные по лавочкам сидят, Смиренные девицы!Стишки юности…
«Вон из себя». Да, это единственное, что искупает подмену своей жизни – сочинительством. Даже если пишешь о себе, ты за пределы себя выходишь обязательно, поскольку осознать себя невозможно, не покинув своих берегов и не взглянув на них сверху, сбоку, снизу, как угодно. Наступает другое время и другое пространство. Много раз получалось, что я, очнувшись, понимала, что прошла вся ночь или даже сутки миновали. Что делала – знаю: вот он текст передо мной. Но – где я была?
О да, я знаю, что есть ещё, как пишут критики, «наша литература», а в ней «идут процессы», и ещё есть (видимо, как-то отдельно от «нашей литературы») «современные писатели», которые… которые что-то там. Мне вмиг скулы сводит от скуки. Пускай в нашей литературе бесконечно идут процессы. Я не против, только всё это о другом. Той отчаянной смелости Розанова, который воскликнул: «Литература – это просто мои штаны», у меня нет, литература – не мои штаны, однако чувствовать себя химическим элементом – участником «процесса» я не в состоянии. С любопытством смотрю на писателей-современников, хотя с внешней стороны они непостижимы. До сих пор пытаюсь обнаружить связь между другом Пашей, с которым иногда задушевно пью водку, – и писателем Павлом Крусановым. Пока что связь эта мною не установлена. Нет, мы не элементы, потому как нас не определить, мы скрытные и хитрые. Похожи на участников какого-то заговора. «Заговор обречённых»…
А, ещё ведь есть «женский фактор». Не понимаю писательниц, как-то подозрительно рьяно утверждающих, что это не важно. Как это может быть не важно? В истории литературы есть один образ, живо меня волнующий. Госпожа Виницкая. (Печатавшаяся как Виницкая-Будзианик.) Эта самая Виницкая-Будзианик возникла в письмах Щедрина, где-то в начале 70-х годов позапрошлого века. Дама прибыла в Петербург из западных губерний и отправилась прямиком к действительному статскому советнику, главному редактору журнала «Отечественные записки» Михаилу Евграфовичу Салтыкову (Щедрину), который сидел в клубах табачного дыма, злодейски кашляя и кроя всех своих пьяниц-сотрудников матом. Госпоже Виницкой удалось привлечь внимание знаменитого сатирика. По-моему, он даже поразился. Судя по некоторым деталям, госпожа Виницкая пыталась Щедрина соблазнить. И просила настоятельно общего руководства. Что ей читать, как работать над сочинениями. Несколько растерявшийся Щедрин перенаправил госпожу Виницкую Тургеневу, сопроводив подарок письмом. Видимо, по представлениям Щедрина, именно Тургенев мог посоветовать даме, что ей читать. В письме он раздражённо заметил, что понятия не имеет, кто это такая и почему она Виницкая и в то же время Будзианик… Однако же госпожа Виницкая закрепилась в столице. Писательницей она стала, её печатали. Те самые «Отечественные записки» печатали! Во всяком случае, через двадцать лет мы застаём Виницкую на конке, где она рухнула на колени перед Александром Чеховым, приняв того за Антона. Чувствуется пластика восторженного, взбалмошного создания, обуреваемого страстью-любовью к литературе. Пробиться в это время даже в третий ряд нереально: всё занято солидными бородатыми гениями, полугениями, четвертьгениями, но госпожа Виницкая, прибывшая из западных губерний (скорее всего, сбежала от мужа) со своими повестями (мне кажется, они были свёрнуты в трубочку и перевязаны ленточкой) и бесстрашно направившаяся прямо к великому Щедрину в редакцию единственного прогрессивного свободомыслящего журнала России, – не думала о месте в ряду. Она шла на грозу. Она пробивалась внутрь литературы. Она пробилась!
И ведь их были десятки, даже сотни – чаще всего полуголодных, бессемейных, чудаковатых, покрытых изначально густой тенью бесславия. Безвестные русские писательницы, я их люблю. Не сочувствую и не жалею, а просто люблю. Ведь если литература – Литература – вот такая, с большой буквы, и существовала, то существовала она прежде всего в глазах этой мечтательной идиотки, госпожи Виницкой. Нет, я обязана когда-нибудь написать о ней, потому как это – душераздирающий символ. Ещё один мой долг Неизвестному!
Не сердись, не наказывай меня. Подожди, я соберусь с силами, превозмогу потерю близких, страхи за семью, отчаяние от слабеющей с возрастом плоти, преодолею тревоги, сомнения, бег времени, лень, трусость и желание просто жить, как амёбы живут. Прости, я немножко устала! Передохну и пойду. Сейчас, сейчас…
Сергей Носов. Сидя. Лёжа. Иногда – стоя
Вспомнить детство
В детстве я был, что называется, фантазёром. В пионерском лагере после отбоя рассказывал в темноте страшные-страшные истории, сочиняя на ходу. Содержание, конечно, вспомнить невозможно, а вот что запомнил хорошо – ощущение внезапной власти над внимающей тебе аудиторией: куда б тебя ни несло, слушают с благодарностью и просят ещё. Вот тогда, в темноте, после отбоя, я и почувствовал впервые восторг авторствования. А потом я стал технарём, окончил ЛИАП, работал на кафедре, дело дошло до сдачи кандидатского минимума, и я понял, что это всё не моё. И сделал движение в перпендикулярном направлении. Грубо говоря, вспомнил детство.
Такие вопросы
У писателей случаются выступления перед аудиторией, творческие вечера и тому подобное. Обычно писателей спрашивают о чём-нибудь актуальном, общественно важном. Об отношении к Ивану Грозному, например, о возрасте Вселенной и метеоритной опасности, был ли у нас секс в Советском Союзе и как нам обустроить Россию. Моего коллегу, с которым я выступал однажды в библиотеке, так при мне и спросила красивая девушка, в чём смысл жизни. И он ответил. Я ему позавидовал. Не потому, что он знал ответ, а потому, что, спрашивая о главном, с его персональным ответом связывали ожидания. Вопросы, которые мне задают, обычно касаются состояния моей головы. Как мне пришло в голову такое-то название. О чём я думал, когда писал такой-то роман. Знаю ли я, когда начинаю, какой будет конец. Иногда и о глобальном спрашивают, но не совсем прямо. Вот как представитель человечества, не думаю ли я, что оно сходит с ума (то есть не чувствую ли я на себе признаки всемирного сумасшествия). Приходится всё время обращать взгляд внутрь себя. Это сложно.
Тема «Как мы пишем» казалась мне всегда сколь незначительной, столь и опасной: нельзя забывать о той сороконожке, которая разучилась ходить, когда задумалась, как ходит. Но спрашивают. Приходится отвечать.
О пользе променада
Как я пишу? Лёжа. Реже – сидя. Иногда – на ногах, то есть «выхаживаю» текст. «Член общества» я выхаживал в Коломне, недалеко от Сенной, «Дайте мне обезьяну» – в окрестностях Обводного канала и на лесных тропах в Псковской губернии. «Франсуазу» – в Гималаях и по левую сторону (если смотреть из города) от Московского проспекта. А по правую, в промзоне у Громовского кладбища, выхаживал «Грачи улетели». Ну и так далее.
Спросили: что делает из человека – писателя
Питание. Да откуда же я знаю, что делает из человека писателя? Обстоятельства, щелчок в голове, обнаружение в себе специфических способностей моделировать определённым образом мир, «не могу молчать», болезнь, тщеславие, любовь к родине, желание показать кукиш всему человечеству, отсутствие денег, авантюризм, неудача в любви, приказ партии… и т. д. и т. п., вплоть до безумного пари с друзьями… Я не знаю, что делает из человека писателя. И кто такой вообще писатель? Чем он отличается от человека? У меня была пьеса, где персонажи сидели в купе отцепленного вагона и всё говорили, говорили, говорили… Вдруг один заявляет: «Я вам не хотел этого говорить, но скажу. Я ведь, можно сказать, писатель». – «И что же вы написали, Игорь Сергеевич?» – «А ничего. Я ничего никогда не писал и не буду писать. Я просто чувствую, что во мне писатель живёт, крупный, если хотите. И что я могу сесть за стол и написать роман». Но он не сядет за стол и не напишет роман – из принципа, как бы в укор тем, кто пишет, но «не может писать», а вот он «может писать», но не будет, увольте. Говорит: «Писательство – состояние духа, а не бумаговредительство». Такова его писательская позиция. И тут трудно что-нибудь возразить. Я-то, допустим, пишу. Но я к тому, что не знаю, что такое писатель. Знаю, конечно, но всё равно писатель всегда что-то другое.
О профессионализме
Выражение «профессиональный писатель» ужасное. Был ли Гаршин, автор нескольких рассказов, профессиональным писателем? А Толстой, который писал не для денег и всё норовил отдать кому-нибудь гонорары вместе с авторскими правами?.. Зато вот такой-то, он, безусловно, профессионал. Но почему ж «безусловно»? Я знаю только один критерий профессионализма. Профессионал – это когда тебе снятся профессиональные сны. Мне вот снятся профессиональные сны. Я часто вижу во сне собственные тексты; я их читаю, редактирую, правлю. Иногда они меня огорчают, но чаще нравятся мне, я просто прихожу в восторг от прочитанного. Когда просыпаюсь, всё начисто забываю. И это ужасно. Но согласитесь, если бы я был рыбаком, мне бы снились, наверное, сети, если врачом-педиатром – малые дети, змееловом – гадюки, пожарным – огонь. Но мне снятся собственные тексты. Стало быть, я профессиональный автор. Тут уже не попишешь.
Смешно ли
Никого не обличаю, это мне не интересно. Не интересно изображать «пороки общества» и тому подобное. Но раз ты ещё не до конца порвал с реальностью и каким-то боком отражаешь её на бумаге, то всякие там «пороки» сами собой проступят, ибо «действительность, скажу я, такова, что подбирать нам следует слова – достойные…». То, что нашей действительности – в действительности – присуща некоторая фантасмагоричность, это общее место. Вот это общее место я и пытаюсь, что ли, исследовать.
По-моему, у последовательного реалиста неизбежно должна получиться фантасмагория. А если пишет смешно, про такого скажут: сатирик. Почему, как говорят, у меня получается смешно? Смешно – как говорят? Я ведь пишу, не смеша. Само получается.
Ну как можно написать, допустим, о выборах и не оказаться зачисленным в «сатирики»? Впрочем, у меня в романе не «выборы», а «элекции». Вроде бы то же самое, да не совсем. Плод воображения автора. Слово, кстати, имеет шанс прижиться.
Хорошо, пусть – сатира. Но почему «политическая»? Сам я аполитичен до мозга костей. Андрей Левкин, прочитав «Обезьяну», спросил: «И кто у них победит?» Откуда мне знать, кто победит – блок ли «Честь и достоинство» или же «Сила и справедливость»? Сам я хожу на выборы, чтобы унести бюллетень домой. Коллекционирую. Хобби у меня такое.
О влияниях
Что тут сказать? Любой пишущий создаёт поле влияния и сам попадает в поле, создаваемое другими. Можно ощущать, а можно не ощущать чужие влияния. Есть такие мастера, которые пишут так, словно до них вообще никто не писал, – они, разумеется, не ощущают влияний. Но это не значит, что они влияниям не подвержены. Стилист этого класса может сам не догадываться, что, пиша, обрывает фразу – сейчас! – по подсказке, допустим, Толстого, которого он и в школе не читал, и не любил никогда, и знать не желает в настоящее время. (А хорошее выражение: «влиятельный писатель», мне нравится.) Если погода влияет, телевизор влияет, место жительства, рабочее место, рекламотеррор, жёны, любовницы, аппетит, как же может не влиять такая штуковина, как «вся мировая литература»? Её можно и не знать вовсе, можно презирать, отрицать, она всё равно влияет. Когда мы пишем, хотим того или нет, мы автоматически оказываемся в едином пространстве вместе с классиком на букву Ш. и классиком на букву Д. и миллионом других тружеников пера, включая множество наших современников, выводящих в этот момент что-нибудь вроде: «Она подошла к окну и посмотрела на небо…»
Можно, конечно, отпугивать тени, бросая в них горящие спички, но лучше не терять вменяемость. Лично мне ситуация нравится… Я дорожу ощущением присутствия этих теней: их присутство-ва-нием – как элементом письма.
«О Чехове»
Кто я по отношению к своим персонажам? А вот кто. Я их судьба. Я знаю, чем закончится роман, я даже знаю последнюю фразу. От меня не уйти. Но в отдельно взятом эпизоде они свободны от моей мелочной опеки. Я не всегда толком знаю, о чём они будут говорить в конкретной главе, что им придёт в голову, когда, допустим, едут в поезде, или, скажем, зачем, когда двое беседуют о бедности (или величии) нашей литературы, вдруг в дверь звонит третий. Кто ещё такой? Адвокат. Какой ещё адвокат? Артём Артёмыч. Какой ещё Артём Артёмыч? Никакой Артём Артёмыч автором не санкционирован! «В Первомайске какая преступность? – замечает Артём Артёмыч, адвокат (входя). – Вон, осудили Малявкина в прошлом году за то, что жену изнасиловал. А теперь говорят, что сама виновата». И уводит хозяина дома, к изумлению автора, удить рыбу на речку. Ну что ж, пусть идут. И о чём говорить будете? О Чехове.
О возможности альтернативной деятельности
Вот Фолкнер, я знаю, когда его спросили, кем бы он был, если бы не был писателем, сказал: содержателем публичного дома. Я бы, наверное, мог, если бы мне показали, как это делать, приколачивать каблуки. Сбрасывать снег с крыш. Если бы у меня был слух и я бы владел нотной грамотой, мог бы стать, пожалуй, композитором. К сожалению, чем больше я букв произвожу на бумаге, тем менее становлюсь пригодным к какой-либо другой позитивной деятельности. Не знаю, почему так получается.
В детстве стать хотел астрономом. Но вряд ли бы я стал астрономом.
Даже – точно. Точно не стал.
Судьба их печальна
Если бы мне Бог дал талант юриста, я бы стал адвокатом, но только не прокурором. Мне жалко моих героев. Жизнь реальных людей (нас с вами) коротка, а эти живут, пока книга перед глазами; некоторые и до конца не дотягивают.
Раз они от меня зависят по-крупному, зачем же мне отыгрываться на них по мелочам? Я люблю своих героев. Стараюсь не обижать зря. Я их балую часто, разрешаю посибаритствовать, помечтать, а если ты, допустим, трудоголик, так вот тебе лопата в руки – копай в своё удовольствие… составляй квартальный отчёт… сочиняй стихи до утра… К чему все идёт, я один знаю. Итог всё равно предрешён.
Но некоторые сопротивляются авторской воле. Эти в буквальном смысле герои. Уважаю таких.
С другой стороны…
А вот они меня – часто жалеют? Чтобы кто-нибудь им сочувствовал – сам ли я или читатель, – чтобы образ у них был человеческий, мне ведь приходится, автору, часть себя в них, так сказать, извините, вкладывать. А это, знаете, ещё та процедура. Нет, правда, я добрый автор. Часто в мелочах потакаю. Могу немотивированно чем-нибудь вкусным накормить. У меня часто за столом сидят, пьют, едят, особенно в пьесах. Мои герои любят борщ почему-то. Один вспоминает, как ел в Костроме борщ с копчёной курицей. Слово мне, наверное, нравится. Борщ. В общем, если бы мои герои взялись меня судить за негуманное к ним отношение, я бы нашёл, что сказать в оправдание.
Язык
Мне кажется, язык прозы это всегда больше, чем средство изложения, – для меня это ещё и событие, происшествие, даже если ничего не случается. Порой выверт. Нечто, сопутствующее излагаемому. В моём случае это как, что ли, погода, с изменчивостью которой обязаны считаться персонажи. Или музыка, скорее всего атональная (сам я напрочь лишён музыкального слуха), мои персонажи ею как бы томятся, но всегда подсознательно, потому что слышать её своими ушами им не дано. Я могу вообразить язык своей прозы особым героем, вполне антропоморфным (почти как Нос у Гоголя). Представим театральные подмостки, персонажи на них живут себе своей жизнью, не ведая, что она подчинена авторской воле, и вот среди них ещё некто – мим с белым лицом и весь в чёрном, его пантомиму они не замечают. Он передразнивает их, юродствует, импровизирует, комедь смещает в трагедь, трагедь в комедь, забавляется фарсом. Зрителям не всем нравится. «Гоните его, надоел!» Никак нельзя, это язык сочинителя Носова. Без него будет молчок.
Проблема артикуляции
Писать так, как находишь для себя естественным. Вот когда я говорю, часто размахиваю руками, есть у меня, знаю, манера такая. Для меня это вполне естественно, хотя кого-то может и раздражать. Разумеется, мне не стоит большого труда сдерживать себя, руками себе не помогать, не устраивать театра одного актёра, «быть в норме». Что я и делаю, когда надо. В прозе рук нет, но есть иные дополнительные средства выразительности. Когда в этом чувствую необходимость, я их призываю на помощь – даже не столько себе (то есть «рассказчику»), а своим героям. Так им проще пропечатываться, осуществляться. Кто-то из критиков написал в связи с «Членом общества», что Носов-де слова не скажет в простоте. На самом деле я очень просто пишу. Просто письмо моё часто бывает артикулированным – в соответствии с ролью героя, его обстоятельствами и положениями. Вот: чуть не уронил кружку с чаем (стоит рядом с клавиатурой).
О моде
На обложке моего первого романа напечатали слова одного известного критика: «Писатель завтрашней моды». А через пять лет другой критик похвалил меня за то, что не стал, к счастью, модным писателем. Я действительно не понимаю, что такое литература модная. Думать об этом литератору вредно.
Модная литература – это, наверное, та, которая привносит элемент доступности в интимный по определению акт чтения. Предпочитаю ничего не знать о модности книги.
О скользящем окне повседневности
Проблемы проблемами, актуальность актуальностью, но есть ещё и личный опыт переживания течения времени, этого скользящего окна, которое мы называем «сейчас» и которое всегда настоящее. Хочется стремиться к тому, чтобы за фиксацией мелочей быта, незначительных событий, пустяков, мусора жизни, тех же «проблем» допускалась возможность экзистенциального сквозняка, ну в смысле подтекста… Мне интересна повседневность, а ещё больше – сиюминутное. Может быть, мой «гиперреализм» и вырастает из таких вот отношений с реальностью, которая всегда под руками и всегда ускользает.
К себе в закрома
Один мой знакомый с очень обычным именем-отчеством серьёзно обиделся, обнаружив то же имя-отчество у персонажа моего романа. Он решил, что это о нём. У меня даже мысли об этом человеке не возникало, когда писал. Но такое часто бывает. Всегда кого-нибудь в ком-нибудь узнают. Всё характерное – густота ли бровей, манера ли изъясняться, род ли занятий, – всё соотносится с конкретными людьми. А уж если повествование от первого лица, так точно будут думать, что пишешь о себе. Один мой гость, увидев на полке тридцатитомного Достоевского, очень удивился: разве я в пору безденежья не сдал Достоевского в «Букинист», как это сделал герой «Члена общества» – разве я писал не о себе? В «Грачах», например, подробно, с точностью до закоулков, описана промзона около бывшего старообрядческого кладбища, но ведь это не значит, что я, подобно своему герою, двадцать лет сторожил здесь олифу. Опыт моего недолгого сторожения в другой части города (1983) нашёл приложение в тогдашней фантасмагории «Архитектурные излишества». Но один к одному в том рассказе от жизни – только лишь цитаты из абсурдной инструкции, предписывавшей мне, как пользоваться оружием, которого у меня не было. Да: и ещё опись имущества, за которое я расписывался, заступая на дежурство, – ситцевая занавеска, телефонный аппарат… – за всё остальное я не нёс никакой ответственности. Вспомнил сторожку, потому что, по природе вещей, писатель и есть врождённый клептоман – он расхищает действительность, разбирает её на детали, уносит по кусочку, несун, к себе в закрома, но всё же создаёт совсем иную, свою реальность, и только свою, как бы она ни была внешне похожа на оригинал.
Удовольствие или мука – писательство
Удовольствие – это когда получается. Когда пишется, когда обнаруживаются какие-то неожиданные сюжетные повороты, когда мои герои начинают вдруг разговаривать в моей голове. Тогда к некоторым из них даже приходится применять какие-то дисциплинарные меры воздействия, если они совсем выходят из-под повиновения. А с другой стороны, есть совершенно ужасное состояние, когда придумываешь, придумываешь, а ничего не получается. День зря прожит, и наступает ужасная депрессия. А потом вдруг что-то мелькнет, раз – и всё, слава Богу! И дальше уже дело техники.
Совесть общества или мозг? Или что-то другое?
Ну а почему бы писателю не быть совестью общества, если общество видит в нём воплощение собственной совести? Вообще-то, совесть обычно одна, но в случае с обществом и писателями три-четыре совести это, я думаю, допустимо. Хуже, когда от каждого пишущего общество требует, чтобы он был его, общества, совестью, – такое общество просто бессовестное.
Неприятнее всего, когда дело доходит до мозгов. Начало перестройки, если вспомнить историю, ознаменовалось тем, что многие писатели действительно возомнили себя мозгом общества и, что хуже всего, были обществом как мозги востребованы. Аналитики, экономисты, управленцы, чёрт знает кто, и каждый истина в последней инстанции, но в первую очередь – человеческих душ инженеры! – из этого цеха и кооптировались. В писательском труде вообще много от самозванства. Мозги у писателей специфические. Общество без мозгов во сто раз привлекательнее, чем с мозгами какого-нибудь сочинителя.
А что ещё, кроме мозгов-совести? Да всё, что угодно. Синяк, например, на лбу общества. Что-то вроде напоминания о дне вчерашнем. И светится далеко, и совестно как-то (к вопросу о совестливости), но общество знает: скоро пройдёт. Или на руке общества указательный палец, которым можно потрогать что-нибудь такое, обществу не вполне понятное, а то и ткнуть во что-нибудь. Или вот что ближе всего: даже не глаз общества, а хрусталик глаза – хрупкая штука двояковыпуклая, способная изменять кривизну и преломлять по-разному, фокусировать.
А то просто: кисточка на хвосте. Да, почему мы решили, что общество антропоморфно и бесхвосто? Это как посмотреть.
Электронные книги
Я ничего не имею против электронных книг. За ними настоящее. Но когда я слышу, что за ними великое будущее, мне начинает казаться, что никакого будущего у них нет. Да, мы заменили печатные буквы на бумаге электрическими зарядами в полупроводниках, и это очень удобно. Но ведь заряд, он и есть заряд, и в один роковой момент все заряды могут разрядиться. Войны, стихийные катаклизмы, электронные гипервирусы… мало ли что. Хорошо, если к этому времени не будут истреблены все бумажные книги.
Каким авторам легче – старым или новым
Новым авторам всегда было тяжело, но всегда тяжело по-разному. Раньше было легче в том смысле, что и публика связывала с литературой какие-то ожидания. Трудно пробиваться к публике, когда публике этого не надо. Да я и сам, при всей моей относительной востребованности, ощущаю себя во многом «новым автором» – большинство моих сочинений так и остались непрочитанными.
Откуда пошли «Фигурные скобки»
Роман родился из названия. Первая попытка написания текста была предпринята лет двенадцать назад. Фигурные скобки, употребляемые в математике, я пытался осмыслить как образ мнимого убежища от проблем повседневности. Но что-то мне поднадоел мой герой с его заморочками, и я оставил затею. Текст так и лежал. А через десять лет мне пришла в голову совсем другая история, про другого героя, куда бы первая могла войти частично, и я написал, что написал. Роман родился, подражая природе: личинка – куколка – жук. Или так: гусеница – кокон – бабочка. Мне нравится, что, судя по откликам читателей, каждый воспринимает роман по-своему. Интерпретировать же автору свои произведения – это гиблое дело. Что с автора взять? Он уже всё написал.
Спрашивают о магах и колдунах и о мистике в «Фигурных скобках»
Вот это меня поражает больше всего: почему многими роман воспринимается как мистический, с элементами магии? Я писал не о чародеях и магах, а о фокусниках разного калибра. Многие посчитали, что слово «микромаг» я придумал. Что вы! Микромагами называют себя иллюзионисты, работающие с мелкими предметами в непосредственном контакте со зрителем. Зайдите в интернет, посмотрите, какая у них бурная жизнь и кипучая деятельность. Другое дело – роман гротескный, он действительно допускает и двойное прочтение, и однозначно полярные. Скажем, если вы верите, что Копперфильд летал по воздуху, роман может показаться в большей степени мистическим, а если убеждены, что это был виртуозный трюк, то и мои «Скобки» повернутся к вам бытовой стороной. Хотя все фокусы там – только фон, антураж. Не это главное. Роман не об этом.
Доступна ли мне микромагия и много ли от меня в героях
Знаю несколько несложных фокусов – с картами, спичками и карандашом. Последний, с карандашом, я подарил следователю, который в конце романа допрашивает главного героя. Вернее, следователь сам умыкнул у меня этот фокус, потому что в замыслах автора демонстрация номера на допросе не предусматривалась – тут всё произошло в рабочем порядке, для меня самого неожиданно. Ещё мы с главным героем, судя по всему, читали одни и те же книги – определённо можно сказать об одной: «Математические досуги» Гарднера. Вот, пожалуй, и все совпадения.
Спросили о тайных мыслях и с кем я «общаюсь»
Опять же, в контексте «Фигурных скобок». То есть мысли, которые хочется скрыть от других? Да сколько угодно! Думаю, у всех есть такие. Я вообще человек по характеру скрытный. А что до постоянных «с кем-то» общений, не знаю, как с другими авторами, а я, когда работаю, постоянно слышу своих персонажей. Они пьют чай у меня в голове, ссорятся, спорят, произносят патетические речи, объясняются в любви, пытаются друг друга надуть. Не знаю, замечают ли они меня. Думаю, нет. Во всяком случае, я ещё не дошёл до того, чтобы с ними разговаривать. Да нет, это нормально. Надо же прокручивать сцены.
Петербургские фундаменталисты
Это старая история: лет пятнадцать назад достаточно ярко обозначилось писательское содружество – Павел Крусанов, Александр Секацкий, Наль Подольский, Татьяна Москвина, Сергей Коровин, Сергей Носов, тогда ещё Владимир Рекшан к нам примыкал. Нас назвали «петербургскими фундаменталистами». Никакого отношения к религиозному или политическому фундаментализму это всё не имело, мы даже не думали объединяться, просто часто встречались за одним столом, что не осталось незамеченным, – художник Валерий Вальран как-то сказал: «Фундаментально сидите!» Ну и привилось – «петербургские фундаменталисты». Нам стали предоставлять площадки для совместных выступлений, приглашать на конференции, мы проводили семинары на самые разнообразные темы, устраивали акции. Трудно объяснить, что такое петербургский фундаментализм. Когда однажды наша гостья из Италии спросила Крусанова, что же нас объединяет, он ответил: своеобразное чувство юмора. И это верно, при всём при том, что мы, как нам казалось, весьма серьёзные люди.
О разнице манер
Писательство нередко ведёт к самопупству, обострённому индивидуализму, особенно в условиях жёсткой конкуренции. Но вот так сложилось в литературном быту нашего круга, что мы образовали что-то вроде согласия. Мы легко устраиваем мини-симпозиумы в режиме застолья, можем сорваться в авантюрное путешествие без видимых причин. Москвичи иногда удивляются: как это мы за столько лет ещё не надоели друг другу? Нам самим удивительно. А что касается разницы литературных манер между петербургскими и московскими писателями, здесь много преувеличений. Кстати, в «Скобках» я иронизирую над самой постановкой вопроса. Там в интервью один деятель обсуждает разницу между московскими и петербургскими иллюзионистами.
Особый сон
Сон тяжёлый, но с яркой вспышкой в конце. Если опустить детали, мы с писателем Павлом Крусановым хоронили Пастернака. Мы выносили гроб из какого-то помещения, загружали в катафалк, везли. Подвозим к бывшему Дому писателей на Шпалерной, заносим гроб со стороны переулка в открытые двери. Мы с Павлом идём первыми, кто за спиной, я не вижу, только ощущаю тяжесть гроба. И на душе тяжело. Там будто бы зал, а в зале везде саркофаги и могильные плиты. И вдруг вижу перед собой могильную плиту с надписью «Пастернак». Я растерялся. Как же так, говорю, Пастернак же у нас! И тут мне голос: «У вас не тот!» Вот на этих словах я и проснулся. Лежу и думаю: что же это было и зачем мне приснилось?
О вере в то, что книги на что-то влияют
Вообще-то, верю и даже знаю – хотя бы по откликам незнакомых людей на некоторые мои сочинения. Не буду говорить про общество в целом, но конкретный человек может найти себе опору в самом неожиданном для автора тексте, если этот текст живой, без фальши и чем-то трогает душу. Хотя лично меня как профессионального читателя трогает сейчас то, насколько хорошо сделана вещь. Лично мои главные герои остались в детстве – мушкетёры, пятнадцатилетний капитан, человек-амфибия и другие.
Судьба черновиков
Чем больше пишу, тем меньше сохраняю бумажек. Но черновики некоторые сохранил. В начале непростых девяностых много писал и печатал на обратной стороне каких-то производственных таблиц – мой товарищ Геннадий Григорьев, поэт, принёс целую кучу бумаги из офиса «Метростроя» (он когда-то работал там в многотиражной газете), вот эта бумага и пошла на черновики. Выбросил не все. Тоже ведь документ быта… У меня в рюкзачке всегда толстая тетрадь (амбарная), в неё заношу дежурные наброски, бессистемно и хаотично, потом оттуда что-нибудь выуживаю. Обычно я начинаю текст на компьютере, потом распечатываю его и безжалостно правлю рукой, так что процентов на семьдесят получается новый текст; потом вношу правку в компьютер, снова распечатываю и снова правлю – и так несколько раз.
О правке
Правлю, ещё как!.. Меня сейчас не удивляет, что Лев Толстой шесть раз переписывал «Войну и мир». Меня удивляют те, кто пишет набело. Иногда я уже в практически готовой вещи вдруг начинаю что-нибудь резко менять, ну, скажем, имена героев. Иногда откладываю на годы незаконченную вещь, потом вдруг, сам не знаю почему, к ней возвращаюсь. Мне мнится, когда пишу, что сам текст будет восприниматься как персонаж, со своим характером и причудами, поэтому – к вопросу о «пластах лексики» – да, я помню про эти материи, но тут ведь всё зависит от художественной задачи.
Актёрский подход
Моделирую героя, стараясь это сделать с максимальной убедительностью. Иными словами, создаю новую личность. С другой стороны, когда пишешь, надо уметь перевоплощаться в любого из героев, быть им. Так же, как актёр должен уметь помещать себя в предлагаемые обстоятельства. По ходу написания текста такой «актёрский» подход необходим. Это не значит, что я пишу о себе или даже о ком-то. Стараюсь не эксплуатировать прототипы.
О стихах
Наверное, я – скорее бессознательно, чем осознанно – придерживаюсь известного правила: если можешь не писать стихи, не пиши. Однажды я это «смог». А до того, похоже, «не мог». Так что из всех участников антологии «Поздние петербуржцы» я, кажется, единственный, кто не выпустил поэтической книги. Стихами иногда и сейчас, причём в прямом смысле, «грешу»: мне как-то страшно признавать над ними своё очевидное отцовство, проще их подкинуть какому-нибудь своему же условному персонажу, даже если его нет и в явном виде он никогда не появится. Несобранная книга стихотворений последних лет так бы и могла называться – «Стихи для персонажа».
Сказали, мало социальности
В 1994-м у меня вышла очень «остросоциальная» книга «Памятник Во Всем Виноватому», но никто её не заметил. Правда, она и напечатана была с типографским браком. Но разве в романе «Член общества, или Голодное время» мало социальности, особенно в книжном, не журнальном варианте? Или в книге «Музей обстоятельств», например. А вот не столь древний рассказ «Белые ленточки», написанный и опубликованный ещё до «белых ленточек» на Болотной, – там с бытовой стороны показана праздничная картина всенародного покаяния, того, к чему нас так настойчиво призывает либеральная мысль. Ну, вот я и представил, как бы всё это могло получиться. Социальные вопросы мне интересны, но больше интересует меня восприятие социальных вопросов моими персонажами. Героями, скажем, пьес «Берендей», «Дон Педро», рассказа про покушение на Ельцина «6 июня» и прочими моими как безумными, так и вполне «нормальными» героями. А что касается писательских кружков-лагерей, они были и будут, наверное, всегда, но ведь каждое яркое, значительное произведение, появляясь на свет, заставляет видеть и условность, и тщету всех этих разграничений.
Коллекция бюллетеней
Есть у меня роман о выборах – «Дайте мне обезьяну». Всё выросло из афоризма, который я во второй половине девяностых придумал, глядя на некоторых политтехнологов: «Дайте мне обезьяну, и вы её изберёте президентом». Потом это изречение почему-то стали приписывать Березовскому. Хотя Березовский никогда не претендовал на его авторство. Ну да ладно, это всё в воздухе витало. У меня к выборам отношение сложное. Я участвую – то есть расписываюсь в получении бюллетеня, тем самым поддерживая статистику и саму идею проведения выборов. Но я не опускаю бюллетень в урну, то есть не участвую в голосовании. Было бы странно, если бы автор романа «Дайте мне обезьяну» участвовал в голосовании. Мой бюллетень просто не учитывается. Я как бы выражаю доверие иным избирателям, всем сразу – соглашаясь изначально с их выбором. Аморальна ли такая позиция – это большой вопрос, потому что мы все отчуждены от конечных результатов. Первый раз я унёс бюллетень в 96-м году. Лист большого формата, там было, кажется, 43 партии: все с картинками, с эмблемами, включая партию любителей пива. Я подумал, что у меня рука не поднимется опустить такой драгоценный раритет в урну. Сейчас я узнал, что коллекционеров бюллетеней довольно много. Я не искал специально никаких знакомств, – скорее, меня нашли. В Петербурге есть один очень серьёзный коллекционер, ему со всего мира присылают бюллетени – из Африки, Латинской Америки. Я по сравнению с ним дилетант.
«Тайная жизнь петербургских памятников»
Мы все живём среди памятников. Их присутствие мы часто не замечаем, а главное, не воспринимаем их как общность, как некое единство. О памятниках немало книг, но эту книгу от других отличает авторское отношение к объектам исследования. Я к ним отношусь примерно как к иноземной цивилизации. Что будем делать, когда встретим пришельцев? Устанавливать контакт. Вот для меня самое важное – контакт с памятниками.
И они отвечают? Они всё время нам отвечают. Тем, что играют смыслами. Сегодня мы воспринимаем памятник совсем не так, как вчера. И никто не знает, каким он представится завтра.
Вообще-то, это грех – смеяться над памятниками. Правда, сейчас модно стало устанавливать монументы с претензией на юмор, но ничего смешного в них, как правило, нет. Памятник становится комичным, а точнее, трагикомичным, когда иссякает пафос идеи, которую он выражал с некоторой чрезмерностью. Так часто бывает с памятниками вождям. Мне прислали фотографию памятника Ленину, установленного на трансформаторной будке, был такой на Вологодчине. Этот Ленин буквально гудел. Смешно? Но не только.
Тоска по мафии
Если бы все наши сочинения были живыми существами, думаю, мои бы творения, независимо от жанра, распознавали друг друга среди им подобных, как родственники родственников – близкие, неблизкие, седьмая вода на киселе – не важна степень родства, главное, она бы у них не вызывала сомнений. Вели бы они себя соответственно – одни бы дружили друг с другом, иные конфликтовали бы, кого-то осуждали бы за пижонство, кого-то почитали бы умником и молодцом, о ком-то говорили бы: в семье не без урода. Я, как родитель детищ своих, желал бы их видеть действительно большой сплочённой семьёй, проще сказать, мафией. Но они живут своей жизнью, и поздно мне кого-то воспитывать.
Два существа
Должен признаться, на моей творческой кухне часто бывает конфликт интересов. Когда я задумываю написать что-то о чём-то, тут же во мне просыпаются два существа: драматург и прозаик. Первый говорит: пиши пьесу, а второй подбивает меня на роман или хотя бы рассказ. Пьесу труднее начать, потому что для пьесы, помимо прочего, необходимо изобрести технологический принцип (драматургия – в значительной степени технология), а роман труднее закончить, потому что всегда есть риск не дотянуть даже до середины. У меня много начатого. Могу составить книгу «Начала».
Уходящая натура
Новые, небанальные, часто странные закоулки города?.. Открывать их читателю – у меня такой цели нет. Просто некоторые герои моей прозы любят бродить по странным местам, или им приходится там обитать. Боюсь, я эти места для читателя не открываю, а закрываю. «Франсуаза» вышла недавно, а описанное мною кладбище домашних животных, где герои закапывают труп собаки, уже, вполне возможно, не существует. Проезжал на машине и видел из окна какие-то чёрные полиэтиленовые мешки над несанкционированными захоронениями. Что-то задумали? Но всё-таки вряд ли это я накликал своей прозой репрессивные силы на незаконное кладбище. Да нет, конечно. Иначе следует признать причинно-следственную связь между романом «Грачи улетели», где описана одна из петербургских промзон, и реальным строительством через неё автомагистрали – сразу же по изданию книги. Вот и Сенная девяностых, изображённая в романе «Голодное время», уже ушла в прошлое. Просто у меня есть это… как бы сказать… ну, нюх на уходящую натуру. Какая бы ни была, а её всегда по-своему жалко.
Что жалко
Есть много частного, чего бы в городе я не хотел лишиться. Вот, например, Горсткин мост через Фонтанку, он деревянный – пусть таким и останется. А бревенчатые быки, торчащие из воды и защищающие сваи моста от весеннего ледостава, – они, по-моему, замечательны. И кстати, приезжие уже давно признали этих быков достопримечательностью – бросают с моста на их дощатые кругляки монетки. Много ли у нас в городе таких инженерных сооружений? Будь моя воля, я бы сохранил невзрачные башенки, ещё встречающиеся на крышах некоторых домов, – посты противовоздушной обороны, построенные во время войны. В детстве мы залезали в такую башню над домом по соседству с нашей школой – весь город был как на ладони. Отдать бы одну из этих башен под музей. Петербургу не хватает музея с условным названием «Петербургская крыша». Я бы и брандмауэры, эти глухие стены без окон, очень характерные для нашего города, решительно объявил культурно-историческим достоянием. И пусть с них лучше штукатурка будет слезать, но только чтобы не осквернялись они бессмысленной рекламой. Так что по части сохранения исторического наследия этого города я не просто консерватор, а гиперконсерватор. Петербургский обскурантист.
Петербургский текст
Я стараюсь не употреблять выражений «петербургский текст», «питерский текст», хотя, когда работал над «Грачами», конечно, отдавал себе отчёт в том, что получается нечто специфически петербургское. Ещё недавно считалось, что «петербургский миф» завершён, подобно древнегреческому, а в конце «петербургского текста» давно поставлена жирная точка. Но вот же заговорили в нулевые о «петербургском неомифологизме» и других любопытных вещах, и, пожалуй, небезосновательно – что-то на нашем болоте действительно происходит. По-моему, «петербургскому тексту» ничего не угрожает, пока он не мнит себя исключительно петербургским.
Я бы сравнил «петербургский текст» не с ископаемым дронтом, а с каким-нибудь ещё живым, в меру диковинным существом – с галапагосской слоновой черепахой, например, которая хоть и галапагосская, но способна плавать чуть ли не по всему океану. Хотя справедливости ради надо сказать, что по всему океану плавали её предки.
О «Чёрном квадрате»
Одно из многочисленных рабочих названий романа «Грачи улетели» было «За гробом Малевича». Действительно, «Чёрный квадрат», приобретённый Эрмитажем, несли, по преданию, за гробом Малевича. Мне нравится, что полотно, воплотившее в себе идею «нулевой формы», оценили числом с шестью нулями. Все представляют, каков из себя «Чёрный квадрат», но я не знаю ни одного человека, который бы отправился в Эрмитаж специально посмотреть на выставленный там «Чёрный квадрат». Я лично ходил. Чтобы вслед за собой отправить туда своего героя. Так что я теперь о «Чёрном квадрате» могу говорить очень долго и с важным видом, но дело в том, что «Чёрный квадрат» – это и догмат, и предмет религиозного культа, а я, грешным делом, привык уважать религиозные чувства верующих.
Городские реалии
Часто пишу о времени, в котором живу, о городе, в котором живу. Отчего же на моих страницах не появляться и людям, реально живущим в этом же времени и в этом же городе? Как известно, «Ленинград город маленький». Выйдешь на Невский и обязательно кого-нибудь встретишь. Если персонаж условного произведения встретит на Малой Конюшенной бронзовую скульптуру «Городового», действительно там зачем-то установленную, это же никому не покажется странным. Но чем тогда необычна будет встреча с писателем Павлом Крусановым, который достопримечателен в пространстве Петербурга куда больше, чем бронзовый «Городовой»? По дружбе с автором писатель Крусанов мог бы какую-нибудь важную новость поведать герою, то есть поработать на развитие сюжета. Его появление мотивировано. Он знает, что делает. Идёт, допустим, в клуб «Борей». А что делает здесь бронзовый «Городовой», не знает никто. Вот, скажем, в одном из эпизодов «Грачей» действие происходит в 2002 году на выставке в петербургском Манеже. Мой персонаж, некий московский арт-критик, даёт интервью перед камерой, произносит что-то, как ему кажется, экстравагантное о современном искусстве и употребляет между прочим словечко «медиапригодность», которое он позаимствовал у реально существующего философа Секацкого. Я бы не стал тревожить имя Секацкого, но мой герой ну никак не может обойтись в своём монологе без этой «медиапригодности». Чтобы не быть некорректным, он обязан сослаться на первоисточник: «Как сказал Александр Куприянович», – для пущей корректности я помещаю рядом с ним и самого Александра Куприяновича Секацкого, правда в довольно пассивной позиции: речь моего персонажа он, думая о чём-то своём, пропускает мимо ушей. На самом деле выставка действительно была в Манеже, и Секацкий действительно давал там интервью вместе с другими (помнится, я сам что-то говорил о современном искусстве), только не было московского искусствоведа, он выдуманный персонаж романа. Но ведь получается, это не реальный Секацкий попал ко мне в роман, а, наоборот, выдуманный мной искусствовед попал в реальность, которой тот же Секацкий принадлежит самым естественным образом.
С точки зрения персонажей
У меня подход к изображению героев драматургический: точка авторского зрения часто совмещается с точкой зрения персонажей. Герои не всегда высказываются прямо, но за ними всегда подразумевается право на демонстрацию (хотя бы себе) фигур своего индивидуального понимания происходящего. Авторское доверие к ним, часто провокативное, побуждает на ответную с их стороны откровенность. Я не оправдываю, но хочу их понять. Скажем, герой «Хозяйки истории» – самодовольный идиот, моральный урод, жлоб-интеллектуал Подпругин – во всех отношениях скверная личность, но по большому счёту он тоже заслуживает сочувствия, как любой из нас, хороших и добросовестных: мы все одинаково смертны.
О будущем
Оно будет, и это единственное, что о нём можно точно сказать. Какая разница, что я скажу? Все равно всё будет по-другому. Всё будет не так.
Валерий Попов. Это
Я родился 8 декабря, а 8 – знак вечности. Кажется. Надо же чем-то себя заводить. Впрочем, какой-то уже заведенный моторчик я чувствовал в себе всегда. Я еще не умею говорить – но страдания, еще не названные, испытываю: в комнате сумрачно, вода в ванночке остыла, и никому я не нужен, никому, никому! И вдруг – бодрый, уже знакомый голос, большая рука лезет в воду, отодвигает меня – и толчками из кувшина падает в остывшую воду кипяток, и может, впервые я осознанно проявляю характер, весело ерзаю по дну – то отодвигаясь от кипятка, то придвигаясь, ища точку риска и восторга, где обжигает, но еще не сжигает – и эту точку ищу и сейчас.
Помню – Казань, 1943 год, отец тащит меня за руку вдоль длинного строя «дровяников» – сараев, где жители нашего дома держат дрова. Идет война, и в черной тарелке репродуктора часто дребезжит песня «Броневики, тачанки!» «Смотри, папа! – вдруг говорю я. – Дровяники, тачанки!» – «Да нет же, – смеется отец. – Броневики, тачанки!» – «Да нет! Вот же – дровяники!» – Я вдруг упираюсь и не хочу дальше идти. «Ну ладно, дровяники… Молодец!» – хвалит меня папа, который и сам любит что-то приплести, в рифму: «Вкусный лист капустный!», или пошутить – например, вместо «Конечно!» говорит «Канышна!» – и становится веселей. Поэтому и меня поощряет. Спасибо ему. Уловить свои прихоти и фантазии и не «сдать» их – первое дело для появления писателя. Да и вообще – личности.
И я запоминаю лишь то, что мне нравится. Глаз уже «щелкает», как фотоаппарат, – когда надо… Для чего? Пока что испытываю лишь непонятный восторг. Разве этого мало?
Мы летом переезжаем на селекционную станцию, где работают папа с мамой. Я сам привязал веревочкой к телеге мой любимый маленький стульчик, на котором я так любил сидеть над обрывом и озирать окрестности. У Архиереевой дачи, где живут сотрудники летом, разгружаем телегу… а стульчика нет! Я глубоко вздыхаю, сдерживая слезы.
– Ничего! – Отец кладет руку мне на плечо. – Не потеряется! Он же на четырех ногах – прибежит!
Щелк… Навеки! А нашелся ли потом этот стульчик – даже не помню, не имеет значения. Главное – он уже в вечности, в словах! И цепочка этих «узелков на память» не прерывается уже никогда. Главное – хотеть, и «твое» точно появится. В 1946-м, когда мы переехали в Ленинград, на Саперный переулок, «это» уже ждало меня, совсем рядом. У соседнего подъезда стояли атланты, и сейчас стоят. Один атлант – как и положено, босой, другой – невероятно! – в высоких зашнурованных ботинках. И я вдруг понимаю, обреченно: «это» – мое. Это было первое, что я решил «опубликовать»: приводил с собой друзей со двора, потом – одноклассников и показывал им ботинки атланта – некоторые смеялись, другие недоумевали: «Ну и что?» Страшно расстроенный, я шел домой… Что ли я эти ботинки на атланта надел? Почему я должен так «подставляться», переживать? Больше не буду… «Нет, будешь! – понимал вдруг, почему-то с восторгом. – Это тебе на всю жизнь, ничем другим ты заниматься не можешь. И ничего лучше этого нет».
Лезь куда-нибудь – и увидишь. Я стою на крыше, сзади садится солнце, на высоком доме напротив – огромная тень! Неужели это я? Медленно поднимаю руки… и тень, занимающая весь дом, делает то же. Мир подчиняется мне, повторяет за мной!
И если надо – спасает. Важно уловить «это» в самом начале – и жизнь будет в сладость. Хотя сперва вроде – она чужая. Помню, как я шел в нелюбимую школу, где ждали хулиганы и злые учителя, мимо высокого белого Спасо-Преображенского собора с часами под куполом – больше я таких соборов не встречал. И вот я уже подошел к школе, надо входить, вот сейчас открою тяжелую дверь – и начнется! С надеждой я поднял глаза к часам под куполом – и увидел, что еще есть пять минут времени, пять минут счастья и покоя! И тут я понял, точнее – почувствовал: есть помощь. И когда ты будешь в волнениях и страданиях – жизнь (или Бог?) всегда даст тебе пять минут передышки, чтобы ты почувствовал: мир – и себя. И тут же я осознал и другое: ответственность. Цени эти пять минут и не упускай. Но если начнешь наглеть и требовать двадцать минут «форы», потом – шестьдесят, потом девяносто – тихий «попутный ветер» исчезнет – никакой помощи тебе словно и нет! Большинство так и считает – упустив блаженство или забыв его, – требуя невозможного.
Уже есть что сказать, а значит – стоит научиться писать. Брезжит цель. А без стимула – жизнь твоя не пойдет. Помню, отец почему-то встречает меня, я сбегаю по широкой мраморной лестнице и открываю на его широком колене – тетрадку. Там, на разграфленной странице, написано мной: «ЛЫЖИ, ЛЫЖИ, ЛЫЖИ» – и под этим – 5. Первая пятерка!
– Молодец! – Отец улыбается. – На лыжах пятерку догнал!
«Это он – молодец! – чувствую я. – Говорит так, что я навсегда запомнил».
Солнце, мороз. Восторг. Я гляжу на часы под куполом: «Спасибо!»
Я уже мог что-то рассказать – но кому? Не этим же хулиганам – про папу. Заплюют. Выйти к людям, из уютной своей «пещеры» – так страшно. Но – необходимо, а то так всю жизнь и просидишь. Иди! Зачем? Я учусь, никому не мешаю… Иди! В ранних зимних сумерках я одиноко стою на школьном крыльце, а дружные ребята, мои одноклассники, гогоча, заворачивают за школьный угол, где окон нет. Сейчас их соединит отважный ритуал курения – а я не курю. Но – иди! Таких бросков через бездну я совершил несколько и ими горжусь. На дрожащих ногах я свернул за угол. Маленькие негодяи, увидев меня, застыли с незажженными еще папиросами в озябших пальцах. Появление директора Кириллыча, я думаю, меньше б ошеломило их. Директор изредка набегал сюда, и набеги его были ужасны, но понятны. Но я-то зачем? Как им объяснить? Первым, как и положено, среагировал наш классный вождь, второгодник Макаров. Спасибо ему.
– Гляди-ка, наш умный мальчик закурить решил! Папиросу дать?
– Да, – выдавил я.
Все хохотнули. Но под свирепым взглядом вождя умолкли… Чего ржете? Представление еще впереди! Как бы умело и привычно склонив голову, я прикурил, втягивая воздух в папиросу, от огромного пламени, протянутого Макаровым в грязной горсти. Руки его просвечивали алым. Папироса сначала слегка обуглилась, потом загорелась. Я с облегчением выпрямился. Вдохнул, сдержав надсадный кашель, выдохнул. Дым! Как у людей! Скорей бы они про меня забыли, занялись бы собой – для первого раза хватит с меня! Нет. Не хватит! Дул порывами ветер, летели искры. Все напряженно ждали от меня чего-то… и я не подвел! Почему-то все сильней пахло паленым. Сперва все переглядывались – потом радостно уставились на меня.
– А умный мальчик наш, кажется, горит! – торжествуя, произнес вождь.
Некоторое время я еще стоял неподвижно, натянуто улыбаясь. Но тут из ватного рукава (пальто было сшито моей любимой бабушкой) повалил дым, выглянул язычок пламени. Вот теперь уже можно было им ликовать! Праздник состоялся! Я повернулся и побежал, сопровождаемый хохотом, запоминая зачем-то этот сумрачный двор, горящий рукав, который я наконец-то, спустя время, догадался сунуть в сугроб. Так с этим факелом-рукавом я и «вбежал в литературу», осознал свою участь. Вот это – мое! – с отчаянием понял я. «Цирковое представление», гротеск, чтобы запомнилось своей яркостью. Гротеск – это смелый подход к опостылевшей жизни, переворачивание ее. Гротеск – как вспышка молнии, вдруг озаряет тучу страданий – и запоминается. Как правильно сказал Пруст: «От литературы в веках остается только гротеск. Но дано только самым отчаянным: гротеск, как молния, неотделим от черной тучи страданий и только на фоне горя смотрится достойно».
Хотя пока вроде тучи не собрались – веселая молодость, институт. Я в восторге от собственной сообразительности, все ловлю с лету, как никто. Отличникам жить гораздо легче, чем троечникам, – вывел я парадокс (обожаю парадоксы) и доказал его: я сразу после собеседования зачислен, а им еще париться на четырех экзаменах.
Петроградская сторона, где был Электротехничекий институт, дунула вольностью после затхлости школы, прямых одинаковых улиц Преображенского полка, где я вырос. А тут – травяной спуск к Карповке с желтыми одуванчиками, цветущий Ботнический сад. Лучшая подготовка к тяготам жизни – легкая молодость. Валяясь в траве, плели что хотели, – это и есть лучшая литературная школа!
Было ли какое-то постороннее влияние, или все было только «герметично мое»? Нам, домашним мальчикам, зеркалом жизни служила литература, и именно по литературе я почувствовал, что советской власти – хана. Я, уже студент, шел по модному тогда пляжу в Солнечном и вдруг увидел, что мои друзья-студенты катаются от хохота по песку. И лишь мой ближайший друг (мы учились на инженеров-электриков) не смеется, а, наоборот, мрачно и даже с пафосом читает вслух какой-то толстый том. «Кто же умеет так писать?» – ревниво подумал я. По виду книги – советский классик. Я подошел – и через минуту тоже хохотал. Действительно, советский классик эпохи угасания соцреализма (и социализма). Сюжет: секретарь обкома из сибирской глубинки, такой кряжистый мужик, приезжает, ну просто через «не хочу», в Италию, и там в него безумно влюбляется молодая красавица – графиня, к тому же миллиардерша. Получив от него, естественно, суровый отлуп, она устремляется за ним, почему-то вместе с малолетним сыном, в Сибирь и там, преследуя его по всяким запаням, затонам и засекам, предлагает себя, но абсолютно безуспешно. В конце концов она умоляет его хотя бы взять у нее ее постылые миллиарды, так и не принесшие ей личного счастья. На это наш герой хмуро соглашается, естественно вложив средства в местную деревообрабатывающую промышленность, а несчастная графиня с мальцом, сделавшись нищей, возвращается обратно в Италию, несолоно хлебавши. И так будет со всеми миллиардершами, покусившимися на наше… что-нибудь.
Советская литература – мать гротеска! Уже молодым инженером я читал, выдвинув ящик стола, суровый наш детектив, то и дело посмеиваясь, но потряс меня следующий абзац: «Раздался выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Прошкин – насторожился». Ни фига себе: его друга-напарника, такого же милиционера, насмерть убили, а он всего лишь – «насторожился». И тут же родился мой первый записанный рассказ – «Случай на молочном заводе». О том, как шпион прятался в гору творога, а когда милиционеры и присоединившиеся к ним простые люди гору эту одолели, то есть съели, шпион перескочил в гору масла, и теперь придется, обезвреживая преступника, есть и ее.
В разные эпохи трактовали тот съеденный творог по-разному. Сначала – смелая критика советской милиции, потом – иллюстрация Фрейда, а недавно в школе пятиклассник, прослушав рассказ, вдруг выбрал «делать жизнь с кого»: «Я хочу милиционером, мне нравится!» Гротеск переживает эпохи и всюду – виден.
Гротеск – это «кубок победителя», который можно наполнить любым временным содержанием, сегодняшним, потом следующим, и пить из него всегда будет весело или страшно. Поэтому я выбрал гротеск, а теперь уже он выбирает меня. И я не пугаюсь, а только радуюсь, когда очередной гротеск бьет меня. Я – отмечен.
Вовсе не потусторонние силы дарят мне эту форму – все, конечно, вполне объяснимо – горячность, желание не тянуть тягомотину, а все сделать сразу, в один удар – пусть это даже будет удар мне в лоб! Так даже выразительнее и смешнее.
В 2005 году, во время русского сезона на французской книжной ярмарке, однажды утром спустился по лестнице отеля на завтрак и обомлел: все, торжественно одетые, уже садились в автобус. Мой друг-москвич удивился: «А ты не знаешь? Едем сейчас в Елисейский дворец, на встречу с Путиным и Шираком!» – «А я как же?» – «Ну… переодевайся!» Я успел! Правда, не совсем. Сбегая, увидел через стеклянную дверь, что автобус отъезжает. Я прыгнул. Стеклянная дверь гостиницы должна была, по идее, разъехаться, но – не разъехалась. Не сработал фотоэлемент? Видимо, я превысил скорость света. Со страшной силой я ударился лбом в толстое стекло и был отброшен назад, на спину. Рядом был бар. Бармен кинулся ко мне, приложил ко лбу мешочек со льдом. Москвичи, хохоча, уехали. Полный провал! Вдруг рядом с моей головой оказались лакированные ботинки. Надо мной стоял красавец во фраке. Он с изумлением смотрел на меня. Потом обратился к бармену по-французски, но я понял! Спрашивал: «А где русские писатели?» Бармен показал на меня, лежащего на полу: «Вот, только этот». Я мужественно встал. Красавец, уже на русском, сказал мне, что он из Елисейского дворца, за русскими писателям. В итоге я один, единственный представитель великой литературы, в огромном автобусе, по осевой линии, мчался в Елисейский дворец. Передо мной торжественным клином ехали мотоциклисты в белых шлемах. Главы государств уже ждали в роскошном зале с бархатными креслами. Мы подошли. Путин несколько удивленно посмотрел на меня. Видимо, хотел понять, где же остальные? С присущей мне находчивостью я сказал: «Я из Петербурга!» Путин кивнул – мол, тогда все ясно. Я поздоровался с ним, потом с Шираком, и тут в зал вошли остальные мои коллеги, глядя на меня с изумлением и завистью. Да, как-то вот так. Одни спешат занять места в автобусе, забывают друзей, но в результате почему-то опаздывают. Другие – попадают в истории, переживают неприятности, падают – но в итоге почему-то побеждают.
Поспешишь – людей насмешишь, но зато запомнишься. Горячность отбрасывает тягомотину и банальность, годится лишь виртуозная форма, и ей подходит лишь содержание стремительное и яркое, как вспышка молнии. Душа должна быть наэлектризована – и вспышка произойдет.
Жизнь тяжелеет с годами, и как бы уже «не до взлета», не до смеха. И это правильно. Отрежь от аэростата корзину – и шар взлетит, и превратится в бессмысленный шарик, но зато много куда успеет, на фестивали и премии, от таких же такому же.
Я тоже люблю летать – но надолго привлекает взгляд только шар с грузом. Я уже выдернул из грязи свою корзину, и главное в литературе, я уверен, – шар. Корзина есть у каждого, а «шар» – не у многих.
Когда у тебя есть свой шар, своя форма – жизнь подыгрывает тебе, как отличнику, – не в смысле отсутствия страданий, а в смысле их изобилия: есть о чем. Но страдания надо пить не из лужи, а из прекрасного сосуда, называемого литературой. А не имея стиля – просто задохнешься в обвале бед. И лишь литература спасает.
Я уже спокоен – жизнь уже выстроена в моем стиле, и так, думаю, будет и до конца. Выдали же мне в больнице тарелочку – точно такую, что я искал (смотри предпоследнюю мою, тридцать четвертую книгу – «Ты забыла свое крыло»). Все одолеем. Приемчики есть.
Приятно жить уже «во всем своем» – четко выбранная литературная позиция выстраивает и жизнь: поэтому я радуюсь, но вовсе не удивляюсь очередному моему сюжету. Для меня это давно уже – быт. Проснувшись, вижу в окне моем, выходящем в хмурый Петербург, презрительную морду верблюда. Никакой не сон – это жизнь, выбранная мной и выбирающая меня. Спускаюсь во двор, давно уже превратившийся в южный кишлак, и у нашего дворника Юсуфа узнаю… Суровая реальность! Верблюд этот конкурировал с бронзовым верблюдом у памятника Пржевальскому возле Адмиралтейства: многие туристы предпочитали для фото живого и теплого. Так фотомафия – запретила! Теперь – я поглядел на унылого верблюда – понятно, что его ждет: в наш двор выходит рабочий вход столовой, и там сидят на корточках повара-узбеки: туда его и уволокут! Гротеск – это не вымысел, это сгусток жизни. «Не типичное» как раз и формирует ее ход, а типичное – давно позади, и в сущности – не реально, как тот бронзовый верблюд, который – остался, но мне ближе к сердцу – мой.
Да – гротеск сияет во все века, это кубок совершенства. Но обязательно надо успеть изваляться в грязи. Иначе – ты не писатель, а всего лишь придумыватель чего-то. «Из стерильности, увы, ничего не рождается!» – это уже афоризм не Марселя Пруста, а мой. Так же, как и такой эпизод: «Жали руки до хруста – и дарили им Пруста!» Был ли такой случай в действительности? Не уверен. Слово должно играть, кувыркаться, резвиться – а там, глядишь, притащит и смысл. Но кувыркаться оно должно в грязи, а не в вакууме. Но – побеждать. Вот такой вам легкий этюд:
«Нил чинил точило. Но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил. Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил. Пчелу пучило. Вечерело».
Так что кончину я уже себе сочинил – и жизнь, уверен, подстроится. Иначе – чем же я занимался?
Олег Постнов. Прихоти Мнемозины
Незадолго до полуночи во всем доме погас свет: где-то произошла авария. Я не усвоил привычку Пруста ложиться рано и тотчас понял, что сейчас мне не заснуть. Даже уютный снегопад за окном не навевал сна. Поиски в темноте завершились обретением свечного огарка и нескольких спичек. Огарок горел неохотно, читать при нем было нельзя. Но у меня есть давно уже найденный и опробованный прием, который я про себя зову последовательным мышлением. Мысль не такое уж непослушное существо, как это часто кажется, и если вначале слегка подыграть ей, проследить, где она в этот миг бродит, то потом можно легко заставить ее двигаться в том же направлении, а затем послушно менять его уже по своему желанию. В результате открываются порой такие вещи, о которых прежде и не подозревал, и это составляет, помимо удовольствия, главную ценность всей игры. Этим приемом, как мне кажется, виртуозно владел Сократ: когда-то у меня даже была идея написать рассказ, который весь бы состоял из его мысленного монолога. Конечно, это только мое предположение, доказать его я ничем бы не смог. И вот пример управляемого перехода от одной темы к другой: все то, что будет рассказано ниже, точно так же не поддается никакой проверке и является полностью набором моих чувств или мнений, ни для кого не обязательных, – особенно там, где я говорю не только о себе.
В тот вечер, глядя на огарок в блюдце, я установил, что почему-то думаю о своем прошлом, и довольно далеком прошлом. Следующий шаг, предполагаемый принципом последовательного мышления, требует упорядочить мысли на эту тему, выстроить их в логическом, ассоциативном (что опасно, можно сбиться) или просто временно́м порядке. Именно это я и сделал.
Я родился в ночь на двадцать четвертое декабря 1962 года в Новосибирском Академгородке. Хочется написать: помню эту ночь. Однако я знаю, что это просто каприз памяти. Роддом вскоре переехал в отдельный корпус, а занятый прежде им этаж превратился в хирургическое отделение. И ровно через четыре года я оказался после операции в той самой палате, в которую попал, как только появился на свет. По словам моей мамы, палата эта совсем не изменилась за прошедшее время. Днем слабенький желтоватый свет, источаемый заледенелыми окнами, вызывал тоскливую скуку, а ночью на меня наваливалась боль и нестерпимая жажда. Матери разрешили ночевать со мной, она давала мне время от времени чайную ложку воды – больше было нельзя – и пыталась отвлечь тихими разговорами, чтобы я поборол боль и уснул. Тогда-то я и запомнил навсегда и ночь в окнах, и серую полоску под дверью, за которой был едва освещенный неоновыми трубками коридор, и голубовато-зеленый ночник, горевший в самой палате. Он остался от прежних времен, то есть горел точно так же и тогда, четыре года назад… Словом, я все-таки помню ту ночь, пусть и не без подсказки.
Помню еще то, как в первое лето моей жизни я привыкал к своему телу, особенно к способности смотреть. Безжалостное солнце сдавливало мне голову, каждый древесный лист (наш Городок полон зелени) был отчетлив и остр, как ланцет, и резал мне глаза. Тело плохо слушалось, я никак не мог заслониться ладонью. Среди зелени, по контрасту с нею, белые углы возводимого тогда Дома ученых были особенно нестерпимы. В возрасте шести месяцев я был, по ряду обстоятельств, отвезен на два года на Украину, под Киев, в большой поселок Тетерев, к своим бабушке и дедушке, и мягкие краски украинской природы, лишенные безумного буйства сибирских лесов, примирили меня с миром.
А вот чего я не могу вспомнить, это тот момент, когда я захотел впервые стать писателем. Знаю только, что это случилось еще до возвращения в Городок, и я изумлял тетеревских селян уверением, что писателем я и стану, а не, к примеру, космонавтом или, допустим, железнодорожником: Тетерев был – и остается по сию пору – важным железнодорожным узлом. Именно потому лес вокруг него изрыт окопами и траншеями, не до конца заросшими травой и заваленными сосновыми иглами: во время войны тут шли тяжелые бои. В моем детстве спускаться туда сурово запрещалось: время от времени кто-нибудь попадал на не взорвавшийся вовремя снаряд или забытую мину. Дедушка говорил со мной по-украински, бабушка – по-русски, и в итоге теперь, когда я пишу, то думаю одновременно на обоих языках, так что любой мой текст всегда частично перевод. Впрочем, в родительской семье говорили по-русски, отец украинского не знал (вызывая тем мое удивление), и русский все же доминирует в моих мысленных экзерсисах. Тем не менее не так давно, разбираемый простудой и сильным жаром, я, незаметно для себя, перешел на украинский и теперь невольно подумываю временами, на каком языке буду умирать. Это, впрочем, вздор, тем более что, если судить по простуде, я все равно этого не узнаю. К тому же не так-то хорошо я теперь владею украинским. Практики нет, да и нынешний язык уже изменился и весьма отличается от того, который я знал в детстве.
Родился я в семье филологов и отлично подходил под определение «профессорский сынок», так что во дворе в дошкольные времена приходилось отстаивать свою честь кулаками и пинками. Впрочем, были у меня и друзья, и надежные заступники. Расскажу об одном из них, по прозвищу Ермак. Звали его Евгений Ермаков, и был он главным хулиганом околотка. Разумеется, всем профессорским и непрофессорским сынкам нашего двора было настрого запрещено общаться с ним. Но мои родители не признавали никаких внешних границ между людьми, социальных в первую очередь. Так что мы стали друзьями, он был вхож в наш дом, я – в его. Сейчас он московский артист и писатель, но в ту пору являлся грозой и победителем всех в Городке. Он приходил мне на выручку часто, а дважды спас от калечения, возможно, и от смерти. Я попался в лапы какой-то великовозрастной шпане, у них был нож; но мимо шел Женя. Он даже не сказал ничего, просто оглядел их – они окоченели, – потом махнул рукой, и их не стало. Растворились в сумерках. Недавнюю свою книгу «Возвращение» он начал так: «Черные воды Енисея неторопливо переваливаются друг через друга, неспешно шевелят локтями, мощными шеями и спинами. Бугры мышц наливаются темной, свинцовой силой студеной воды. Неведомые богатыри то сходятся лбами, то ворочают друг друга, не обращая внимания на течение, уносящее их вниз к Северному Ледовитому океану». Здесь, в этой цитате, весь Ермаков: красота физической состоятельности, осязаемой силы, которая превращается в нечто большее, переходит уже на духовный уровень – это было в нем всегда, это присуще ему и ничем не отменяемо. Мы не виделись с ним с детства. И только недавно нашли друг друга с помощью социальных сетей. Тут меня поджидал сюрприз: по его словам, он стал писателем и вообще человеком искусства хоть и по разным причинам, но в том числе из-за моего влияния на него – тогда, чуть не полсотни лет назад. Ну да, я, конечно, всегда писал, писал с тех самых пор, как изучил буквы, но я не болтал об этом на каждом углу и по каждому поводу. И лишь много позже у меня появилась тайная цель влиять на кого-то, о чем еще скажу. Видимо, необходимая для этого способность возникла несколько раньше, чем я это понял.
Чтобы быть писателем, нужно одно: уметь сочинять, мочь изображать мир словами. Кретьен де Труа, основоположник рыцарского романа, не владел грамотой, потому выдумывал романы в стихах, чтобы потом не забыть. У меня были лучшие возможности. Отец преподавал иностранную литературу в нашем университете (он находится в Городке), в доме была большая библиотека, причем мои родители держались еще одного невсеобщего правила: мне было позволено читать все, что угодно, включая, например, «Декамерон». В итоге я плохо понимал, какие книги «детские», а какие «взрослые», описание же чумы у Боккаччо потрясло меня в шестилетнем возрасте и на всю жизнь. Его фривольностей я не понял и, оставив их, стал читать что-то другое; кажется, «Рейнеке-лиса», у нас было роскошное издание с увлекательными гравюрами… Единственным серьезным препятствием, встретившимся тогда на моем пути, было чрезвычайное нежелание родителей, чтобы я стал филологом, а тем паче писателем. По тем временам и то и другое означало либо компромисс с режимом, либо открытый конфликт с ним. И вот об изучении букв: именно по этой причине мама всячески старалась отдалить то время, когда я узнаю хотя бы алфавит. Но у меня был во дворе и другой друг, Саша Савченко, человек утонченного склада души, необычайно деликатный и располагавший к себе удивительной, как понимаю теперь, добротой. Он был старше меня на четыре года, о тайных намерениях моих родителей ничего не знал, а потому обучил меня и буквам, включая латиницу, и счету цифр, и игре в шахматы, где как раз требовалось знать цифры и латинский алфавит. Я, будучи на детский манер жесток и лукав, в течение нашего детства дважды обидел его. Он этого сейчас не помнит, но помню я – и не знаю, как избыть свою вину. И вообще в первые семь-восемь лет своей жизни я совершил столько неблаговидных дел, что теперь этот возраст никак не кажется мне заповедником чистоты и невинности, и в своих романах я склонен наделять героев сложным в этом смысле детством, а одноименная повесть Льва Толстого, вероятно, единственная его книга, которую я не люблю.
Вообще же, я всегда жил около книг, хотя не всегда их читал. Случалось, что какой-нибудь аппетитный на вид волюм оказывался мне не по силам, и тогда я придумывал, что в нем должно быть, вместо того чтобы стараться точно это узнать. Потом, бывало, я прочитывал его, и порой моя выдумка казалась мне лучше правды, но случалось и наоборот. Том Гофмана, разумеется, положил меня на обе лопатки. Но над соседним с ним Эккерманом я восторжествовал. Он и сейчас кажется мне тусклым в сравнении с выдуманным когда-то пышным и многоцветным образом Гёте. Все эти забавы были хороши и, вероятно, полезны, однако наступило наконец время, когда мне пришлось уже всерьез думать об избранной мною профессии, отрешившись, так сказать, от литературных мечтаний. Филология ничуть не смущала меня. В ней я всегда видел набор инструментов, которые следует держать в порядке, а применять в соответствии с тем, чем они могут мне помочь для реализации очередного писательского замысла. И потому в 1980 году уверенно поступил на гуманитарный факультет Новосибирского университета. Но вот что и как писать – это был вопрос многих лет сомнений, вопрос и практический, и теоретический.
Наш Городок вплоть до конца 90-х годов оставался чем-то вроде филиала столиц, но филиала сугубо научного. Чем-то он напоминал утопии Стругацких. Правда, с каждым годом молодые когда-то ученые становились все менее молодыми, их судьбы складывались по-разному, груз неосуществленных надежд делался особенно тяжел на фоне надежд осуществленных, и, хоть и подспудно, тайный мир Городка становился все более жестким и злым. Он стал еще и безумным. Отец моей одноклассницы, замечательный математик, пал жертвой административных происков и повесился. Знакомый мне физик, уволенный из своего института, сошел с ума. Следовало бы об этом задуматься, но тогда, в начале 1980-х, все это представлялось мне горестями поколения наших отцов, мы же пока еще жили на свой лад, и то, что ждало нас впереди, толком не угадывалось.
Меня тогда более всего волновало два вопроса. Первый был связан со знанием истории отечественной литературы, причем всей, самиздат был так же легкодоступен, как и эмигрантская печать. Задолго до интернета в Городке была своя локальная сеть с вычислительным центром во главе, так что любую распечатку можно было пожелать – и через несколько дней она зачастую оказывалась в руках желавшего. И вот я видел (все дальнейшие оценки и заключения сугубо мои и, повторяю, ни для кого не обязательны), видел очень отчетливо, что от литературы и культуры XIX столетия нас отделяет мощный тектонический разлом. У А. С. Грина есть рассказ о выдуманном чудовищном землетрясении в Санкт-Петербурге. Там рушится Исаакий, проваливается в небытие Адмиралтейская игла, а вдоль Невского проспекта пролегает бездонная пропасть, «то, что теперь в истории этого землетрясения известно под именем „Невской трещины“». Вот именно эту трещину я умозрительно и созерцал. Эмигранты казались мне вычурными. Советская литература – серой и слякотной, обреченной на забвение еще до того, как родилась. Разумеется, я имел в виду только прозу: я хотел всегда писать одну лишь прозу, поэзия меня не заботила. Были исключения: Булгаков, тот же Грин или Паустовский; но они родились и даже сделали первые шаги в своем творчестве еще по ту сторону трещины. Это же касалось и эмигрантов. А как быть теперь? И в частности – второй вопрос, – как быть именно мне, живущему в Касталии Гессе, но с такими правилами Игры, которые исключают участие в ней любого вида искусств?
Впрочем, не любого. Вернусь опять ненадолго в детство. Мой отец был не только филолог, но еще и театральный критик, причем известный: один из девяти на всю страну, имевших членский билет ВТО (Всесоюзного театрального общества). Он приятельствовал или дружил со многими великими актерами тех времен. В Городок приезжали лучшие театры страны. В уже достроенном Доме ученых я видел цикл спектаклей Ленинградского ТЮЗа, семилетним парнишкой я слушал потрясающие монологи Тараторкина о любви из спектакля «Лейтенант Шмидт», я даже запомнил несколько фраз из них и могу повторить сейчас. А за два года до этого у нас гостил Солоницын, и так как я по никому не ведомым причинам не желал отойти от него ни на шаг и требовал чуть ли не все его внимание, то он в один из вечеров, предусмотрительно усадив меня себе на колени, дабы я не мешал, рассказал родителям кадр за кадром всего «Андрея Рублева», еще три года после того не выпускавшегося на экраны. Современной литературы для меня десять лет спустя не существовало; но существовал «Рублев», а с ним Россия, иконопись, колокол, дымный шар, величие народного духа… Он и заменил мне несуществующую литературу. И указал на возможный выход из ситуации: я стал воскрешать язык и стиль прежних эпох.
Это стоило мне нескольких лет труда. Но, кроме украинского, я вдобавок владел с детства старославянским, которому меня обучил тоже дедушка. Человек неверующий, он, однако, окончил еще до трещины церковно-приходскую школу и учил меня по-бурсацки. У него был Апостол XVIII века, он выдавал мне его как великую святыню (это была книга его матери), и я, трепеща от благоговения и усердия, читал страницу или две вслух, он же поправлял мои ошибки. Я почти ничего не понимал, но, когда научился читать правильно, дедушка стал мне переводить непонятные слова или фразы. Апостол и сейчас у меня: дедушка завещал мне его. Итак, для пробного шага мне было на что опереться. Я написал свой первый рассказ из тех, которые предназначил для печати (в чем преуспел, правда, несколько позже), а затем перешел к решению второго вопроса. Я поехал в Петербург, доживавший последние годы «под псевдонимом». У меня была четкая и ясная цель: найти писателей, которые не изданы и которых нет в самиздате. Кроме того, я хотел опубликовать свой рассказ.
Все получилось смешно и трагично. Женщина, которой не станет раньше, чем я допишу это эссе, – она умирает сейчас в Париже – познакомила меня со своим одноклассником Алексеем Смирновым. Тогда в «Сайгоне» еще не было решеток у низких подоконников, и, сидя на одном из них, я с тайной завистью читал «Окруживших костер» и «Свечу по убиенной». До сего дня не могу понять, почему Смирнов, столь многими любимый, так мало известен, почему он вынужден издавать свои книги чуть ли не за свой счет – притом что книги эти мигом раскупаются. Вероятно, судьба.
Да, кстати. Именно тогда я наконец нашел-таки издаваемого современного великого писателя: я имею в виду прозу Булата Окуджавы. Свой рассказ я пытался пристроить в журнал, носивший имя одного корабля на вечном приколе, и имел по телефону беседу с кем-то из тамошней редколлегии. Чтобы передать ее, нужно владеть веселостью Тэффи и ядовитостью Зинаиды Гиппиус (ни того ни другого у меня нет). Мой собеседник спросил:
– А кто вам нравится из нынешних писателей?
– Булат Окуджава, – ответил я.
– О да, но я имел в виду из прозаиков?
– Булат Окуджава, он ведь пишет и прозу…
– Да, конечно. Ну а кто еще?
– Ну, даже не знаю… Ну, вот, к примеру, Булат Окуджава…
– Да? Интересно. А другие?
– Какие другие?
– Ну хоть Трифонов, например. Или Айтматов. Кто-нибудь еще, ведь писателей много.
– Много, наверное… А, да вот, конечно: Булат Окуджава.
Верно, он счел меня умственно отсталым. Но когда спросил, плáчу ли я над своими рассказами, я то же самое подумал о нем. В общем, разговор был долгим и однообразным. Мой рассказ не напечатали. А если говорить всерьез, можно было тогда назвать Леонида Пантелеева, но в тот миг я не решился. Не смог произнести это имя по какому-то сложному чувству почтения и особенно глубокой любви. Пантелеев прочитал мой рассказ – случайно нашлись люди, устроившее это, – и назначил мне аудиенцию. Увы, за несколько дней до нее он заболел. Я уехал из Петербурга, а год спустя его не стало.
Была в том разговоре и еще одна возможность. Но все, что касается до явления русскому народу Василия Макаровича Шукшина, в то время уже сделалось для меня и вовсе не подлежащим обсуждению. Полагаю и теперь, что тут идет речь о чем-то высшем, нежели просто литература, и говорить об этом, особенно по телефону, было бы чем-то сродни кощунству. Моя бывшая супруга родилась в деревне, отстоящей от Сросток верст на пять. Я там бывал не раз и потому в полной мере представляю себе всю невероятность происшедшего чуда. Нет, о нем в самом деле говорить было нельзя.
Я вернулся в свою Касталию. Близилось лето 1986 года, я заканчивал университет и все острей чувствовал несоответствие своих планов душной реальности. Как это ни странно, примирил меня с режимом так-таки поэт, а не прозаик, причем запрещенный. Прочтя впервые Иосифа Бродского, я увидал, что и при этой власти возможно рождение гения, и политические вопросы окончательно перестали меня волновать. Я продолжил тщательную разработку своего инструментария: занялся филологией. И честно защитил диссертацию по эстетике И. А. Гончарова. Тут, правда, нужно сказать, что в своих истоках эта работа, напечатанная через несколько лет издательством «Наука» и теперь «плавающая» в Сети, не является таким сугубо академическим трудом, как может показаться. Моим научным руководителем, а потом ответственным редактором был член-корреспондент РАН Виктор Георгиевич Одиноков. В университете он читал нам курс русской литературы XIX века. Читал он крайне интересно и необычно. Часто его лекции строились вокруг его книг, не повторяя их, а добавляя к ним разного рода комментарии, словно бы мимоходом касавшиеся самой сути художественного текста. Книги же всякий мог прочесть и сам, если хотел. У меня тогда создалось стойкое впечатление (наверняка ошибочное), что он настраивает, словно бы оттачивает уже заготовленные мною инструменты, повествует о литературе под тем самым углом, который был мне необходимо нужен. Именно это и натолкнуло меня на основную тему моего опуса о Гончарове: я проследил, как связано его творчество с лекциями, которые Иван Александрович прослушал в бытность свою студентом в Московском университете и о которых, кстати, любил вспоминать. Я убедился, что не я один такой хитрец (он действительно многое взял у своих профессоров), и защитил в соответствии с принятыми формальностями эту свою мысль. Виктор Георгиевич был другом моего отца, в годы моего студенчества уже умершего. Когда я был ребенком, он был и моим другом: заглядывая к нам в гости, он всегда и зачастую долго играл со мной. Ему сдавала экзамен по литературе моя мать, заканчивая Новосибирский пединститут. По неслучайной случайности (никак иначе не могу назвать многое из того, что связывает нашу семью с Виктором Георгиевичем) ей тогда попался тот же билет, что и мне – ровно через сорок лет, год в год. Как-то, в августе 2016-го, я заглянул, почти уже в полночь, в наш торговый центр, любопытствуя поглядеть, нету ли чего интересного на буккроссинге. Полки были пусты, лежала лишь одна книга: «Двойник» и «Игрок» Достоевского. Никогда раньше я не видел отдельного издания этих романов. Открыв оглавление, я обнаружил, что завершает том послесловие Одинокова. Это решило дело, я тотчас забрал книгу себе. А утром узнал, что ночью, и как раз около полуночи, Виктор Георгиевич скончался. Каждый может думать об этом, как хочет. Но для меня нет сомнений, что это был его прощальный привет, а возможно, и благословение мне, последнее напутствие. Да, есть вещи и чувства, на которые можно лишь указать, говорить же ничего не следует – хотя бы для того, чтоб не подвел голос. Городок сейчас сильно изменился, довольно вспомнить о том, как поступили с Академией наук. Но моя Касталия все равно со мной, и это, я думаю, уже навсегда.
XIX век, русский психологический роман. К двухтысячным годам мои вкусы и цели определились: я хотел возродить стилистическую традицию того времени, не оставляя, однако, белых пятен на карте человеческой души. Кое-что в позапрошлом столетии было обойдено стыдливым молчанием или указано иносказательно. Должен заметить, что 1991 год мало что изменил в смысле актуальности трещины. Серость и слякоть советского периода сменилась небрежностью разговорного языка, ставшего главным стилем эпохи. Как филолог я знаю, что никогда повествовательный язык художественной литературы не копировал устную речь – кроме особых случаев, зачастую связанных с экспериментами эпохи модерна. Давно набившая оскомину шутка Мольера, в пьесе которого мсье Журден изумляется, что вот уж сорок лет говорит прозой, ко всему прочему, еще и безграмотна. Некоторые из скальдов на рубеже предыдущих тысячелетий умели говорить стихами. Но разговорная речь среднего обывателя Нового времени прозой отнюдь не является, и, как справедливо заметил Томас Манн, не вполне понятно, почему поэтическое произведение «строже по форме, чем проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами». Между тем отсутствие таких обязательств по эту сторону трещины с упразднением цензуры сделалось чуть ли не признаком хорошего тона и отбило у меня охоту читать сверстных мне авторов – точно так же, как прежде литературные потуги их предшественников. (Об исключениях, понятно, речи нет ни в том, ни в другом случае.) Итак, я приступил к исполнению своего замысла. И вот тогда-то задумался о возможности влияния на других: ведь возродить традицию один писатель не в силах, это все равно что в одиночку пытаться отстроить город, разрушенный землетрясением. Моя задача была по необходимости скромной: я хотел обратить внимание на себя – с тем, чтобы обратили внимание на классическое наследие прошлого.
Должен сказать, результат превзошел мои ожидания: внимание немедленно обратили. Я вдоволь начитался и наслушался как похвал, так и критики, удостоился даже восторгов и проклятий. Первый мой роман («Страх», 2001) был выдвинут, кажется, на все литературные премии страны, и ни одной я не получил: есть в этой ситуации некое внутреннее равновесие, отвечающее действительному положению вещей в смысле тогдашней негласной конъюнктуры. Фрагмент следующего моего романа был опубликован еще прежде в «Неве» (тоже не без небольшого скандала), я, разумеется, был рад, но, помимо прочего, меня ждал еще и сюрприз: эта публикация подарила мне наглядный пример того, что требовалось в начале двухтысячных от русской прозы и что никак не приветствовалось в ней. Этому фрагменту (он назывался «Ночные повести Валерьяна Сомова») на одном питерском литературном семинаре было посвящено целое заседание. Случайно протоколы прений попали мне в руки. Кое-кто из участников робко меня защищал, другие, с куда большей решительностью, обвиняли во всех литературных грехах. Дело дошло до того, что один из семинаристов взял абзац моего текста и переписал его так, как, по его мнению, мне следовало бы писать самому. Думаю, этот уникальный случай ценней и понятней любых рассуждений о том, что тогда было «можно», даже «нужно» – и что ни в коем случае «нельзя». Пример же тем и хорош, что он – наглядный. Вот обе версии: оригинал и редакция.
Мой текст
Я задержался в Москве. Поездка моя затянулась – не по моей охоте. Казенная надобность порой бывает превыше всех других нужд. Так-то случилось, что свои именины я намерился справить дома, но осень шла к концу, а я с обычной исправностью проводил дни в архиве, довольно зябком, а вечера в маленькой, хотя уютной и тихой квартирке, доставшейся мне на постой, ибо власть и милость моего начальства простиралась от нашего городка (научного центра среди тайги) вплоть до столицы. Хозяева квартирки, жившие попеременно то здесь, то в Петербурге, на сей раз съехали куда-то за Финский залив и не обещали воротиться вскорости. Я не роптал на судьбу……………
Предлагаемый вариант
Я задержался в Москве. Поездка моя затягивалась – против моей воли. Служебные соображения порой перечеркивают личные интересы. Вот и случилось: свои именины мне бы хотелось отпраздновать дома, но осень шла к концу, а я с обычной исправностью проводил дни в архиве, довольно зябком, а вечера в маленькой, хотя уютной и тихой квартирке, доставшейся мне под жилье благодаря моему начальству, чьи влияние и опека ощущались не только в нашем городке (научном центре среди тайги), но даже и в столице. Хозяева квартирки, жившие попеременно то здесь, то в Питере, на этот раз махнули куда-то за Финский залив и, похоже, не думали возвращаться. Но я особенно не унывал……………………
Кажется, сами семинаристы слегка смутились, сопоставив одно с другим. Что же касается меня, то в душе я приветствовал и хвалу, и ругань, поскольку замысел мой отчасти осуществился. Я не мог пожаловаться на равнодушие читателей, а следовательно, и намек на то, что негоже оставлять трещину вдоль всего Невского проспекта, не попытавшись даже перекинуть через нее мостки, так или иначе был понят. Дальнейшие события показали, что и впрямь некоторые авторы учли этот намек: кое-кто прямо говорил мне об этом.
Однако же в моей жизни наступил внезапно период, когда я вынужден был молчать – по причинам сугубо личного свойства, к литературе никакого отношения не имеющим. Сложилось так, что я словно бы перестал быть виден – и сам тоже не видел ничего. Когда же я наконец вынырнул из этого колодца забвения, то с удовольствием обнаружил, что эпоха разговорного стиля минула – или, во всяком случае, утратила бывшее прежде господство. Собственно, так и должно было быть. Ведь и прежде я знал писателей, которых эта «разговорность» не коснулась никак, а они времени не теряли, и, читая теперь их, я впервые почувствовал, что русская словесность возрождается, пусть и без моего участия и не совсем в том виде, как мне хотелось. Главное, что теперь она больше не была чужда и враждебна мне. Кстати, и несколько «мостков» через «трещину» было перекинуто. Что касается политики, то появились авторы, которые и на этом мелководье исхитрились достичь неожиданных глубин. Грозовой фронт наползающего нового режима, похоже, не мешал всем этим отрадным переменам.
Правда, очередная моя книга («Антиквар») оказалась куда скандальней прежних, но не из-за стиля, который теперь все хвалили, даже особо указывали на него, а из-за темы, неприятно поразившей многих. Герой заглавной повести отличался очень уж неприличной наклонностью, а я, давая кому-либо из своих персонажей право голоса, не люблю ни осуждать его, вкладывая ему в уста «саморазоблачительные» реплики, ни иронизировать на его счет между строк. Вообще говоря, такой прием можно расценить и как уважение к читателю, которому не требуются подсказки, чтобы все самостоятельно понять. Увы, недоразумения, основанные на этом моем отказе от судейства в собственных книгах, возникали и раньше, возникли и теперь. И всего печальнее был для меня отзыв ныне покойного Самуила Ароновича Лурье, человека, благодаря которому я «пробился» в печать, которого никогда не видел, но знал, сколь многим я ему обязан, и который счел оскорбительной эту мою повесть. Прежние мои темы – всё белые пятна на карте классической литературы, – например, мистика или эротика в их связи между собой, а также тесное их соседство с повседневной, «реалистической» жизнью, – эти темы не смутили его. А вот безумие, нарушение этических норм в области сексуальных предпочтений показались недопустимыми, не подлежащими художественному показу, едва ли не поруганием святынь. «Никому не навязываю. Просто не люблю, когда фантазия проявляет распущенность. Будь хоть какой аккуратный слог. Чёрта ли в нем», – писал он. Я случайно наткнулся на этот отзыв уже после его кончины. И теперь ничего невозможно поделать, нельзя оправдаться, никак не объяснишь, что фантазии в этой повести самый минимум, что ужас, который она внушает, особенно страшен потому, что абсолютно реалистичен. Я специально занимался вопросами смерти, в том числе и некрофилии, в свое время издал даже две монографии, посвященные этому кругу вопросов. А истоком «Антиквара» явился статистический отчет, попавший мне в руки в архиве одной московской больницы, куда я зашел совершенно не за этим и сам был потрясен, увидав столбцы голых фактов и цифр… Это вот и есть оборотная сторона художественной правды: ее всегда можно принять за вымысел или ложь. Профессия писателя и в детстве не казалась мне безответственной забавой, тем более сейчас, но, как ни фантазируй, действительность наверняка найдет то, о чем не подумал, и тогда остается только «держать удар».
Пусть так, но что же дальше? Тот, кто хоть раз давал интервью, знает неизбежность этого вопроса. Ну, разумеется: часы за письменным столом, взвешивание слов, фраз, мыслей. Вечно стремящиеся улизнуть черновики, быстро меркнущий свет за окнами, ибо писательский час все равно что минута, в этом мы, точно, созданы по образу и подобию Творца. Неожиданные находки, столь же неожиданные потери и признания мира, который является неизвестно откуда, чтобы открыть нам некоторые свои секреты. А по существу?
Но разве знает писатель, что именно он пишет? Довольно сравнить понимание знаменитых книг в годы их появления – и спустя примерно век. И тем не менее из всех моих любимцев, кажется, только Тургенев перекладывал поиски смысла своих сочинений на плечи критиков. Сам же – это видно в разделе вариантов – все правил и правил один лишь стиль. С каждым переизданием снова правил и правил, от первой до последней строки. А уж «женские типы» или «лишних людей» находили у него вначале авторы журнальных обзоров (это были мастера изощренней нынешних рецензентов, с них больше требовали), а теперь комментаторы и литературоведы. Намерен ли и я поступать так?
Был бы рад, да едва ли получится. Я ведь и прежде сознавал, что делаю, хоть и знал, что могу ошибаться, мало того, что ошибаюсь наверняка. Но из тех тем, которые уже воплотились, и тех, которые, кажется, готовы лечь на бумагу, позволив мне разыграть вокруг них очередное драматическое действо, вроде бы складывается постепенно некий узор смысла, и мне очень хочется увидать его, пусть даже под неправильным углом. Вот например: почему-то большинство событий, мной сочиненных, происходит ночью. Если бы в литературе было принято использовать имена музыкальных жанров, моим любимым был бы ноктюрн. Что-то с этим связано, но я пока не знаю, что именно – и к чему это ведет.
И есть еще, как я уже говорил, утраченное мною время; его необходимо обрести. Скажу немного о нем. Писать тогда я не мог – не было возможности. Но думать, сочинять – это я мог сколько угодно. Последовательное мышление пригодно ведь и для создания плана книги, иногда, особенно в крайних случаях, даже весьма подробного плана. Я этим пользовался сколько мог. И на еще один «дежурный» вопрос в воображаемом интервью, а именно: откуда я беру свои сюжеты, имею полное право ответить: я их придумываю. Не слишком оригинально, но честно. Разумеется, в ход идет весь доступный подручный материал, то есть все то, что сохранила за многие годы прихотливая память, великая Мнемозина. В этом случае, правда, я уже не придумываю, а вспоминаю. Сократ наверняка бы сказал, что и выдумка есть тоже вспоминание. Возможно; это меня не заботит. Я ведь не философ и никогда не хотел им быть. Но вот какой-нибудь необычно яркий, со множеством оттенков и переливов закат, увиденный даже мельком, вдруг воскрешает давно забытые события, иногда целые сцены, даже слова и интонации участников. А закаты в наших широтах грандиозны. Маленькие жизни давно исчезнувших людей, жизни, которые я к тому же почти и не знал, обретают внезапно свой подлинный, огромный смысл. И тут является голос Саши Савченко, который учил меня буквам, цифрам и игре в шахматы, при этом, вопреки всегдашней своей мягкости, строго требуя, чтобы я мог сказать, как записывается сделанный мною ход, а также почему я его сделал. Является же этот голос неспроста. Те мысленные «шахматы», в которые я теперь играю, тоже требуют точной записи и серьезных доводов в пользу любого, каждого, того или иного действия, которое я готов совершить, продвигая вперед свое повествование, тем более что оно пока еще не попало на кончик моего пера. Здесь нужно крепко думать, видеть все связи и четко осознавать их, потому что мой партнер теперь – Мнемозина, и она запросто может не напомнить мне потом что-либо, если я это за давностью времени потерял: попросту забыл. Спасибо ей, она, как и Саша, часто бывает снисходительна: прощает ошибки, позволяет перейти и даже подсказывает верный ход.
Все это, может быть, кажется досужей фантазией, абстрактным умствованием, но вот некоторое время назад случилось так, что мне понадобилось написать два рассказа для двух антологий. Писать их было не легче, чем прежде, – стиль всегда берет пошлину за право перейти к следующей строке, так что пишу я медленно. Но есть то, чего я раньше никак не сумел бы сделать, а после всех этих «шахмат в уме» совершил без всякого труда: оба рассказа на самом деле являются первой и четвертой главами пока еще не написанного мной романа. Не написанного, но продуманного до мелочей. Не знаю, заметили ли это редакторы и читатели (мои знакомые – нет), однако самого меня это обстоятельство очень вдохновило, тем более что в то время я работал над другой своей книгой, которую заканчиваю только сейчас. Не потеряй я столько лет – так, будто попал в тюрьму, – меня бы, верно, это не слишком бы трогало. Но, как и в настоящих шахматах, в этих тоже существует время, точный его отсчет. И я знаю, помня о своем возрасте, что я – в цейтноте. И тут даже Мнемозина не в силах мне помочь.
Зачастую люди не способны вообразить собственную смерть. Моей досужей фантазии на это хватает. Как повествует древнегреческий миф, некий царь решил поймать кентавра, зная, что мудрость этих существ почти равна мудрости богов. Кентавр был пойман, и царь задал ему свой главный вопрос: для чего живут люди? В ответ кентавр рассмеялся и ответил примерно так: «Существо жалкое и бессильное! Ты родишься для того, чтобы завтра умереть. Для тебя было бы лучше и вовсе не рождаться!» И с тем, смеясь, ускакал прочь. Надо признать, не слишком радостно слышать смех кентавра. А потому, не зная сроков, милостиво скрытых от нас богами, мы отодвигаем в смутное будущее это роковое «завтра», успокаиваем себя – и вот, глядишь, мы уже ретиво кинулись что-то делать, уже заняты мирским попечением и уютно устраиваемся в колыбели выдуманного бессмертия, забывая, что эта колыбель – гроб.
Потому всегда кажется, что еще рано подводить итоги. Так кажется и мне сейчас. Тем более что всякий писатель мечтает жить в веках. Его трудно осудить: писательский труд тяжел и зачастую неблагодарен. Но это не отменяет той истины, что мы, как и все, не жалея сил и не зная зачем, стремимся из Неведомого в Неведомое. А потому, возможно, следовало бы…
Но тут вспыхнул свет. Аварию устранили. Слепящий, режущий, беспощадный свет залил весь дом, до последней щели. Свечной огарок в блюдце тотчас съежился и пустил дымный завиток, а я сбился с мысли. Кажется, хотел сказать что-то еще, что-то важное; кажется, что-то о значении итогов, об удаче, если выпадает жребий успеть подвести их. Да; но так ли уж это важно? Коль скоро в нашем общем вечном стремлении нет никаких точек отсчета, старт забыт, а финиш не виден? Не примириться ли с тем, что дано? К тому же у соседей за стеной бьет второй час. Я не привык ложиться рано, однако не могу не признать, что теперь для этого – самый подходящий миг. Остановлю бег мысли, так же как бег пера по бумаге, щелкну выключателем и, устроившись в смутно белеющей постели, погружусь в великую, утешительную, творческую тьму со всеми ее причудами и призраками и увлекающими нас иллюзиями. А страшное «завтра», быть может, еще повременит.
Середина зимы. Ночь.
Захар Прилепин. О себе
В паспорте написано, что я родился в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области. Это не совсем так. Семья моя действительно жила в Ильинке, и там я провёл детство. Но родили меня в роддоме городка Скопин, в десяти километрах от моей Ильинки, где роддома не было.
В Скопине, помимо меня, родился автор песни «Эх, дороги…» композитор Анатолий Новиков, маршал СССР Бирюзов, кинорежиссёр Лукинский, философ Хоружий, в том же городке жил и учился будущий российский политик Владислав Сурков.
Я был крещён вскоре после рождения в церкви села Казинка – это соседнее с Ильинкой село, откуда происходил родом мой дед по матери.
Отец мой Николай Семёнович Прилепин преподавал в соседней с Ильинкой деревне Высокое историю и одновременно был директором школы. В летние каникулы он брал заказ на ремонт школы и вдвоём с каким-нибудь приятелем красил здание, менял окна, штукатурил и тому подобное. Он всё умел делать, в том числе виртуозно играл на гитаре и баяне, и как баянист (если был аккордеон – то как аккордеонист) был званым гостем на всех свадьбах; рисовал, в том числе на заказ, но чаще дарил свои карты за так, или за «банку вина», как он это называл. Практически все его работы, за исключением нескольких, утеряны.
Отец научил меня ценить живопись: более всего Константина Коровина и Петрова-Водкина.
Отец был под метр девяносто ростом, во всех компаниях, где я его видел, он всегда был самым сильным и самым умным. Рядом с ним я никогда и ничего не боялся.
В юности отец хотел стать художником, и музыкантом он тоже хотел быть, и, кажется, ещё поэтом – я видел несколько его стихов, в рубцовском стиле написанных; потом они тоже потерялись.
Никем из перечисленных отец не стал, и это его со временем надломило. Он выпивал, как и многие мужики в те времена, но выпивал безжалостно к самому себе.
Впрочем, пока он был молод и полон сил, это не было так заметно.
Мы держали в Ильинке небольшое хозяйство: кур, уток; у нас был огород.
Огород отец вспахивал сам: запрягал лошадь и пахал, я смотрел на это.
Крестьянский труд, как и любой другой, давался ему легко.
Родом отец происходил из села Каликино Добровского района Липецкой области – до появления Липецкой области село числилось в Тамбовской губернии. В Каликино я проводил бо́льшую часть лета с самого раннего детства до шестнадцати лет и считаю эту деревню своей родиной в поэтическом смысле. Там, на окраине деревни, есть высокие холмы, куда я уходил и сидел там целыми днями, не зная зачем, глядя на простор и солнце.
Деда моего звали Семён Захарович, он тоже был высок, белёс, степенен, необычайно силён физически, имел басовитый голос, слышимый за целую улицу. Великую Отечественную он начал артиллеристом, командиром орудия, летом 1942 года попал в окружение и в плен и сидел в немецких лагерях до конца войны. Освободили его американцы. Когда его выпустили – он весил 47 килограммов. К своим он пошёл пешком. Деда допросили и отпустили восвояси.
Со своей женой – моей бабушкой – он поженился ещё до войны, и она, не получив от него ни одной весточки, кроме письма в 1942 году, ждала его всю войну и дождалась.
Письмо это я видел и читал. Там дед писал, что был в страшном бою, была танковая атака, но теперь всё хорошо и он просит жену ждать его.
Бабушку звали Мария Павловна, она была настоящая русская женщина, богомольная, терпеливая, никогда и ни при каких обстоятельствах не повышавшая ни на кого голоса. Читать она едва умела и в школе училась то ли класс, то ли два. Бабушка была, как и дед, каликинская.
Письмо деда тоже потерялось. Оно было на открытке.
Позже добрые люди провели исследования и восстановили мою родословную по отцу до XVII века. Выяснилось, что Прилепины происходили из однодворцев: было такое сословие, набираемое из боярских детей, казачества и монастырских крестьян для охраны окраин государства. Прилепины не были детьми боярскими – они происходили из монастырских крестьян. Родня по линии бабушки тоже происходила из однодворцев – удивительно, но даже после трёх десятилетий советской власти, в силу традиции, бывшие однодворцы всё равно заключали браки внутри своего сословия.
Кто-то из Прилепиных, согласно документам, ещё в XVII веке ходил в походы на Крым; это, в силу некоторых обстоятельств моей биографии, кажется мне забавным и знаковым.
Позже я сдал всякие необходимые тесты, и выяснилось, что самые давние предки мои – балтийской группы и были, скорее всего, поморами; но это было давно, больше тысячи лет назад.
Вообще же моя родня по отцовской и материнской линии – рязанские и липецкие крестьяне.
Мать моя, Татьяна Николаевна, в девичестве Нисифорова, работала в сельской ильинской больнице. Рядом с больницей стояла неразрушенная, но ещё не работавшая тогда церковь. Я очень часто гулял вокруг этой церкви, она казалась мне высокой и загадочной.
Напротив церкви стояла двухэтажная школа – потом её разрушили, – где я начал учиться.
Моего деда по матери звали Николай Егорович Нисифоров, они с бабушкой жили в пригороде Скопина – в пору моего детства это место называлось совхоз им. Мичурина. Потом совхоз переименовали в село Успенское.
Дед с бабушкой (мы называли её бабукой) были хлебосольны, постоянно собирали гостей, устраивали огромные застолья. Держали хозяйство: две коровы, несколько свиней, кролики, утки, гуси, куры.
Дед был охотником.
Ещё он научил меня косить. Всё лето я и мой двоюродный брат Колёк, будущий герой многих моих рассказов, занимались крестьянским трудом; думаю, это пошло на пользу.
Дед прошёл почти всю войну, начав воевать под Сталинградом и закончив войну в Венгрии. Он был пулемётчиком и потерял только вторых номеров пять или шесть человек. Вообще же из его пулемётного расчёта погибло более двух десятков солдат. Когда они штурмовали Днепр, снаряд попал в плот, на котором они плыли, и все погибли, деда выбросило в воду – он не был ранен, но и плавать не умел – чудом уцепился за какое-то бревно и доплыл.
В 1946–1947 годах дед дослуживал на территории Западной Украины и всю жизнь ненавидел бандеровцев – «бандера» было у него одним из самых ругательных слов.
Когда дед вернулся с фронта, мать его не узнала, потому что на него ещё в 1942 году пришла похоронка. Писем домой он всё это время не писал. Говорил, что тогда он едва умел писать. В школе он тоже учился то ли один класс, то ли два.
На самом деле сильно контуженного в боях под Сталинградом деда подобрала какая-то баба, и он у неё сначала оклемался, а потом ещё жил какое-то время – дрова, говорит, рубил.
В общем, когда он вернулся, ему заново засчитали поступление на службу – уж не знаю, как он извернулся и сумел объяснить, куда он делся на несколько месяцев. Видимо, по этой причине дед старался не попадаться никому на глаза и даже писем домой не писал.
Он был награждён медалью «За отвагу» и медалью «За взятие Будапешта». «За отвагу» ему дали за то, что он сбил из какой-то хитрой, на основе пулемёта, установки немецкий бомбардировщик.
Родители моего деда, по рассказам, работали на даче у наркома Ворошилова и видели Сталина. Надеюсь, что в каких-нибудь документах рано или поздно обнаружатся садовники Нисифоровы – это мои.
Бабушку мою, жену деда, звали Елена Степановна, она была родом из-под Воронежа, говорила, что она казачка, и навела меня на мысль почитать книги про Степана Разина – она сама читала романы и Чапыгина, и Злобина. Чапыгин ей нравился больше.
Мать моей бабушки, моя прабабка, была откуда-то из Центральной Украины и говорила исключительно на суржике. Я её не застал, она умерла молодой, но бабушка так рассказывала.
В конечном итоге я считаю себя одновременно и рязанским, и липецким, и тамбовским, и воронежским. И заодно немного малороссом.
Бабушка знала песни на украинском и пела их иногда.
Они устраивали с моим отцом концерты: он на семиструнной гитаре, она на балалайке – играли «Страдания» – это было бесподобно.
Когда отец и бабука играли вместе – так выглядело моё счастье.
В Ильинке у нас был проигрыватель грампластинок, на котором мы непрестанно, целыми днями, крутили два первых диска Александра Дольского, которые отец привёз из Рязани. Пластинку Дольского «Государство синих глаз» 1980 года я до сих пор считаю чудом. Много позже я встретил Дольского и сказал ему об этом. Он был первым поэтом, которому я дал почитать свои стихи. Дольский перезвонил мне и сказал, что я талантливый. Я до сих пор благодарен ему за это.
Мы прожили в Ильинке до 1984 года и переехали в Дзержинск тогда ещё Горьковской области, где у матери жил брат, писавший ей, что в городе дают молодым работникам бесплатное жильё и можно найти хорошую работу.
Сначала в Дзержинск переехал отец и устроился преподавателем в ПТУ № 44 на проспекте Дзержинского.
Потом приехали мы всей семьёй: мать, старшая сестра и я. Мать устроилась в Дзержинске на завод «Корунд». Мы жили в общежитии на проспекте Дзержинского, 36, это был последний дом в городе, дальше начиналась заводская зона.
В Дзержинске, в возрасте девяти лет, я впервые открыл синий томик Сергея Есенина – у нас в доме было много другой поэзии, отец любил и собирал стихи, но Есенин был, как и я, рязанский, и это повлияло на мой выбор. Я начал читать и едва не потерял от чего-то неизъяснимого рассудок. До сих пор я могу продолжить любую строчку из стихов Есенина по памяти и сказать, в каком году эти стихи написаны.
В том же году мне попалась в нашей библиотеке книга писателя Злобина «Степан Разин», про которую мне говорила бабука, – я прочитал её и был совершенным образом потрясён.
Немногим позже я нашёл романы о Разине Чапыгина и Шукшина, они мне тоже нравились, но Злобин больше всех. В детстве я перечитывал эту книгу, быть может, двадцать или тридцать раз.
Она тронула меня больше, чем «Остров Сокровищ» или «Робинзон Крузо».
Хотя, конечно, два американца – Лондон и Твен, два британца – Конан Дойл и Киплинг и два француза – Дюма и Жюль Верн доставили мне много удивительных минут; лучшее из написанного ими – в чистейшем виде волшебство.
Другой моей любовью был Аркадий Гайдар. Помню, я болею, простыл, и мама мне читает «Школу» Гайдара – прекрасно.
Я стал тем, что я есть, благодаря моему деревенскому детству и моим трудолюбивым, незлобивым, щедрым старикам. Все они – Семён Захарович, Мария Павловна, Николай Егорович и Елена Степановна очень сильно повлияли на меня, я всех их очень и по-разному любил.
В девять лет я начал писать стихи.
Первое из написанных мной стихотворений завершалось так: «Люблю я Русь, клянусь». Ничего принципиально нового я с тех пор не придумал.
Учились мы с сестрой в школе номер 10 на площади Маяковского. Из школьного коридора был виден отличный памятник Маяковскому. Напротив моей школы был роддом, в котором, скорее всего, родился в 1943 году Эдуард Лимонов, но тогда я ещё об этом не знал.
К тринадцати годам я был совершенно сдвинут на поэзии Серебряного века. Целыми днями я читал стихи и едва не бредил ими. Отец подарил мне печатную машинку, и я понемногу собрал антологии русских футуристов, символистов и акмеистов.
Если стихи Маяковского (футуризм), Блока и Брюсова (символизм), Городецкого и даже Ахматовой (акмеизм) были доступны, то Хлебникова, Каменского и Бенедикта Лившица, Белого, Сологуба, Мережковского и Бальмонта и тем более Гумилёва найти было куда сложнее.
Но я находил. Во-первых, в разнообразных советских поэтических антологиях, где почти все вышеназванные появлялись время от времени. Во-вторых, у нас было советское Собрание сочинений Корнея Чуковского, и там были – о чудо! – в отличной статье о футуристах – множество примеров футуристических стихов, иные даже целиком; ещё там была статья про Фёдора Сологуба, тоже с целыми стихами в качестве примеров; там я обнаружил блистательную статью про Игоря Северянина – и странным образом влюбился в его стихи, которые собрал в отдельную, собственного изготовления, книжку. Почти всего классического, начиная с «Громокипящего кубка» и года до 17-го, Северянина я знал наизусть (сейчас я думаю с некоторой, быть может, печалью, что это очень средний поэт).
Какие-то редкие издания перечисленных поэтов я обнаружил в схронах дзержинского Дома книги, где иногда сидел целыми днями, понемногу прогуливая школу, а что-то к 1987 году начало появляться в периодике.
В любом случае, когда отец прошил и переплёл собранные мною антологии символистов, футуристов и акмеистов – их в России не существовало вообще: собрали их и начали издавать только лет десять спустя.
Двоюродная моя сестра Саша училась на филфаке – и носила туда мои антологии, потому что других учебных пособий по теме русского модернизма начала века просто не было.
В 1989 году я увидел в кинотеатре фильм Алана Паркера «Сердце Ангела» с Микки Рурком в главной роли и пересмотрел его несколько десятков раз, будучи поражён эстетической безупречностью фильма и явственным ощущением чего-то потустороннего. Рурк там играл гениально.
У сестры Саши был парень – Геннадий – носивший прозвище Ганс – Ульянов. Он был музыкантом. Музыка стала новой моей страстью.
В пятнадцать лет я начал учиться играть на гитаре и сочинять песни – скажем, песню «Вороны» я придумал в шестнадцать лет, записал на аудиокассету, а спустя двадцать пять лет извлёк, немного переделал текст и записал: её исполнил рок-бард Бранимир.
С Геной мы были неразлучны года четыре подряд, я нещадно прогуливал школу. Мы целыми днями слушали музыку, пили пиво и мечтали о скорой славе.
Стены своей комнаты в квартире на улице Терешковой, 10, полученной моей матерью от завода, были увешаны плакатами с изображениями Александра Башлачёва, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя и Константина Кинчева. Чуть меньшее пространство занимали Вячеслав Бутусов, Дмитрий Ревякин, Михаил Борзыкин и Александр Скляр.
Тогда же я начал слушать и собирать все записи «Cure», «A-HA», «Depeche Mode». Многие годы любимейшим моим исполнителем был Марк Алмонд, удивительными казались Брайн Ферри и Крис Айзек; чуть позже в моей фонотеке появился и утвердился на многие годы Игги Поп.
По-прежнему и я, и мои родители много слушали Александра Дольского, Владимира Высоцкого, очень любимого моей матерью, а также открытого для меня отцом Александра Вертинского, которого я обожал.
К 1990 году мы сочинили с Гансом штук тридцать песен, некоторые из них мне до сих пор кажутся очень хорошими. В том же году наша с ним группа впервые начала выступать на рок-фестивалях, хотя сам я на сцену ещё не выходил.
Если говорить о литературе, то в тот год я начал узнавать греческую поэзию XX века, которую люблю по сей день, особенно мне близки Яннис Рицос и Тасос Ливадитис. Восхищают они меня нисколько не меньше, чем ключевые фигуры столетия вроде Хэма или Экзюпери.
В прозе я тогда же открыл для себя Гайто Газданова, пожалуй любимого моего писателя по сей день. Все девяностые я был увлечён сочинениями Генри Миллера.
Не помню, что было моим побуждением, но в эти годы я вдруг начал как остервенелый качаться и за пару лет достиг каких-то удивительных результатов: я мог целыми днями отжиматься и подтягиваться, бегать по лесу с гантелями, бить боксёрскую грушу и находил это крайне увлекательным.
Ещё в 1990 году я прочитал Лимонова. В Скопине, на книжном развале, я увидел книгу «Это я, Эдичка» – и, зная, что автор из Дзержинска, купил. Лимоновский роман стал для меня потрясением, сравнимым только с первой реакцией на есенинские стихи. Но там я был ещё ребёнком, а тут уже вытянулся в подростка. Лимонов открыл совсем иное измерение для меня. Как будто вместо четырёх сторон света вдруг явилась ещё одна – и там оказалось интересно и жутко. К тому же я доныне уверен, что Лимонов – потрясающий писатель, был таковым до тюрьмы и в тюрьме, а потом расхотел, но это уже его дело.
В периодике тогда мне стали попадаться антиперестроечные статьи Лимонова – и я сразу безоговорочно им поверил.
Отец мой тоже читал Лимонова и спокойно говорил, что Лимонов прав. В бесконечных политических спорах той поры отец не участвовал – тогда все поголовно были демократами, – а отец просто говорил, что Лимонов прав, и уходил что-нибудь читать.
19 августа 1991 года мы с моей сестрой, по дороге из российского ещё Крыма, попали в Москву – я помню, как весь день ходил по городу и, встречая колонну демократических демонстрантов, испытывал явственное чувство отторжения.
Закончив школу, я пошёл на филфак. Учиться там я не любил, латынь и языкознание еле сдавал и всё надеялся, что вот-вот мы с Гансом станем известны и мне можно будет оставить мой университет в Нижнем, – кажется, Горький тогда уже переименовали в Нижний Новгород. Филфак располагался сначала на площади Минина, а потом переехал на Большую Покровку.
Но вместо музыки, неожиданно для самого себя, я занялся совсем другим.
Наверное, на меня очень сильно повлияла смерть отца – он умер в 1994 году в возрасте 47 лет.
Ещё в 93-м вышел странный указ Бориса Ельцина о пополнении рядов МВД учащимися вузов. Студенты, начиная с третьего курса, могли, прослужив полгода в армии, устроиться на разные должности в милиции.
Прослышав об этом, я решил подать документы – «…возьмите и меня».
Помню, что в милицию я пришёл с длинными волосами – я же был музыкант. И ещё с серьгою в ухе в виде крестика. Удивительно, но принимавший документы подполковник не выгнал меня вон.
В итоге, когда таких, как я, набралось достаточное количество, для нас создали в лесу на реке Линда специальную воинскую часть. Я взял академ в университете и пошёл служить. Это был 1994 год.
Для нас специально подобрали армейских, а не милицейских, командиров, которые должны были из студенчества стремительно выбить гражданскую дурь – тем более что служить нам предстояло не положенные тогда полтора года, а куда меньше.
Нас начали терзать бесконечной строевой, ночными построениями и уставщиной, но хватило командиров только месяца на полтора – ввиду того что самих их никто не проверял, они начали бесконечно пьянствовать; в итоге наша служба постепенно превратилась в нечто невообразимое – потому что мы тоже, естественно, пили, тягая водку из соседних деревень. Офицеры прятались от нас, мы от них. Даже не могу понять, что напоминала мне моя служба.
Закончилось всё, впрочем, благополучно – после этого приключения я отучился в милицейской учебке, попал в патрульно-постовую службу и оттуда поскорей перевёлся в ОМОН: тогда как раз началась первая Чеченская, в Нижегородском ОМОНе и в местном СОБРе уже были потери.
Я точно знал, что мне туда надо.
Примерно в те годы я бросил писать стихи и с тех пор написал их не более пяти-семи штук, по случайности.
В марте 1996 года наш отряд поехал в командировку в Грозный, который как раз тогда брали в очередной раз местные сепаратисты при поддержке мирового ваххабитского движения и добровольцев из отдельных бывших республик СССР.
Отряд наш провёл множество зачисток, в которых я тоже, естественно, участвовал, мы сопровождали разные опасные грузы, охраняли офицеров высшего звена, участвовали в нескольких боях, брали в плен и вывозили за пределы республики «полевых командиров». Мародёрством не занимались категорически, пленных не избивали и не пытали, – короче, всё, что потом вешали на «федералов», прошло мимо меня – ничего подобного я никогда не видел.
Помню, мы подсчитали, что за весну того года в отрядах особого назначения, что стояли в то время в Грозном, погиб каждый двадцатый боец. Убивали тогда каждый день – и добавляли новые фамилии в фойе ГУОШ (штаб округа) на специальной траурной доске. Мы там как раз стояли, в расположении штаба, в центре Грозного.
Теперь я не узнаю Грозный – тогда всё было изуродовано и развалено. Нынче всё иначе.
В конце 1996 года в Дзержинск приехал Эдуард Лимонов. В Дзержинске он не был с детства.
После встречи с читателями я подошёл к Лимонову и сказал, что я из ОМОНа и тоже хочу революции. Ельцина и демократию тех времён я за власть не считал; хотя думал об этом, в сущности, мало.
Лимонов дал мне свой адрес и телефон. Спустя пару недель написал ему письмо. Там было про то, как сильно я люблю его книги, особенно «Дневник неудачника». И ещё два моих военных стихотворения были в письме.
Он ответил. Хотя Лимонов терпеть не мог, когда ему присылали стихи, он написал мне: «Стихи у вас отличные, мы дадим в „Лимонке“. Одно». Ещё там было про партийные дела.
Я написал тогда заявление о вступлении в партию, но оно затерялось, в итоге я вступил в НБП чуть позже.
В 1997 году я встретил свою жену Машу и вскоре, по безумной любви, женился.
Помню, что месяцы оглушительной моей страсти к любимой женщине совпали с тем, что я наконец раздобыл сборник поэзии Анатолия Мариенгофа – и читал его ранние стихи и поэмы взахлёб. До 1924 года он был отличным поэтом.
В 1998 году у нас с Машей родился первый сын.
Ещё помню, как вместе с женой мы читали «Иосиф и его братья» Томаса Манна – это невозможная и величественная книга, в мире таких несколько, я перечитываю их раз в десять лет – эту, «Тихий Дон», «Анну Каренину».
В 1999 году, летом-осенью, в начале второй Чеченской, мы ездили в командировку в Дагестан, стояли в Махачкале и снова катались туда-сюда, сопровождали грузы и охраняли всякое начальство, но толком не воевали, хотя несколько критических ситуаций имели место быть.
Соседствующим с нашим отрядом подразделениям попало очень сильно – с кем-то из них мы общались, и несколько историй потом пригодились в моём романе «Патологии», где, впрочем, остальные герои списаны с бойцов нашего отряда.
В ОМОНе я работал четыре с лишним года, начал с рядового бойца, потом стал командиром отделения, потом, недолго, заместителем командира взвода. Я уже готовился стать офицером, но должность заместителя оружейника, которую мне предлагали, не нравилась мне.
В ОМОНе я чувствовал себя отлично – это моя среда, я был там на своём месте. Но тогда нам платили слишком мало – в силу очередного кризиса. Не дождавшись офицерской должности, в самом конце 1999 года я ушёл, даже не предполагая, где буду теперь работать.
Помню, явился однажды к зданию ФСБ в Нижнем Новгороде и некоторое время стоял там, у входа, раздумывая: заходить или нет. Что-то меня остановило, я развернулся и ушёл. Мог бы, думаю, сейчас быть офицером в этой структуре. Подполковником, скорее всего, уже стал бы.
Неприятие происходившего в стране никогда не означало в моём случае отрицание государства как такового.
Попал я в итоге в газету, она называлась «Дело»: начал как журналист, но вскоре стал редактором. Потом под моим началом было ещё много разных газет.
Начался период политический. На взгляды мои наибольшее влияние оказали работы Сергея Кара-Мурзы, Вадима Кожинова и Александра Панарина.
Тогда же, с некоторым запозданием, я открыл для себя Александра Проханова, которого почитаю за одного из своих учителей; да, с какого-то момента ему надо было перестать сочинять новые романы, но «Иду в путь мой», «Дворец» и «Надпись» – это прекрасные книги.
В те же годы я пожизненно влюбился в поэзию Бориса Рыжего.
Следующим моим запоздалым открытием был советский писатель Леонид Леонов, чьё Собрание сочинений мы приобрели с женой в букинистическом – куда по бедности ходили радовать себя хоть чем-то, приобретая отдельные книги за рубль, а собрания – рублей за пятнадцать. У Леонова более всего нравится мне роман «Дорога на океан», кажущийся мне огромным и таинственным.
Первые лет семь нашей совместной жизни с женой были очень бедными, жили мы в буквальном смысле впроголодь, но всё равно родили второго ребёнка, а потом и третьего.
Самый конец 90-х и нулевые были временем активной моей работы с Национал-большевистской партией, впоследствии запрещённой. Помню себя на площади Маяковского в Москве, во время огромной драки с милицией, помню ведущим колонны нацболов в Нижнем Новгороде по Большой Покровской и наши митинги на площади Минина. Задержания, допросы, всё такое стало моим бытом – из человека в форме я превратился в полную свою противоположность: смутьяна и революционера. Меня вполне могли посадить в тюрьму, всё к тому шло. Книжки про Степана Разина и юность Аркадия Голикова явно сказались на моём характере.
По взглядам я был безусловно «красным», «левым»; к тому же на те годы пришёлся очередной виток моей влюблённости в советскую поэзию 20-х: в первую очередь я имею в виду Павла Васильева, Бориса Корнилова и, чуть позже прочитанного мной, Владимира Луговского.
Вообще же в нацболах парадоксальным и органичным образом соединялось «левое» и «правое», «анархистское» и «консервативное». Глобализм и либеральное двуличие мы ненавидели как чуму.
Нацболов, опередивших время на двадцать лет, большинство воспринимало тогда как маргиналов и дикарей. Страна на тот момент была по большей части аполитична и варилась в русофобской и антисоветской похлёбке, не замечая этого.
Брошенные Россией военные базы в Лурдесе и в Камрани, сброшенная из космоса станция «Мир» – всё это не оставляло во мне иллюзий касательно того, какой видит себя страна в ближайшем будущем. Я не хотел жить в такой стране. Я хотел реванша и возвращения утерянного моим государством.
В 2001 году (после разовой публикации в 1997-м) я начал публиковаться в газете «Лимонка» – одна из первых, если не первая статья моя называлась «Я пришёл из России».
В том же году я начал писать роман «Патологии», который был закончен в 2004 году и опубликован сначала в журнале «Север», а потом, в 2005 году, отдельной книжкой в издательстве «Андреевский флаг».
В том году мне исполнилось тридцать лет – странным образом до этого года я никогда не отмечал свои дни рождения, но 7 июля в офис моей газеты на проспекте Гагарина, окна которого выходили во двор СИЗО, пришёл нацбол Илья Шамазов, мы отметили с ним мою днюху вдвоём и с тех пор десять последующих лет были практически неразлучны. Илья появляется в качестве персонажа в нескольких моих рассказах.
Три года подряд я ездил на литературные семинары в Липках, где в числе прочих познакомился с очень важным в моём становлении и в жизни моей человеком: Леонидом Абрамовичем Юзефовичем. Многие годы я почти безрезультатно пытаюсь научиться у него меньше говорить, не умничать, ничего не предсказывать, никогда не позировать, думать по большой части о поэзии и не стараться быть правым в каждом споре.
В Липках начало формироваться наше литературное поколение, которое некоторое время именовали «новыми реалистами»: Сергей Шаргунов с тех пор мой ближайший соратник и товарищ.
Второй мой роман – «Санькя» – о нацболах, вышедший в 2006 году, принёс мне известность.
В последующие годы я получил все мыслимые литературные премии, объездил от края до края страну с выступлениями, периодически становился то самым продаваемым, то самым цитируемым писателем в России.
Мной были написаны четыре романа («Патологии», «Санькя», «Чёрная обезьяна», «Обитель»), четыре книги рассказов и повестей («Грех», «Ботинки, полные горячей водкой», «Восьмёрка», «Семь жизней»), три литературно-биографических сочинения («Подельник эпохи: Леонид Леонов», «Непохожие поэты: Мариенгоф, Луговской, Корнилов», «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы»), несколько книг публицистики.
Я успел увидеть Валентина Григорьевича Распутина и лично сказать то, что считал самым важным, и пожать ему руку, которая помнила тепло рукопожатия Леонова, дальше это тепло шло к Горькому, к Льву Толстому, к Тургеневу, к Гоголю, к Пушкину. Несколько раз мне звонили от Распутина и передавали его слова обо мне и о моих книгах, которые я помню по сей день и никому не скажу.
Из других встреч и удивлений: я прочёл роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла и ошалел. Потом мы с ним познакомились и некоторое время дружили. Затем наша дружба как-то сошла на нет. Он хороший парень, но, как почти все европейские интеллектуалы, считает Россию ужасной. К тому же мне кажется, что Джонатан психически не совсем в себе; впрочем, это как раз нормально для людей нашего круга.
На Западе меня больше всего переводили во Франции и в Сербии – я был в этих странах десятки раз; судьба свела нас с Эмиром Кустурицей, чьи «Аризонские мечты» являются одним из любимейших моих фильмов; я часто бывал у него в гостях.
Ещё меня много переводили в Италии. Вообще мои книги переведены примерно на 25 языков; но это ничего особенного не значит.
Я вёл разные программы на телевидении с целью навязать как можно большему количеству людей свои взгляды и заодно заработать лишний рубль, пикировался с Владимиром Путиным, на встречи с которым меня зачем-то приглашали, на вручении Букеровской премии загнал под стол писателя С., решившего со мной подраться, на следующем вручении Букера, когда мне не дали главную премию, а только звание финалиста, я, сходя со сцены, забросил диплом в мусорную урну и попал туда с расстояния в десять метров.
Много лет подряд я был умеренно пьян каждый день, это было моё нормальное состояние, до сих пор, если я вдруг слышу свои старые интервью на радио, я могу определить, сколько выпил – пятьсот или уже семьсот грамм, реже когда триста; помню, как я некоторое время колесил по США в одной весёлой компании, всегда, неизменно, находясь под градусом; во всякий свой приезд на Кубу я тоже пил как заводной и был рад этому; короче, я так жил и бросал пить, только когда месяцев на пять уезжал на Керженец, в свой домик в керженских лесах, где сочинял новую книгу.
Мои книжки собирались экранизировать Пётр Буслов, покойный Андрей Панин, Фёдор Бондарчук, Виктор Гинзбург; но до экранизации в итоге дошла только повесть «Восьмёрка» – фильм сделал Алексей Учитель. Мне предлагали работать с ними Владимир Меньшов и Владимир Бортко, но я поленился. Никита Сергеевич Михалков звонил мне время от времени и говорил: «Ты великий, Захар, да и я великий, нас обоих не любят». И потом отключался. Потом перезванивал и говорил: «Ты думаешь, связь оборвалась? Нет, я всё сказал» – и смеялся своим неподражаемым смехом. Михалков смеётся смехом сильного, демонстрирующего силу и одновременно наблюдающего за всем человека.
Спектакли по моим текстам ставили в Италии и в Германии; в России наиболее успешным стал спектакль «Отморозки» (по «Саньке») Кирилла Серебренникова, получивший «Золотую маску»; ещё хорошие спектакли делал по моим текстам Владимир Дель.
В 2010 году мы вновь встретились с Геннадием Ульяновым, с которым толком не общались предыдущие лет пятнадцать, заново собрали свою группу, назвав её «Элефанк», и записали несколько музыкальных альбомов. Большим удивлением стало для меня, что подпеть нам соглашались люди, чьи изображения двадцать лет назад висели на стенах моей комнаты: Борзыкин, Кинчев, Ревякин, Скляр. Я стал выходить на сцену как фронтмен. Мы дали дюжину концертов в разных концах страны, в том числе на огромных площадках: это был забавный опыт для меня.
Ещё я увлёкся рэп-музыкой, в которой впоследствии разочаровался; тем не менее многие годы я слушал исключительно ребят вроде 50 Cent и Eminem, и ещё Мано Чао и Дамиана Марли; мы записали несколько совместных песен с группой «25/17», с такими рэп-музыкантами, как Вис Виталис и Хаски.
Андрей Бледный и Ант из «25/17» сделали спектакль по моему роману «Обитель», а я снялся в паре их клипов.
У меня был недолгий период относительного сближения с теми людьми, которых я ненавидел последние двадцать лет, – российскими либералами – повлияла на это по большей части кинорежиссёр Дуня Смирнова, с которой мы отлично дружили. Она даже хотела познакомить меня со своим будущим мужем, но тот отказался, сказав: «Эти люди совсем недавно хотели меня убить». В чём-то он был даже прав.
Но я знал шахматного гения и психопата Гарри Каспарова, покойного Немцова, Алика Коха, Навального и многих прочих.
После моей статьи «Письмо товарищу Сталину», которая была опубликована в 2011 году и вызвала ужасный скандал с обвинениями автора в ксенофобии, вся эта история благополучно завершилась. На одном известном видео с Навальным, где мы, как решили отдельные малоумки, делим Россию, тот всего лишь уговаривает меня войти в координационный совет оппозиции – мы много смеёмся, и я ему в мягкой форме пытаюсь объяснить, что либеральная оппозиция состоит из патентованной неруси. В координационный совет я, естественно, не пошёл. Во время разговора мне звонит политолог Михаил Леонтьев и как раз выражает восхищение статьёй про Сталина.
С какого-то момента моим самым близким товарищем из музыкального круга стал молодой музыкант Рич, с которым мы сделали несколько совместных работ, самая нашумевшая из которых «Пора валить тех, кто говорит „Пора валить“».
Я сыграл в нескольких фильмах как актёр, в том числе в моём багаже – главная роль в фильме «Гайлер». Это был ещё один забавный опыт.
Зимой 2013 года в Киеве начался Майдан – я был к этому готов и уже полгода как делал разные заметки по украинской проблеме, где прямо говорил о возможности скорого переворота либерального толка с явной русофобской прокладкой и «правой» массовкой.
Весной 14-го началась война, которую я тоже предсказал за несколько месяцев до её начала.
С апреля месяца мы, нацболы, в том числе через мою нижегородскую газету, занимались поставками так называемой гуманитарной помощи на Донбасс – на самом деле мы загоняли всё необходимое ополчению в Донецк и Славянск; тогда же началась вербовка добровольцев – для этого мы запустили движение «Интербригады».
Вопрос о создании своего подразделения жёстко встал в середине лета – в ЛНР уже воевал взвод нацболов, который я с какого-то момента курировал; но этого было мало – учитывая то, что мы перегнали на Донбасс сотни людей, попавших в итоге в самые разные подразделения, но не в наше. Понимая, что «снизу» в сложившейся обстановке подразделение уже не создать, я начал искать пути создания своего отряда «сверху». В конце июля 14-го я познакомился с Олегом Царёвым, на тот момент занимавшим должность главы Парламента Новороссии; но он стремительно терял свои позиции на Донбассе.
В итоге, не найдя никаких коротких путей, я начал работать в ДНР и ЛНР в качестве военкора (в сентябре-октябре мои заметки публиковала «Комсомолка» и множество других изданий) – хотя эта работа мало устраивала меня, тем более что там и так отлично справлялись ребята вроде Семёна Пегова, с которым мы тут же задружились.
В первых числах сентября 14-го я познакомился в Донецке с Арсеном «Моторолой» Павловым и готов был идти к нему в «Спарту», он меня брал – но тогда мне пришлось бы похоронить тему с нашим батальоном.
В октябре 2014 года я познакомился всё там же, в Донецке, с Андреем Пургиным и предложил ему свой батальон – с меня были бы люди и весомая часть обеспечения, с него – возможность работать в структуре создаваемой тогда армии ДНР.
Но и Пургин вскоре потерял свои позиции и должности.
Не оставляя своей идеи, в течение 15-го года я многократно посещал Донбасс в качестве поставщика гуманитарной помощи – на этот раз самой настоящей, для мирных жителей. У меня и моей команды было множество разных приключений, пару раз меня могли убить, ещё несколько раз – посадить за контрабанду, но в итоге мы помогли даже не сотням, а тысячам жителей Донбасса – и это главное.
Наконец, зимой 15-го моему товарищу Александру Казакову, работавшему советником главы ДНР Александра Захарченко, понадобился помощник – и он предложил мне поработать с ним вместе.
Сначала я был консультантом по информационной политике при администрации ДНР, но вскоре получил должность советника и офицерское звание.
С Захарченко мы виделись едва ли не в ежедневном режиме, объездили по много раз все передовые позиции на линии соприкосновения и много о чём переговорили при самых разных обстоятельствах; я хорошо знаю и очень уважаю этого мужественного человека.
Вопрос о создании своего батальона я поднял месяца через три совместной работы – когда понял, что мне в самом широком смысле доверяют. Захарченко кивнул, но ничего конкретного на первый раз не сказал.
Мы тогда крепко сдружились с Арсеном «Моторолой», и снова вернулась тема: а не пойти ли мне в «Спарту», правда теперь уже на офицерскую должность; мы несколько раз говорили с ним об этом.
Однако в мой день рождения, который мы в компании главы ДНР и нескольких офицеров из хулиганства справляли на передовой, в виду украинских позиций, 7 июля 2016 года, Захарченко утвердил создание нашего батальона.
Мы получили приказ собирать своё подразделение.
В октябре батальон начал работу.
В том же месяце диверсанты убили Моторолу. После смерти отца это одна из главных потерь в моей жизни. Арсен был удивительный.
В ноябре наш бат получил первое боевое распоряжение.
В том же месяце Захарченко личным приказом присвоил мне звание майора.
В подразделении я занял должность заместителя комбата, в прессе меня именовали то комиссаром, то политруком, но этой работой я не занимался вовсе, да и необходимости в ней не было. Круг моих задач был самым широким.
В последующий, 17-й год батальон занимал передовые позиции в районе Коминтерново, в районе Пантелеймоновки – под Горловкой, напротив Верхнеторецкой, а также в районе посёлка Сосновка. Мы откровенно доминировали в районе Верхнеторецкой, в результате нескольких операций, продуманных в том числе и мной и при моём непосредственном участии, мы заставили части ВСУ в буквальном смысле оставить свои позиции у Верхнеторецкой и спрятаться в селении, которое мы обстреливать не могли, чтоб не пострадали мирные жители.
На донбасских фронтах я познакомился и подружился с лучшими, на мой взгляд, людьми в России – характерно, что многие из них, родившись на Украине, в самой России не были никогда – но, едва началась война, выбрали русскую сторону. В отличие, кстати сказать, от огромного количества моих бывших литературных и музыкальных московских приятелей, которых я могу только презирать.
По итогам трёх своих военных кампаний я был несколько раз награждён, в том числе крестом Добровольца Донбасса, медалью «За боевые заслуги» и другими.
Первые полгода я жил в Донецке один, без семьи, а потом ко мне приехала жена и привезла детей, включая самую младшую дочь – четвёртого нашего ребёнка.
Жена хотела привезти нашу огромную, породы сенбернар, собаку – Шмеля. «Как он доедет, наш старик?» – сказал я. «Ты-то доезжаешь», – ответила жена.
В казарме нам было тесно, и мы сняли отдельное жильё по адресу Соловьяненко, 21, в пяти минутах ходьбы от расположения батальона. Мы отлично жили в доме, полном вооружённых людей – моих собратьев.
Это был ещё один важный опыт, и, несмотря на всё случившееся, я был по-настоящему счастлив на Донбассе.
Время от времени ко мне в гости приезжали и пели бойцам нашего батальона такие отличные люди, как Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин, Вадим Степанцов и Юлия Чичерина.
Стоит вспомнить, что в середине нулевых в моей керженской деревне как-то ненарочно начал формироваться круг моих товарищей из самых разных сфер: раза два-три в год мы собирались там, для того чтоб в течение недели общаться, петь, париться в бане, удивляться друг на друга.
Совершенно искренне я считаю керженские встречи феноменальным явлением в русской культуре.
В керженском моём доме за одним столом сидели: ополченцы Донбасса, нацболы, омоновцы, спортсмены, рэпер Рич, рэпер Хаски, рэпер Андрей Бледный, рэпер Вис Виталис, рэпер Типси Тип, рэпер Скептик, режиссёр Александр Велединский, режиссёр Эдуард Бояков, преподаватель духовных наук и спортивных практик Сергей Баранов, артист Андрей Мерзликин, артист Фёдор Лавров, артист Михаил Сиворин, музыкант Саша Скляр, музыкант Бранимир, музыкант Иван Демьян из группы «7 Б», музыкант Максим Кучеренко из группы «Ундервуд», музыкант Александр Яковлев из группы «Новые ворота», музыкант Алексей Поддубный, он же Джанго, журналист Владимир Гусаров, журналист Егор Арефьев, литератор Василий Авченко, литератор Андрей Рудалёв, литератор Герман Садулаев, литератор Алексей Колобродов – многочисленные мои братья, любимые мной и дорогие мне.
Многие из них приехали на моё венчание с женой Машей: прожив двадцать лет вместе, мы наконец решили повенчаться и сделали это в Донецке.
В моей жизни всё сбылось.
Но я всё-таки надеюсь однажды вернуться в город Киев, потому что это русский город.
Остальное у меня уже есть. А если что-то понадобится по мелочи, мне подарят.
Александр Проханов. Вызов забвению
Мне 80 лет. Это почти 800 лет – до какого-то момента жизнь меряется десятилетиями, потом столетиями, а у Гомера она меряется тысячелетиями.
И я себе задаю вопрос: после огромной долгой жизни, которую я провел в писании, – что я такое из себя представляю, кто я такой, зачем меня породила матушка, зачем я возрос, зачем я пережил страдания, взлеты, обожания, любовь, потери? Что я такое как писатель, что заставляет меня двигаться и жить?
У Бунина в его изумительной повести «Жизнь Арсеньева», которую он написал в эмиграции, есть эпиграф – текст, приведенный из какой-то старославянской хроники: «Вещи и дела, аще не написанiи бываютъ, тмою покрываются и гробу безпамятства предаются, написавшiи же яко одушевленiи…» Этот древний писатель понимал, что явления мира, явления жизни, если они не имеют свидетеля-писателя, они гробу забвения предаются, исчезают. Огромный мир, в котором мы живем, на стольких континентах, где происходит такое количество событий – царствования, войны, проваливаются в пропасть целые цивилизации и возникают новые, – от всего этого сохранилось очень мало, потому что там не бывало художника, не бывало писателя. И – Гомер. Он побывал на крохотной войне, Троянская война – это исчезающая малая величина, она не изменила ни соотношения цивилизаций, не сложила новые царства, но он описал Троянскую войну, написал «Илиаду». И эта крохотная Троянская война через «Илиаду» стала основополагающей батально-художественной мифологемой, которой живет человечество.
И вот я думаю – что меня заставляет все время быть в движении, в какой-то гонке, в страстной надрывной деятельности? Я попробовал ответить себе на этот вопрос.
У меня изначально, когда я только сел за письменный стол и взял ручку, лист бумаги, возникло ощущение, что мимо меня несется грандиозная жизнь и она падает в пропасть, исчезает, ее нужно ухватить, нужно прижать к груди, записать, погрузиться в нее, нужно отождествить ее с самим собой, иначе она бесследно исчезнет. И я все время охотился за жизнью. Но это была не просто жизнь, не просто прогулка в лес за грибами, не просто путешествие в какой-нибудь чудесный русский город. Я всегда связывал свой писательский интерес с историческими событиями, потому что мне всегда казалось и по сей день кажется, что я живу в историческое время, что каждый момент нашей жизни связан с нашей актуальной русской историей. И я гнался за историей, я был ловцом истории, гнался за событиями, актуальными для той советской, а теперь русской истории. И вот эта история, это время складывалось в нечто целое, в ней возникал какой-то завершенный сюжет, какая-то метафора. Надо сказать, что, когда метафора зарождается, кругом царит хаос, все находится в турбулентном движении. Но потом странным образом это все получает свое завершение, и возникает некая целостность. И эта целостность ложится в роман, в текст. И эту целостность можно описать, привнести в нее свои фантазии, может быть, что-то пропустить. Но вот возникает этакий плод, как яблоко, которое падает с яблони жизни, с яблони истории.
А по мере того как я завершал роман, рядом возникала новая метафора, новая история, новый фрагмент нашей государственности. И я, едва завершив эту работу, кидался в новую, в новый поиск, новую фиксацию. Я написал много романов, книг, и, наверное, многие из них были поспешные, они были, может быть, недостаточно прописанные, но я не мог останавливаться на них слишком долго, потому что за стенами моего дома бушевала жизнь, история, и она уходила, исчезала. Потому я гнался за ней, как за фантастической жар-птицей.
Мне довелось жить в великое советское красное время. Я страшно дорожу тем, что родился в ту послевоенную пору, когда мне, еще мальчику, удалось увидеть во время демонстрации на Красной площади Сталина. Я очень дорожу, что меня воспитывали мои советские родители. Отец мой погиб под Сталинградом в 1943 году, матушка – царствие ей небесное – была архитектором, всю жизнь строила дома. И когда я приступил к своим писаниям, первым моим периодом был период поразительного советского индустриально-технического взлета. Я писал мои книги, и в них появлялся огромный белоснежный самолет Ту-144, который я видел в цехах Воронежского завода: этакий огромный остроносый журавль, который медленно выплывал из полутемного цеха на солнце, начинал сверкать белоснежными крыльями, потом поднимался в небеса. Для меня это было чудо. Я учился писать самолеты, их взлеты, учился писать блеск солнца на их оперении.
Я, например, видел, как рождается Сургут: он вместе со мной плыл на сухогрузах и танкерах по Оби и по Иртышу. И эти танкеры, сухогрузы, баржи причаливали к полуголому берегу и завозили весь город. Сначала балки, вагончики, потом арматура, потом бетономешалки. Зарождающийся город тогда представлял собой потрясающий хаотизированный мир. Из этого хаотизированного мира вдруг возникнет чудесный сегодняшний Сургут с могучей станцией, с мостом через Обь, с железнодорожным узлом.
Я видел, как в каменноугольных открытых карьерах работали наши первые угольные шагающие экскаваторы – это громадная махина, похожая на мамонта, и у нее вместо башки – огромный ротор, наполненный острыми фрезами, и эти фрезы грызли угольный пласт, и он сверкал. В этом каменноугольном пласте мне чудились древние папоротники, хвощи, огромные первобытные стрекозы со сверкающими крыльями. Потом этот уголь шел на только что построенную электростанцию, и вдруг, когда включали рубильники и пускали первые блоки станции, вся степь загоралась огнями. Я был упоен зрелищем этого великого советского машинного созидания. Этому был посвящен целый период моего творчества.
А завершился он позднее, когда произошла беда – Чернобыльская авария. В то время я хотел написать роман об атомной станции, которая в моем представлении ассоциировалась с Родиной, со страной, с могуществом СССР. И во время написания этого романа случилась Чернобыльская беда. Я помчался в Чернобыль и был там уже через десять дней после аварии. Мне довелось видеть гибель той нашей советской цивилизации, потому что я вместе с шахтерами по штольне подлезал под взорванный четвертый блок, стоял под землей, надо мной была бетонная плита, которая сверху медленно прожигалась ядерным раскаленным углем. Этот уголь медленно двигался вниз, грозя прожечь и плиту и уйти в водоносные слои. Тогда произошел бы невероятный взрыв. И шахтеры били эту штольню, устанавливали под ней криогенные системы, огромные холодильники, чтобы задержать расплав. А через некоторое время я летал на вертолете над четвертым блоком и видел зияющее черное дупло, из которого сочился металлический, гнилой, смертельный, ядовитый дым. Потом вместе с войсками химзащиты я чистил соседний третий блок, куда нападали обломки урана, обломки радиоактивного угля. И я вместе с солдатами мчался по этому залу: надо было за пять-десять секунд пробежать огромное расстояние, веником захватив кусок лежащего на полу графита или урана, кинуть в совок и бросить в контейнер.
И я видел крушение моих иллюзий – когда мегамашина страны была взорвана и сулила огромные беды.
Когда я насладился описанием великих строек – великих плотин, станций, – судьба перевела меня на другой уровень советской цивилизации. Мне, быть может единственному писателю Советского Союза, удалось описать атомную триаду СССР. На подводной лодке из нашей самой северной секретной атомной базы – Гремихи на Баренцевом море – я ходил в автономное плавание и видел, как здесь же, под полярной шапкой, недалеко от Ямала, кружится карусель подводных лодок, наших и американских, которые друг за другом следили, охотились и в случае беды, начала войны готовы были друг друга уничтожить.
А потом на стратегическом бомбардировщике (это была военно-учебная тревога) я взлетал с территории Белоруссии, и ночью с грузом реальных ядерных бомб мы летели в сторону Германии, пересекали границу Польши, ГДР. Я думал, что вот-вот начнется ядерная война, но перед самой границей с ФРГ небесный полк разворачивался и возвращался на свою базу. Я видел первые испытания наших ядерных ракет на полигоне Плесецка и был свидетелем ракетно-ядерного бума. Для меня это было огромное счастье – быть свидетелем грозного противостояния, которое случалось в мире.
Мне, как художнику, надо было научиться писать эти ракеты, научиться писать ночные бомбардировщики, потому что великая русская литература не хотела и не умела писать машину. Может быть, еще и потому, что наша литературная классика сложилась в домашинный период нашей истории. Русская литература умела писать русскую божественную природу, умела писать крестьянский или дворянский уклад, прекрасно писала психологию, отношения людей, русскую бездну и подполье – как ее писал Достоевский. Но она не умела писать машину и цивилизацию. А я поставил себе задачу: ввести в русскую прозу новую эстетику – эстетику, способную описать новый, пульсирующий, рождающийся мир техносферы.
А потом мое движение по закрытым объектам, по закрытым военно-стратегическим базам привело меня к войнам. Я был свидетелем, участником, наверное, девятнадцати войн, которые прокатились и продолжают катиться по нашей земле. Мой первый боевой опыт – это Даманский, граница с Китаем на реке Уссури. Трагический мартовский бой 1969 года, когда на мокром снегу были красные лежки – их оставляли после себя наши раненые и убитые пограничники. И чтобы вытащить их из этого бойного места к себе на заставу, их привязывали за ноги проводами и тащили. И эти похороны пограничников, рыдания матерей – бесконечные русские стенания, которые проходили на Руси со времен Куликовской битвы, со времен Ледового побоища, Бородинской, Сталинградской битв. Эти вечные русские рыдания вдов, матерей, потерявших детей и отцов, они и теперь идут по нашей великой и горькой стране.
После Даманского у меня был второй бой – тоже на китайской границе, в Казахстане, озеро Жаланашколь. Когда китайцы перешли на каменную сопку, наши пограничники, уже зная, с кем имеют дело, пустили вокруг этой сопки бэтээры и из крупнокалиберных пулеметов подавили, уничтожили китайский отряд.
С тех пор началась моя военная стезя. Потому что войны, которые вел Советский Союз в горячих точках, эти войны мало описаны, там практически не было писателей. Были журналисты, были репортеры, но не было художников.
А первой войной для меня была афганская. В Афганистане я был, может быть, пятнадцать раз. Это была моя первая баталия, где сражались наши войска, мои ровесники, мои дети и мои отцы. Это был огромный политический, военный и эстетический опыт. Эстетический – потому что это была война на горных дорогах, по которым двигались наши колонны, наливники с горючим и с боеприпасами. Попадая в засады, они взрывались, и вся дорога превращалась в клокочущий, ревущий огонь, откуда вылетали рвущиеся снаряды. Танки сталкивали в пропасть горящие наливники, которые закупоривали движение, и открывали путь оставшимся колоннам.
В пустыне Регистан на границе с Пакистаном двигались караваны, которые везли оружие моджахедам-повстанцам. Эта пустыня напоминала Марс – бесконечные красные марсианские пески, по которым шли караваны верблюдов или «тойоты». И группы спецназа на вертолетах выслеживали эти караваны, опускались, досматривали. Если те везли оружие – их уничтожали на месте, других, если те везли просто контрабанду или сухую колючку для стойбищ, – отпускали. Я прошел афганскую войну во всех ее проявлениях. Это и атаки на города, и огромные войсковые операции, когда город Герат обстреливался нашими дальнобойными гаубицами и установками залпового огня. Над этим глинобитным, смуглым, коричневым городом, среди саманов которого сверкали лазурные мечети, подымались огромные клубы дыма, разрастались, как какие-то чудовищные великаны, качались над миром.
После Афганской войны была война в Анголе. Там я видел, как сражаются ангольские бригады, которые мы создавали. И как на дороги, по которым мы ехали, налетали тихоходные юаровские бомбардировщики, уничтожая идущие машины. Помню, на юге Анголы сопровождающие меня ангольцы выкрасили меня в черный цвет: они завезли меня в хижину на краю Лубанго и какой-то тряпкой намазали черным, как будто нефтью меня залили. Это было сделано для того, чтобы, находясь в машине, я не стал объектом особой охоты, ибо за белыми людьми там охотились – на них обменивали сотни или десятки пленных черных воинов. А на самой границе с Анголой были разбиты лагеря партизан Намибии, и эти лагеря находились под землей, в глубине, в толще саванны. Там же были казармы, госпитали, штаб, там партизаны учились минировать железные дороги и высоковольтные вышки. Там, в этих подземельях, мы с будущим президентом Сэмом Нуйома пили водку и пели «День Победы порохом пропах». Там была целая череда встреч и переживаний, связанных с войной на границе.
Потом была Кампучия. Когда я ехал по кампучийской, изрытой бомбами дороге, в стороне вдруг увидел груды странных плодов, которые показались мне похожими на капусту – именно так на наших полях лежат кочаны капусты, сложенные в пирамиду. Когда я подошел, то увидел, что это черепа убитых Пол Потом интеллигентов, и в каждом черепе – треугольная дыра от удара мотыги.
Потом был Мозамбик. Сложнейшая война. Юаровцы летели в Мозамбик на крохотных самолетах и переправляли туда диверсантов, чтобы те взрывали всевозможные объекты. Самолеты садились на промежуточный аэродром, чтобы заправиться и взять груз взрывчатки. Кубинские военные, которые тогда были в Мозамбике советниками, минировали эти аэродромы. И когда эти маленькие самолеты приземлялись, они подрывались на минах, и таким образом уничтожался десант.
А потом – Никарагуа. Три поездки в эту поразительную страну, где, может быть, был последний всплеск великой латиноамериканской сандинистской революции. Вместе с сандинистскими отрядами я брел в гнилой сели, горячей, как горячая каша, в которой плавали водоросли, тина, цвели ядовитые желтые цветы, и над ними порхали красно-синие бабочки. Мы шли, и я помогал солдату-сандинисту тащить трубу миномета, потому что мы переходили болото и готовились к очередной операции.
Или пятая эскадра в Средиземном море! Это была поразительная операция советских военно-морских кораблей. Средиземное море было опасным районом, где все дышало войной: стреляли в Сирии, грохотал Ливан, затухала и разгоралась война в Израиле, в Египте. И со всех наших флотов – с Северного, с Балтийского, с Черноморского, с Тихоокеанского – туда стягивались корабли, создавалась сводная эскадра, она двигалась, барражировала по Средиземному морю в противодействие американским авианосцам, которые выходили со своих баз в Неаполе или Барселоне, двигались в сторону военных конфликтов и грозили поднять со своих палуб эскадрильи, которые могли нанести удар по Севастополю, по всей южной части Советского Союза.
Так случилось, что я видел умирание моей Родины, я видел умирание Советского Союза. Я оказывался внутри политических заговоров, политических схем и интриг. Я чувствовал, как из моей Родины, из моей страны уходит ее красный дух, как он заменяется чем-то другим. Во время перестройки я сразу занял резко антигорбачевскую позицию и превратился из писателя, из художника в политика: я писал антиперестроечные статьи, набирался опыта для своего романа о крушении Советского Союза. Я написал роман «Последний солдат империи» и в этом романе изобразил и чудовищную перестройку, и крах, и внутренний заговор. И там были герои – последние герои моей Родины, и антигерои, которые сожрали героев и пришли им на смену.
Вслед за этим романом – переходным – последовали события 1993 года. Я был участником этих событий. Газета «День», которую я тогда издавал, была газетой восстания. И мы ее переносили в Дом правительства через подземные коммуникации, через кордоны войск и милиции. Это была весточка свободы. И защитники Белого дома, может быть, даже перед тем, как погибнуть, или перед тем, как испытать на себе страшные ельцинские танковые удары, читали нашу газету. И я горжусь тем, что был среди этих баррикадников, горжусь тем, что был среди восставших, среди этих безымянных великих русских подвижников, которые легли костьми на баррикадах.
Теперь, когда я бываю в Останкино, вспоминаю тот день 3 октября 1993 года, когда шла атака на Останкино генерала Макашова. Я был вместе с ним. По толпе били крупнокалиберные пулеметы, и их пули пробивали дубы, которые росли вокруг Останкинской башни. В этих дубах – свинец крупнокалиберных попаданий. И когда я сейчас там бываю, обнимаю эти дубы и ищу дырки, оставленные пулями, но не нахожу, потому что они уже, видимо, заросли, кора стянула эти раны.
Я пережил страшное время – конец страны. Мне казалось, что умерла не только страна – умер я сам. Это был период духовной клинической смерти. Я потерял смысл существования, кругом торжествовали другие люди, другие образы, они появились из каких-то страшных катакомб. Я не предполагал, что в стране, где я живу, – на заводах, в университетах, в лабораториях, на художественных фестивалях – существуют эти люди. Они, по-видимому, появились как результат какого-то зловещего волшебного преображения.
Тогда настал период моих романов, связанных с босхианскими чудовищными уродами, которые господствовали везде. Они пришли в Кремль, пришли в университеты, в гарнизоны, в милицейские участки. И появилась серия моих сюрреалистических книг, таких как «Теплоход „Иосиф Бродский“», «Господин Гексоген», «Пятая империя», «Крейсерова соната».
Это была пора и моего внутреннего распада. Я никогда не пел распад, никогда не писал распад. Я всегда тяготел к людям порыва, творчества, к людям подвига, жертвы – это было мое романтическое представление о жизни, о бытии. А тогда меня обступили эти чудовища, и во мне начался распад. И я сам, распадаясь, создавал книги распада.
На Охотском море я видел мертвого кита, которого выбросило на берег. Он несколько дней лежал под солнцем. Это была огромная глянцевитая туша мертвого гиганта, и из нее, из ее сгнившей кожи выползали разноцветные червячки, жуки, какие-то личинки, которые сжирали его. И то же самое было тогда – умер красный кит. Из этого красного кита лезли странные упыри, трупоеды, которые наваливались на меня и тоже сжирали. И я их описывал в моих романах.
А потом были две Чеченские войны – сразу после 1993 года. И обе Чеченские войны легли в мои романы «Чеченский блюз» и «Идущие в ночи». Я был вместе с нашими войсками, видел трагически разгромленный Грозный. Я видел путь, по которому отступал из Грозного Басаев, он попал в засаду, устроенную нашими разведчиками, среди которых был, кстати, Владимир Васильевич Квачков – он сейчас сидит в тюрьме. Он был разведчиком, героем Чеченской войны, это он устроил им западню, и басаевские отряды попали под кинжальный огонь наших пулеметов.
На вертолете я летел вдоль реки Сунжи и видел огромный ворох мусора: какие-то одеяла, расстрелянные сани, повозки… Там еще лежали трупы: их нельзя было убрать, ибо поля были заминированы.
Но потом таинственным образом в моем миросознании начал брезжить свет, возникали проблески надежды. Они были связаны с возникновением нового государства Российского. Мне казалось, что всё – русская история кончена. Фукуяма написал свою книгу «Конец истории», а я внутренне написал книгу «Конец русской истории». Но русская история не кончилась, она продолжалась. После расстрела Дома правительства, когда, казалось, либералы победили, ибо они главенствовали везде, были хозяевами всего, Государственная дума оказалась патриотической, победили патриоты, а либералы в ужасе разбегались, крича: «Россия, ты сошла с ума!» Россия не сошла с ума. А те, кто погибал на баррикадах, были последними, кто защищал Советский Союз, и первыми, кто своими сражениями и своей смертью возвестил рождение нового государства Российского.
А затем началось медленное уверование в Путина, которого поначалу я встретил как прямого продолжателя Ельцина. Все мои негодования, вся моя лексика, весь мой сарказм пали на него как на ельцинскую тень. Но после нескольких свиданий с ним я постепенно начинал понимать, что он выстраивает государство Российское. Это он перенес из советского времени в новое алое знамя Победы, он сберег сам символ Победы. Он сохранил музыку советского гимна, хотя и с другими словами. Но музыка гимна в своих звучаниях, в своей музыкальной мистике перенесла в наше время энергию событий и смыслов нашего красного существования, нашей красной империи. Он стал возрождать военные заводы, которые сумели начать строительство лучших в мире танков, самолетов, подводных лодок. Стал укреплять разрушенные предшественниками оборонные рубежи, оборонные границы. А потом возник Крым, это русское чудо.
И мои романы – «Время золотое», «Крым», «Губернатор» – были связаны с этим возрождением. Я начал опять писать героев. Но герои нового времени отличаются от героев советской эпохи. Там сама идеология была героичной, теми героями движила сама советская история. А герои нашего времени действовали вопреки сложившейся реальности. Это были престарелые, измученные безденежьем, забвением конструкторы и ученые, которые сберегли от церэушников великие советские технологии, сберегли заводы. Среди полупустых ржавых цехов они хранили свои навыки, свои тайны. Потом они же пришли возрождать предприятия и запускали в воздух истребители пятого поколения. Это были герои сражения, герои войны, герои художественного порыва, художественного стояния и творчества, герои политики. И эти книги являются как бы искуплением и оправданием того моего уныния, пессимизма, моего злого сарказма, которыми я создавал образы распада, образы смерти и энтропии.
И теперь, занимаясь художеством, занимаясь политикой, я с радостью и ликованием вижу, как наше государство, несмотря на все трудности, на всю беду, на все неравенство, несправедливость, на воровство, – государство поднимается, выстраивается, сбрасывает с себя чешую ужасного недавнего прошлого.
И среди порывов, среди новых деяний нашего государства два очевидных деяния привлекают мое внимание и требуют того, чтобы я ими занялся как писатель, – это великий проект, включающий в себя Крым, сбережение Севастополя, флота, возвращение контроля России над Черным морем, выход через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, создание на берегах Сирии наших опорных баз, возможность опять собирать в Черном море наши великие корабли, нашу эскадру и противодействовать натовцам, которые пускают свои танки по нашим границам и подходят к Пскову. Но зато наши корабли и наши ракеты «Калибр» нацелены на их Неаполь, на их Барселону, на их военно-морские базы и делают их уязвимыми.
И второй проект – это Арктика. Это великое русское начинание, великая русская бесконечность, великая русская мечта, которая началась очень давно, задолго до всех нас, продолжилась в советское время созданием уникальной полярной цивилизации, в том числе огромного нефтяного бума, нефтяной победы. В 90-е годы все это рухнуло, оказалось брошенным и забытым, а сейчас возродилось и продолжает возрождаться. Арктика – заповедная мистическая земля, куда устремлено наше русское мечтание, наш русский порыв, надежда на чудо, на очищение, на благодать, на то, что там, как верили древние поморы, находится русский рай, земля обетованная, Беловодье. В Арктике, в этом новом порыве, мы очистимся от скверны, мы создадим нового русского человека. Тех новых русских, которые становятся народом-великаном, способным осваивать пространства, строить великие подводные поселения, заниматься поиском золота и нефти, а главное – поиском ощущения чуда, поиском русской мечты.
Россию ведет вперед русское чудо, ожидание русской победы, ожидание обетованной земли, ожидание, что мы сложимся в идеальное общество, где все мы будем братьями, будем любить друг друга и прощать. Это ожидание все не сбывается, а мы все равно верим и ожидаем, мы продолжаем идти за этим чудом.
Писать книги – это одна из самых тяжелых в мире работ. Мне казалось, что самая тяжелая работа – это земляная работа: копать траншеи. Но потом я понял, что писать книги – это огромная работа. Если я отправляюсь на войну, то туда, где вокруг меня беды, где летят пули. А потом этот опыт надо усвоить, понять, надо превратить в образ, привезти и написать книгу. Каждый роман начинается с ощущения счастья, а кончается страшной усталостью, смертельной изможденностью. И когда я завершаю свой роман, пишу последнюю строку и отпускаю от себя героя (иногда я его отпускаю в жизнь, иногда – в смерть), у меня текут слезы. Книги, которые я пишу, – это тяжкий, кромешный и восхитительный труд.
Я учился в послевоенной школе, мы были послевоенными детьми, многие в бараках жили, у большинства не было отцов. Это была тяжелая пора, и мы в школе в отношении друг друга были братьями, мы все были очень чуткими друг к другу и к жизни. Мы были хулиганами, конечно, как и все дети, но в наших шалостях и баловстве все время присутствовала боль, страх и ожидание того, что, может быть, наши отцы вернутся с полей сражения.
Первая моя учительница Наталья Александровна жила в школе. У нее была крохотная комнатка рядом с актовым залом. Когда я кончил четвертый класс, она меня пригласила к себе, и я поразился чистоте этой крохотной комнатушки. В ней было все так любовно, так прекрасно: застеленная постель, подушечки, кружавчики. И Наталья Александровна подарила мне по окончании четвертого класса книжицу, состоящую из рисунков по пушкинским произведениям. И написала: «Саша, я хочу, чтобы ты всегда и во всем был первым». Это меня тронуло. Она напутствовала меня в огромную жизнь, зная, по-видимому, что меня ждут препятствия, беды, катастрофы. И она вселила в меня веру. Ее вскоре перевели в другое место, и она исчезла из моей жизни. Но у меня сохранилось ощущение, что всю жизнь я иду, как самолет в луче прожектора, в этом ее назидании – быть всегда во всем первым.
Андрей Рубанов. Против чего твоя книга?
Я родился в 1969 году и провёл детство в социалистической деревне.
Моя семья работала в школе. Дед был директором и преподавал литературу и историю, мать и бабка – русский язык и литературу, отец – физику.
Я рос хилым; и хотя научился играть и в футбол, и в хоккей – по большей части сидел дома и читал книги.
Понятно, что при таких вводных у меня не было шансов на нормальную жизнь: с двенадцати лет я знал, что буду писателем, и только писателем.
Моей первой любовью была фантастика, в особенности книги братьев Стругацких.
Это пристрастие я сохранил до сих пор, и лучшие книги Стругацких помню практически наизусть: до сих пор на спор могу угадать название по любой произвольно выбранной цитате.
В Стругацких мне нравился не только детально продуманный «Мир Полудня», наполненный планетолётами, скафандрами и летающими пиявками, но и стиль письма.
Стругацкие излагали свои истории легко, быстро, остроумно, энергично.
В книгах других писателей мне этого не хватало.
В те времена, на рубеже семидесятых и восьмидесятых, в большой моде была так называемая деревенская проза: Распутин, Астафьев, Белов. А вот городских историй не существовало. Аксёнов эмигрировал, его книги не издавали. О Довлатове мало кто слышал. Только журнал «Юность» изредка публиковал рассказы и повести о современной городской молодёжи – это была капля в море.
А я, взрослея, всё искал, где бы прочитать про себя.
С тринадцати лет я сам стал сочинять, отчаянно подражая любимым Стругацким, и за два года накорябал от руки десяток повестей и начал несколько больших романов.
Помню, как мама пыталась отговорить меня от выбора рискованного жизненного пути, напоминала, что большинство писателей страдали алкоголизмом, психозами и неврозами, умерли в нищете либо покончили с собой.
Но я маму не слушал.
И ещё хорошо помню: никогда, ни единой секунды в своей жизни я не мечтал быть великим писателем, или первым писателем, или вторым, или самым знаменитым писателем, или самым успешным. Слава меня пугала (и пугает до сих пор), любая публичность приводила в ужас (и до сих пор приводит).
А хотел я быть «обыкновенным» писателем. Одним из.
Больше всего меня привлекала свобода этого занятия. Начальника нет, работаешь когда хочешь, где хочешь и сколько хочешь. Пишешь что хочешь. Самовыражаешься.
Говоря современным языком, я всего лишь хотел иметь свободную профессию, freelans.
Понемногу охладев к фантастике, я стал черпать удовольствие в переводной прозе, и журнал «Иностранная литература» познакомил меня с Камю, Сартром, Маркесом, Кортасаром, Кафкой.
После школы я немедленно устроился работать в газету и поступил на факультет журналистики Московского университета.
Затем в стране произошёл поворот, социализм стал разрушаться, и объявили гласность.
Начиная с 1986 года – я как раз окончил школу – в СССР стали публиковать всю ранее запрещённую литературу.
Наступил золотой век русского книгочея.
Каждый интеллигент, заставший те времена, скажет, что это был, по анекдотическому выражению Никиты Хрущёва, «пир духа».
Массированно, тотально, в течение двух-трёх лет журналы и издательства опубликовали Набокова, Шаламова, Солженицына, Газданова, Алданова, Соколова, Аксёнова, Лимонова, Довлатова, Алешковского, Гинзбург. А также философов: Бердяева, Ильина, о. Булгакова, Флоренского, Зиновьева.
Целая огромная литература вышла из-под спуда.
Забегая вперёд, я хотел бы сказать, что этот вал публикаций сыграл с русской литературой злую шутку.
Те молодые, новые авторы, которые могли бы удачно дебютировать в конце 80-х годов, – выступили скромно или вообще незаметно. Этот казус объясним. Представьте, что вы дебютируете в русской прозе – а вместе с вами дебютирует (в кавычках, конечно), с опозданием на восемьдесят лет, Набоков с десятью томами, включая «Дар», «Лолиту» и «Бледный огонь».
Конкурировать с Набоковым невозможно.
Так поколение дебютантов конца восьмидесятых оказалось ущемлённым, усечённым. Мы к ним ещё вернёмся.
Роман Аксёнова «Остров Крым», напечатанный в журнале «Юность», произвёл на меня оглушительный эффект.
В те же годы появился свежий, молодой и сильный Юрий Поляков: его первые повести читались запоем, восхищали свободой и смелостью.
К концу 80-х годов – я отслужил срочную службу и вернулся на студенческую скамью – мои вкусы уже были полностью сформированы. Я точно знал, как надо делать художественную прозу. Я знал, что никогда не буду писать длинно и скучно. Я знал, что из книги должна исходить энергия, как от заряженного аккумулятора: возьмись за клеммы – ударит, шокирует, тряханёт.
Найдя ответ на вопрос «как писать», я не знал, что писать.
О чём? О ком?
Кто мои персонажи?
Каков мой материал?
Мне исполнилось двадцать лет. За спиной у меня было два года армии, год учёбы в Университете и год работы в газете строительного треста.
Я имел военные специальности «водитель-электрик» и «связист», я обучился профессии плотника-бетонщика и каменщика. До сих пор могу сложить из кирпичей идеально прямую стену.
Я овладел немецким языком и пытался зарабатывать, переводя статьи из журнала «Шпигель».
У меня был материал – но я понимал, что он не первоклассный.
Я видел и понимал, что добыча материала – главный труд и главная проблема любого писателя.
Хемингуэй прошёл три войны. Достоевский отбыл каторгу. Солженицын и Шаламов сидели в сталинских лагерях. Набоков и Лимонов прожили по четыре жизни в четырёх разных странах. Артур Хейли устраивался на работу в аэропорт, чтоб написать роман «Аэропорт», и устраивался работать на автомобильный завод, чтоб написать роман «Колёса». Владимов ходил матросом на рыболовецком судне, чтоб написать роман «Три минуты молчания».
Настоящий писатель всегда находится в погоне за самым выигрышным, уникальным материалом.
Нет материала – нет писателя.
Мне кажется, если бы Советский Союз уцелел, если бы социализм не рухнул – я бы стал кем-то вроде писателя Александра Проханова. Ездил бы в Сибирь, на Север и на Дальний Восток, сочинял бы повести о первопроходцах, победителях вечной мерзлоты.
Но судьба распорядилась иначе.
В 1991 году друзья позвали меня компаньоном в только что организованный бизнес. И я согласился и бросил учёбу, так и не окончив три курса и не получив даже бумажки о неоконченном высшем образовании.
Сразу скажу, об уходе из Университета я никогда не жалел. Новая жизнь накрыла меня с головой.
Материал сам нашёл меня.
Русский бизнес.
Следующие пять лет, с 91-го по 96-й, я не читал ничего, кроме учебников биржевой игры и информационных бюллетеней «РосБизнесКонсалтинга».
Я женился, родил сына. Разбогател.
И передумал быть писателем. Решил стать для начала долларовым миллионером, а затем, чем чёрт не шутит, может, и олигархом: у меня были все данные. Я был безжалостным, циничным, я работал ежедневно с семи утра до позднего вечера без выходных, и моей настольной книгой вместо повестей Стругацких стал увесистый том биржевого гения и антисоветчика Джорджа Сороса «Алхимия финансов».
Я занимался обналичкой, проплатами валютных контрактов, я покупал и продавал государственные краткосрочные облигации и на пике своего успеха едва не приобрёл обанкротившуюся авиакомпанию.
Потом меня арестовали и посадили в следственный изолятор: по обвинению в краже государственных денег.
Из изолятора я вышел спустя три года: в 1999-м. Так закончились мои «ревущие девяностые», и так рухнула моя карьера финансового воротилы.
Но жизнь не рухнула: ещё даже не началась.
Из трёх лет тюрьмы – год я просидел в изоляторе «Лефортово», известном своей уникальной библиотекой, где хранились даже книги с печатями Таганской тюрьмы, давно не существующей. Там я прочёл всего Достоевского, всего Джека Лондона, всего Солженицына, «Розу мира» Даниила Андреева, «Философию права» Гегеля, «Диалектику мифа» Алексея Лосева и ещё – «Дюну» и «Чужака в чужой стране».
Пока я сидел, мой лучший друг отучился на сценарном факультете ВГИКа, и едва я оказался на свободе – мне предложили написать сценарий о своих похождениях.
Так литература снова появилась в моей жизни.
Написанный сценарий так и не был экранизирован.
Следующие годы ушли на то, чтобы снова найти источники заработка; я их нашёл, и у меня появился повод уважать себя.
Однако статус мелкого комиссионера, продающего строительные материалы, меня не устраивал, хотелось большего, – и вот, в возрасте тридцати двух лет, я снова сел писать, после двенадцатилетнего перерыва.
Материал был найден, его было очень много: первоклассного, крутого, скандального, шикарного материала; сотни историй, десятки героев.
На этот раз проблема была другая: меня распирало от фактуры, я не знал, что с ней делать, как обработать, как преподнести.
В то время я снова стал много читать, на этот раз в основном американцев, я пришёл к ним через Лимонова, которого читал и перечитывал запоем; Лимонов лучше всех русских описал Америку.
Я прочитал внимательно и не один раз всю их контркультуру, от Берроуза и Керуака до Чака Паланика, включая Хантера Томпсона и Брета Истона Эллиса.
Американцы всегда писали плохо. Даже в лучших переводах, даже «Вся королевская рать», переведённая великим Голышевым, – безнадёжно проигрывают по сравнению с Аксёновым или Лимоновым. По стилю, по силе языка русские писатели – первые в мире.
Но у американцев было то, чего нет у других: бешеная сила, нерв, энергия, крутая подача.
Первый мой роман назывался «Подмена», я написал его в 2001 году зимой, за три месяца. В романе были бизнес, «чёрный нал», офисы в бронированных подвалах, миллиарды, тюрьма, война в Чечне, комбинации, махинации и бог знает что ещё.
Я раздал книгу читать друзьям и отдал рукопись в издательство «Ад Маргинем» Михаилу Котомину.
Друзья, правда, прохладно отнеслись к моей книге, а издатель Котомин отказался её печатать.
Это был удар. Моё самолюбие ужасно пострадало. Я привык побеждать.
Разозлённый, я выбросил свой первый роман, забыл о нём и сгоряча написал второй, под неприличным названием «Я просрал миллион».
Этот второй роман тоже вызвал критику у товарищей; товарищи посоветовали больше работать над текстом и вообще – собраться с мыслями.
Понемногу я овладевал знаниями о литературном труде и сообразил, что иметь первоклассный, выигрышный материал – мало. Надо уметь работать с материалом, надо фильтровать его, надо дистанцироваться от материала.
Поразмыслив, помучившись и несколько раз сильно напившись, я выбросил в мусор и второй роман – и сел делать третий.
Мне сравнялось тридцать три.
В результате длительного обдумывания и множества сомнений я отыскал способ подачи моего материала; не скажу, что я закричал «эврика» – но мог бы закричать.
Я решил, что расскажу такую историю, которую хотел бы сам прочитать в свои семнадцать лет. И не только я – мои друзья тоже.
Для юных, решительных, для сильных и думающих, для всех, кто хочет реализоваться, для всех, кто готов претерпеть боль и унижения ради достижения цели, для всех, кому неведом страх.
Я сразу интуитивно понял, что нашёл верный способ рассказывания.
Я описывал только события, произошедшие с героем, – а рефлексии прятал в подтекст; точно так же, как это делали мои любимые братья Стругацкие.
Описывая действия, вы всегда оказываетесь в выигрыше.
Описывая переживания и рефлексии, вы всегда рискуете вызвать у читателя скуку.
Роман назывался «Безнаказанный». С таким названием в начале 2005 года я снова отнёс рукопись издателю Котомину и снова получил отказ в публикации.
Но мне уже было всё равно: я знал, что прав; я точно понимал, что нашёл и свой язык, и свою интонацию, и свой способ подачи.
В последний момент я изменил название книги на «Сажайте, и вырастет» и в 2005 году напечатал роман за свой счёт.
Тысяча экземпляров обошлась мне в пять тысяч долларов.
Один экземпляр я послал по почте знаменитому литературному критику Льву Данилкину.
Он опубликовал в журнале «Афиша» хвалебную рецензию; после чего со мной немедленно заключили договор, купили книгу, купили права на экранизацию, купили перевод на английский язык, продвинули в короткий список шумной и модной премии «Национальный бестселлер».
С тех пор прошло двенадцать лет.
Я написал и издал полтора десятка книг.
Меня всегда поддерживает внутренняя работа, проделанная в ранней юности, в момент начала периода запойного чтения.
Я считаю, что самый благодарный, жадный и активный читатель – это двенадцатилетний юноша или девушка.
Молодые, юные – и есть главные потребители, пожиратели литературы.
Вкусы, пристрастия, предпочтения формируются очень рано, а сохраняются на всю жизнь.
Иногда и шестидесятилетний человек с удовольствием перечитает книгу, которая понравилась ему в юношестве.
Я помню, что литература определённого качества меня очень возбуждала, я не мог уснуть, я дрожал от волнения, я смаковал.
Широко известно, например, особенное удовольствие, когда читатель пробует на ощупь, много ли осталось до конца книги, и радуется, видя, что впереди ещё сотня страниц; такого редкого fun не бывает в других искусствах.
Сейчас я точно знаю, что литература может давать три удовольствия: мысль, чувство и энергию.
Литература, сделанная «из ума», ради трансляции мысли, – всегда в меньшинстве. Умные писатели пользуются спросом у ограниченного числа любителей; каждый умный писатель тяготеет к философии. Таков, например, современный нам Пелевин: крупный писатель, дрейфующий из литературы в философию, из искусства в науку.
Другой известнейший автор, работающий «из ума», – Пинчон.
Иногда писателей, работающих от интеллектуального начала, можно опознать по обилию извилистых метафор: почему-то считается, что сложная метафорика является признаком мастерства. Хотя мне всегда казалось, что уподобить можно всё, что угодно, всему, чему угодно, и создание метафор есть не более чем интеллектуальное упражнение.
И когда я вспоминаю, например, одну из метафор Лимонова: «она взвыла, как прижжённая сигаретой обезьяна» – я смеюсь: ну где у Лимонова была возможность прижечь сигаретой обезьяну?
Большинство сильных писателей сочетают сильную мысль с сильным чувством.
Таковы Толстой и Достоевский, короли мирового романа.
Таковы Набоков и предшествовавший ему и родственный Пруст: внимательные фиксаторы эмоциональных переживаний.
Но совсем немногие умеют гнать через текст нервную силу, претензию, сырой протест, яростную лаву гнева.
Я на стороне этих, третьих, последних.
Это умеет Лимонов, это умеют Хантер Томпсон и Буковски.
Я бы тоже хотел это уметь.
Передача энергии через текст стала моей идеей фикс.
Форма же передачи должна быть максимально простой. Чем проще, тем лучше. В идеале – телеграфный стиль, Шервуд Андерсон и Хемингуэй. Мне кажется, старый добрый телеграф не только не изжил себя, но в будущем будет только процветать. И кстати, пионером телеграфного стиля – неслыханной простоты – был вовсе не Андерсон, а Пушкин, и зачин «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» есть прекрасный образчик телеграфного стиля.
Физика утверждает, что электрический ток всегда течёт по поверхности проводника; так же и нервный ток течёт не в глубине, но по поверхности повествования; главное – убрать препятствия.
Впоследствии я познакомился с издателем Михаилом Котоминым; и он однажды сказал мне, что литература – очень старое и консервативное искусство; в нём почти невозможно придумать что-то принципиально новое.
Действительно: писатель заперт, как в тюрьме, внутри своего языка и своего материала.
Чтобы его прочитали, он должен изложить историю по правилам, придуманным раз и навсегда. Правила нельзя ни обойти, ни обмануть. В истории должно быть начало, середина и конец. Должен быть герой, а у героя – цель.
Если ты не расскажешь увлекательную историю – тебя не прочитают.
Если ты будешь умным, или гениальным, или сумасшедшим, или блестящим, но не будешь интересным – тебя не прочитают.
Когда я думаю о своём занятии – сочинительстве, – я представляю себе одну и ту же картину.
Раннее Средневековье; барон или князь построил прочный каменный замок, а вокруг замка понемногу собрались ремесленные люди и устроили посад, торговые ряды: рынок.
Однажды вышел из замка барон или князь с женой и с охраной. Прогулялся по торговым рядам.
Зашёл к ювелиру, купил для жены браслет.
Зашёл к кузнецу, купил нож.
Зашёл к шорнику, купил седло.
Приобретя седло, браслет и нож, он идёт дальше, очень довольный, – и в самом дальнем углу обнаруживает группу голодных оборванцев.
– Мы люди искусства, – говорят оборванцы. – Можем развлечь, спеть песни, станцевать, развеселить.
– Хорошо, – отвечает барон (или князь), ковыряя в зубах, – что дальше?
Один говорит: я – художник, нарисую портрет вашей жены, останется на память. Второй говорит: я – музыкант, могу усладить слух изысканными мелодиями. Третий говорит: а я знаю, как внутри вашего замка построить ещё одну башню, самую высокую.
И князь (барон) отвечает: отлично, ребята, вы мне нравитесь. Вот вам каждому по медной монете, по куску мяса да по краюхе хлеба, и вечером явитесь ко мне в замок, я вас внимательно выслушаю.
А ты стоишь рядом с ними, с художниками, зодчими и музыкантами, но ты – писатель.
Тебе тоже хочется получить монету, мясо и хлеб, а в идеале – тёплый ночлег в княжьем доме.
Что ты скажешь князю-барону? Что ты умеешь? Почему он должен дать тебе медную монету?
И вот – обнадёженные музыканты, живописцы и архитекторы уходят, и удаляется барон под руку с женой; ещё миг – и совсем уйдёт.
– Подождите! – кричишь ты. – Я умею рассказывать истории! Могу для детей, смешные и назидательные, могу для женщин – любовные. Могу для мужчин – про битвы и великие подвиги. Ещё знаю страшные истории. Ещё знаю истории из древнего прошлого. Я всё видел, везде был. Могу рассказывать по десять ночей кряду.
Вот так я сказал бы тому средневековому князю или барону.
А что он мне ответит, позовёт ли меня с собой, даст ли кусок хлеба и стакан вина – бог весть.
Мне возразят, что писатель вовсе не обязательно должен уметь продавать свой труд.
Франц Кафка, Даниил Андреев и Варлам Шаламов при жизни не опубликовали ничего или почти ничего.
Но я знаю: если бы была хоть мизерная возможность – обязательно бы опубликовали.
Конечно, любой настоящий художник действует, подчиняясь прежде всего внутреннему импульсу, вдохновению, его ведёт благословенный зуд, наслаждение, которое и является главной наградой творящего, а часто и единственной – но зато обязательной, гарантированной. Однако художник всё же работает не только для себя, но и для другого: для читателя, зрителя, слушателя. И пока этого второго – читателя – нет, никакой художник не бывает по-настоящему счастлив.
Поэтому писатели так радуются, когда их хвалят.
А когда ругают – пьют и лезут в петлю.
Так или иначе мне повезло, меня охотно публиковали и много хвалили. Иногда бывало, что совершенно мне незнакомые критики и литературоведы выдвигали мои книги на соискание литературных премий. Это придавало мне сил и уверенности.
Но, как ни странно, от романа к роману, по мере накопления опыта и навыка, сам по себе литературный труд не становился легче.
Наоборот, чем больше я работал, тем яснее видел, что знаю и умею мало.
Чем глубже погружался, тем дальше уходило дно.
Меня всё чаще называли по имени-отчеству, и постепенно я перешёл в разряд если не мэтров, то уважаемых мастеров. Но это не освободило меня от страха перед чистым бумажным листом.
Более того, успехи на поприще сочинительства не избавили меня от главного писательского недуга – тяжёлого невроза.
Мне очень помогло отсутствие больших амбиций, или, говоря проще – скромность, унаследованная мною от отца: имея огромный талант инженера-конструктора, он был очень скромным человеком. Я перенял у отца умение довольствоваться малым и должен признаться – это драгоценнейший дар.
Разумеется, называть себя «скромным» – уже нескромно; но точнее выразиться я не могу.
Так я понемногу стал кем хотел: рядовым писателем.
Не первым, не великим – зато самим собой.
Эта мысль – что я не желаю быть «вторым Достоевским», а желаю быть первым Рубановым – весьма помогала мне и помогает до сих пор.
Отсутствие вселенских претензий странным образом сочеталось с везением, сопровождавшим меня на всём моём пути.
В начале нулевых годов обнаружилось, что русская литература бедновата: из авторов новейшего времени, тех самых новичков конца восьмидесятых, вынужденных дебютировать наравне с Набоковым и Солженицыным, до нулевых благополучно добрались лишь трое: Пелевин, Сорокин и Крусанов. Этих троих, несомненно крупных, оригинальных писателей, было мало. И вот, в ответ на спрос со стороны читательской массы во множестве появились, как черти из табакерки, «новые реалисты», или «турбореалисты»: молодые авторы, свежее колено. Критики немедленно подняли их на щит: так возник увесистый gang молодых, но весьма самоуверенных фигурантов, куда причислили и меня, в компанию к Прилепину, Иванову, Гарросу, Евдокимову, Данилкину, Шаргунову, Сенчину, Елизарову, Садулаеву, Данилову, Гуцко, Старобинец, Козловой. Половина из них не считала себя ни новыми реалистами, ни старыми, и не все были меж собой знакомы даже шапочно – но это ничего не меняло. Нас воспринимали как одну шайку-лейку. Каждый год кто-то получал шумную премию: то Гаррос и Евдокимов, то Прилепин, то Гуцко, то Елизаров. Ни одному не было и тридцати пяти лет, и все были беспредельно дерзкими и бесстрашными. А ещё – красивыми, фото- и телегеничными. Гаррос, Прилепин, Елизаров, Шаргунов, Старобинец выглядели как кинозвёзды и так же воспринимались. И ни один ежемесячный глянцевый журнал не выходил без портрета какого-либо «нового реалиста». И книги их лежали везде.
Так, в полном соответствии с законами капиталистической экономики, поднимающийся рынок поднял всех, кто был в этом рынке, – в том числе и меня.
Сейчас это всё кончилось, и нет больше глянцевой периодики, формировавшей моду. И к сожалению, не все из тех блестящих «новых реалистов» дожили до нынешнего дня. Но большинство удержалось на плаву. Вот и я удержался как-то.
Любопытно, что поколение «новых реалистов» не создало себе преемников, – в десятые годы не появилось столь же яркой и многочисленной генерации новичков, и для меня это повод для печали; но я укрепляюсь, вспоминая выражение Аксёнова: «Этому полю не быть пусту!»
Примерно в сорок лет со мной произошла профессиональная деформация: я перестал читать художественную прозу – ни классиков, ни новинки. Появилось отчётливое ощущение, что я прочёл всё, что мне нужно. Открывая книгу, я не видел содержания – я видел слова, буквы, предложения, абзацы, я видел эпитеты и метафоры, я видел лексику и синтаксис. Я видел, как сделано, но не видел – что.
Уже много лет я открываю классические русские романы только затем, чтобы похитить какое-нибудь слово. Обычно это эпитет.
Однажды, хорошо помню, я украл у Аксёнова эпитет «ступорозный» и вставил его в свою книгу, но редактор поёжился и попросил убрать.
Более двух десятилетий уже мы существуем в условиях капитализма и давно избавились от иллюзий.
Уважаемый мной Юрий Поляков однажды сказал, что в Англии общественная дискуссия реализовывалась в парламенте, во Франции – в салоне, а в России – через литературу. Мне кажется, это очень верно: на протяжении полутора столетий Россия была литературоцентричной страной. Царь Николай лично заплатил долги погибшего Пушкина. Ленин в анкетах называл себя «литератором». Сталин не только написал 13 томов публицистики, но и контролировал судьбы многих писателей: одних уничтожал, других возвышал.
Теперь это кончилось. Литература, по старой уважаемой традиции, продолжает реализовывать полемическое начало – но вместе с литературой то же самое делает телевидение, радио, кино, социальные сети, журналы, театр и даже шоу-бизнес.
Однако традиция (или инерция) работает, и всякий сочинитель хочет, чтоб его книга возбуждала дискуссию, выражала некий протест. Фраза Довлатова – «против чего твоя книга?» – продолжает быть актуальной. Я думаю, эту традицию нужно сохранять: где протест, там и энергия. А энергия для меня – главное.
Были у нас и определённые надежды на экспорт русской литературы: всё-таки за нашими хилыми спинами всегда маячат громадные тени всемирно известных мастеров: Толстого, Достоевского, Чехова, Набокова. Но надежды не оправдались: сейчас на западе русская литература интересна только славистам и оригиналам.
На самом большом в мире литературном рынке – англоязычном – современная русская литература занимает десятые доли процента, и нет никаких предпосылок к изменению ситуации, и никакие пиар-акции, вроде присуждения Нобелевской премии русскопишущей беллетристке Алексиевич, не могут поправить дело. Западную цивилизацию интересуют в основном проблемы трансгендера, харрасмента и гомосексуальности, терпимости к minority (меньшинствам) – русская культура от этого далека. И русский писатель, хотя и получает иногда скромный чек за перевод на испанский или французский, главным образом работает на свою, родную, отечественную аудиторию.
Так, постепенно, к середине десятых годов я как творческая единица обрёл наконец равновесие.
С одной стороны, литература не стала для меня источником заработка; с другой стороны, она дала мне главное: ощущение жизни, проживаемой не зря.
Приоритеты давно расставлены, и главный из них – полное неприятие лжи и фальши.
Для меня нет ничего хуже, чем литературная ложь.
Писательское враньё отвратительно.
Писатель – голый человек, выходящий к людям со своей голой правдой.
Как только он начинает врать – это мгновенно выясняется.
Как только писатель начинает рассказывать о жизни секретного агента, которым он никогда не был, или о жизни профессионального киллера, которым он никогда не был, или о жизни электросварщика, которым он, как ни странно, тоже не был, – ложь мгновенно вылезает в его сочинениях; она возникает в первых же абзацах, увеличивается в размерах, выпирает, поглощает и отравляет весь текст целиком, от первого знака до последнего.
Нет ничего гаже, когда писатель пишет о том, чего он не знает.
Как ни странно, подобного рода сочинители часто добиваются успеха, и даже громкого, международного. Таковы, например, Дэн Браун, а также его приблизительный российский аналог Борис Акунин.
Абстрактное, лабораторное сочинительство, выковыривание из ноздри, высасывание из пальца, изощрённое умствование, оторванное от практики, – отвратительно мне в глубочайшей степени.
Я могу простить любые огрехи языка и стиля, любые недостатки формы, но прямое враньё простить не могу и никогда этого не сделаю.
Ибо литература всегда права, – если она врёт, она перестаёт быть собой.
Живописец никогда не напишет цветок лотоса, не наблюдая перед собой реального цветка; некоторые писатели почему-то пренебрегают этим правилом и рвутся описывать незнакомые и неизвестные им коллизии и ситуации, при этом пребывая в надежде, что читатели им поверят, что цветок будет выглядеть как настоящий.
В основе любого искусства всегда лежит личное, уникальное высказывание, которое всегда есть результат личного, уникального переживания. Личного, и только личного опыта.
Уникальность есть основа настоящего искусства – каждый художник неповторим либо хочет таким стать.
Уникальность достижима только через личный опыт, и никак иначе.
Сидя в четырёх стенах и внимательно изучая чужие труды, нельзя стать ни уникальным, ни вообще сколь-нибудь значимым.
Реальность всегда шире наших представлений о ней; какие бы фантазии мы ни умели воображать – реальность окажется удивительнее, чудеснее и страшнее.
Есть писатели, чья бешеная фантазия пробивает границы реальности, раздвигает их и превосходит. Таковы Жюль Верн, Беляев, Филип Дик. Но в конечном итоге по истечении десятилетий самые изощрённые фантазии самых гениальных фантазёров так или иначе становятся реальными, превозмогая в своей реальности любую фантазию.
Поэтому я всегда выступаю за личный, индивидуальный, уникальный опыт каждого из нас, за собственные ощущения и эмоции, за собственные индивидуальные травмы – как источник нашего собственного индивидуального анализа, собственного интеллектуального, чувственного, энергетического усилия.
Нам не дано управлять собственным воображением. Одни из нас родятся с богатым воображением, другие с менее богатым. Одни становятся гениальными изобретателями и художниками, другим это не под силу.
Но личный опыт индивидуального проживания реальности есть у каждого из нас.
Личный опыт есть у профессора и у конюха, у гения и у простеца.
Личный опыт – это центр тяжести писателя, вообще любого художника, любого творческого человека.
Личный опыт – это киль, погружённый в воду на десять метров, невидимый глазу, но придающий судну остойчивость.
Если с этой позиции мы рассмотрим сочинения Набокова, или Достоевского, или Довлатова – мы обнаружим, что повсюду, на каждой странице эти писатели отталкивались не от иллюзий и абстрактных умозаключений, а от личного опыта.
Что будет с нашей литературой дальше?
За полтора десятилетия – с середины нулевых до сегодняшнего дня – мы пережили несколько кризисов, обусловленных экономической и политической ситуацией. Лопнули несколько издательств, больших и маленьких. Бумажная книга вроде бы уступила позиции электронной книге, но сейчас наметилась обратная тенденция. Тиражи и гонорары упали, но сейчас вроде бы снова поднимаются. Однако все кризисы, пертурбации никак не сказываются на количестве новичков: издательства по-прежнему завалены рукописями; многие тысячи неофитов желают стать русскими писателями.
Так работает громадный, всесильный, всемирный эгрегор русской литературы. Обаяние статуса писателя слишком велико. Мы видим, что никакие кризисы и банкротства не умалили престижа литературного труда. С писателями считаются, их слушают, их считают интеллектуальной элитой.
В литературе денег исчезающе мало или совсем нет; однако парадоксальным образом именно это обстоятельство превратило русскую литературу в некое честное, бескорыстное движение фанатиков, бессребреников, гордых бедняков, сражающихся за идею и за истину, без всякой шкурной подоплёки.
Российское государство внимательно следит, например, за ситуацией в кинематографе, или в театре, или в музейном деле, ибо это капиталоёмкие сферы. Каждый московский репертуарный театр ежегодно получает государственные субсидии, измеряемые миллионами долларов. В кинематограф – ещё больше: вкачиваются десятки миллионов. В литературе такого и близко нет; государство в литературу не лезет, не финансирует; и все писатели, с которыми я это обсуждал, все, как один, говорят: и слава богу, и хорошо, и не надо нам ни субсидий, ни гонораров, ничего, сами как-нибудь выплывем, сдюжим, лишь бы чиновники не лезли в наш огород; свобода важнее.
С чем я всех и поздравляю.
Русская литература остаётся территорией битвы умов и характеров, территорией истины, где невозможна фальшь, обман, кривизна души; это место на духовной карте мира, где белое – всегда белое, а чёрное – всегда чёрное; где мораль презирают, а нравственность обожествляют; это Шамбала, где каждый – как на ладони, где уцелеть могут только настоящие, подлинные, честные, прямые.
Хорошо, что у нас есть наша литература.
Герман Садулаев. 45
На полях
В 2008 году я написал роман «Таблетка». В то время я ещё работал в офисе средней величины корпорации, занимавшейся импортом и дистрибуцией замороженных продуктов питания на позиции «заместителя начальника отдела снабжения по внешнеэкономической деятельности», проще говоря, старшим менеджером по логистике. У меня был один подчинённый: просто менеджер. Роман был полон деталей офисной жизни и городского быта и в то же самое время имел фантастический сюжет и орнаментальные вставки. Я писал роман для издательства «Популярная литература»; знакомые свели меня с издателем, и мы имели даже некие предварительные договорённости. Однако, когда текст был закончен, редактор, прочитав, ответил: конечно нет. Книга не подошла ни по формату, ни по коммерческой перспективе (в связи с отсутствием таковой), ни по политической составляющей, которая тоже была, и весьма саркастической относительно правящего режима. И тогда я отправил рукопись в «Ад Маргинем». Не помню, то ли меня надоумил кто-то, то ли рекомендовал, то ли я сам так решил. В «Ад Маргинем» роман приняли и решили издавать. А из меня сделать модного писателя. Ну, или как получится.
«Ад Маргинем» – это Михаил Котомин и Александр Иванов. Они были очень крутыми. Они издавали Сорокина, Елизарова, Прилепина и всё, что было в русской литературе живого и интересного. Когда-то давно, на заре коммерческого книгоиздания, они начинали с переводов западной философии: наверное, печатали какого-нибудь Жиля Делёза с Феликсом Гваттари, но потом зашли в современную русскую прозу, и зашли громко. Котомин унд Иванов опубликовали мою «Таблетку», и «AD», и «Шалинский рейд», и собрали сборник прозы «Бич Божий». Они были классные. Они работали с автором, работали с текстом до печати и после печати не бросали книжку, как слепого щенка на снег, а «раскручивали» – делали «паблисити». Они зажигали звёзды как настоящие литературные продюсеры. Мне повезло. Мне всегда везло. Я чортов везунчик.
Я ещё успел в последний, плацкартный вагон поезда «литературные звёзды продюсерского центра „Ад Маргинем“». Вскоре мы огорчили и разочаровали своих благодетелей. Сорокин и Прилепин ушли в более крупные издательства, потом и Елизаров ушёл, и с некоторым скандалом, а мы, прочие, не оправдали надежд. Стали известными, но не модными. Или так: модными, но не популярными. Или, может, даже популярными, но в слишком узких кругах. В общем, не потянули ни экономику, ни дискурс. И Котомин с Ивановым отреклись от художественной прозы, тоже не без скандала (Иванов публично заявил: ну что вы, современные романисты, можете написать? Какой такой роман? Вы с Богом разговариваете? То ли дело книги про фотоискусство и дизайн!), и вернулись в дизайн. И в дискурс. У меня на полке стоят шикарные Томас Пикетти и Дэвид Грэбер; кто бы их ещё издал в России, если бы не «Ад Маргинем»?
Но, несмотря на то что выделенная линия с Богом у меня по-прежнему барахлит, я навсегда остался благодарным великодушным своим отцам-издателям; они привили мне вкус к профессиональным занятиям литературой, да и своими пятью минутами славы я обязан исключительно им. Ведь было время, когда меня снимали для рекламы виски «Dewar’s», а садясь в самолёт, я раскрывал журнал «Аэрофлот» и находил в нём статью о своём творчестве с креативной постановочной фотографией.
Что ни говори, а эти годы были осевым временем для моего сочинительства, да и не только для моего. И не только для сочинительства. Я жил тогда в маленькой однокомнатной квартире на улице Дыбенко. И наверное, тогда был счастлив, просто не понимал. Или даже понимал. Да, понимал. Я был молод, мне было 35+, со мной жила моя молодая прекрасная невеста, днём я работал в офисе, зато ночью усаживался на кухне, в тесном промежутке между холодильником и плитой, и улетал – то в Хазарию, а то и куда повыше. Перечитав только что завершённую «Таблетку», утром, после трёх бессонных ночей, я сказал своей невесте: знаешь, я только что написал один из лучших романов своего поколения.
И ведь сбылось. «Таблетка» попала в финал «Национального бестселлера» и в финал «Русского Букера». Артемий Троицкий провозгласил на церемонии вручения «Нацбеста», что этот роман написан в угоду дьяволу и кто за него проголосует, тот выберет Сатану. И даже Ольга Шелест не отдала мне своего голоса. А в «Букере» победил Михаил Елизаров с «Библиотекарем», но я ничуть не был расстроен; с Елизаровым мы шли после шоу по ночной Москве, и я представлял его встречным милиционерам как величайшего русского писателя; милиционеры смотрели уважительно и брали под козырёк. Одна читательница из далёкого русского города писала мне, что чтение «Таблетки» – это как множественный оргазм; я возил её в Петербурге по «местам Семипятницкого»: вот здесь, на берегу Фонтанки, герой «Таблетки» выпростал коробку волшебных препаратов в воду; а здесь он парковал свой культовый «рено-логан» серого цвета. Отрывок из романа в переводе на английский вышел в американском андерграундном журнале «The Goat», а потом и полный перевод вышел книгой в США. Недавно в Париже умудрённый филолог вспомнил «Таблетку» и сказал, что это редкая современная городская проза, такая, какой она должна быть. А ещё Леонид Абрамович Юзефович признался, что когда дошёл в «Таблетке» до описания путешествия героя по подземному туннелю, то понял: с этим автором не всё так просто.
Я всё помню. Почему бы мне не помнить. Не так уж много весёлого и прекрасного в жизни, чтобы забывать то, что было даровано; и глупо думать, что это всё ничего, а главное ещё впереди. Главное везде. И сзади тоже, и с левого, и с правого боку. А впереди либо болезнь Альцгеймера, либо быстрая и яркая смерть – весьма надеюсь на последнее.
В 2010 году мы с моей невестой сыграли нешумную свадьбу в пиццерии близ Таврического сада, на которой были мои литературные друзья: и Дмитрий Орехов, и Валерий Айрапетян, и Андрей Аствацатуров, с которым меня познакомили Котомин и Иванов. В 2011-м мы повторили бракосочетание, теперь уже по индуистскому обряду, согласно моей конфессии, в святом городе Матхура, штат Уттар-Прадеш. А ровно через год родилась моя вторая дочь. Мы поставили в маленькую комнату нашей квартирки детскую кроватку, а летом поехали всей большой семьёй, с родственниками жены и моей старшей дочерью, в Испанию, где малютка сделала свои первые шаги по чёрному вулканическому песку пляжа на Коста-дель-Соль.
Через три года мы разменяли свою маленькую ипотеку на большую ипотеку и переехали в четырёхкомнатные апартаменты. Девушка, которая забирала у нас квартиру, зайдя, слегка затряслась от счастья и от страха, что сделка может сорваться; в нашем ласточкином гнезде была такая атмосфера покоя и блаженства, что покупательница была околдована и просила ради Бога ничего не забирать и ничего не менять, и мы согласились (мы получили хорошую цену). В моей новой просторной квартире полы из итальянской плитки с подогревом, фрески на стенах и антикварная мебель, но никогда я не был и никогда уже не буду так счастлив, как в маленькой «однушке» панельного дома по улице Дыбенко. Если когда-то надумаете повесить обо мне мемориальные доски, то на этом доме прошу выгравировать: здесь он написал три романа и был счастлив.
Впрочем, это, конечно, шутка. В Петербурге так много писателей, художников и прочих артистов, что пришлось бы вешать доски на каждый подъезд в жилых микрорайонах; а на иные и по два, и по три. А «панельки» наши скоро снесут. Раньше, чем выветрится память о нас в продуваемом насквозь городе.
Большие надежды
Хотя начиналось всё, конечно, не с этого. В детстве я мечтал стать полководцем. А также генеральным секретарём коммунистической партии, революционером, миллионером, основателем новой философии или религии и рок-звездой. При всём этом я ни минуты не сомневался, что буду писателем. Собственно, остальное мне и нужно было для того, чтобы написать об этом великие книги. Позже я понял, что вовсе не обязательно самому становиться героем: можно всё придумать. С литературной точки зрения результат будет тот же самый. И это позволит сэкономить энергию и время. Время жизни, которое только одно и быстро утекает. Всё сделать и обо всём написать не успеется; я выбрал обо всём написать.
Да и не было у меня ни единого шанса. Я хотел идти в Суворовское училище. Но к восьмому классу стало понятно, что не пройду по уровню физической подготовки. Я всегда был слабым и болезненным. Я читал про Суворова, своего кумира, что он, будучи нездоровым подростком, закалял себя, в дождь устраивая скачки верхом. И я брал хворостинку и бегал по переулку под осенним ливнем; пешком, лошади у меня не было. Но мне это не помогло.
Читал я с четырёх лет и сразу взрослые книги: «Графиню де Монсоро» и «Порт-Артур». На смерть Брежнева сочинил эпитафию в стихах, потом такую же на смерть своей собаки Жучки. Лет с двенадцати публиковал очерки и фельетоны в районной газете «Знамя коммунизма». С четырнадцати писал стихи, находясь под сильным влиянием Николая Гумилёва и переводов X мандалы Ригведы Елизаренковой. В 16 лет покинул отчий дом, и двор, и баз с многочисленными животными, уехал на поезде в Ленинград, где поступил на юридический факультет Большого Университета. В 17 лет, вернувшись на побывку домой, выгреб из тайника все тетради со своими стихами и сжёг на огороде под старым абрикосовым деревом. В библиотеке главного здания университета на Менделеевской линии я прочитал невыносное дореволюционное издание «Жизни Будды» в переводе Константина Бальмонта.
Эзотерические искания
В 18 лет я решил, что мирской жизни у меня было достаточно, я всё изведал и всё познал, а теперь мне надо уйти в монахи, чтобы достичь просветления. В журнале «Наука и религия» я прочитал о том, что в Ленинграде действует буддийский дацан. Но прежде чем я нашёл дацан, мой товарищ по клубу авторской песни, йог и мистик Антон подарил мне кришнаитское издание «Иша Упанишады». Сидя в ночном трамвае, пересекавшем Неву по Дворцовому мосту, я прочитал, что живые существа – это искры, отлетевшие от великого костра; что нет ничего, всё иллюзия, есть только вечный огонь – Брахман. Я поднял глаза от книжки и посмотрел на ночной Ленинград, на тёмную реку, на мрачные, затухающие лица редких пассажиров гремящего железного вагона и понял, что всё действительно так. В общежитии меня ждали шесть соседей по комнате, две бутылки водки, три альбома группы «Аквариум» и один «Крематория» на магнитофонных кассетах. Я собрал вещи и уехал в ашрам, оставив мёртвым хоронить своих мертвецов и сдавать сессию.
Что во мне всегда нравилось женщинам, так это то, что я был решительным. Если я решал стать монахом, то уходил в первый попавшийся монастырь, если хотел стать рок-певцом, то взбирался на сцену, если задумывался о литературе, то писал роман и посылал в лучшее издательство, если влюблялся, то женился, и однажды даже чуть не ушёл на войну, но об этом позже. Боги и женщины любят смелых. На моём автомобиле наклейка: отвага и безрассудство! Вместо «безрассудства» там другое слово, близкое по смыслу.
Ашрам ленинградских кришнаитов располагался в посёлке Усть-Ижора. Это было деревянное здание в два этажа, крашенное шафрановым цветом. В обители я провёл несколько блаженных месяцев. Мы продавали книги, замотавшись в оранжевые индийские дхоти, похожие на простыни, пели на улицах мантры, вставали в половине четвёртого утра и, облившись на морозе двумя вёдрами холодной воды, медитировали, а по воскресеньям устраивали такие пиры, что все бы умерли от заворота кишок, если бы после поглощения нескольких килограммов острой, пряной, масляной и сладчайшей еды не плясали два часа до изнеможения. Я до сих пор считаю, что это идеальная жизнь для монаха и йога.
Но счастье длилось недолго. Руководитель ашрама, мечтательный интеллигент, решил, что хватит мне висеть у него как медаль на шее и пора мне отправляться распространять знание Вед в ещё более холодные и демонические места. Меня послали в Архангельскую область. Чтобы я основал там местное отделение нашей организации и стал в ней кардиналом. Мне было, чорт возьми, 19 лет. Потом я узнал, что тогда многих так отправляли: слишком большой был поток желающих жить в ашраме. Просто чтобы разгрузить помещения. И никто не вернулся. Все пали жертвами майи, иллюзии.
Я вернулся. Через год я привёз в Петербург на фестиваль колесниц человек двадцать новообращённых индусов. Мы подмяли под себя духовную жизнь в городах Архангельске и Северодвинске, мы выступали на радио и телевидении, заходили в кабинеты мэров, привлекали к спонсорству банки и проводили рок-фестивали «против наркотиков». В 20 лет я был лидером успешной секты и местным гуру. Другие секты нам завидовали. Особенно секта РПЦ, которая полагала, что только она имеет право удовлетворять религиозные потребности граждан и продавать им свечки.
Однако мой духовный заряд стал иссякать. Я внезапно понял, что мир меня всё ещё привлекает, а особенно в нём красивые девушки и искусство. И я не был лицемером. Я передал свой ашрам преемнику, сложил с себя полномочия архангельского кардинала и вернулся в Петербург. В Петербурге меня продержали недолго и отправили в Карелию, чтобы я повторил свой успех. Но Карелии не повезло. Во мне уже не было той энергии. Я сидел в квартире и сочинял под гитару песни для своего первого рок-альбома. А ещё в Карелии я встретил свою первую жену, с которой скоропостижно сочетался браком в Мурманске, по месту её постоянной прописки, в возрасте 21 года. Поскитавшись ещё год, я вернулся в город на Неве и больше не был проповедником и функционером религиозной организации, оставшись верен своему Богу в глубине своего нежного сердца.
Я родился и вырос в Чечне, в семье коммуниста, среди мусульман. Верность – это девиз, который мы можем выбить на своих щитах. Мы никогда не предавали свои идеи. Раз принятая вера не может быть никогда оставлена, до самой смерти и после неё. Хуже всего стать мунафиком, отречься от себя и от своего Бога. Если ты хоть раз произнёс шахаду – ты мусульманин до конца времён. Я не принимал ни ислама, ни христианства; в 18 лет я принял индуизм, и с той поры я индус и всегда им буду, и умру как индус и завещаю кремировать моё тело и развеять пепел над Гангом. Одна жизнь – одна вера. А в моём случае и множество жизней: ведь мы, индусы, верим в реинкарнацию. Что бы ни происходило с моими милыми кришнаитами, я всегда их люблю и восхищаюсь ими. И хотя сам я давно не состою ни в какой организации, не следую строгим обетам и не могу назвать себя кришнаитом, но, как и Джордж Харрисон, могу сказать: хотя я и не один из них, но если весь мир будет против, то я буду за, я буду с ними, с этими клёвыми ребятами из Харе Кришна.
Осколки в сердце
Тем временем из дому приходили дурные вести. Началась война. И ещё раз я понял, что не перерос всё телесное, мирское, национальное. Линия фронта проходила по середине моей груди. В моём сознании. Война шла в моих снах. Я бился в городских квартирах об стены, как волк в клетке, меня страшно тянуло на родину, я чувствовал, что должен взять в руки оружие и сражаться. Проблема была только одна. Я не понимал, на какой я должен быть стороне. Федеральные войска творили ужасные вещи: они бомбили города и сёла, убивали мирных жителей. Но дудаевские нацисты были ещё хуже: они устроили геноцид русского населения и превращали мою родину в концлагерь! И исламские фанатики мне были ненавистны. Я решил, что должен ехать с гуманитарной миссией, чтобы помогать страдающим от войны людям. Кришнаиты как раз организовывали программу «Пища для жизни» и отправляли добровольцев в Грозный кормить обездоленных жителей. Я по старым связям стал напрашиваться. Но меня не взяли.
Теперь я понимаю почему. Слишком горели мои глаза. Миссионеры понимали, что я был и остаюсь сыном этой земли, чеченцем. Приехав в Грозный и оказавшись в центре боёв, сколько бы я выдержал на кухне? Думаю, на третий день я сменил бы поварёшку на автомат и присоединился бы к какому-нибудь отряду, и даже не могу гадать к какому. Скоро я всё же уехал в Чечню. Было, на моё счастье, перемирие. А ещё через несколько лет я оказался там со своей личной гуманитарной миссией: вывозил попавшую под обстрел сестру.
Мы расстались с моей первой женой. Во второй раз я женился на прекрасной девушке Ольге, которая подарила мне первую дочь, названную в честь моей матери. Мы были бедны как крысы. Не было ни жилья, ни толковой работы. Иногда купить хлеб (помню этот хлеб, круглый, «докторский») было праздником. Мы жили у друзей. Потом пытались снимать квартиру. Потом, уставшая от неприкаянности, Ольга вернулась к родителям в Великий Новгород, а я остался в Петербурге и стал приезжающим папой. Пытался найти работу, обитал в подвалах, на чердаках, в мансардах. В 24 года заново поступил в университет и получил комнату в общежитии. А заканчивая юридический факультет, нашёл нормальную работу в офисе индийской компании. Помню, как звонил старшей сестре и радовался в трубку: мне будут платить 150 долларов! А она плакала от жалости и высылала мне вещи и продукты.
Со временем материальная жизнь налаживалась. Но наши отношения с Ольгой расстроились. Я уже мог вполне сносно помогать ей и содержать ребёнка, и часто виделся с дочерью, и растил её, и воспитывал, и никогда не оставлял, ни на один месяц – ведь я чеченец, чеченцы не оставляют своих детей. К тому же я безумно люблю свою дочь. И Ольгу люблю. Но уже, наверное, как сестру и подругу. Мы развелись, когда это было констатацией факта. Может быть, это не имеет отношения к литературе? Тогда что имеет? Всё, что есть в моих книгах, – всё про это: моя вера, моя любовь, мои прекрасные жёны, и мои обожаемые дети, и моя горькая сладкая родина. Остальное – только слова, стили, жанры и литературные приёмы.
Небо и земля
Несколько лет я играл в рок-группе и сочинял для неё песни. Группа называлась «Запредельное небо», у неё были два или три состава в Архангельске, а потом в Петербурге. Мы записали несколько альбомов, выступали на клубных площадках, на областном телевидении, но музыкальная карьера дальше уровня клубного коллектива не пошла. Однажды мой гитарист уволил меня и пригласил другого солиста. С другим солистом дела у них не пошли лучше, но слава богу, что всё случилось именно так. Я был освобождён для литературы.
Настали нулевые, и вступил во владение душами интернет. В интернет и посылали новые авторы свои стихи и прозы. Был портал проза-точка-ру, но это скучное место. Веселее были контркультурщики, сайт удафф-точка-ком. Я читал его, а потом стал и публиковаться. С «удава», как и многие, перетёк на литпром-точка-ру. Этот ресурс был тоже как бы контркультурным, но гораздо более статусным. Как минимум два писателя с «литпрома» и один поэт стали ныне широко-широко известными. На «литпроме» я со своей левой идеей встретил буржуазную обструкцию, да и убедился в бессмысленности чисто сетевой литературы. Тогда я стал собирать свои тексты и смотреть, куда можно отправить их для настоящей публикации.
Редактором небольшого издательства в Петербурге был Николай Кононов. Он прочитал мои рукописи и пригласил познакомиться. И стал моим проводником и учителем на многие годы. Николай Кононов – тонкий, замечательный поэт и прозаик. Его тексты выжигают и переворачивают: а что, разве так можно? Можно, – отвечал мне Кононов. Можно всё (эта фраза станет эпиграфом «Таблетки»). В прозе можно и нужно всё. Я говорил: но у меня такое чувство, что если я выскажу это, то стану предателем. Станешь, – соглашался Кононов. Обязательно станешь предателем. И только так можно стать писателем: вытащив на свет божий свои травмы, всё самое тёмное и сокровенное из закоулков души и из человечьего быта. Я принял это и упразднил внутренние рамки. Хотя это было сложно. Оказалось, что гораздо проще писать про секс и матом (как обязывала контркультура), чем без секса и мата, но о том, что действительно болит. Но именно об этом и надо писать.
Кононов порекомендовал меня Вячеславу Курицыну, который собирал серию новой прозы в издательстве «Астрель», и Курицын взял в печать мою первую книгу, составленную в основном из текстов «литпрома» и в этом духе. Книга называлась «Радио FUCK» и вышла в 2006 году. Курицын – удивительный и талантливейший человек. Позже я с ним немного повздорил на идейной почве, но это, как теперь понимаю, пустое. Книга прошла незамеченной. И всё же это было: держать в руках тёплый, пахнущий полиграфией экземпляр своей первой книги. Сейчас такие радости уже недоступны. Сколько бы ни было ещё книг, если они будут, но первая останется первой.
В то же время я посылал совсем другие свои рассказы, о Чечне, о детстве, о войне, в «толстые» литературные журналы. Журнал «Новый мир» отказал. А журналы «Знамя» и «Континент» опубликовали. С редакциями, особенно «Знамени», у меня сложились тёплые отношения. А потом и с «Дружбой народов». Ещё меня публиковала «Роман-газета» и «Нижний Новгород», а на малой родине журнал «Вайнах», но это случилось позже.
Ультрас культуры
А потом был Кормильцев. Я нашёл страничку его издательства в интернете. Увидел картинку инопланетянина и подпись: «Всё, что ты знаешь, – ложь». И понял, что «Ультра. Культура» – это то самое место, которое мне нужно. Когда редактор мне ответил, я написал: а Вы правда Тот Самый Илья Кормильцев? Да. Это был он. Автор текстов песен культовой группы «Наутилус Помпилиус». Он собрал мои рассказы в сборник и дал ему имя: «Я – чеченец!» Маленькая синяя книжка с орлом на обложке давно стала библиографической редкостью. Но я её не переиздавал. Она остаётся памятником Кормильцеву. Это его книга ровно настолько же, насколько моя.
Содержание книги составили рассказы и повести, публиковавшиеся в журналах и новые. Большинство сюжетов основаны на моих воспоминаниях, но есть и легенды, услышанные и прочитанные мной. Одним из источников были «Царапины на осколках» чеченского писателя Султана Яшуркаева: в знак преемственности я дал одному тексту подзаголовок «осколочная повесть». Илья Кормильцев умер в госпитале в Лондоне в 2007 году. Султан Яшуркаев скончался в Бельгии в 2018 году. С Кормильцевым мы несколько раз встречались и стали дружны. Я навсегда запомнил этого удивительного человека. Мне не довелось лично пообщаться с Яшуркаевым. Всё откладывал, хотя была возможность. И вот не успел. Может быть, они встретятся там, в полях счастливой охоты. Может, и я в свой срок к ним присоединюсь. А если там ничего нет и всё закончится, когда затухнут колебания нейронов в коре головного мозга, что ж. Мы что-то сделали, мы нацарапали на осколках свои имена и правду о нашем времени. Это была славная охота! Нынешняя жизнь тоже имеет трансцендентное измерение. Илья всегда понимал это.
После публикаций в журналах и выхода книжки «Я – чеченец!» меня стали узнавать в литературном и читательском мире. Многих эти тексты тронули до глубины души. Были и ненавистники. Жизнь закипела. А ещё меня пригласили на «форум молодых писателей», ныне всем известные «Липки». «Липки» – это подмосковный пансионат, где фонд Сергея Филатова каждый год собирал пару сотен авторов до 35 лет со всей России, для цикла семинаров, практикумов и лекций. И это последняя ласточка нашей юности, для меня и многих других, перешагнувших рубеж 35-летия. В «Липках» я узнал, что существует многообразная и мощная литература моего поколения, познакомился с Захаром Прилепиным, Андреем Рудалёвым, Сергеем Шаргуновым, Алисой Ганиевой, Валерией Пустовой и многими другими. А наставником в одну из прекрасных годин был Юзефович, непререкаемый авторитет для всех нас.
С большой радостью всегда упоминаю Захара Прилепина. Захар мой товарищ, и я этим чрезвычайно горжусь. Но дело не только в этом. Прилепин – не просто звезда современной литературы, он собиратель русской словесности, он словно бы заново её учредил на выжженном постперестроечном пространстве. И ещё он святой. У него все качества святого, как они описаны в индийских книгах, таких как «Махабхарата», и, наверное, в христианских книгах тоже. Он лишён зависти, он всегда счастлив успехами друзей и помогает, где только может. Из моих читателей самое меньшее треть – это те, которым меня порекомендовал Захар. И не счесть сочинителей, которым он открывал дорогу. Хотя не все остаются благодарными. Так уж устроены люди. Но я вспоминаю Коран, который читал иногда отцу: Аллах не любит несправедливых. А справедливых, наоборот, любит. И Бог любит Захара. И это хорошо.
Вообще, думая о нашем литературном обществе, я понимаю, что это лучшие люди. Соль земли. Потому я, наверное, и остался в занятиях литературой, имея всего лишь скромный, умеренный дар. Чтобы быть рядом с плеядой таких замечательных личностей. Снова вспоминаю юность, когда я пришёл в ашрам и впервые увидел рядом с собой множество парней, посвятивших себя поиску истины. И ведь не суть важно, в какой конфессии и на каком пути. Это ошеломляет. После общения с обычными людьми, которых интересуют только деньги, или карьера, или удовольствия, или бытовой комфорт. Недавно Прилепин говорил мне, что очень хорошо себя чувствует на Донбассе именно поэтому: вокруг такие же, как он. Понимающие, для чего живут. Не для себя. Не для прихотей своего бренного тела.
Каждый ищет свою стаю. И избравший себе путь высокий ищет стаю птиц, летающих так же высоко над облаками, чтобы сверять с ними свой курс. Иной находит в монастыре, иной в батальоне на передовой. Иногда мне кажется, что хотя бы отчасти наше литературное общество, мои прекрасные друзья – именно такая высокая стая, летая рядом с которыми невольно поднимаешь голову вверх и напрягаешь крылья.
Графоманы и обезьяны
Самая большая проблема современной русской словесности, на мой взгляд, это колоссальное перепроизводство текстов. Редактор одного крупного издательства признался, что в день к ним приходит «самотёком» до 3000 рукописей. Это немыслимо. Выходит, что в России пишется около миллиона книг в год. Как следствие – непрочитанность. Многие и многие прекрасные книги, даже пройдя сквозь фильтры публикации, остаются невостребованными. Потому что читать их некому. Если бы каждый из миллиона пишущих в России читал в год одну, две, три или пять книг своих современников, мы получили бы огромную ёмкость читательской аудитории. До пяти миллионов экземпляров современных книг ежегодно были бы не только напечатаны, но и прочитаны! Беда в том, что даже писатели не читают или читают только классику. Хорошо, конечно, учиться у Бунина и Чехова, но невозможно стать хорошим сочинителем, не находясь в контексте современной тебе литературы.
Писатель – это прежде всего читатель. В этом его квалификация. Чтобы написать одну страницу качественного текста, нужно прочесть сто, тысячу страниц, и не только признанной классики, но и новой словесности. Иначе безнадёжно застрянешь в анахронизме или будешь «изобретать велосипеды», не понимая, как далеко уже продвинулась литература. В литературе надо учиться и сознательно подражать хорошим примерам; так, парадоксально, рождается что-то новое. А если никого не знаешь и не читаешь, чтобы «не испортить своей оригинальности», то, скорее всего, выдашь что-то глубоко вторичное. Например, сотни и тысячи нынешних поэтов, которые пытаются быть «совершенно оригинальными», автоматически оказываются эпигонами Бродского, потому что оригинальность тоже была испробована до них много раз, они просто этого не знают.
В России около миллиона человек, которые что-то пишут и хотели бы издаваться. И не больше ста тысяч активных читателей, по моим расчётам и ощущениям. И если это действительно так, то это катастрофа для современной русской литературы. Современная словесность потеряла свой базис, свою опору, своего читателя. Активный читатель – это тот, кто регулярно читает не только классику, мировые бестселлеры, развлекательную беллетристику, учебные и профессиональные издания, но и актуальную словесность. Таких людей чрезвычайно мало. На сто миллионов взрослых и грамотных российских граждан – всего 0,1 %, один на тысячу! Для нормальной жизни русской литературы хватило бы 2–3 %, но и того нет.
Мне кажется, странное явление десятикратного численного превосходства писателей над читателями объясняется атавизмом. Модный профессор Сергей Савельев объясняет, что в человеке ещё слишком много от обезьяны. Человек, как обезьяна, хочет доминировать над другими обезьянами. Он замечает, что тот, кто доминирует, – говорит (пишет), а остальные слушают (читают). Обезьяна в человеке решает: для того чтобы доминировать, я буду много писать (говорить), а читать (слушать) никого не буду. Так я стану самой доминирующей обезьяной. И пишет, пишет, пишет. Только ни над кем такая обезьяна не доминирует, так как её никто не читает. А она обижается: вон я сколько написала! Почему вы меня не признаёте доминирующей особью в вашем литературном стаде? Это и есть: графомания.
В культуре всё наоборот. Чтение и слушание – самые важные способы производства человеческого в человеке. Того человеческого, что превосходит и противостоит обезьянству. На Востоке говорят: тот хорошо умеет говорить, кто умеет хорошо слушать. Лев Толстой много писал. Но читал он ещё больше. Это закон. Экономический закон литературы.
Книги рождаются от книг. Написанные книги – от прочитанных книг. Конечно, важен и непосредственный человеческий опыт. Однако он играет роль вспомогательную. Главное – это книги, которые писатель прочёл, из которых он узнал, как и о чём можно и нужно писать. По-другому не бывает. Книги рождаются от книг, как люди от людей, а слоны от слонов. Меня всегда смущает то, что по сравнению со своими товарищами я сущий невежда. Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Андрей Аствацатуров, Роман Сенчин, Валерий Айрапетян прочли неимоверное количество книг, старых и новых, русских и зарубежных. Не только сами тексты им известны, но и обстоятельства их написания, и биографии авторов.
Недавно мы сидели в Париже в маленькой, заваленной книгами квартирке славистки Кристины Мейер, и Шаргунов что-то рассказывал: «…и вот, когда Валентин Катаев умер, в 1987 году…» – «В 1986-м», – заметил до того молчавший в кресле Сенчин. Они свободно переходили от одного автора к другому, от почвенников к эмигрантам и далее к французам, и всех читали, обо всех знали. Я чувствовал себя идиотом, не мог вставить ни слова. Добило меня, когда жена Шаргунова, восхитительная Толстая-младшая, бегло перечислила все романы Набокова, задавая какой-то вопрос Прилепину, который вступил с ней в спор. Я сказал хозяйке: можно я помогу убрать посуду? Хоть чем-то буду полезен. Но и в этом мне было отказано.
В своё оправдание могу сказать только то, что есть специфическая область литературы, в которой я более или менее начитан. Это индийский эпос, философия, а также древняя литература Европы. И антропологические штудии. Наверное, не все мои друзья прочитали «Махабхарату», «Рамаяну», «Бхагавата-пурану», упанишады, карики, Брахма-сутры, Старшую и Младшую Эдду или трактат Пьерджузеппе Скардильи о готах (готы – моя вторая любовь, после индусов). Но это не извиняет моего слабого знания русской литературы второй половины XX века, включая эмигрантскую, и зарубежной литературы. Ведь сам я сочиняю не сутры, а романы на русском языке. Я пытаюсь восполнить пробелы и читаю. И обязательно стараюсь прочесть за год хотя бы несколько книг своих современников. Иногда это сложно. И, пробравшись через главу-другую Михаила Тарковского я, на сон грядущий, чтобы успокоить ум и душу, снова беру в руки книжку с закорючками и разбираю сладчайший средневековый санскрит.
Языки: живые и мёртвые
Знание языков для писателя если не обязательно, то весьма и весьма полезно. Корней Чуковский отмечал, что основоположники русской литературы: Пушкин, Лермонтов, Толстой и другие – свободно читали на трёх, а кто и на пяти языках. А те, кто не были так образованны, канули потухшими звёздами, словно упали в затянутый ряской пруд. Это, конечно, слишком категоричное утверждение. Немало у нас было светил отечественной словесности, которые, кроме русского языка, никакого толком не знали. Тот же Максим Горький, хоть и прожил лучшие свои годы в Италии, так и не научился ни говорить, ни читать по-итальянски. И кажется, вполне сознательно отстранял себя от иноязычия. Хотя живо интересовался европейской жизнью и просил каждодневно переводить ему важные заметки из итальянских, французских и немецких газет. И всё же знание иностранных языков расширяет пространство творчества, помогает лучше понять собственный язык как средство литературного производства.
Особенно интересно было бы знать французский язык и читать в оригинале французскую литературу. Потому что вся современная беллетристика вышла из французского романа, а русский литературный язык создан под большим влиянием французского. Знание французского языка помогло бы видеть тайные пружинки и скрытую механику русской письменной речи. К сожалению, неуч, селянин, я вовремя языков не выучил. Французский сейчас пытаюсь учить, но даётся нелегко. В юности смог худо-бедно освоить английский язык. Хватило, чтобы сдать на пятёрку при поступлении в университет. Потом много читал по-английски; правда, в основном индологическую литературу, конфессиональную и академическую. Ведь труды лучших санскритологов мира до сих пор не переведены на русский язык: что-то переведено из Макса Мюллера, но совсем ничего из Яна Гонды. Из художественной литературы по-английски в оригинале я читал только Джорджа Оруэлла. Когда я был впервые в Лондоне по приглашению издательства «Харвил энд Секар», мне подарили прекрасное издание «1984», пришлось прочесть. А потом и «Скотный двор» – втянулся в Оруэлла.
Интересуясь древней индийской письменностью, я самоучкой изучал санскрит. Разобрался с алфавитом деванагари и стал немного понимать тексты на санскрите, хотя до академического уровня мне, увы, далеко. И всё же это потрясающее до дрожи чувство: читать и повторять слова, составленные в строки две или четыре тысячи лет назад, зная, что именно так они и звучали. Живые языки нужны, чтобы разговаривать с живыми людьми. А мёртвые – чтобы разговаривать с мёртвыми.
Мой последний роман, «Иван Ауслендер», по счастливому стечению обстоятельств попал в финал премии «Ясная Поляна». Герой романа – профессор санскрита, находит вторую жизнь и запасной аэродром для своей души в древней филологии. Представляя роман, член жюри, добрейший и интеллигентнейший человек, писатель, автор потрясающего «Лавра», знаток древнерусской письменности Евгений Водолазкин сказал: «Учите древние языки! Они будут вам утешением в круговерти переменяющихся времён».
Главная заслуга в продвижении моего «Ауслендера» принадлежит издателю, «Редакции Елены Шубиной». Елена Даниловна впервые редактировала меня ещё в «Вагриусе», книжку «Пурга, или Миф о конце света». Тексты мои были, честно говоря, неудачными. Но Шубина ещё тогда сказала: когда-нибудь я с вами по-настоящему поработаю. И настало время, когда я достаточно окреп и созрел для этого. Публиковаться у Шубиной – это уже само по себе награда и великая честь. «Ауслендер» сделан был идеально и подан так, что нашёл именно своего читателя.
Фольклор
Чеченской бабушки, которая рассказывала бы мне сказки и пела колыбельные на чеченском языке, у меня не было. Да и у кого была? В наше время бабушкой был телевизор, программа «В гостях у сказки». Литературного чеченского языка я, к глубокому своему сожалению, не знаю. Неплохо понимаю разговорный, но читать и писать не могу. Порой, увидев слово или фразу по-чеченски написанными, я не сразу их узнаю. Дело ещё и в том, что чеченский язык недостаточно унифицирован. Письменные нормы создавались на основе какого-то иного диалекта, сунженского или горского, я не знаю. В моём, шалинском варианте чеченского, как я заметил, многие гласные редуцированы, а согласные звуки смягчены.
У меня была русская, казачья бабушка, терская казачка, станичница. Она рассказывала нам, мне и сёстрам, страшные истории про Гражданскую войну, про послевоенные годы, про старые времена. И это были удивительные рассказы. В них председатель колхоза уживался с волками-оборотнями, а казаки лейб-гвардии императорского конвоя – с русалками. Русалки были необыкновенными: никаких рыбьих хвостов, жили они на деревьях, воровали фрукты из казачьих садов, во всём походили на людей, только были голыми. Были среди них и мужчины, и женщины. Последнюю русалку застрелил из кремневого ружья один наш прапрадед. Легенды бабушки вошли в роман «Таблетка», стали важной частью этого текста.
А чеченский фольклор я читал в переводах на русский язык. По чеченским сказкам я сочинил реконструкцию чеченского мифа, «Илли», которая была опубликована в «Знамени», а потом переведена на арабский язык. Недавно я составил развёрнутый пересказ с комментариями средневековой чеченской героической песни о свадьбе сына вдовы. У меня целый сборник таких песен, и, если хватит времени и сил, я ещё поработаю с этим источником.
Сборники и раритеты
Кроме упомянутых уже изданий, проект «Современная литература» выпустил сборник моих рассказов «Зеркало атмы». Критики его не удостоили вниманием, зато отметили эзотерики. Сейчас, пока я пишу эти строки, в эксклюзивном туре йогов и веганов по Индии ежевечерне устраиваются чтения текстов из «Зеркала атмы», завершаемые коллективной медитацией с обязательным впадением в транс.
Особая редкость – свёрстанная мною самостоятельно на популярной издательской платформе и распечатанная в двадцати экземплярах повесть «Наисс», о походе готов в римские земли около IV века нашей эры, дань моей любви к истории готского племени. Ещё где-то в журнале «Аврора» есть повесть, название которой я и сам уже забыл, она больше нигде не публиковалась. И стихи: подборка моих стихов вышла в журнале «Нижний Новгород», её поставил туда сам Прилепин. И Сенчин напечатал вторую подборку в своём журнале. Стихи я обычно публикую просто у себя на странице в социальной сети; за это Николай Кононов отписался от меня, ведь он меня предупреждал: Герман, только стихов не пиши. Не умеешь ты этого.
Помимо собственных книг, я участвовал своими рассказами и эссе в нескольких сборниках: «Русские женщины», «Русские дети», «Это футбол!», «Мужчины о любви», в нескольких томах «Литературной матрицы» и в других компендиумах. В сборнике «Семнадцать о семнадцатом» я соседствую с великим и ужасным Виктором Олеговичем Пелевиным, а цитата из моего рассказа вынесена на обложку. А вот в сборник «В Питере – жить!» меня не взяли. Аствацатурова взяли, а меня нет. Наверное, поэтому «В Питере – жить!» стал одной из самых продаваемых книг в магазинах Петербурга.
Сборники выходили либо в «Эксмо», либо в петербургских издательствах. У издательств в Петербурге своя уникальная традиция, редакторами в них люди кровь от крови, плоть от плоти русской литературы. И не только как издатели они имеют влияние, но и как авторы. Для меня всегда остаются любимыми авторами, а также ориентирами уважаемые старшие товарищи из петербургской «могучей кучки»: Павел Крусанов, Сергей Носов, философ Александр Секацкий, Александр Мелихов, ушедший в поля счастливой охоты Виктор Топоров и другие.
Публицистика
Я написал две книги чистого нон-фикшн. Одна вышла в серии «Инстанция вкуса» издательства «Лимбус Пресс» под названием «Марш, марш правой!» – это был сборник моих статей на социальные и политические темы. Вторая – в «Альпине» и называлась «Прыжок волка: очерки политической истории Чечни».
В разное время я работал для разных изданий: журналов «Огонёк», «Русский репортёр», «Однако», публиковался в газетах и на интернет-ресурсах. Записывал аудиоролики для радиостанции «Эхо Кавказа» и так далее. В 2017 году меня назначили главным редактором газеты Санкт-Петербургского отделения КПРФ «Питерская правда».
А ещё я целых два сезона был телеведущим. Ведь каждый русский писатель после смерти попадает в телевизор. У меня была авторская программа «Выбор Германа» на канале «СТО ТВ», я приглашал на неё всяких гостей, от Невзорова до Черниговской, и устраивал интеллектуальную инквизицию. Программу закрыли вместе со всем телеканалом. Теперь на этой частоте «Life 78». Ведущий Илья Стогов, горячо и безответно любимый мной писатель, автор знакового «Мачо не плачут», пригласил меня на программу, где я разгромил чиновников за то, что два месяца не могут убрать помойку в моём дворе. Помойку вывезли на следующее утро. Недавно Стогов меня опять звал, но я не смог прийти. На разных прочих шоу, и у Кургиняна, и на Первом канале я тоже бывал и тоже кого-то всегда громил. И даже «Рен-ТВ» хотело снять у меня в гостях сюжет о древних рукописях, инопланетянах и Атлантиде, но потом они куда-то пропали; может, ещё позвонят.
Партия и выборы
В 2012 году я вступил в Коммунистическую партию. В 2016 году баллотировался от коммунистов по одномандатному округу в депутаты Государственной думы. Выборы проиграл, депутатом по моему округу стал кандидат от правящей «Единой России» скандально известный Виталий Милонов. Что ж, это был увлекательный опыт. И вполне в литературной традиции: Эдуард Лимонов тоже пару раз участвовал в выборах и проигрывал их. Может быть, когда-нибудь, выброшенный на свалку, я буду рассказывать товарищам по несчастью, что был кандидатом в депутаты парламента страны! И коллеги-бомжи будут качать пропитыми головами: ага, заливай. Избирательная кампания послужила мне материалом для дико смешной короткой повести «Жабы и гадюки», которая вышла в виртуальном издательстве «Русский город», под кураторством моего товарища, отличного писателя Дмитрия Орехова.
Заграница, дворцы и виллы
Однажды я прожил целых три месяца в Германии, в литературной резиденции на вилле Генриха Бёлля. Это было прекрасное время, я смог полностью перезапуститься. Сердечно благодарен за это и за многое другое своему бывшему литературному агенту Галине Дурстхофф. Галина пыталась продвигать меня западному читателю много лет и продала права во многие страны. Недавно она прекратила сотрудничество со мной ввиду сильной загруженности: её автор, Светлана Алексиевич, стала нобелевской лауреаткой, и заказы посыпались как из рога изобилия. Возможно, была и другая причина: после Крыма русские писатели, занявшие «ватническую» позицию, стали персонами нон грата в иностранном литературном мире. А я, конечно, русский империалист, чего уж тут скрывать. Даже великий наш сверстник Захар Прилепин лишился многих контрактов. Но я думаю, со временем всё восстановится. Захар недавно был во Франции и снова, как всегда, имел ошеломительный успех у публики.
На литературных мероприятиях я побывал в Америке, раза три в Англии, во Франции много раз, в египетской Александрии, в Берлине, в Мюнхене, в Италии и даже в Алжире. Книжка «Я – чеченец!» была переведена и издана в Германии, Англии, Испании, Португалии, Финляндии, Польше, Хорватии, Франции. Сборник «Бич Божий» вышел на сербском языке. Какая-то книга, кажется «Шалинский рейд», переведена на китайский язык. «Таблетка», как уже говорил, напечатана в США на английском.
Получив гонорар за немецкое издание, мы с женой на эти деньги купили в Эстонии, в тихом депрессивном городке Азери, квартиру. Квартиры там очень дёшевы. Теперь у нас есть «дача» в Эстонии. Это нормально. Каждый петербуржец должен иметь дачу в Эстонии или в Финляндии. Это со времён империи наша дачная территория. Эстонию я люблю. И кстати, уважаю её самостийную, по-чухонски сделанную государственность. Правда, однажды Эстония аннулировала мне визу, за мои выступления в русском политическом клубе города Таллина. Но развития эта история не получила, в какие-то особые «чёрные списки» я не попал, сделал новую визу и продолжаю ездить к себе на дачу.
Сейчас в соавторстве с польским товарищем Гржегоржем Пасеком мы пишем сценарий к фильму «Стаи голубей летят через горы», который будет поставлен в Польше, и получили уже половину гонорара. Я думаю, может, на эти деньги купить маленькую дешёвую квартиру в испанском городе Аликанте (квартиры в «цыганском квартале» этого города стоят как подержанный автомобиль)? Нужна ведь обитателю холодного Петербурга дача и в тёплом краю, чтобы было где погреться. Но супруга против. Она говорит, что у нас и так слишком много недвижимости: не успеваем везде пожить, а квартплату вносить надо. Наверное, она права. Вот ведь некоторые люди понакупают себе дворцов, а сами и не заходят в какие-то из комнат по году и более. Сейчас жена в Москве снимает комнату, учится на театрального режиссёра у Райкина-младшего, старшая дочь тоже в Москве, в общежитии, учится в университете на инженера, младшая дочь у бабушки, учится раскрашивать картинки и самостоятельно надевать колготки, а я один брожу по пустой большой квартире с картинами и джакузи, скучаю. В загородную свою резиденцию, арендованную для работы, успеваю съездить только через день. Разве человеку надо много недвижимости? Помнится, у меня был один диван в комнате при офисе, где хранились образцы табачного сырья. Но спалось на нём ничуть не хуже. Когда заснёшь, так вообще и не помнишь, где спишь: в люксовом отеле, в апартаментах или в подвале. Хотя в апартаментах всё же лучше, приятнее просыпаться.
Премии
Литературные премии оживляют наш книжный пейзаж, опустошённый отсутствием читательского интереса. Они важны и нужны. Благодаря премиям писатель может надеяться, что хотя бы жюри какого-нибудь конкурса прочитает его творение. И ведь эти читатели самые лучшие, самые квалифицированные. К тому же премии обычно дают для участников банкет.
«Таблетка», как уже упоминалось, прошла в шорт-лист «Нацбеста» и «Русского Букера». «Шалинский рейд» побывал в финале «Русского Букера» и «Большой книги». А «Иван Ауслендер» стал финалистом «Ясной Поляны» и премии «НОС». Первые места я нигде не получал. Если не считать премии «Эврика», у которой была короткая судьба, и премии журнала «Знамя». И премии газеты «Советская Россия», а также «Литературной России» за 2017 год.
Ещё за роман «Таблетка» я стал «человеком года» по версии журнала «Собака.ру», в номинации «Литература». На помпезном мероприятии при вручении приза я произнёс речь: «Знал ли я, простой сельский юноша, „понаехавший“ в блистательный Санкт-Петербург, что заслужу такое признание и стану частью культурной истории этого города!»
Перевод на французский книжки «Я – чеченец!» попал в финал конкурса «Русофония» в Париже. А однажды Фонд Горького свозил меня на сказочный остров Капри, потому что итальянский перевод моего рассказа вошёл в шорт-лист премии Горького. Дальше короткого списка дело, как обычно, не пошло, но неделя на Капри была незабываемой. Там я написал рассказ, вошедший в сборник «Новые сказки о Капри»; он есть и в аудиоверсии, записанной чудесным актёром.
У меня на шкафу есть место, где я собираю грамоты и почётные дипломы о своём коротко-списочном триумфе. Шкаф высокий, и дипломы не бросаются в глаза. Но если встать на стул, тогда видно. Когда мне становится грустно, я встаю на стул и понимаю, что всё, в принципе, не так уж и плохо.
Жизнь удалась
Так называется самый знаменитый роман нашего петербургского автора, руководителя Союза писателей, в котором я состою, Валерия Попова. Роман, кстати, очень грустный. Трагический. Мне вот-вот исполнится 45 лет. В принципе, программу, назначенную себе в детстве, я выполнил. С поправкой на карму. Полководцем я был ещё в школе: в военно-патриотической игре «Зарница» я руководил крупным подразделением, ведь я был председателем совета дружины! Триста пионеров строились на плацу под моим руководством, и я вёл их на победный парад мимо трибун центральной площади села Шали. Региональным вероучителем я тоже побывал, когда мне ещё не было двадцати. Рок-звездой: сделано, играл на электрогитаре, пел, на марафоне «Голосуй, а то проиграешь!» исполнил песню собственного сочинения «Козлиные игры», про всех кандидатов в президенты. Бизнесом занимался, заключал миллионные контракты на поставку табака российским фабрикам, которые в тот же год разорились. Чуть было не стал депутатом и влиятельным политиком. И писателем, конечно. Я ухитрился стать неудачником во всех областях человеческой деятельности. Обычно человеку надобно для этого много жизней; я уложился в одну, по ускоренной программе. Всё сделал, а что не сделал, то придумал, и никакой разницы.
Ведь главная цель жизни для нас, индусов, – это освобождение. Чтобы уйти и никогда не возвращаться обратно. Для этого надо избавиться от желаний. А лучший способ избавиться от желаний – это исполнить. Чтобы больше незачем было приходить. Хотя я, конечно, вернусь. Мне здесь нравится. Да и уходить я пока не собираюсь. Не так быстро.
Леонид Абрамович как-то сказал мне: в России надо жить долго. Иначе «не щитово», иначе не зачтётся. Потому что здесь всё происходит медленно и трудно. Слишком сильная гравитация. А если жить долго, то не надо получать всё и сразу, ведь тогда нечем будет занять остаток дней. Если сразу получить первый приз в «Большой книге», то чего ждать, на что надеяться все последующие годы? Если слишком быстро окажешься на вершине, тогда потом только спускаться вниз, а вниз спускаться всегда печально. Поэтому у меня есть ещё для себя задания. Я хочу написать новую книгу, такую, чтобы строгий критик Вадим Левенталь сказал: «Вот это настоящий роман», а не обзывал его, как обычно, «сборником публицистики». Ну и какую-нибудь первую премию наконец получить, например «Ясную Поляну», уж очень она мне понравилась.
А если мне не суждено протянуть так долго, то жалеть не о чем. И бояться нечего. Ведь смерти нет, есть только затухание колебаний нейронов в коре головного мозга, так чего нам бояться и о чём печалиться? Мне было весело тут. Это была славная охота.
Александр Секацкий. О писательской и читательской биографии
Парадоксы писательской биографии
Поступило предложение, которое можно назвать даже бесхитростным: написать о своем творческом пути. Действительно, что тут сложного: припомнить, что с тобой было, что прочел, что переосмыслил, что случилось в промежутках, – и записать. Я и хотел было пойти этим путем, но сразу понял, что шлейф житейских событий, как правило, не имеет прямого отношения к читательской, а следовательно, и к писательской биографии. Создаваемый избыток пафосных моментов, конечно же, искажает картину.
Канва человеческой жизни (житейской жизни) является в итоге некой вмененной системой отсчета для описания авторствования и «читательской карьеры». Также обстоит дело и со сферой обещаний и вообще Л-сознанием, которому вменено требование отвечать за свои слова, а в идеале вообще за все слова. И вот писатель (поэт, художник) вступает в сложившийся канон «рассказа о творчестве». Возможно, он вспомнит о том, как в детстве прятался на чердаке. И непременно расскажет что-нибудь про суровую школу жизни, даже если «жизнь брала под крыло, берегла и спасала» (А. Тарковский). Затем вспомнит то, что любил читать, среди прочего и оказавшие влияние книги. Читателю может показаться, что это уж точно по делу, ведь есть молчаливое предположение о том, что читательская биография плавно переходит в писательскую (если вообще переходит и включается намерение письма). Однако и тут далеко не все так просто.
Начнем обратную раскрутку именно с этого момента, ведь момент «что читал автор и как это трансформировалось?» является самым важным для детектива-литературоведа, если только он не адепт психоаналитического направления – тогда у него, конечно, будут другие приоритеты расследования.
Отследить влияния и вправду важно, концепция «anxiety of influense» Хэролда Блума стала когда-то своеобразным открытием в филологии и работает до сих пор. Но здесь следует сделать существенную поправку: карта влияний отнюдь не тождественна читательской биографии.
Заслуживает пристального рассмотрения самый простой тезис: писатель в качестве читателя читает то, что ему захочется, а пишет то, что пишется. Конечно, корреляция здесь существует, и достаточно серьезная. Во-первых, читаем мы не только для своего удовольствия: в достаточно большом количестве профессий это работа, порой ее основная часть. Собственно, нормальная научная работа, особенно в гуманитарной области, состоит в некотором преобразовании имеющихся текстов с целью получения нового, точнее говоря, еще одного текста, который не был бы полностью идентичным уже имеющимся. Это своего рода труд, заслуживающий уважения, – но все же не это мы называем письмом и тем более литературным творчеством.
Во-вторых, никакое чтение не проходит совсем уж бесследно, и влияние какой-нибудь вдохновляющей книги на конкретную книгу вполне может быть решающим – и все же слишком часто писатель склонен лукавить и запутывать следы. Что касается меня – я уверен в одной простой вещи (и не раз проверял ее): невозможно сделать хоть сколько-нибудь достоверный вывод о читательских предпочтениях того или иного писателя на основе анализа результатов его собственного письма. С равным успехом он может любить книги, близкие его эстетическим задачам – и противоположные, выбираемые по принципу дополнительности. Страшно сказать, но предпочитаемые для непринужденного чтения книги могут и вовсе не принадлежать к общепризнанной «хорошей литературе». Я знаю писателя, который всем литературным шедеврам на досуге предпочитает книгу «Рыбы русских озер», причем не для того, чтобы усовершенствовать искусство рыбалки. Просто ему нравится читать эту книгу (и подобные ей) – и все тут. А писать нравится совсем другое. Речь идет о достойном писателе.
Возникает резонный вопрос: хорошо, пусть так, пусть чтение есть особый, автономный мир – но что же тогда влияет? Ведь есть же замысел, есть манера письма, существуют и рукописи, оставляемые, бросаемые на полуслове. Есть свидетельства о дарении (вручении) сюжета: Пушкин «подарил» Гоголю сюжет «Мертвых душ», Катаев – Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев»… Я бы не сбрасывал со счетов и проницательное соображение Витольда Гомбровича: «Можно искать много причин для объяснения гнева, пафоса или иронии в том или ином произведении писателя – но действующей причиной может оказаться то, что автор случайно в самом начале нажал на клавишу гнева или меланхолии – и все как бы само пошло, и неплохо пошло…»
А как же жизненный опыт и связанные с ним озарения, пробудившие в писателе писательский дар? Как же вопросы, которые так любят задавать читатели, приходящие на творческую встречу? И журналисты, берущие интервью? Что все-таки побуждает писателя пускаться во все эти рассказы, как он в детстве прятался на чердаке – причем в действительности не важно, был ли чердак в доме детства или его не было вовсе?
Мне кажется, что главным побуждением к некоторым преувеличениям (назовем их так) является необходимость рассказать историю. В спорте есть, например, понятие зрелищности, за это зрители так любят, скажем, футбол, хотя зрелищность не обязательно приводит к чемпионству. В литературе сразу множество понятий соответствуют идее зрелищности, и писатель свое умение рассказать историю должен демонстрировать при каждом удобном случае. И даже при неудобном – как раз к этому роду относится рассказ о творческой эволюции, мотивации и логике собственного письма.
Таким образом, мы должны держать в уме по крайней мере две поправки – ну, может быть, одну двойную. Во-первых, жизненный опыт не является чем-то универсально необходимым и непременно полезным для писателя. Для поэта, например, он скорее вреден – и вот почему. Хрупкая, ранимая душа содержит совокупность тонких резонаторов, способных реагировать на самые дальние миры, на тихие шорохи и далекие зарницы, как правило невидимые в толще повседневности. Для поэта нет ничего важнее, чем сохранность этих резонаторов, позволяющих прослушивать зов бытия во всем диапазоне. Уточним: полнота контактного проживания – это основа человеческой экзистенции, и, конечно же, к ней нужно стремиться для того, чтобы жизнью жить. Но при этом тот, кто во мне поэт, должен быть освобожден от груза жизненных неурядиц, поэту-во-мне нужна скорее некая легкая неприкаянность, позволяющая быть не от мира сего в моменты высшей востребованности. Писатель, отвечающий за сюжет и психологическую убедительность деталей, безусловно, использует жизненный опыт и сверяется с ним. Точно так же и в еще большей степени он использует данные своей читательской биографии. Но и они не дают объяснения тому, почему и как он задействует механизм письма.
Следует далее отметить, что одно дело – периферийное авторствование, выполнение социального заказа в той или иной форме, и другое – само интимное священнодействие, беда которого лишь в том, что о нем очень трудно рассказать интересную историю… Можно только выразить удивление в отношении той внутренней принудительности, которой сопровождается самозабвенность письма и, следовательно, творческое перевоплощение. То вдруг окажется, что «мадам Бовари – это я», то выяснится, что «Изида захотела мобильник» – как объяснял художник Мурад Гаухман комплектацию одной из своих работ: ему пришлось буквально впечатать, втиснуть мобильный телефон в картину. Однако из этих элементов онтологической принудительности рассказа не составить.
Кстати, и с социальным заказом не все так просто: казалось бы, определись с тем, что хотят (или за что заплатят), и пиши. Но даже тут самое важное будет зависеть от собственной составляющей письма. Многие великие испанские живописцы писали в основном на заказ, и, кажется, это не слишком повлияло на их художественную мощь. Теперь, однако, учитывая внесенные поправки, пора перейти и к какой-нибудь истории – о прочитанных книжках и вехах творческой биографии.
Прежде всего хочется представить сводку размышлений о «карьере читателя». Я считаю, что она, будучи опытом пребывания в воображаемом мире, исключительно важна для человеческой персональности, независимо от того, осуществится или нет опыт собственного письма, и уж тем более независимо от того, получит ли он признанность. Стоит задуматься, например, над такой простой вещью, как «находиться в состоянии чтения», – нам известно об этом не так много, как может показаться.
Мы обычно рассматриваем чтение в категориях результата, разделяя прочитанное и непрочитанное: эту книгу я читал, эту нет, после чего следует оценочное суждение: хорошо, так себе, никуда не годится. Из перечня, однако, поразительным образом выпала такая категория, как книга, читаемая сейчас, – именно она представляется мне важнейшей. Мы обычно как раз и находимся в состоянии текущего чтения, продолжая при этом проживать жизнь, притом что погруженность в читаемую книгу, даже если книга в данный момент отложена, есть порой решающий элемент содержания повседневности.
Процесс чтения уместно сравнить с эмбриогенезом: зародыш, прежде чем появиться на свет, как бы пробегает в своем развитии краткую историю жизни, и биологи до сих пор не пришли к единому мнению, для чего это нужно. Вот и читатель проживает своеобразную историю, независимо от того, погружен ли он в атмосферу авантюрного романа, метафизического трактата или исторического сочинения. Поэтому существуют читатели первого дня и, например, читатели четвертого дня. Я готов предположить, что для некоторых книг быть читателем четвертого дня является оптимальным состоянием, но почему-то не принято за это хвалить книгу; как уже отмечалось, оценка опуса традиционно основывается только на итоговом результате. Однако в моей читательской биографии немало благодарностей такого рода – они относятся и к философским текстам. Порой самые интересные мысли возникают на полпути, на дистанции, но срабатывает презумпция, основанная на фетишизме последней страницы: не выносить суждения, пока последняя страница не перевернута. Если бы мне нужно было поделиться опытом читательской биографии и дать совет, я посоветовал бы не считать промежуточные состояния чтения чем-то неполноценным: пребывать в читательском эмбриогенезе ничуть не менее (а иногда и более) достойное положение, чем опираться только на готовый результат и восстанавливать впечатления исключительно ретроспективно.
Иногда я также представляю себе что-то вроде краткосрочных клубов общения «читателей второго дня»: мы все продвинулись до определенного рубежа в той или иной книге, до конца еще далеко, но почему бы нам не обсудить текущие впечатления? Они могут оказаться нетривиальными, более интересными, чем взвешенная оценка. И мы можем оказаться наиболее интересны друг другу именно в этом качестве читателей второго, третьего, четвертого дня, в качестве людей, пребывающих в чтении одной книги. Как раз в этом случае мы были бы «однокнижниками» по аналогии с одноклассниками.
Тут есть еще одна любопытная тема, которую можно определить как неизбежность расплаты за удовольствие. Со времен споров между эпикурейцами и стоиками считается установленным, что между интеллектуальными наслаждениями, такими, например, как радость познания, и разного рода «плотскими утехами» существует принципиальное различие, даже ряд различий. У радости познания отсутствует порог насыщаемости.
Однако расплата за любовь к чтению, безусловно, существует – если иметь в виду именно бескорыстную любовь к чтению, а не целенаправленное чтение, вызванное необходимостью, например необходимостью профессионального совершенствования. Быть может, именно в России возмездие за бескорыстную любовь к чтению наиболее ощутимо. Неприспособленность к реальности – лишь одно из следствий этого непреодолимого влечения. Поколения начитанных мальчиков и барышень, любящих их за это, регулярно оказывались на обочине истории (это еще в лучшем случае), не будучи в состоянии ничего сделать ни для себя, ни для своей страны.
То есть расплата за интеллектуальное удовольствие, каковым является свободное и самодостаточное чтение, по-своему очевидно. И это серьезная расплата, включающая в себя психологические, экзистенциальные и исторические последствия, в чем надо отдавать себе отчет. И все-таки я убежден, что сделанный выбор стоит того – как минимум по трем причинам.
Во-первых, человек, вообще не причастный искусству, не способный реагировать на символическое, едва ли живет человеческой жизнью. Во-вторых, часы, дни, месяцы, а в итоге и годы, проведенные в воображаемых мирах художественной литературы, относятся к лучшему времени нашего пребывания на земле.
Ну и в-третьих. Социально-историческая неудача (а может, даже и катастрофа) зачитавшихся поколений – это пробные, авангардные попытки, на основании которых пока рано судить о грядущей роли чтения в становлении души, в сохранении человеческого в человеке. Что-то подсказывает мне, что время востребованности для постоянных абонентов придуманных миров еще наступит. Лишь бы удалось удержать навык самозабвенного чтения и свободного вхождения в мир иноприсутствия через портал открытой книги. Цивилизация, которая сумеет сохранить и будет бесстрашно культивировать такое пребывание в иномирности, получит огромное преимущество (в частности, из-за неизбежного оскудения электронных пастбищ, очевидного уже сейчас).
Тогда, возможно, обретет новый смысл расхожее выражение «попасть в переплет». Оно будет значить войти в мир книги самым естественным путем, просто открыв ее и углубившись в чтение. Притом никто не станет делать удивленные глаза, если услышит такой афоризм на основе новой трактовки: «Для того чтобы попасть в переплет, достаточно просто жить в России».
Теперь надо рассказать какой-нибудь интересный случай из писательской биографии. Описывать случаи, правда, у меня не очень получается, для этого нужно быть настоящим писателем, так что скорее речь идет о наблюдениях и попутных соображениях. Одно из них касается пресловутого уровня минимальной культурности, состоящего в умении отличить Гоголя от Гегеля.
Так случилось, что и тот и другой относятся к разряду моего любимого чтения, причем этот выбор определился в довольно позднем возрасте, мне было уже лет двадцать. Между Гоголем и Гегелем есть в действительности некоторая общность, которую я сначала уловил чисто интуитивно, но вскоре осознал. Это общее, в частности, состоит в умении и даже в какой-то естественной потребности предоставлять слово самому сущему, не заботясь особо о степени его человекообразности. Гегель свободно транслирует волю Абсолютного Духа, ведет речь от имени Понятия, Субстанции и Действительности, Субъектом изложения также могут оказаться Рефлексия или, например, Закон, ну и, конечно же, Государство. При этом момент передачи речи ощущается не сразу, многоголосие скрывается за внешним монологизмом изложения, что и создает ауру воистину чарующего философского текста.
Гоголь тоже то и дело дает слово самим вещам – и в развернутых роскошных метафорах, и прямым текстом. Каждая вещь у помещика Собакевича, как известно, кричала, что «она тоже Собакевич», и ей, разумеется, было предоставлено слово в поэме. Содержимое карманов бурсаков («Вий») рассказывает и о себе, и о бурсаках – то же можно сказать и о люльке Тараса. Мир оповещает о себе на разнообразных наречиях вещей, и художник – тот, кто умеет их услышать да нам передать. В действительности у этих двух авторов есть и другие моменты общности: ну, например, оба просто гениальны, когда свободны в своем созидании и готовы заступить по ту сторону добра и зла – и как же невыносимы у них нравоучительность и назидательность, к которой оба, увы, были склонны. Поздний Гоголь как будто и вовсе не имеет отношения к своей же восхитительной ранней прозе. Да и Гегель – лучшие страницы «Феноменологии духа» и «Философии права» дышат свободой и глубиной проникновения в суть вещей. «Война должна время от времени потрясать основы общества, чтобы показывать подданным их господина – смерть», – пишет Гегель в «Феноменологии духа». Но когда он переходит к морализаторству (как и Гоголь) – просто туши свет, куда девается потрясающая проницательность.
Кстати, схожие проблемы и у Льва Толстого. Но встречается и удивительно точный моральный пафос, примеры чему – Достоевский в русской литературе и Аристотель в мировой философии.
Так или иначе, и Гоголь, и Гегель относятся к моим любимым авторам. Томик Гоголя я брал с собой в Антарктиду. А иногда, выходя из дому и зная, что придется долго ехать на общественном транспорте, я беру с собой ту или иную книжку (они стоят рядом) и, уже достав ее из сумки для чтения в пути, узнаю, кто это – Гоголь или Гегель. Тут важно вновь ответить, что эти книги я люблю читать, но сам писать так не могу, да и не хотел бы.
В то же время я много раз ловил себя на том, что полемизирую с мыслью, промелькнувшей в книжке, которую я даже не дочитал, и уж точно не стал бы перечитывать добровольно в качестве свободного читателя, хотя в качестве автора собственных текстов приходится это делать.
Чтение есть отдельная жизнь внутри жизни. Как и письмо, о чем уже сказано. «Карьера умного читателя» практически не связана со служебной карьерой, но что касается письма, то я сравнил бы его с пожизненной попыткой спасения души.
Человеческая экзистенция опирается на бытие-к-смерти, на факт нашей неминуемой смертности. Иногда и религию как таковую рассматривают как необходимость что-то противопоставить неизбежной в противном случае смерти и забвению. Некоторые считают, что в основе всякой веры лежит простой детский силлогизм. Когда-то ребенок, впервые и вдруг понял, что он умрет, – и это стало важнейшей экзистенциальной и психической травмой: как, я умру? Я, центр мира, я, «из живого самое живое», и вдруг умру? Но как же быть? Ребенок мучительно ищет выход и что-нибудь находит, например такое: «Но может быть, если я буду хорошо себя вести, если буду слушаться маму, может, тогда я все-таки не умру?»
Этого утешения хватает, увы, ненадолго – однако сам подобный процесс может быть описан как родовые муки души, как событие несчастного сознания, с тем уточнением, что другого сознания и не бывает. И после провала детской надежды в дело вступает ее улучшенная версия: если я буду слушать(ся) Бога, то, может быть, не умру. Или точнее: весь я не умру…
Антропологически и исторически смысл религии, конечно, не в этом. Но детские нотки чаяния и отчаяния, несомненно, присутствуют в настоящем полномасштабном опыте веры, они присутствуют даже в самой изощренной теологии, даже там сохранилась эта формула затаенной надежды: если я буду слушаться, то не умру…
Античная забота о себе (эпимелея) представляла собой удивительно сложную, многоярусную, но гармоничную конструкцию. Христианская забота о себе как бы отбросила многомерность и за счет этого была предельно интенсифицирована: спасти то, что поддается спасению, – вот каким стал ее девиз. Некоторым образом душа-христианка, в отличие от греческой психеи, как раз и определилась как то, что подлежит и поддается спасению.
В основу христианской заботы о себе был положен мерцающий силлогизм, не соответствующий никакой логической фигуре:
Лучшее, что во мне есть, спасется.
То, что спасется во мне, что вообще подлежит спасению, есть лучшее.
В силлогизме, очевидно, отражена переменная, мерцающая модальность. Аподиктическая часть гласит: душа (спасаемое) есть лучшее во мне. А проблематическая часть говорит: душа, возможно, спасется. Стоило бы, однако, поменять модальности на противоположные и посмотреть, что получится. А получится примерно следующее:
Что-то во мне, безусловно, спасется, не исчезнет («нет, весь я не умру»).
Это что-то, возможно, есть лучшее («душа в заветной лире»).
Сущностная, предельная мотивация письма базируется именно на этом неистребимо детском, но чрезвычайно действенном силлогизме, который и можно рассматривать как credo всякого автора, как писательское кредо по преимуществу. Да, интенция письма опирается на целый спектр побудительных мотивов, притом что отдельные спектральные линии могут присутствовать или отсутствовать в спектре мотивации каждого конкретного автора. Вот некоторые из них: обрести формы иночувствия – в двояком смысле, как возможность что-то чувствовать, реагировать через синтезируемые образы и персонажи и как возможность вселиться, внедриться в душу читателя, чтобы он был умен твоим умом и чувствовал твоими чувствами. По сути, эта мотивация входит в состав идеи спасения души посредством письма. Бросим теперь взгляд на остальные составляющие авторствования, реализующие определенные стратегии письма.
Авторствование как стяжание славы мира сего либо с расчетом, что эта слава меня переживет (так поступают «посмертники»), либо без такого расчета («эфемеры»).
Затем. Письмо как выполнение формальной задачи, подобной тем, которую решали и другие авторы. По сути, речь идет о создании опуса, и автор думает: почему не разобраться, как эта штуковина (опус) устроена, а разобравшись, почему бы не создать нечто в том же духе?
Еще. Письмо как способ заработка и устройства в жизни – обычно этот мотив интенсифицируется по мере частичного удовлетворения прочих, но бывает и самостоятельным, и даже самым главным – как раз в случае эфемеров. И тут следует заметить: вопреки романтическому мифу, родному для каждого художника, подобная мотивировка вовсе не обязательно ведет к провальному результату. Достойный опус возможен при любом раскладе, ибо, ничего не поделаешь, дух дышит, где он хочет.
Еще. Попадание в принудительность творимого мира. Мало ли, что этот мир только что тобою выдуман, – как только контуры его проявились и его принципы обнаружились, им теперь приходится следовать. Автор вроде бы по-прежнему волен прикончить того или иного персонажа на той или иной странице – но гравитация образа уже оказывает свое нарастающее воздействие. Запретом или допущением отклонений теперь повелевает инстанция вкуса, а ею, в свою очередь, как раз та инстанция, пред которой и накапливаются грехи художника-автора, и нет в этом вопросе никакого третейского суда. Можно, наверное, сказать, что накапливаются и заслуги, хотя, скорее всего, «избранность к спасению» есть вердикт, выносимый в связи с отсутствием прегрешений перед инстанцией вкуса…
Это далеко не все спектральные линии совокупной мотивации авторствования, и перечислил именно их потому, что все они так или иначе знакомы мне изнутри. Да, вот еще одна: творчество (письмо) как эротическое приношение. Как дар для возлюбленной, и блаженны времена, когда такой дар принимается и засчитывается за дар, вызывает ответные чувства. Но не все времена и эпохи таковы.
Вернемся, однако, к спасению души как важнейшему и предельному мотиву письма. Логика надежды такова: то, о чем ты пишешь, остается и некоторым образом спасается. Но что это и где здесь ты? Автор христианской и постхристианской эпохи, независимо от того, является ли он верующим или атеистом, в глубине своего существа разделяет идею, что спасаемое и есть душа. Пушкин и здесь прав и не превзойден с образом заветной лиры, хотя, скорее, это лира вместе с запечатленной в ней музыкой. Мы могли бы назвать это и памятью, но вновь приходится вспоминать Августина, утверждавшего, что «память и есть сама душа». Но если все-таки снизить пафос и обратиться к образу Мандельштама:
Он учит: красота – не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра, –мы признаем, что так поэт может описать любой опус, любой отлично сработанный, без сучка и задоринки. Но когда мы ставим задачу описать процесс – хищного и точного глазомера будет недостаточно. Тут сама работа предстает как преобразование времени.
Каждая форма человеческого присутствия задействует свое время. Есть собственное время битвы, время страсти, странствий, время ожидания, скуки – возможное равенство их проекций на ось циферблатов и календарей не должно вводить нас в заблуждение, как и объем, занимаемый разными сущностями и существами в пространстве. Времена человеческого бытия в основном несоизмеримы друг с другом, но время письма включает практически все из них, создавая гомеопатические переживания, высвечивая тайные закоулки собственной души и приводя к катарсису. Все это целительные, исцеляющие процедуры, и если уж слово спасение для кого-то резонирует непомерным пафосом – что ж, пусть будет исцеление. Замечу, исцеление в значительной мере независимое от полученного результата, каковым является опус.
Подтверждением сказанного является и столь распространенная сегодня арт-терапия – устранение депрессивных состояний и ряда психических расстройств с помощью прежде всего практики, именуемой «storytelling». В психиатрическом смысле иногда возникает развилка, альтернатива – письмо или безумие. Существует немало писателей, для которых эта альтернатива значима.
Спасительная роль письма подтверждается онтологическим феноменом рассказа как изобретением повествовательного, нарративного прошлого.
Человечество не сразу обретает возможность пережить нечто, не предъявляя при этом переживаемого. Рассказать о чем-то как о бывшем, а значит, рассказать и о себе, есть форма своеобразной благосклонности свыше, предоставляемая людям далеко не сразу. Вот дождь: он не может поведать о себе посредством рассказа, для этого дождь должен идти и неизбежно быть мокрым, стучащим по крыше, предъявляющим лужи и струи вместо сухого описания. Но человек может рассказать о дожде, не предъявляя дождя, обходясь без луж, без грома и молний. Согласно Вольфгангу Гигеричу, современному метафизику, долгое время боги являлись только через задействование настоящего и поэтому заполняли все время присутствия. Их явление – например, церемония жертвоприношения – было больше похоже на дождь, гром и молнию, чем на рассказ. Обретенная однажды возможность просто рассказать о чем-то, не предъявляя объекта, не загромождая настоящее, стала настоящей экзистенциальной революцией.
Если обретение возможности рассказывать и слушать рассказ позволяет собирать воедино целостность мира, наделять происходящее глубиной, то обретение письма восстанавливает целостность души.
Точнее, смутность и расплывчатость жизни оформляется в определенность души – и что, собственно, мешает назвать это спасением? Если даже результаты письма оказались невостребованными, речь может идти о пожизненном спасении души или о такой попытке. Если же востребование состоялось и писатель (автор) обрел признанность, то и посмертное спасение оказывается на кону времени. По крайней мере, перед нами вырисовывается единственный эмпирически подтвержденный вид долгосрочного бытия-в-посмертии.
Писательская жизнь за пределами текста, в сущности, ничем не отличается от любой другой человеческой жизни, скажем так: нет никаких явных следствий. Вот, допустим, девушка занимается фитнесом – и это сразу видно, следствия налицо. Актер может отличаться повышенным артистизмом и в повседневных контактах, обладатель той или иной психотехники может применять ее. В конце концов, и умный человек способен предъявить свидетельства своего ума. Но все это никак не характеризует житейского присутствия писателя.
Скорее уж уместно говорить об отрицательных «житейских» следствиях захваченности письмом, следствиях, которые пожизненная признанность еще и углубляет.
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» – как тут опять не согласиться с Пушкиным – он прав. Равно как и Толстой, указавший главное направление писательской сублимации: лучшее – книгам, а близким – то, что останется. В действительности удивление вызывает скорее другое: как много прощается художнику вообще и писателю в частности – об этом, в сущности, написан «Алмазный мой венец» Валентина Катаева. Но и признанность, и снисходительность, и другие подобные преференции обналичить ценностями слишком человеческого нелегко. Нужен, по крайней мере, вкус к жизни, определенная квота разнообразия, чтобы не все бросать в топку для переработки и «творческого осмысления», кое-что оставлять и для проживания…
Тут многое зависит от тусовки, наличие которой, в свою очередь, в немалой степени определяется везением. Как, например, решить проблему совмещения разнородных, порой взаимнопротиворечащих потребностей писательской души? Ведь требуется совпадение нескольких позиций. С одной стороны, подтверждение признанности – это означает, что тусовка (дружеская компания) сама по себе должна иметь высокий статус, правда не столь важно, гласный или негласный.
С другой стороны, соответствующая референтная группа (тусовку ведь можно назвать и так) должна руководствоваться и принципом полной доверительности: любые встроенные предосторожности, например такие, которые применяются во время «встреч с читателями», разрушили бы структуру свободного дружеского времяпрепровождения. Есть еще ряд условий. Среди них – возможность радовать друзей новыми опусами, что предполагает некую общность читательских предпочтений и даже эстетических принципов. То есть удовольствие от плодотворной референтной группы содержит больше спектральных линий, чем «удовольствие от текста», о котором говорил Ролан Барт.
Значит, момент везения необходим, и мне в этом отношении повезло. Уже почти два десятилетия существуют петербургские фундаменталисты – прекрасная дружеская компания, в которой совпали все перечисленные условия, а также еще несколько неперечисленных. Павел Крусанов, Сергей Носов, Татьяна Москвина, Сергей Коровин, Наль Подольский – этот дружеский круг существует в мерцающем режиме, то собираясь для какого-нибудь дела (поддержать Новороссию, обменяться мыслями и соображениями, отметить ту или иную дату – мало ли какие дела могут возникнуть), то оставаясь на связи, оставляя друг другу тексты, вопросы и реплики для дальнейшего обдумывания.
Подольского, правда, нет среди живых, но нельзя сказать, что его совсем нет среди нас, поскольку одно из неназванных условий правильной тусовки – это пожизненная и посмертная принадлежность к дружескому кругу. То есть через дружескую компанию осуществляется краткосрочное спасение души – как бы в ожидании длительного, возможно, окончательного вердикта, который нам заранее никогда не известен.
Роман Сенчин. Пишу по ходу жизни
Всегда как-то неловко рассказывать о том, как я работаю, откуда беру сюжеты, как вообще этим делом – писательством – занялся. А вопросы во время встреч задают или читатели, или потенциальные читатели, или журналисты.
Есть в таких рассуждениях нечто нескромное, поучающее, что ли. И волей-неволей начинаешь как бы наставлять тех, кто писать хочет, но или не имеет способности, или боится. Но кто я такой, в общем-то, чтобы это делать?
К тому же присутствует и некая тревога – переход произведения из головы на бумагу или на экран компьютера все-таки тайна, чудо (даже если окажется, что переход получился неудачным, текст слабый и его стоит спрятать в нижний ящик стола или в тайную папку компьютера). Заниматься препарированием тайны и чуда – страшновато.
Но с другой стороны, часто тянет всерьез поразмышлять о том, каким образом рождается повесть, рассказ, роман, очерк, статья, рецензия. В первую очередь для себя. Остановиться на некоторое время, оглянуться, задуматься. Есть ощущение, что это породит новое, свежее, неожиданное, чего, как мне кажется, каждый литератор, даже самый успешный, хочет.
Поэтому я отрываюсь от своей новой повести и оглядываюсь назад, всматриваюсь словно бы в чужое, в то, что написал двадцать, десять, пять лет назад. В начало повести, которая пока что составляет несколько страниц в тетрадке.
В советское время очень часто употреблялось такое выражение, ставшее чуть ли не заклинанием: все начинается с детства. Мы, тогдашние подростки, посмеивались над ним, были уверены, что в любой момент можем стать другими, что детство было глупым и напрасным временем, а взрослость – это и есть настоящая свобода.
Но жизненный опыт – а какой-никакой он у меня имеется – показывает, что то старое выражение справедливо: почти все закладывается в человека в детстве, там предопределяются его интересы, его занятие… Исключения, конечно, случаются, но это именно исключения.
Я родился и вырос в далеком от мегаполисов городе Кызыле, имевшем в 70-е годы тысяч семьдесят населения. Но Кызыл сам по себе был городом самодостаточным, являлся столицей автономной (а до 1944 года независимой) республики – Тувы. И в нем, укрытом Саянскими горами, сложилась своеобразная культура: этакая смесь славянской и центральноазиатской, сибирской и монгольской (дух империи Чингисхана был силен и в те годы).
Монотонная тувинская музыка меня завораживала, а позже я услышал такой же ритм в композициях американских протопанковских групп и стал их поклонником. Как говорили мне лингвисты, эта завороженность отразилась на моих прозаических текстах, их ритмическом строе, особенно девяностых – нулевых годов. Может, так оно и есть.
В нашей квартире была большая библиотека – во всех трех комнатах стены закрывали не ковры, а стеллажи с книгами. От пола до потолка… Живя среди книг, невозможно оставаться к ним равнодушным.
Не могу сказать, что я с ранних лет поглощал одну книгу за другой. Нет, читал, скорее, не очень много, но как-то основательно. Понравившуюся мог не отпускать от себя годами. «Остров Сокровищ» перечитал в то время раз пятнадцать; повести о Васе Куролесове Юрия Коваля, «За березовыми книгами» и «Изыскатели» Сергея Голицына, книгу «Ожидание лета» Владимира Ляленкова – тоже по нескольку раз за достаточно короткий период.
Этот опыт внимательного чтения потом мне пригодился. По крайней мере, при писании рецензий, отзывов, что в нашем деле, которое включает в себя и большую долю ремесла, а не только полет фантазии и приступы вдохновения, – очень важно.
Больше всего лет в семь – десять меня увлекала приключенческая литература, исторические романы. Стивенсон, Майн Рид, Купер, Жюль Верн, Джеймс Шульц (его доставшуюся мне и так истрепанной книгу «Ошибка одинокого бизона» я дотрепал до полной непригодности). Даже Вальтер Скотт не казался мне занудством, я вгрызался в его романы, как малограмотный средневековый человек в манускрипт. А вот ни одного романа Александра Дюма я осилить не смог…
В то же время стал пробовать сочинять и сам. Пытался продолжать произведения Жюль Верна, Купера. Написал, помню, довольно большой кусок – как это сейчас называется, приквел – «Острова Сокровищ»: как пираты Флинта грабят корабли… Но в итоге это занятие показалось мне каким-то стыдным, что ли, будто ворую чужое. И я переключился на другую тему.
Впрочем, как я потом обнаружил, некоторые литераторы не видели ничего плохого в том, чтобы брать чужих героев, – в журнале «Вокруг света», например, я обнаружил повесть некоего Делдерфилда «Приключения Бена Ганна»…
Кстати, статьи и очерки из «Вокруг света», которого у нас дома было очень много – комплекты аж с 40-х годов, спровоцировали меня на следующий этап моих читательских пристрастий и писательских опытов. Я бросил читать художественную литературу и занялся трудами серьезных историков, хрониками и летописями, очерками по истории географических открытий Магидовичей… Очень быстро чтение переросло в желание написать о том или ином историческом факте подробнее, ввести живых людей. И я стал писать романы о Крестовых походах, путешествиях мореплавателей, Корниловском мятеже… Главным героем становился какой-нибудь эпизодический исторический персонаж, упоминаемый в хрониках или трудах один-два раза… Помнится, у меня был моряк, который умудрился поплавать и с Колумбом, и с Магелланом.
Романы мои начинались классически: «Название, жанр (чаще всего я замахивался на роман), далее: Книга I… Часть I… Глава I… I…» Но после нескольких страниц я понимал, что получается нечто смешное, и бросал, начинал новое. Вскоре и это бросал, делал следующую попытку, потом еще одну и еще…
Как большинство советских детей, я много времени проводил на улице, но не могу сказать, что пропадал там. В общем-то, был домашним ребенком. Уроки в школе мне не нравились, делать домашку – тоже. И я стал хитрить: обложившись учебниками, раскрывал тетрадь и строчил свои романы. И когда родителей вызывали в школу из-за моей вопиющей неуспеваемости, они поражались: часами ведь сидит за столом!
Конечно, книги – не только их чтение, а присутствие в доме – сыграли большую роль, но узнал я, что писать может простой смертный, а не какие-то избранные полубоги, благодаря своему отцу.
Он занимался литературой, и иногда его рассказы и повести выходили в местных альманахах и газетах. Отправлял он рукописи и в центральные журналы, но в ответ получал вежливые ответы: «не подошло», «портфель редакции заполнен на годы вперед», «нужно еще поработать». Так называемый самотек, который, как я потом убедился, наблюдая жизнь литературных журналов и издательств, не имеет ни малейшего шанса не только быть опубликованным, но и переданным сидящим на этом самом самотеке редактором в отдел прозы, поэзии и т. п. Поэтому в литературе так важна фигура самого автора, знакомства, рекомендации. Ничего криминального в этом нет. Хотя в идеале текст должен быть альфой и омегой. Но почему-то нам так важно знать, например, кто написал «Слово о полку Игореве», или «Роман с кокаином», или «Четвертые сутки пылают станицы…», а биографии писателей мы читаем порой с бо́льшим интересом, чем их собственные произведения…
Отец много лет писал исторический роман о периоде, предшествовавшем принятию будущей Тувы под протекторат (покровительство) России в 1914 году. Изучал архивы, собирал труднодоступный тогда материал. Предлагал роман в том числе и в местное книжное издательство, но там возмущение вызывало одно только название – «Урянхай». Так до 1921 года называли территорию Тувы и в России, и в Монголии, и в Китае. И на политических картах мира начала ХХ века можно встретить южнее Енисейской губернии кусочек земли с надписью «Урянхайский край».
По сложившемуся мнению, «урянх» означает «оборванец». И хотя достоверных подтверждений, что Урянхайский край переводится с какого-либо языка как «Страна оборванцев», нет, слово это считалось у тувинцев оскорбительным. Но не так давно вышел роман тувинского писателя под названием «Урянхайцы», существовал некоторое время журнал «Урянхай» на глянцевой бумаге. Возникло модельное агентство «Урянхай»… А в советское время за него могли предать обструкции, что, в общем-то, и случилось с моим отцом.
Вообще русский писатель в национальных республиках СССР – это тема особая, печальная и малоизученная историками литературы.
Когда мне исполнилось лет двенадцать, а сестре Кате, значит, десять, начался период семейных чтений.
Родители, конечно, читали нам вслух и до этого, но то были детские книжки, перед сном, а тут – серьезные. Читал обычно отец, но по странице-другой поручалось и нам с сестрой, а иногда, когда ей нечего было штопать, и маме.
Так, вслух, были прочитаны «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» (повести эти совсем не детские, и герои – не дети, а подростки), «Преступление и наказание», «Мартин Иден», «Деньги для Марии», рассказы Шукшина (очень ярко запомнилось потрясение финалом «Охота жить»), рассказы Чехова…
По сути, эти чтения открыли для меня ту литературу, которую я перечитываю до сих пор, новые образцы которой ищу, которую пытаюсь – почти всегда, как сам потом осознаю, неудачно – писать.
Именно в то время, лет в двенадцать-тринадцать, я заметил, что окружающая меня жизнь тоже интересна. Что о ней тоже можно рассказывать на бумаге. Случаи в школе и отношения между собой одноклассников, пацанов и девчонок во дворе, словно от другого времени оставшиеся старики и старухи, жившие в избах на окраине Кызыла, в районе под названием Кожзавод…
Кстати, так называемый крестьянский труд тоже оказал на меня довольно большое влияние в плане тяги писать. У нас были дачи – на самом деле огороды, – мы держали кроликов, для которых заготавливали сено, вязали веники из тальника, чистили их клетки; часто ездили по грибы и ягоды…
Кто работал на огороде, знает, сколько времени занимает прополка грядок. Сидишь и часами вырываешь сорняки. Или сбор ягоды – тоже довольно тягомотное занятие. Голова моя сама собой заполнялась разными фантазиями, придуманными историями, а потом и превращением в рассказы (бросив писать о прошлом, я перешел к жанрам рассказа и повести) случаев из реальной жизни. Иногда рассказ формировался до того полно, что потом, добравшись до тетрадки с ручкой, оставалось только записать.
И до сих пор, приезжая к родителям (они живут в деревне) и поработав в огороде, я бегу к письменным принадлежностям, чтоб зафиксировать то, что нарождалось во мне, пока выдергивал из грядки лебеду, свекольник, мокрец…
Писал лет в тринадцать-пятнадцать я очень много. И не просто писал, а, что называется, работал над текстом – перечитывал написанное, вносил правку, переписывал заново раз, другой, третий… Мне нравилось этим заниматься. Это как склеивать модели кораблей (было у нас тогда распространенное увлечение, и иногда хочется снова встретить запах того особенного клея, что находился в каждом наборе и которого все время не хватало). Но склеиваешь по не тобой созданной схеме, а здесь ты сам себе хозяин, можешь делать со своими героями все, что хочешь. Правда, герои были непослушные, то и дело вырывались из моих рук.
Да, мне нравилось возиться со своими рассказами и повестями, но появился и страх – нормальный ли я вообще, что переписываю одно и то же, меняя при этом отдельные слова, иногда убирая или добавляя абзацы? Но тут мне попалась какая-то книга, а в ней рассказ Гоголя о том, как работает он. Я обрадовался этому рассказу как подтверждению, что делаю правильно.
С тех пор, замечая, что слишком резво довожу новую вещь до, как мне представляется, готового к публикации состояния, я достаю листочек со словами Гоголя, перечитываю и остываю… Думаю, что полезно привести этот рассказ – устный, записанный Николаем Бергом, но вполне достоверный, так как согласуется с мыслями Гоголя из писем друзьям:
«Сначала нужно набросать все как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и где не хватит места – взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час – вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз – как бы крепчает и ваша рука; буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина».
Я и сейчас стараюсь придерживаться этого правила и почти все, кроме срочных колонок, рецензий, писать сначала от руки… Помнится, раньше писателя в фильмах, мультиках изображали строчащим свои вещи сразу на машинке. Мне трудно это представить. Думаю, это утрирование, этакий штамп. Хотя все возможно.
Я застал эпоху пишущих машинок, и те рассказы и повести, стихи (а стихосложением я занимался, и позже оно переросло в написание текстов для рок-групп, в которых я пою как могу), пьесы (и в этом роде словесности я себя пробовал), которые считал достойными того, превращал в машинопись.
Это дело ответственное – одно не то слово, и приходится стирать его ластиком, не та фраза – печатай страницу заново. Когда в 2002 году я сменил пишущую машинку (у меня тогда была электрическая, «Самсунг», но она сломалась) на компьютер, то вскоре стал замечать, что отношусь к набору текста без того трепета, что раньше, – теперь понимал, что не то слово можно легко заменить другим, фразу, которая тебя сейчас не устраивает, исправить позже… Или оставить так…
Весной 1986 года – значит, в четырнадцать лет – у меня появилась уверенность, что несколько рассказов – коротеньких и простеньких по форме и содержанию – я довел до того, что их можно показать другим людям. Дал прочитать родителям, и они меня похвалили и, наверное, поняли, почему их сынок так плохо учится и не делает домашние задания, хотя и сидит за письменным столом бо́льшую часть свободного времени.
Укрепившись в мысли, что рассказы хороши, я отправил один из них, под названием «Борьба с кличками», в радиопередачу «Пионерская зорька», которую часто слушал. Сюжет был такой: пионеры вешают в фойе школы плакат «Все на борьбу с кличками!», а сами, в том числе и учительница, называют друг друга по кличкам. Такой вот критический, с элементами обличения и сатиры, реализм.
Вскоре мне пришел ответ, где были такие слова: «В одной из передач сентября мы прочитаем твое письмо и твой рассказ, немного его изменив. Если тебя волнуют еще какие-то школьные проблемы – напиши нам, расскажи об интересах ребят в твоем классе, о том, как вы проводите свободное время».
Я был очень рад и горд, и пришедший вскоре гонорар за рассказ – 26 рублей 91 копейка, что были очень приличные тогда деньги, – радость и гордость переплавили в нечто вроде счастья.
Я не пропускал ни одной «Пионерской зорьки» и наконец услышал свой рассказ… Редактор писала, что его изменят немного, а изменили много. Так много и, главное, без моего ведома, что я обиделся и разозлился. И мое желание куда-либо отправлять рассказы и стихи пропало почти на десятилетие.
Впрочем, вру – мне очень нравился в 1988–1989 годах журнал «Парус», выходивший в Минске, где были напечатаны повести Юрия Короткова «Авария» и «Виллисы», стихотворение «Я с криком выпадаю из окна…» (интернет указывает автором Ладу Храмову; фрагмент этого стихотворения я использовал позже в своей повести «Глупый мальчик»), помещались вкладыши для аудиокассет с фотками групп «Алиса», «Ноль», «Кино»… В общем, раза два-три я отправлял туда свои стихи, получал в общем одобрительные ответы, но до публикации дело не дошло. И хорошо, видимо.
В Кызыле я не ходил ни в какие литературные кружки и объединения. В общем-то, я стеснялся своего занятия – вместо того чтобы торчать с пацанами, я сидел и… Хотел написать «сочинял», но я в основном не сочинял, а записывал то, что происходило со мной и вокруг меня. Если бы получилось сочинить захватывающий приключенческий роман, я бы, наверное, показал его кое-кому из приятелей, а давать им рассказы, где они курили, плевались, говорили о девчонках, дрались за школой, чмырили слабых, или их самих чмырили, – было невозможно.
Подстегивало к скрыванию того, что пишу, и мое имя. Меня и так дразнили «Роман-газета»… Некоторые услышали мой рассказ в «Пионерской зорьке» и некоторое время спрашивали, сам ли я это написал. Я кривился: ну да, но это так, фигня. И вскоре про рассказ забыли.
Тревожило меня лет в пятнадцать-шестнадцать вот что: герои, язык моих повестей и рассказов совсем не походили на то, что я читал, в том числе и у своих любимых Чехова, Шукшина, Распутина. Говорю сейчас не о степени таланта – я к своим опытам относился довольно трезво, и большинство моих вещей, несмотря на тщательную работу, вызывали стыд, – а о форме, о том, что герои мои говорили слишком коряво, с многочисленными междометиями, с матом; что жизнь их текла без особых событий. Казалось, что в моих вещах совсем нет литературы.
Но вскоре появились произведения писателей, которых в то время называли «чернушниками» (хорошо, что нынче этот термин, а вернее, ярлык, почти забыт), – Людмилы Петрушевской, Светланы Василенко, Сергея Каледина, Юрия Короткова… И я понял, что есть те, кто пишет о том же времени – нашем, нынешнем – и похожим языком. И их даже печатают и издают… Рассказ, с которого началась для меня Петрушевская – «Свой круг», – отец прочитал нам вслух. Кажется, из «Огонька»…
По моему мнению, каждый писатель приходит со своей темой. А можно сказать и пафосней – со своей миссией. Поэтому к авторам пресловутой одной темы я отношусь с бóльшим доверием, чем к мастерам на все руки, с легкостью (по крайней мере, внешней) порхающим из одной эпохи в другую.
Я тоже копаюсь в одной теме. Не буду скрывать, постоянно делаю попытки писать о временах, когда сам не жил, заглянуть в прошлое, перенести действие в страну, в которой никогда не бывал. Иногда, очень редко, мне кажется, что получилось. Но обычно не получается.
Писать даже о не столь отдаленном прошлом – сегодня о восьмидесятых – девяностых мне очень трудно. Я знаю, что случится с героями дальше, к чему приведет то или иное событие в стране и как это повлияет на моих героев… Мне и интереснее, и важнее пробовать в художественной прозе фиксировать еще живое, неостывшее настоящее. За это меня часто ругают, я и сам понимаю, что такой рассказ, повесть, а то и роман могут тут же стать прахом, с чем порой сталкиваюсь, перечитывая вещи десяти-двадцатилетней давности и бракуя их для переиздания, случается, не могу вспомнить, зачем вставил ту или иную новость, которая оказалась минутной, путаюсь в ценах того или иного отрезка времени. Но что поделаешь… Когда пишу, а потом предлагаю рукопись в редакцию или издательство, я уверен, что все важно, каждая мелочь того или иного момента жизни героев, которая запечатлена на фоне жизни страны, мира, цивилизации.
Вспоминая сейчас свое прошлое, вижу, что я писал всегда. И в общежитии строительного училища в Ленинграде, куда отправился после окончания школы, и в армии (как-то офицеры нашли у меня под матрасом тетрадь и долго пугали губой и дисбатом за то, что раскрываю в записях тайну службы на пограничной заставе, но потом тетрадь вернули и велели спрятать в вещмешке в каптерке), откуда я привез три девяностостраничные тетради с повестями, рассказами, стихами, дневником; писал и после армии, когда бы должен был, по идее, отдыхать на всю катушку, и во время поступления в кызылский пединститут, когда нужно было готовиться к экзаменам. И так далее и так далее…
Мне необходимо описать случай или историю, которая засела в голове, проблему, которая не дает покоя. Но это не значит, что писать мне легко.
Довольно давно я понял, что не обладаю даром придумывать, воображение у меня устроено так, что оно крутится вокруг конкретного, действительно произошедшего события и как бы раздвигает его, делает шире, наполняет деталями, теми людьми, которых там изначально не было или они лишь мелькнули, а у меня стали вполне зримыми персонажами.
Реальная жизнь, так называемое информационное пространство переполнены интереснейшими сюжетами. Пусть они не очень закрученные, не слишком острые, но не всем же писать остросюжетную прозу, не всем буйствовать на страницах удивительной фантазией. Я не боюсь вставлять кусочки публицистики, списывать героев с вполне конкретных людей. Вернее, боюсь, опасаюсь, но иначе не могу…
Теперь, в сорок шесть лет, я с некоторой завистью смотрю на себя лет семнадцати – двадцати пяти. Как много я писал и с каким увлечением, как безустанно переделывал свои вещи. Эта безустанность называется литературной молодостью, и не важно, когда она наступает – у одних около двадцати, другие вдруг чувствуют потребность писать после тридцати, в сорок, и пишут как заведенные.
К сожалению, почти ни у кого не получается сразу написать хорошо, сильно. Или не к сожалению? Но так или иначе нужно научиться, набить руку, выписаться, как говорят маститые литераторы начинающим.
Вернувшись из армии в родной Кызыл в двадцать лет, я принялся перечитывать свои старые повести и рассказы. Те, что написал до армии. Перечитал и понял, что они чудовищны, но во многих из них есть зерно, которое нужно избавить от плевел и прочего. Отшлифовать. И занялся этим. И увяз. Переделывать не получалось… В конце концов я плюнул и стал писать новое, о своей послеармейской, тогдашней жизни. Как приехал с пограничной заставы в совсем другой мир – действительно, с конца 1989-го до начала 1992 года не только молодой человек, а вся страна изменились до неузнаваемости…
Летом 1993-го наша семья переезжала из Тувы, которая в то время очень стремилась стать независимой или хотя бы мононациональной, в Красноярский край. Пакуя вещи, я завис над коробкой со своими тетрадями, листами. Почувствовал, что это омут, в который я буду постоянно возвращаться, в котором буду вязнуть, и сжег почти все в печке на даче… Хм, не совсем сжег – тетради очень плохо горели, и в итоге я закопал недосожженное в огороде. Оставил пять-шесть свежих на тот момент рассказов и повестей, которые теперь можно найти в моих сборниках «Афинские ночи» и «Наш последний эшелон».
Конечно, иногда жалею, что так поступил. Многое бы мне пригодилось в дальнейшем, когда я обращался к восьмидесятым – началу девяностых. Жалко написанных в армии вещей, дневника, который там вел. Но с другой стороны, может, я бы и сегодня убивал месяцы, чтобы довести до ума тот или другой свой ранний опыт.
Я уехал из родного Кызыла без архива, начал на новом месте с чистого листа. Спустя почти четверть века я вновь лишился архива – когда уехал из Москвы в Екатеринбург, где сейчас живу.
Печататься я стал в 1995 году в газетах городов на юге Сибири – Минусинска, Абакана, Кызыла. Почувствовал, что у меня есть несколько рассказов, которые можно показать людям. Совсем как в 1986-м. И опять это были короткие, страницы полторы-две, рассказы-зарисовки.
Отнес в одну редакцию, их приняли, предложил в другую – тоже. У меня были тексты пообъемней, одноактные пьесы – стали публиковать и их в журналах и альманах. А летом 1996 года, в двадцать четыре года, я оказался на вступительных экзаменах в Литературном институте.
К Литинституту многие относятся с иронией и сарказмом. Дескать, писать научить нельзя. Но в Лите и не учат писать технически, учат – да и то некоторые ведущие семинаров – морально. Что если уж человек решил заняться литературой, да к тому же выносит свои вещи на публику, то должен заниматься этим всерьез, отвечать за то, что пишет.
Мне очень повезло с ведущим нашего семинара – в Лите он называется «мастер». Я попал к Александру Евсеевичу Рекемчуку, старому советскому писателю, автору, кроме всего прочего, повести «Мальчики», романа «Скудный материк», которые я считаю сильными произведениями… Рекемчук мне очень помог, очень поддержал в годы учебы и позже…
Литинститут когда-то, в 1930-е, был создан для того, чтобы литературно одаренных людей собирать с огромного пространства Советского Союза и давать им образование. Не корочки, а именно образование. Дополнять природный талант культурой, кругозором. К сожалению, в советское время там училось немало так называемых детей разных народных, а в девяностые институт перешел из-под крыла погибшего Союза писателей СССР в Министерство образования и стал почти обыкновенным филологическим вузом. Во время моей там учебы большинство студентов составляли девушки и юноши, пришедшие сразу после школы, которые умели писать отличные сочинения, но не прозу, и, получив диплом, отправились в СМИ, редакторами и сценаристами на разнообразные ток-шоу и тому подобное. В литературе почти никого не осталось. Пишут те, кому на первом курсе было двадцать и за двадцать… Теперь таких, не сразу после школы, в Лите еще меньше, еще меньше и тех выпускников, кто становится литератором.
Но я благодарен институту. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, не решись я попробовать в него поступить, но вряд ли бы лучше, чем есть. Писать бы я наверняка не бросил, а вот с публикациями, вернее, с резонансом было бы куда хуже.
Писателю необходим отклик на свои вещи. Громят их или хвалят – не так уж важно теперь. Это раньше, говорят, отрицательной статьи хватало, чтобы на авторе поставили крест. Литературных критиков боялись. Теперь не боятся, да и критиков стало очень мало. Ждут от уцелевших хоть слова. Молчание о твоей повести, твоем романе – самое страшное для автора.
Мне на невнимание жаловаться грех. Особенно много писали о моих первых вещах, опубликованных в московских журналах.
Я не обольщаюсь мыслью, что это мой талант так взбудоражил критиков и литературных журналистов – мне повезло со временем. В конце девяностых – начале нулевых художественная литература еще оставалась частью общественной жизни, и на произведения о тогдашней современности реагировали. Возникали довольно бурные дискуссии о том или ином произведении. В том числе дискутировали о моих повестях и рассказах. Тех, кто не принимал их, – «это за гранью литературы», «Смердяков, который вдруг почувствовал литературный дар», «мелкотравчатая скотинка» – было довольно много. Но то ли я в результате критики слегка перевоспитался, то ли многие мои противники со мной смирились – явных противников моей прозы почти нет сегодня. А порой хочется горячих, злых рецензий. Такие рецензии разгоняют кровь.
Знаю и вижу, что нынешние прозаики и поэты в основном сторонятся письменно отзываться о вещах своих собратьев, вообще считают литературную критику полярным их занятиям родом литературы. Я так не считаю – уверен, что прозаики и поэты лучше могут оценить то или иное произведение, увидеть тенденции, чем критики, большинство которых по образованию филологи. А филология, по-моему, очень мешает воспринимать живую литературу.
Первый опыт писания рецензий я приобрел все в том же Литинституте. На семинарах нужно было подробно разбирать тексты, и потому я писал нечто вроде рецензий. И потом это мне пригодилось – вскоре после окончания Лита меня взяли на работу в еженедельник «Литературная Россия», где я с годичным перерывом проработал десять лет.
Одно из главных занятий писателя – это чтение произведений своих товарищей, современников. Размышление о том, что они пишут. А так как размышлять внутри головы мне всегда было скучно – этакая кипящая кастрюля с плотно сидящей крышкой, – я размышляю часто письменно. В общем-то, это началось с детства – я записывал свои впечатления о фильмах, книгах, спектаклях. Так и продолжаю поныне.
Но должна соблюдаться некая грань, где ты прозаик, а где рецензент или автор больших обзорных статей. Я согласен, что тут задействуются разные отделы мозга, а может, и того органа, который называют душой. И если слишком сильно уходишь в писание о чужих текстах, может зачахнуть тот отдел, который вырабатывает гормон прозы… Такое вот путаное соображение, но, надеюсь, смысл понятен.
Как много настоящих прозаиков, поэтов, драматургов кончалось из-за того, что их затягивала публицистика, общественные дела, рутина Союза писателей, издательская деятельность… Когда я ощутил, что газетчик во мне давит прозаика, ушел из «Литературной России». Правда, привычка, а точнее, потребность отзываться на прочитанную книгу, на события в стране слишком сильны, и рецензий статей по-прежнему пишется много. Но в идеале стоило бы все это – все, что не дает покоя, о чем не можешь молчать, – вживлять в ткань художественной прозы.
Статьи и рецензии пишу по желанию (без него вряд ли вообще что-либо получится), но довольно тяжело – мне нужно уединение, какая-то не очень свойственная мне сосредоточенность (для прозы сосредоточенность тоже необходима, но она другого свойства). Проза же часто изливается как бы сама собой. Занимаешься делами, ешь, смотришь телевизор, читаешь, и вдруг тебя словно что-то хватает и бросает к тетради (прозу пишу я до сих пор от руки).
Об этом хорошо сказал все тот же Гоголь: «Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Дженсано и Альбано, в июле месяце. Середи дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с билльярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том „Мертвых душ“ и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением. А вот теперь никто кругом меня не стучит, и не жарко, и не дымно…»
О том же Гоголь писал и говорил не раз. В письме Шевыреву, например, он с недоумением признается: «…странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. «…» Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро…»
Очень точное замечание. Не знаю, кто как, я начинаю дремать, когда у меня нет других дел, помимо литературных, но когда дела, проблемы наваливаются, сразу просыпается тяга писать. Я досадую на дела и проблемы, пытаюсь их скорее сделать, решить или затягиваю решение, чтоб оставаться в некоем тонусе.
Кстати, эта формула: устрою быт, заработаю денег и засяду писать – обманчива. Сколько одаренных людей теряли свой дар, пока обустраивали быт. Этому я был свидетелем много-много раз.
Сюжет приходит ко мне весь, целиком. С завязкой, развязкой. И только когда он готов в голове, я начинаю… Чаще всего сюжеты берутся из реальной жизни, поэтому процесса придумывания нет. Есть некоторое выстраивание, которое занимает иногда несколько месяцев, а чаще – мгновение. Как вспышка. Материалом может стать и информашка из газеты, и ролик по ТВ, пост в интернете… В общем-то, газетные заметки вдохновляли многих литераторов на написание прозы, так что я не боюсь этой своей черты пользоваться подобными источниками.
В последние годы мне понравилось писать для коллективных сборников. Темы сборников достаточно условны – «русские дети», «Крым», «малый город России» – есть свобода. Благодаря этим сборникам у меня получилось несколько неожиданных для себя самого рассказов: «На будущее», «Морская соль», «Дедушка», «Поход», «Дома»…
Если я решаю сразу начать перекладывать сюжет в рассказ, повесть, роман, это оканчивается неудачей. Бросаешь писать или навсегда, или на многие месяцы, а то и годы. Нужно, чтобы сюжет застрял в тебе, не давал покоя, тормошил, царапал… Многие сюжеты забываются и растворяются, а те, что остаются, становятся прозой.
Исключения бывают. Например, повесть «Чего вы хотите?», которую я писал почти параллельно с реальными событиями – протестной волной конца 2011 – начала 2012 года…
Как я уже поминал выше, способность придумывать, вернее, выдумывать у меня очень слабая, поэтому каждый или почти каждый сюжет имеет документальную основу. И, перебирая свои прежние вещи, я вижу, что написанное, в общем-то, складывается в мою автобиографию. Пусть не абсолютно достоверную, но все-таки.
Где-то, где я веду повествование от первого лица, героя зовут Роман Сенчин (еще в детстве я не мог понять, почему героя такого рода книжек зовут так, а автора – иначе, это мне казалось огромным враньем, и я решил называть героя, от лица которого веду повествование, своим именем), где-то он носит фамилию Чащин, где-то Свечин. Не обязательно это абсолютные мои альтер эго, но многое от меня в них есть.
В ранних вещах действие происходит в Кызыле, потом, когда я уехал оттуда, в Минусинске, Абакане, потом в Питере, где я пожил в 1996 году между поступлением в Литинститут и началом учебы, потом в Москве, в сибирской деревне, где живут мои родители… Теперь я живу в Екатеринбурге, и местом действия стал Екатеринбург. Так получается, что пишу я по ходу своей жизни, и основным источником для писания становится моя собственная жизнь.
Не знаю, хорошо это или плохо. У нас нынче в литературе огромное разнообразие. Цветут все цветы, и никто никого не душит. Постмодернисты не хохочут над реалистами, реалисты не корчуют постмодернистов, метафизики не поливают желчью тех и других, концептуалисты, авангардисты и прочие, прочие не обзывают не таких, как они, сорняками. Все благоухают, всем есть место расти и радовать глаз.
Вот только читателей не очень-то много. А прямо сказать – мало. Почти нет, если заняться подсчетами, статистикой… В этом, по-моему, виноваты мы, писатели. Нет тех книг, которые бы заставили людей броситься их читать, обсуждать, спорить. Но я верю, что такие книги появятся. И втайне надеюсь, что одну-другую в конце концов напишу и я. Потому и несу очередную рукопись (теперь это называют «распечатка») в редакцию или издательство. Может, это она, та самая книга?..
Алексей Слаповский. Царь, царевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой?
Чего я только не писал: стишки, заметки, статьи и фельетоны для газет и радио, либретто для оперетты и кукольного спектакля, тексты песен для мультфильма, кино и для собственного исполнения, пьесы, рассказы, повести, романы, эссе, сценарии для фильмов и сериалов…
Наверное, нет такого литературного или прикладного словесного жанра, в котором я бы себя не попробовал.
Но что-то было по службе, были разовые опыты, эксперименты и авантюры, а что-то осталось до сих пор и достойно серьезного разговора.
Началось с песен.
Сначала пел под гитару чужие, потом начал сочинять свои. Изредка исполнял их на публике, чаще в компаниях, еще чаще пел девушкам наедине.
Процесс сочинения был правильным: накатывало настроение, бралась гитара, тренькалось, мурлыкалось, вдруг появлялась мелодия, а из нее – слова. Так песни и пишутся. Известный факт: Полу Маккартни сперва приснилась мелодия «Yesterday», а слова пришли после, целый месяц он пел: «Яичница, о какие у тебя прелестные ноги!»
Но сами песни оказались неправильными. Я почему-то не мог запомнить собственные тексты, пел с листа. На худую память не спишешь, учил же я на спор «Евгения Онегина» и до сих пор могу наизусть прочесть, пусть и с ошибками, первую главу.
Тексты песен должны быть мнемоническими, независимо от литературного качества. «Белые розы, белые розы» – запоминается. Все. Больше ничего не нужно. То есть нужно, но уже потом.
Следовательно, сделал я вывод, слова мои случайны, не единственно точны, взаимозаменяемы. Надо бросить это дело.
К тому же, занимаясь авторской песней, я не любил авторскую песню в ее массовом изводе, мне слышалось, что все танцуют от одной печки, а именно от ля-минора, я не любил бардовских тусовок, ни разу не ездил на Грушинский фестиваль. Нет, мне нравились и нравятся, скорее памятью, а не потребностью слушать, Высоцкий, Окуджава, Ким и т. п., отдельные личности, как и в любом другом виде творчества, но не более того. Недаром же я в одной из повестей иронично описал, как барды поют «водянистые песни травянистыми голосами».
Короче, я подумывал, что уже хватит, и тут очень вовремя попал под машину, мне покалечило левую руку, с этой поры я не могу играть на гитаре – контрактура, пальцы не держат аккорды, а сочинять без гитары тексты – глупо. Это тогда будет уже претензия на всамделишные стихи, а стихов я не писал и не пишу. Версификационные изделия, пародии – да, но это другое. Это любой филолог умеет.
Впрочем, я забегаю вперед, вернусь в восьмидесятые.
Я тогда работал учителем в школе после университета. По-прежнему что-то постоянно сочинялось. И вот решил написать повесть. Начал. Герои оказались весьма разговорчивыми. Да мне и самому мешали описания, быстрей хотелось перейти к главному: как говорят, что говорят. Мои герои любили диалоги, и я любил диалоги. И вскоре понял, что пишу не повесть, а пьесу. Закончил ее, уже работая корреспондентом отдела писем Саратовского телевидения и радио. Мой стол стоял лицом к столу начальницы, она думала, глядя на мою старательно склоненную голову, что я готовлю передачу. И правда, первую половину дня я работал на родное телерадио, зато вторую – на себя. Пьеса с густым названием «Шнурок, или Любил, люблю, буду любить» через завлита Саратовского ТЮЗа И. Горелик попала к В. С. Розову, а через него в Ярославский театр на площади Юности, так он теперь называется, где и была поставлена в 86-м или 87-м году, точно не помню.
Я решил, что теперь драматург, и за три года написал пять или шесть больших пьес и десяток маленьких, одноактных. Некоторые идут в театрах до сих пор.
Однажды, уже служа в славном журнале «Волга» сотрудником, рецензентом, а потом редактором отдела прозы, я писал очередную пьесу. Диалоги в ней перемежались слишком длинными ремарками. Я понял, что это не пьеса, а повесть. С душистым названием «Волшебный мальт». Что-то такое про яблоки, которые, если съесть, меняли людей в лучшую сторону, пробуждали в них неведомые доселе таланты и способности. Фантастическое. Я послал это в какой-то журнал. Кажется, в «Юность». Мне ответил писатель Юрий Додолев. Да, писатели тогда отвечали авторам, причем иногда предметно и подробно. Из слов Додолева выходило, что повесть моя интересна замыслом, но написана небрежно, хотя задатки у меня явно есть.
Это ободрило. Я немедленно выбросил повесть (и выбросил основательно, ничего от нее не осталось, никаких черновиков) и засел за роман. «Искренний художник», социальная сатира. Придумывалось легко и весело, но огорчительно быстро все кончилось, примерно на семидесятой странице, если через два интервала. На старой портативной машинке «Москва».
Кстати, о машинке. Ее, списанную, принесла мама с работы, когда я учился на третьем курсе. Мне страшно понравился процесс печатания. Я начал настукивать курсовые работы, диплом тоже писал на машинке, причем сразу набело. С этого времени я ничего не пишу от руки, кроме автографов и суммы прописью. Если зачем-то требуется написать больше чем треть страницы, пальцы сводит от непривычки судорогой.
«Москву» сменила «Любава» (на «Оптимах» и «Эриках» работали лишь успешные москвичи, имевшие доступ к дефициту), после «Любавы» была «Ивица», уже электрическая, чудо отечественной портативной печатной техники, а в начале девяностых жену мою Лену взяли на работу в «Корпус мира», отделение которого только что угнездилось в Саратове, и выдали ей лэптоп с черно-белым экраном и шариком-курсором под клавиатурой. Лена дала мне на нем поработать, и я погиб. Возможность исправлять, стирать, редактировать – все это меня очаровало. Я расшибся в лепешку и купил компьютер. «Тройку», то есть Intel-386, с которым пережито было много, включая первые тетрисы и бродилки. Между прочим, в сложные игры не играл и до сих пор не играю. Мне нужно что-то простое, минут на пять – десять, для короткой передышки. Знаю человека, который до сих пор играет только в «Сапера».
Чтобы закончить тему: некоторые пренебрежительно относятся к писанию с помощью клавиатуры. Несправедливо. Качество от способа не зависит, все дело в индивидуальных особенностях. Когда я писал рукой, мысли убегали вперед, буквы торопились за ними и не успевали, почерк был отвратительный. На машинке же стучу двумя пальцами не слишком быстро, но и не медленно; главное, это совпадает с темпом моего производственного мышления и равно скорости неторопливой разговорной речи. Поэтому я пишу вслух, словно сам себе диктую, шепотом или в голос, зависит от эмоциональности текста. Для меня вообще очень важно звучание слов.
Итак, роман быстро кончился, я добавил к подзаголовку хитрое слово «ненаписанный», он был напечатан в «Волге», а потом в нескольких сборниках, я стал победителем какого-то конкурса и решил, что теперь прозаик. Но песни и пьесы не оставлял. И работал заведующим отделом прозы, он же – единственный сотрудник. Рубеж девяностых, все переходит в частные руки, журнал «Волга» стал собственностью коллектива во главе со славным С. Г. Боровиковым, поэтому потребовалась оптимизация. Сам заведующий, сам редактор, сам рецензент, а если не хватает материала, сам и пиши. Я и написал роман «Я – не я», дурашливый, фантастическо-социальный, местами смешной, я люблю его до сих пор, и он был первым произведением, переведенным и изданным за рубежом. Во Франции.
Роман помог мне заполнить журнальный раздел прозы на несколько номеров, а потом потребовалось работать с авторами. Я не люблю работать с авторами и ушел из журнала на вольные хлеба, на них и обретаюсь уже почти четверть века.
Мне часто везло: когда деньги кончались, что-то вдруг неожиданно сваливалось. Например, в 94-м одна из комедий победила в 1-м Европейском конкурсе пьес (кажется, он был и последним), проводившемся в Германии, и мне обломилось аж 20 000 марок – тогда еще не было евро. Сумасшедшие деньги. Я тут же и там же, в Германии, купил дорогущую гитару, музыкальный центр, еще что-то, а вернувшись домой, дал кому-то взаймы. И вскоре был опять при нулях. И понял, что беречь, экономить у меня никогда не получится. Придется зарабатывать столько, сколько нужно, чтобы жить без долгов. Чем и занимаюсь до сего дня.
В девяностые были написаны, кроме «Я – не я», романы «Первое второе пришествие», «Анкета», «День денег», сборник рассказов «Книга для тех, кто не любит читать», несколько повестей, пошли публикации во всех толстых журналах, книги в «Вагриусе», «Терре», а затем в «Эксмо», «АСТ» и т. д., переводы в Германии, Франции, Италии, критика такая и сякая, начались попадания в шорт-листы всяких премий, меня полюбил и литературно, и просто дружески критик Андрей Немзер, самый авторитетный литературный эксперт того времени, один из журналов назвал меня «открытием девяностых», чем нескромно и наивно горжусь до сих пор.
Но мне хотелось в кино. Мне всегда хотелось в кино, я даже написал несколько сценариев – просто так, для разминки и собственного удовольствия.
И вот одна из моих книг попадается известному оператору, режиссеру и сценаристу Дмитрию Долинину и его жене, талантливому режиссеру Нийоле Адоменайте, светлая ей память. Я встречаюсь с ними в Петербурге, они говорят о желании экранизировать мой роман, знакомят с продюсером, продюсер везет меня в Москву, на Первый канал, тогда называвшийся ОРТ, там продюсера благодарят за привлечение неизвестного, но, возможно, перспективного автора и прощаются с ним, сказав мне, как Штирлицу: «А вас мы просим остаться!» Я остался, мне предложили написать несколько заявок на сериалы.
– Не умею, да и не сериалы меня интересуют, а кино.
– Кино будет, но потом.
И, вернувшись, я написал эти заявки. Одна называлась «Остановка по требованию». Легкая ироничная история про современного Золушка. В мужском роде. Принцесса в этом сюжете играла роль принца, а скромный починяльщик компьютеров был именно Золушком, которого принцесса к себе приблизила, возлюбила, но потом отпустила обратно к жене.
С этого и началось.
Я понял, что теперь еще и сценарист.
Оставаясь драматургом, прозаиком, а также изредка сочинителем стихообразных текстов.
Эта профессия перевезла меня в Москву в 2001 году, где и живу уже 17 лет, хотя город своим не чувствую, но это меня мало волнует, мне почти все равно, где жить. Где близкие, где мой письменный стол, там и хорошо. За нулевые и десятые написано много книг, пьес и сценариев, но я не библиографию и фильмографию тут составляю, поэтому обойдусь без названий. Все в «Википедии». По личному опыту знаю, что народу я больше всего известен как автор «Участка», нежно мной любимого, и соавтор фильма «Ирония судьбы. Продолжение», страстно мной ненавидимого.
Эта профессия меня и кормит. И я занимаюсь ею не без удовольствия, чувствуя себя массовиком-затейником или проектировщиком увеселительных аттракционов, но отдаю себе отчет в приоритетах: это не область полноценного и самостоятельного художественного творчества. Уже потому, что не все зависит от тебя и слишком нацелено на потребителя. Сценарист, приговариваю я, это тот коврик перед входом в кино, о который все вытирают ноги. Конечно, преувеличение, но не фантастическое. Наиболее интересные мои проекты и сценарии не реализованы, не сняты, они опасно авторские. Массовое кино и ТВ этого не любят, а режиссеры альтернативного кино, артхауса сами себе авторы.
Я использовал одну профессию для продвижение другой: книги «День денег», «Я – не я», «Синдром феникса», пьеса «Клинч» стали фильмами или телефильмами, но это все же иные измерения. Как ни крути, кино и сериалы, даже самые хорошие, – пища для ума полупрожеванная, процесс смотрения намного пассивней и ленивей, чем процесс чтения. Знаю, что есть другие мнения, спорить не буду.
Я человек все же больше слуха, чем зрения, притом что зрение дает, говорят, 90 процентов информации. Но дело не в количестве информации, а в том, что выбираешь для себя. Мне интересно, как говорят люди, я люблю слушать и передавать это, изменяя и фантазируя. Авторский текст в моей прозе часто слова одного из участников диалога или комментирующего персонажа.
Но без него обходиться скучно, это обедняет, поэтому главной моей любовью остается то, что прозаически называют прозой. Там для меня больше всего возможностей, там все в моих руках, в плохом и хорошем повинен я, а не театр, кино или телевидение, не режиссеры, актеры и прочие замечательные люди.
Само собой, выработались какие-то принципы. Вернее, выявились – принципы не вырабатывают. Оказалось, например, что я не люблю стилистических излишеств, кучерявости, с подозрением отношусь к обильным метафорам, мне не нравится, когда текст хвалится собой и этим мешает себе же.
При всем интересе к постмодерну и фантастическим элементам (не к фантастике и фэнтези – равнодушен) я все же реалист, мне интересны характеры. О. Маховская, известный социопсихолог, великодушно и меня записала в социопсихологи, я не протестую.
Но если раньше я торопился написать историю того или иного человека и даже говорил, что пишу не словами, а людьми, то теперь к словам отношусь вдумчивей и внимательней, чему свидетельство недавняя книга «Неизвестность», где работа с разными языковыми формами откровенно видна.
Выяснилось, не без подсказки исследователей, в частности С. Костырко и А. Сафроновой, что главная моя тема – выбор. Нравственный выбор, как сказали бы критики и литературоведы в советское время, но сейчас так выражаться неприлично. Не в тренде это. Я вообще не в тренде, не в моде, у меня достаточно ограниченный круг читателей, но они мои, и я их люблю. Придут ли читатели потом? – не знаю. Когда-то говаривали: «Прочтут и поймут через годы». Сейчас я в этом не уверен. Иногда печально кажется – если не прочли сегодня, не прочтут уже никогда.
Я стараюсь писать коротко. Для заметок в сетевых журналах изобрел жанр «стослов», для рифмованных упражнений – «12 строк». Мне вообще нравятся формальные ограничения, правила. Вглубь копать интересней, чем вширь. Можешь наткнуться на воду, на древнюю монету, кость доисторического животного. А вскопка вширь хороша для посадки картошки. Что тоже нужно. Поэтому у меня такие обширные сериальные плантации.
К слову, многие современные книги безобразно длинны. Или такими кажутся. Фолианты XIX века тоже объемисты (как авторы пером уписывали эти километры строк – не представляю!), но там в тексте постоянно сюрпризы и неожиданности – сюжета, линии героя, мысли автора, сейчас тексты часто очень концептуальны. После 10–20 страниц догадываешься, в чем концепт, и становится скучно. Ты уже все понял, а автор продолжает и продолжает.
Главное – удивлять себя. Пока ты еще хочешь удивить себя и можешь это сделать, ты творчески жив. Самое унылое – написать еще один роман. Это превращается в бесконечный стендап, монолог, иногда в лицах, иногда безликий. Правда, публике нравится, важнейшее свойство потребителя: он хочет того же, что было вчера. Можно в новой паковке, но с тем же вкусом.
Вернусь к тому, с чего начал: если я чем и выделяюсь среди пишущих современников, то своей многостаночностью. И царь, и царевич, и сапожник, и портной, а заодно академик, герой, мореплаватель и плотник. Я не хвастаюсь или хвастаюсь только отчасти, это – факт. Безотносительно к качеству, не мне судить.
Возможно, все идет от ролевой природы, я ведь когда-то хотел стать актером, поступить в соответствующее учебное заведение. Играть. Перевоплощаться. Слава богу, что не поступил и не стал. Играю и перевоплощаюсь иначе.
В заключение немного быта, это же интересно, так в книге персонаж становится зримым и осязаемым, когда узнаешь его привычки и повадки. Гигиенические манипуляции Чичикова, например, говорят о нем больше, чем его мыслительный процесс, которого, кстати, почти и нет – все в словах и поступках, все слышно и видно. Некую философию Гоголь и ему, и другим попытался всучить во втором томе, на чем и погорел. Вернее, рукопись погорела. Если вообще была.
Итак.
Я встаю в шесть утра. Выхожу из дома, где живу с семьей, отправляюсь к дому напротив, где снимаю квартирку для работы. Там никаких отвлечений – ни телевизора, ни обыденных разговоров, никаких телефонных бесед. Из еды только чайник. С семи до часа я работаю. Это много. Для концентрированной умственной работы шести часов вполне хватает. Иногда отвлекаюсь на фейсбук. Это как на завалинке посидеть, соседей послушать, самому что-то сказать, перекурить. И опять за работу. Потом обед и ровно час сна. Привычка последних тридцати лет. После этого начинается как бы второй день. Мне надо быть в форме, я катаюсь зимой на коньках и на лыжах – рядом парк с катком, чуть дальше лес Тимирязевской академии, летом на роликах, на велосипеде. Ключевое слово – кататься. Не ходить, не ездить и не бегать. И не заниматься на тренажерах. Физическая нагрузка должна сочетаться с удовольствием, иначе никакой пользы. В детстве я любил все игровое – хоккей, футбол, волейбол, настольный теннис. Играл бы и сейчас, да не с кем и негде. Или ехать через полгорода, жаль времени. К вечеру я возвращаюсь в семью, гуляю или играю с младшей дочерью Агатой, первоклассницей. А потом читаю, смотрю кино, общаюсь с людьми, времени остается достаточно. Никогда не работаю вечером и ночью, организм не хочет.
Полгода я пашу для кино и телевидения. На заработанные деньги покупаю самое дорогое, что есть на свете, – время. Сижу и пишу, что вздумается, отказываясь от всех предложений. Правда, приступы бывают и в периоды сценарной работы. Влетает в голову идея, образ, мысль, бросишь все, забудешь о дедлайнах, то есть сроках сдачи, и даешь волю прихлынувшим словам.
Я называю это – прогуливать.
И этот текст в каком-то смысле прогул. Выбился из ритма, вышел на улицу, идешь, в голове легко летают, как снежинки, мысли и воспоминания, а вокруг мороз и солнце, и ты вдруг чувствуешь себя незаслуженно счастливым, несмотря на все печали, возраст и болячки. Просто так, ни с чего. Вернее, с того, что живешь.
Александр Снегирёв. «Звёздная дыра»
Писать я начинал три раза. Два первых, как бы это ни показалось притянуто за уши, связаны со Львом Толстым.
Когда мне было четыре, мама раздобыла для меня красные шерстяные штаны. В стране был дефицит, штаны достались от другого мальчика.
Я закатил истерику и категорически отказался надевать красное в детский сад. Мужчина не может носить одежду столь вызывающего цвета.
Мама назвала меня засранцем, а папа достал с полки книжку и показал мне одну из картинок. Увиденное заставило меня изменить мнение о красных штанах. Я натянул их и весной категорически отказался снимать.
Что же было изображено на той картинке?
Марокканский зуав в синем кителе и красных шароварах. Зуавы входили в состав французской армии, воевавшей в Крыму.
О самой книжке вы уже наверняка догадались. Это были «Севастопольские рассказы».
Отец решил развить успех. Вскоре он спросил, не находил ли я чего нового в своём ящике с игрушками?
Поняв намёк, я бросился рыться в фанерном ящике. В те времена в таких хранили слесарные инструменты, в моём же обитал крокодил без лапы, машинка без колеса и прочая игральная рухлядь. Среди этих сокровищ я и обнаружил письмо.
Самое настоящее, сложенное треугольником.
Мой отец родился до войны, и с детства я знаю, что письма можно не только отправлять в конвертах, но и складывать треугольником.
Понимая, что получил письмо, и не будучи способен прочитать его, я понёс находку отцу.
Кстати, само по себе появление письма в ящике с игрушками меня нисколько не удивило.
Отец тоже бровью не повёл и вызвался помочь разобрать написанное, а заодно прояснить, кто же это письмо отправил.
Надо ли говорить, что автором у послания оказался тот же, что и у книжки с картинками, командир артиллерийской батареи граф Лев Толстой.
Сразу должен признаться, что и это меня нисколько не удивило. Имя графа ничего мне не сообщало, более того – меня совершенно не тронул сам факт получения письма от автора книги. Как всё-таки легко в маленькой детской голове уживаются совершенно разные миры. Впрочем, насчёт маленькой я погорячился. Голова у меня была великовата, папа даже опасался, что я – рахит.
К сожалению, я не помню текст этого первого письма и других, за ним последовавших, в моих многочисленных переездах переписка не сохранилась. Помню лишь, что я загорелся желанием ответить Толстому и для этого вынужден был освоить буквы. Мой отец затеял игру, чтобы обучить меня чтению и письму, но невольно превратил для меня сам процесс писания в таинство, и ощущение это с тех пор не покидает меня ни на минуту.
Второй заход на позиции литературы произошёл, когда мне было десять. Вместе с отцом мы оказались на экскурсии в Ясной Поляне. Экскурсии, кстати, тоже были дефицитом. Получается, оба моих первых литературных опыта стоят на двух столпах: позднесоветский дефицит и Лев Николаевич.
Из той экскурсии я запомнил лишь одно – необъятные книжные шкафы и ряды коричневых переплётов с золотым тиснением. Любуясь этой роскошью, я услышал слова экскурсовода о том, что хозяин усадьбы вёл дневник.
В моей голове, которая к тому времени стала чуть поменьше по отношению к остальному телу, произошёл контакт. Я понял: если хочешь такие шкафы, веди дневник.
Вернувшись тем же вечером домой, я потребовал блокнот. Родители выделили мне пачку листов, и я тотчас взялся за ведение записей. Описал впечатления дня, нарисовал по памяти могилу Толстого. Это был апрель девяностого года, дневник сохранился.
С тех пор я время от времени обращался к нему. Описывал свои любовные страдания; вдохновившись опытом Леонардо, зарисовывал механизмы летательных машин, рассуждал о несправедливом устройстве бытия, философствовал. В первых заграничных поездках записывал всё удивительное, чтобы не забыть. На этот раз я внял совету мамы, именно она посоветовала вести записи в поездках.
Немалую роль сыграла неважная память – я до сих пор часто пишу именно потому, что не хочу забывать. Именно нежелание полагаться на память заставило меня ранним морозным утром понедельника двадцатого декабря девяносто девятого года записать всё увиденное за минувший день. Накануне, в воскресенье, я работал наблюдателем на выборах. Пережитое показалось мне настолько живописным, что я просто не мог не записать.
К тому времени у меня сформировалось ещё одно свойство, развившееся в годы увлечения рисованием, – желание поделиться красотой, чтобы переживать снова и снова. Переживать и делиться переживаниями.
К тому воскресному выборному дню я уже привык таскать с собой блокнот, куда вписывал или зарисовывал всё, что нравится. И вдруг оказалось, что мои впечатления от выборов собрались во вполне себе рассказ. С тех пор я стал замечать, что всё чаще мои записи походят на короткие, но рассказы.
Очень важным для меня было рисование. Лет до шестнадцати-семнадцати я полагал, что свяжу жизнь с изобразительным искусством. Окончил художественную школу, много и увлечённо работал. Я и сейчас занимаюсь живописью и графикой, их воздействие на меня очень высоко.
Но есть и одна сугубо прикладная деталь, повлиявшая на мой темперамент.
Мне было десять, когда я увлёкся изобразительным искусством. Я сразу взялся за дело широко и темпераментно; зная о существовании техники масляной живописи, я с неё и начал. Академическое воспитание подводит людей к «маслу» медленно и нудно. Через горнило карандашной штриховки, сквозь бесконечные, становящиеся ненавистными слои акварели. Я же ничего такого не знал и просто начал фигачить маслом по картону и оргалиту. И то и другое я находил на помойках: оргалит возле мебельного магазина, на картон пускал огромные сигаретные упаковки.
Это были времена упомянутого дефицита, краски то появлялись на прилавках, то исчезали, и родители, увидев моё увлечение, подошли к вопросу практично. Помню, мы с мамой поехали в отдалённый художественный салон в Строгине, в котором в связи с его географическим положением краски водились. Что сделала мама? Она не стала размениваться на тюбики и купила мне краски в литровых банках.
Я был темпераментным ребёнком, работал здоровенной кистью, широкими, разумеется, мазками. Наличие неисчерпаемых запасов материалов меня окончательно раскрепостило. Я понял, мне можно всё. С тех пор многое в моей жизни менялось, однако магистральное ощущение свободы, обретённое тогда, всегда со мной.
Первый кружок рисования я нашёл сам, затем подключились родители. Последовавший долгий период обучения помогает осознать счастье того, что в литературе я самоучка, – избавиться от влияния учителей чрезвычайно сложно.
Важным фактором возникновения интереса к сочинительству стал распространённый детско-подростковый аттракцион моего детства – пересказ фильмов. По телевизору ничего интересного не показывали, репертуар кинотеатров был весьма скуп, видеомагнитофоны имелись не у всех, на видеосалоны требовались деньги, а вот пересказы были совершенно бесплатны.
У костра на дачах собирались дети, и какой-нибудь мальчик пересказывал в лицах «Терминатора» или «Чужого». Надо отдать должное тогдашним рассказчикам, посмотрев эти фильмы спустя годы, я не увидел ничего нового, а местами даже немного разочаровался – в пересказе некоторые сцены были круче.
Будучи слушателем на таких «киносеансах», я вскоре захотел собственной славы. А где её взять, если видика нет?
И я сочинил фильм.
Это был фантастический боевик про зловещих инопланетян, гигантских пауков и пещеру с таинственной слизью. Главными героями были мальчик и девочка, которые побеждают всю эту гнусь.
Насмотренные дети-мажоры воспринимали мой «фильм» с подозрением, аудитория поскромнее внимала, развесив уши, но скоро у меня возникли осложнения – с названием вышел затык.
Сначала я всем его сообщал. Оно кстати было ничего – «Звёздная дыра». Но скоро мои «зрители» стали предъявлять претензии: кому бы они ни говорили о таком кино, никто ничего не слышал. Возникли подозрения, которые скоро переросли в обвинения в самозванстве.
Если бы я продавал билеты на свои «сеансы», разгневанные маленькие зрители вполне могли бы потребовать вернуть деньги. Эта история натолкнула меня на мысль, что нам, людям, бренды важнее реальности. Пересказ моего «фильма» слушали затаив дыхание, но, когда оказалось, что такого кино не существует, слушатели разгневались. Они почувствовали себя обманутыми лишь потому, что наслаждались не брендированным развлечением, а байкой такого же мальчишки, как они сами. В нашем мире, если хочешь быть услышанным, обзаведись сертификатом качества.
А ещё я понял, что реальность постоянно модифицируется. Настроившись на некий формат, мы пропускаем всё, чего не ждём. Пока мы охотимся за мечтами, сквозь сети нашего внимания проскальзывают, возможно, куда более важные вещи.
Неудача с «фильмом» временно лишила меня уверенности в собственных силах, но вкус к сочинительству я приобрести успел. После фиаско со «Звёздной дырой» меня влекли не столько плоды, сколько сам процесс. Идеальное настроение для любого дела, когда работаешь без надежды на награду.
На уроках литературы я увлечённо пересказывал книги, которых не читал. Схватив на переменке общую канву того или иного романа, я развивал её, добавляя порой несуществующие в оригинале сцены. Учительница не особо в это вмешивалась. Возможно, девяностые быстро научили её смотреть на вещи философски, или она не очень внимательно меня слушала, или сама не была знатоком изучаемых литературных произведений, а возможно, чем чёрт не шутит, ей просто было интересно, как я вывернусь и что наплету. В любом случае я очень ей благодарен за терпение и предоставленный шанс тренировать раскованность рассказчика.
Литература для меня – это не только авантюра и магия, но и тяжёлый труд. Я бы сравнил литературу с работой шахтёра и детектива. Шахтер, спускаясь под землю, обязан следовать за жилой. Ему бы, может, хотелось не лезть в узкие туннели, но он обязан идти вслед за рудой. Руда ведёт его, как хорошего писателя ведёт не собственный план, а сама история, за которую он взялся.
То же самое с детективом.
Вспомните Лестрейда и Холмса. Первому всегда всё сразу было понятно. Лестрейд принимал поверхностное за истину. Холмс, напротив, докапывался до правды, следуя не за собственными представлениями о преступлениях, а за самой историей произошедшего.
Микеланджело называл искусство скульптуры умением убирать лишнее. Я занимаюсь тем же самым. Только, в отличие от неистового флорентийца, условную мраморную глыбу произвожу тоже я. Работая над текстом, я записываю множество кажущихся мне ценными фактов, сцен и подробностей. Создаю объём, грубую первоначальную форму с весьма условными очертаниями. Затем львиную долю времени я посвящаю отбрасыванию и удалению лишнего. Часто из таких обрезков получаются самостоятельные рассказы или повести. Вообще, если я берусь за повесть или роман, то на выходе у меня обязательно получится несколько рассказов. Основной текст-бомбардировщик у меня всегда сопровождается текстами поменьше – истребителями.
Важным опытом последних лет стало для меня чтение вслух. Чтение собственных рассказов перед публикой. Помимо множества чисто эстрадных особенностей, есть одна чрезвычайно важная чисто технически – чтение вслух помогает в редактуре. На слух удаётся эффективно выявлять нелепости и косяки текста. А если сложить это с практикой рукописной работы, то литературный труд и вовсе становится совершенно хэндмэйдовским делом. Я начинал с рукописных записей и в последнее время снова вернулся к этой практике. Всё, что я пишу, я пишу ручкой в блокнотах. Это не позёрство, при таком методе совершенно меняется пластика мысли, рождаются идеи особого рода. Кроме того, перепечатывание рукописного текста обеспечивает первый этап глубокой редактуры. Очень рекомендую.
Пишу я о том, что люблю, чем хочу делиться. Литература для меня наслаждение; наслаждаешься, переживая красоту, наслаждаешься, разделяя её с другими.
Марина Степнова. Как я пишу
У меня не так уж много литературных принципов (честно говоря, я довольно беспринципный автор, а читатель – так и вовсе бессовестный), но есть правило, которого я придерживаюсь строго: никогда не писать о себе. Читателям, которые всегда ищут в книгах интимных подробностей из жизни автора (я сама ищу, чего там), в моих текстах совершенно нечем поживиться. Всё, что меня увлекает, беспокоит, тревожит, весь свой жизненный опыт – и грустный, и смешной, и болезненный – я без всякой жалости отдаю персонажам, непременно (и тоже принципиально) вымышленным. Причём очень забочусь о том, чтобы первая любовь превратилась в последнюю дружбу, а детская обида – во взрослую страсть. Получается система взаимоискажающих зеркал, в которой искать автора – бесполезное дело.
Помнится, один молодой сердитый критик, вынужденный как-то вести со мной литературную беседу, остался этим очень недоволен и даже предположил, что такая скрытность существу пишущему не к лицу. «Получается, Марина, – заметил он, – что вас как будто нету». Честное слово, это лучшее, что я слышала от критиков в свой адрес. Меня – как живого кровоплотного человека, который встаёт по утрам и ложится вечером, пополняет карту «Тройка», предпочитает солёные огурцы и сетует на пробки – для читателя действительно нет. И быть не должно.
Есть только текст, который я написала, – и текст, который вы потом прочли.
Надо ли говорить, что это всегда разные тексты? И что именно в этом волшебном зазоре между текстом написанным и текстом прочитанным и кроется то, что мы называем литературой?
Конечно, мне бы хотелось подвести под своё нежелание писать о себе ещё какую-то философскую или хотя бы литературоведческую базу, но, полагаю, что всё дело в бабушке Вале, которая считала неприличным хвастовством любое употребление вслух местоимения «я» в любом из имеющихся склонений. Выросшая под строгий окрик: «Не якай!», я уже в пять лет могла рассказать внятную историю о пережитом на прогулке приключении, ни разу не упомянув о себе самой. Это было непростое упражнение для резвого ребенка с довольно лохматым воображением, но исключительно полезное. Став постарше, я поняла, что рассказывать о себе не стыдно, а просто неинтересно. Воображение – вот что оказалось самой лучшей игрушкой на свете. И остаётся такой до сих пор.
Так что спасибо, бабушка. Это была хорошая школа.
Однако для человека, который считает нежелание писать о себе литературным принципом, я нынче говорю о себе непозволительно много. А ведь монолог – совершенно не мой жанр. На вежливую просьбу рассказать о себе (в отделе кадров, на встрече с читателями, на первом свидании) я реагирую самой настоящей немотой. Куда проще отвечать на вопросы – опираясь на них, я чувствую себя в чуть большем праве говорить о себе самой. В конце концов, та же бабушка утверждала, что не отвечать людям – верх невежливости. Поэтому я решила не мучить вас и себя, а ответить на вопросы, которые составители задавали авторам сборника «Как мы пишем» еще в 1930 году.
Кстати, обложка этого сборника сама по себе прекрасный ответ на все писательские чаяния. Посмотрите на список фамилий – Андрей Белый, М. Горький, Евг. Замятин, Мих. Зощенко, В. Каверин, Борис Лавренёв, Ю. Либединский, Ник. Никитин, Борис Пильняк, М. Слонимский, Ник. Тихонов, А. Толстой, Ю. Тынянов, Конст. Федин, Ольга Форш, А. Чапыгин, Вяч. Шишков, В. Шкловский. Кого мы читаем и знаем сейчас, в 2018 году? Кто остался писателем по гамбургскому счёту?
Посчитайте сами.
Написать книгу, да хоть двадцать книг – не значит стать писателем. Чтобы стать писателем, надо умереть. И подождать ещё лет пятьдесят, чтобы всё встало наконец на свои места, чтобы отстоялась вода и мусор, который казался таким блестящим, лёг на дно, дав читателю возможность взглянуть на текст, не отвлекаясь на шум и ярость назойливой современности.
Только тогда и станет ясно, чего мы стоим на самом деле.
1. Подготовительный период. Длительность его.
Если я пишу большую книжку (самонадеянно надеясь на роман), то подготовительный период длится в прямом смысле – годы. Поскольку я всегда даю героям профессии, о которых не имею ни малейшего понятия, и сую их в неведомые мне города, времена и обстоятельства (тоже, к сожалению, самонадеянно), времени на сбор фактуры уходит в разы больше, чем на написание собственно текста.
Я бы рада сказать, что с рассказами дело обстоит проще, но – нет. Например, для того чтобы написать рассказ «Там, внутри» (про мать ребенка-инвалида), я буквально выучила наизусть монографию Мещерякова «Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения» и несколько месяцев сидела на форумах мам, у которых тяжелобольные дети. Вот где дистиллированный ужас. Меня чуть не убил этот текст – а рассказ получился маленький.
2. Каким материалом преимущественно пользуетесь (автобиографическими, книжными, наблюдениями и записями)?
Никогда ничего не записываю, записать для меня – однозначно убить наблюдение или мысль, проверено. Только запоминаю. А вот материалы собираю страстно – это и биографии, и мемуары, и дневники, и любая научно-популярная литература по нужной мне теме, и специализированные форумы, и устные рассказы. А как иначе? Писатель – это в первую очередь соглядатай.
3. Часто ли прототипом действующих лиц являются для Вас живые люди?
Никогда. Я принципиальный сочинитель. Будь у меня щит, я бы выковала на нём набоковское «как родине, будь вымыслу верна». Даже если в тексте появляются реальные, исторические персонажи, они будут жить так, как требует текст.
4. Что Вам даёт первый импульс к работе (слышанный рассказ, заказ, образ и т. д.)? Данные в этом отношении о каких-нибудь Ваших отдельных работах.
В основе любого текста всегда – мысль или идея, которая меня в настоящий момент беспокоит. Я называю это – чешется. Чешется, к счастью, в разных местах, так что и тексты получаются разные, чему я очень рада. Например, роман «Женщины Лазаря» – о природе гениальности, о том, что такое – дар, талант, каково жить в его тяжёлой тени. В итоге, правда, получился роман о доме и о семье, о несправедливости любви. Но чесалось другое.
5. Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день максимум?
Кабы я была царица, писала бы вечером и ночью – как и положено сове, но я не царица и потому работаю, когда есть время. А его, сами понимаете, нет никогда. Бывают недели, когда я не пишу вообще – потому что некогда. Утешаюсь тем, что всё это время продолжаю думать о героях и начитываю материал, это помогает не выпасть из текста, не потерять его.
Максимум, который я могу из себя выжать в день, – два-три часа интенсивной работы. К сожалению, в итоге получается две-три тысячи знаков максимум. Так что КПД у меня – как у паровой машины Черепановых.
6. Примерная производительность – в листах в месяц.
Жестокий вопрос. В месяц я могу написать лист – при условии, что буду каждый день выкладываться по полной. Не припоминаю, чтобы мне хоть раз удалось проделать такой фокус с текстом и свободным временем.
7. Наркотики во время работы, в каком количестве?
Хочу сразу напомнить нервному читателю, что все вопросы взяты из сборника 30-х годов XX века, но и тогда авторы в основном отчитывались в том, сколько выкурили папирос да опрокинули стопочек. Впрочем, даже если вообразить себе, что мы живём в стране, где наркотики легализованы, я бы всё равно оказалась в стане трезвенников и анахоретов. Совершенно не могу представить себе, как можно написать хоть что-то хорошее (или хотя бы внятное), находясь в изменённом состоянии сознания. Как будто мало того, как изменяет сознание сам текст. Так что за работой я даже кофе практически не пью – просто чтобы не отвлекаться на возню с капсулами, чашками и кофемашиной.
Курю – да, грешна. Но не за работой – этак можно мешок махорки высадить и даже не заметить. Позволяю себе сигарету в качестве награды – за написанный абзац, например. Кстати, часто даже этот небольшой перерыв (встать из-за стола, доплестись до курительного места, покурить, подумать) очень помогает опомниться, отломить свеженький постамент и понять, что ты вовсе не ай да Пушкин, ай да сукин сын. А совсем наоборот. И написанный абзац никуда не годится.
8. Техника письма: карандаш, перо или пишущая машина? Делаете ли во время работы рисунки? Сколько раз переписываете рукопись? Много ли вычёркиваете в окончательной редакции?
Ещё один очаровательный старомодный вопрос, который скоро потеряет смысл – потому что вымрут последние авторы, которые в принципе помнят, как пользоваться пишущей машинкой. Про навык рукописания я и не говорю – он утрачивается так стремительно, что скоро мы вместо подписи будем ставить крест не по неграмотности, а по банальной неспособности держать ручку. Разумеется, я пишу в файл – это удобно, ты сразу видишь и вёрстку страницы, и практически опубликованный текст. Меня это очень дисциплинирует. Конечно, немного жаль, что черновики в привычном смысле практически исчезли, но самые большие зануды и авторы, которые искренне верят в то, что они – сокровище нации и будущий памятник, могут сохранять и оставлять версии для восторженных потомков и вдумчивых литературоведов. Я не сохраняю, но и сохраняющих не осуждаю. Всякая тварь боится смерти по-своему. Такие дела.
Рисунки на полях мне вполне заменяет сёрфинг по сети – если образ или нужное слово никак не выберутся из ноосферы, можно побродить по сайтам с историческими фотографиями, например. Посмотреть, сколько пуговиц было на гимназическом мундире в 1880 году. Или поискать, как выглядели женские шляпки в двадцатые годы XX века. Мне это помогает думать так же хорошо, как рисование на полях лупоглазых профилей и несуществующей флоры.
Когда работаешь на компьютере, то не пишешь, а, по сути, постоянно переписываешь текст – и мне это нравится. Единственная опасность – можно зависнуть на годы над особенно упрямым отрывком, добиваясь желаемого и – увы! – несуществующего совершенства. Поэтому в какой-то момент я беру внутреннего перфекциониста на короткий поводок и стараюсь всё-таки написать бо́льшую часть текста вчерне. И только потом начинаю вылавливать в нём блох и выкусывать несуразности.
В итоговую рукопись вношу правки и изменения, только когда работаю с редактором. Но к этому моменту текст, как правило, хорошо отлежался и прошёл горнило нескольких читок (я всегда показываю рукопись нескольким людям, чьим мнением особенно дорожу). К сожалению, мой взгляд к этому моменту уже настолько замылен, что надеяться можно только на помощь других.
9. Составляется ли предварительный план и как он меняется?
Не представляю, как можно писать по плану. Конечно, у меня есть некий общий замысел (он может поменяться, и не раз), есть чёткое представление, о чём будет моя история (это не меняется никогда), есть главный герой или даже главные герои (в процессе написания их число может увеличиться, потому что ничто не сравнится с упорством эпизодических персонажей, которые рвутся в главные). И конечно, есть главная тема, главный вопрос, из-за которого я и начала писать. То, что чешется. Какова природа человеческого гения? Существует ли абсолютная свобода? Что важнее – реализованный талант или маленькое личное счастье человека? Эти вопросы тоже остаются неизменными. Да ещё и приводят с собой другие, такие же зудящие. Всё остальное в будущей книге для меня – такая же тайна, как для читателя. И вопрос – а что будет дальше? – я задаю себе каждый раз, когда сажусь писать.
Вообще самое интересное – когда текст начинает писать себя сам. Лучшие мои персонажи всегда приходили без приглашения и поступали, как считали нужным, не заботясь о том, что думала и планировала я. Самые неожиданные повороты сюжета случились по воле героев, а не по моему хотению. Иногда после этого мне приходилось отправлять в корзину десятки уже написанных страниц, но никогда я об этом не пожалела. Дайте свободу тексту, отпустите его – это лучшее, что вы можете сделать для будущей книги.
10. Что оказывается для Вас труднее: начало, конец, середина работы?
«Здравствуй, брат, писать очень трудно». Трудно в начале, когда перед тобой громада материала, кажущаяся неподъёмной, невероятной – жизни не хватит, чтобы всё для книги прочитать, когда уж писать-то? Трудно в середине, когда герои расползаются, как дети в яслях, в разные стороны, и все хором орут, требуют внимания: кто-то голодный, кто-то напрудил в штаны, кого-то обидели. И тебе как-то надо со всем этим разобраться. Совсем тяжело в конце – потому что русская литература не слишком сильна финалами, и хочется прыгнуть выше существующей планки, выше себя самого – а это всегда расквашенные локти и коленки. И такое же расквашенное самолюбие. Ну и расставаться с книгой – тяжело. Страшно.
11. На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зрительных, слуховых, осязательных и т. д.)?
Я вижу будущий текст объёмными картинками, маленькими фильмами – примерно как булгаковский Максудов в «Театральном романе» с его волшебной коробочкой, в которой жили герои. В этих маленьких фильмах есть всё – запах, звук, потрясающей яркости видеоряд, все тактильные ощущения. Задача одна – как можно точнее воспроизвести всё это на бумаге. К сожалению, мне справиться не удалось ни разу. Между тем, что я вижу, и написанным всегда остаётся зазор – для читателя, может, не очевидный, но для меня – громадный, непоправимый. Воображение всегда опережает текст. Мой текст – так точно. Увы.
12. Ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования?
Непременно. Ритм текста в целом, ритм каждого абзаца, отдельного предложения – это так же важно, как герои, стиль, сюжет. Может, даже важнее. Не найдёшь правильный ритм, не напишешь текст.
13. Проверяется ли работа чтением вслух (себе или другим)?
Я стараюсь лишний раз не терзать окружающих, жизнь и так непростая штука, а вот сама проборматываю вслух каждое предложение, каждый абзац, добиваясь нужной ритмической организации. Ты просто слышишь лишнее слово, или наоборот – понимаешь, что слова не хватает, причём трёхсложного, с ударением строго вот здесь. Примерно так же пишутся стихи. Сначала – высокий гул, из которого и приходят нужные слова.
14. Какие ощущения связаны у Вас с окончанием работы?
Громадное опустошение. Тягостное ощущение, что мне не о чем думать и незачем жить. И страх, что следующая книга не придёт. Вообще.
15. Меняете ли Вы текст при последующих изданиях?
Стараюсь не менять ничего, кроме откровенных стилистических ляпов, фактических ошибок и несуразиц, которые находятся, к сожалению, всегда, сколько текст ни вычёсывай. Конечно, часто хочется переписать всё, особенно если книга написана давно и всё изменилось – и во мне, и вне меня. Но я считаю, что переписывать бесчестно по отношению к тексту. К тому же переделка может всё испортить – вспомните попытку Пастернака переписать ранние стихи, чудесные, дикие, первозданные. Получилось плохо, правда – плохо. Нельзя всю жизнь переделывать одну книгу. Куда лучше расти с каждой и за каждой.
16. Оказывают ли на Вас какое-нибудь влияние рецензии?
Поначалу я очень переживала из-за любого отзыва – и хорошего, и плохого. Но после шумихи вокруг второго романа быстро сделалась буддой – и теперь философски отношусь к критике как таковой. Хвалят – благодарна, ругают – не обращаю внимания. Невозможно написать книгу, которая отомкнёт все сердца до одного – это даже Библии не удалось, куда уж мне, смертной.
Михаил Тарковский. Три урока
Первый – русская литература. Чему она учит? Верности своей земле, чувству хозяйской причастности и любви к читателю. В Иване Бунине пронзительный режущий нюх к жизни, тоска и переживание каждого штриха происходящего, небоязнь сделать его событием и опорой повествования. И впечатление, что душа в стихах, верно исполняя канон, но не найдя простора, потребовала шири и Иван Алексеевич нашёл её в прозе. Это как река. То режет хребёт до полу. То ширью уходит к океану.
Почему поэт идёт в прозу? Нет проломно́й гениальности, и хочется поискать других пространств? Как в доме – либо остаться в сенках, либо дальше двинуть, открыть грядущую дверь. Кто его знает… У прирождённого поэта дом не делится на сенки и горницу, а всё одно светящееся пространство. А если есть ощущение простенков и позыв узнать, что за дверью, – тогда и в путь. И к нему свой склад: меньше надёжи на мгновенные озарения, больше способностей к стройке, что ли. Больше рассудительности. Хотя не то всё. Вот так лучше: в поэзии – или попал в цель, или не попал. Один выстрел – и соболь в руке! А проза – это как ловушками работать, широко и постепенно. Охватом. Есть время подумать – насторожить ли оба берега или только этот, где избушка. И можно пол-участка взвести и в базовом зимовье́ на нарах денёк отлежаться под баньку. Чтобы потом остальное досторожить, посмотреть «чо да как», а потом внепланово поднять кулёмочную дорожку на Лочоко́, а хребтовую по гари у Хаканачей прихлопнуть: мыша мало нынче.
И никто никуда не убежит, всё в руках, и знаешь, что законы совершенства полдела за тебя сделают, только не ленись сверяться. Хотя не высидеть главного крепкой задницей и инженерными мозгами. И пускай в прозе и сильнее чувство подвластности материала, но секундный всполох тоже нужен – озарение уже самой идеей произведения. А она почти всегда в одной фразе умещается.
У Бунина язык – одно из главных действующих лиц повествования. Но не так, как у рассуждающих о форме и содержании, делящих на средства и нечто более важное, им противопоставляемое, – а язык как носитель национальной прапамяти. Каждое слово имеет свою даль и свою историю, и нет ничего прекрасней, чем следить её, снимать кожурки слой за слоем и доживать до первообраза.
«Завернули ранние холода». Сколько в трёх словах силы, сквозящего Русского мира и глубинных воспоминаний! Какие клубы завернулись! И не то слово всколыхнуло пережитое, не то так впечатан в душу образ, что уже нет границы между былым и привидевшимся. Бывает, много раз перескажешь сон и не знаешь, был ли… И может, сам придумал? «И бесцельно и скучно провожала пароход единственная чайка – то летела, выпукло кренясь…» Сколь точный образ! Из этого «бесцельно и скучно» целое состояние души, открывающееся мимолётно и знакомо и тут же забывающееся и хранящееся в памяти вместе с сотнями таких же достоверных ощущений, которые, оберегая, никогда не зазвучат едино.
Наверное, самое подходящее к Бунину слово – это пронзительность, и, пожалуй, самый пронзительный рассказ «Поздний час». «…И пошёл я по мосту через реку, далеко видя всё вокруг…» Читатель, прошедший сегодня по Ельцу, повторивший путь героя к тому самому кладбищу, поймёт, что речь о реке с большой буквы, о памяти, вечности. Так и идёт герой к могиле возлюбленной, по-над которой стоит в небе та самая зелёная звезда, что светила им в молодости. Такие рассказы будто открывают право на существование в литературе повествований без громкого сюжета. Приближают к правде состояния, которое подчас важней внешнего события. Ведь самое главное внутри происходит. И при потрясениях особенно.
Сюжет о пути через реку на могилу близкого человека предельно старинен, и был у Ивана Алексеевича в крови, наверняка он в детстве слышал народные песни. Вспомним «Ягодку», найденную и возрождённую Владимиром Скунцевым примерно в тех же южнорусских местах, только на юго-восток, на Хопре. Есть пасхальный и свадебный вариант прочтения песни, но гораздо таинственней и глубже поминальный смысл «Ягодки». Когда «зелёный хуторочек» – кладбище.
Е-ее-эй она бы она закричала Еэй красная моя девчоночка Своим звонким она голоском Своим звонким голосочком ой да голоском Е-е-эй перявощик а ты перявощик Ай да переправь меня да девчонычку Эх на ту сторону да ряки Е-е-эй там в зеленом хуторочке Что на самом на ярочке Мой милёначик живётСлушайте Владимира Скунцева и ансамбль «Казачий круг».
Всегда поражает, когда любимый писатель восхищается и очаровывается стариной. Ведь он сам для тебя заповеднейшая старина. А нет – оказывается – и для Бунина так же чу́дны были времена «Страшной мести», а для Пушкина пугачёвская пора.
Есть писатели, которые входят в кровь на заре жизни, а есть, которые позже, когда дозреешь. А есть – что и так, и так. Фронтом и вошли Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. Оба как из стратосферы. За пределами призваний. Толстой с «Войной и миром», «Казаками», рассказами. Достоевский – с «Идиотом» и «Братьями Карамазовыми». Урок Бунина был прикладной, учил зачину с языка, будто говоря – пока не поставишь, не наладишь перо, не смей и рта открывать. Тысячи людей любят Родину, любят близких, любят места России, но единицам удаётся не уронить высокое значение этих слов, пронести сквозь века, передать детям. Трудись. Учись изъясняться лаконично и точно. Да будет твоё слово крепко стоящим на земле, но устремленным ввысь и прозрачным, как бутыль, стеклянный кувшин. А судьба его сама наполнит.
Уроки Толстого и Достоевского общие, стратегические. Главное – степень впечатанности героев в душу независимо от прозрачности или непрозрачности, образности или необразности – огромность: князя Андрея, княжны Марьи, Кутузова. Может, когда ты мал – и образы огромней? Нет, не в том дело, у других писателей, прочитанных в детстве, не было такой монументальности персонажей. Можно приплести, что Толстой стоял на заре главной литературы и такой первозданности образов не повторить. Нет. Дело лишь в силе. Но если, изучив Толстого, можно постичь его мастерскую и подвинуть с места за нарастание слабостей, то с Достоевским вовсе непостижимо. Настолько он ломает представления о мастерстве, настолько причудливо в нём сочетается стихийное с рассчётливо-драматургическим, прикладное с философским, что он так и остаётся величайшей загадкой. Недосягаемым образцом, утверждающим бесконечность художественного постижения.
Об уроке Астафьева. «Последний поклон» – великая книга. В ней есть рассказ «Конь с розовой гривой». О том, как Добром зло одолевается. Если Бунин в ремесленном смысле учил строгости и прозрачности, то Виктор Петрович – докапыванию до смыслов, обильному и красочному водопадному живописанию, которое, как весенний горный ручей, обязательно промоет дорогу к вещей прозрачности. А совсем к делу – учил не боятся боли. Нести как дар и муку, не щадя ни себя, ни читателя.
Под боком, под борто́м у любимого писателя можно долго плыть. Но всегда охота свои винты ли плавники опробовать. Есть учёба: оттолкнуться от Астафьева и Бунина, как от берега, и пробовать самому грести. Пытаться приспособить законы-правила к делу: они подогнуться и окрепнуть в твоих руках должны. Схватиться, как заготовки. И зуд в кистях отдаться ответно.
Рисовалась рыбина – картинка, схема повести, осетёр такой, и слоями – штриховыми, белыми, чёрными – сосуществовали в стремительном теле параллельные составные, слоились линии героев, и голова цельно означала вступление, въезд в повествование, а хвост – финал. Главным было единство очертания, плотность и прилегание слоёв. Поначалу обычно чужих рыбин рисуют, изучают, и те, радуя, открываются в спасительном сходстве. Потом – только своих.
А как скучно, когда оказывается, что почти всё приёмами достигается, кроме, конечно, главного. Оно-то и спасает.
С недосягаемой высоты глядел Иван Алексеевич Бунин, становилась в рост сила слова, замешанная на глубочайшем знании родной земли, на праве судить самого себя, отождествлённого с Отечеством, когда даже барское брюзжание в «Деревне» имело оправдание: это моё, хочу казню, хочу милую. Да и сам, главное, не сахар.
Иван Алексеевич близок начинающему сочинителю – глядя на него, понятно, как работать неумелому. Хотя нет ничего хуже, чем быть начинающим. Все тебя шпыняют. Даже те, кто не шурупят, как сговорившись, ставят в пример Чехова. А главное, сам толком ничего не можешь, не нажил запаса мудрости, не богат выслугой душевных лет, долгим плаваньем, а требуешь уважения, будто уже всё написал, ведь мироощущение-то настоящее, художничье. И похоже, с самого детства. А доказать нечем. И ничего не остаётся, как закинуть в лодку самое дорогое, – и чтоб уже не отступить, – столкнуть её в горную реку, изловчиться, запрыгнуть, черпнув ледяной воды, а там только шестом управляйся – такая бы́стерь!
Второй урок, идущий всегда параллельным курсом, – тайга. Многие пытаются величать этим словом ещё и еловые, и сосновые леса европейского нашего Севера. Не в обиду – не несут последние того образа, что привораживает в сибирской тайге. И удивительно, что дальневосточная тайга, пышно-кудрявая летом и серо-сквозистая зимой, внешне ещё менее похожа на сибирскую, но по своей сути к ней ближе, чем архангельские или вятские леса. Видно, дело в азиатской энергии Доуралья (или Зауралья – откуда смотреть), которая столь сильна, и её ощущает каждый сюда приехавший, едва выйдя из самолёта и хлебнув студёного воздуха. И в историческом – столь велика была разгонная сила первопроходцев, с какой они, одолев гигантскую Сибирь, выкатились к Океану, что и сибирское слово «тайга» братски накрыло козырьком и Прихабарье с Приморьем.
В тайге много соблазнов. Соблазн собственной силы. Соблазн противопоставления города и дальних мест, конечно же предполагавший ту самую «фальчь» больших городов, света, от которой бежал Оленин из «Казаков».
Всё это – двояко. Как повернуть. Поэтому главное здесь – возможность начать с корня. Ничто так не меняет душу, как восходящее движение. Но для него вертикальный разлёт, размах нужен. Нет русской литературы без народности и религиозности. А корень – это народность. Знание жизни человека, а не наделение представлениями о нём, как в фильмах горожан о селе. (В фильме «Казаки» Ерошка пришёл с ходовой охоты на фазана в пышнейшей бараньей какой-то дохе, накидке поверх черкески. В ней и сибирской зимой-то на промысле упреешь. Хотя написано Толстым: «…за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна – неожиданная, весёлая весна для Оленина». Ладно…)
Врёт писатель, что не нужно признание, что очищения, испытанного в работе над книгой, вдосталь. Слов нет – оно смысл. Но неполный без отклика. И писатель как дитя его ждёт, зависит нелепо от читательских мнений, питается ими, нарушая простейшие духовные заветы. Судить его за это или не судить – не тема беседы. Но всё равно: как дороги отзывы неискушённых читателей, простых людей!
Есть золотце, мелькнувшее с дамского пальчика в театральной ложе. Или над рекой Хомолхо́ в Бодайбинском районе среди мха, мерзлоты, в кварцевой жиле кристалл золота повёл лучами.
В корневой жизни всегда есть для писателя своя гордыня, противопоставление, мол, вы там чистоплюи городские, а мы тут пашем, едри его в пуп. Здесь настоящее, а там нет. Но всё зависит от того, какие уроки извлечёшь, куда тебя выведет. Если к разлому меж частями России – то беда, а если к монолиту – то и слава Богу. Это к вопросу: а нужен ли сочинителю азарт, соперничество на ранних порах? Да всё нужно, что к делу.
Тайга без человека – пустое место. Её образ дорастает именно в промысловой традиции, в силе памяти о былых временах, в разговоре предков с этими просторами, его преемственности. Без этого тайга – открытка. Многие идут-то за открыткой, а привораживаются людьми, собратьями по доле и дали….Ждал самолёта в 1977 году дед в Иркутском порту. Руки – как крю́ки, суставы распухшие. Промывальщик, видно. Ладони сами как лотки. Выгнутые чуть не углом и так и схваченные. Сам худой, какой-то бледный в синь. И говорит кому-то, кто рядом, о своём вечном: как его (это золото) искать, чуять. Паренёк, который рядом, может, и ушёл, не выдержал, а дед всё равно вещает, с жаром, чуть не с отчаянием, проповедует, только бы донести, только бы передать! Да такими словами… Жаль, что только не вспомнить никогда.
Читатели делятся на две категории: знающие то, о чём читают, с детства ли, с юности. И те, которые не знают, но им близок сам тон, строй книги. Они с листа создают образы, идя рука в руку с писателем. Открывают мир, веря авторскому оку, сердцу. А тем, кто знает, – двойная отдача. Вроде бы особо трудиться не надо, только узнавать. Намекнули – уже представил. Но зато… какие тропы тянутся от каждого слова вдаль, к детству, к близким, у кого куда.
«Конь с розовой гривой». Утонувшая матушка маленького Витьки. И плывущая по воде земляника.
И вот старинное промысловое село Ворогово. Далёкий год. Мужики с города на катере. Староверы с Дубчеса, выехавшие флотилией на Енисей, сдавать кто чем богат. По большей части ягода. Первым ринулся навстречу покупателям шебутной старовер с двумя вёдрами, потом толпа подошла, оттеснила, и катерские́ взяли ягоду у спокойной и рослой бабы. Шебутной кержак вдруг ринулся к берегу – и размашисто вывалил в Енисей два ведра. Прибой прибил, течение растянуло, и длинной полосой вдоль берега колыхалася брусника.
Урок тайги силён уважением к людям, напрочь выбивает дурь и каприз. Он направлен внутрь человека. Приучает жить, каждую минуту отдаваясь настоящему, питаясь им, как милостью. Появляется привычка жить, находясь в смысле, и другое воспринимать как болезнь, нелепицу. Тайга ещё и товарищество. И знание самого мерзлотного пласта жизни, который для писателя золото. И не просто знание, а постижение закона превращения этого знания в литературу, что гораздо важнее. И схожесть литературы, особенно прозы… и промысла. Строй тайги, то стихийный, то аскетический, кристальный, в решёточку, в антенку. И то, что нет ни одной одинаковой мачточки. И что когда в дорогу – ничего забыть нельзя, всё важно, и спички, и топор, и горючее. По всем осям сборы. И то, что в книге столько осей, что все должны быть выполнены, все емкостя́ заполнены! Если диалоги – то герои должны говорить ещё кратче, ярче и характерней, чем в жизни. И что живость героя достигается целым набором качеств, но главное – его собью, каким-то собственным необыкновенно убедительным состоянием души, отношением к жизни, до конца автором не разгаданным. И именно это авторское восхищение и переживание неразгаданности только добавляют достоверности. Допустим, просто раздражённый мужик – и как сильно его раздражение, как заповедно и непостижимо! Что он весь гудит… И веришь.
И если описываешь город, реку или тайгу – то обязательно найди что-то, что тебя поразило в городе, реке или тайге: но чтоб уже описание не костра вышло, а его отсвета в душе. Как в бунинской чайке.
И что писанина твоя – никакая не привилегия, а одна из бесчисленных разновидностей труда: вот замена подшипника, заточка цепей и вот заточка сравнения, эпитета, вывод лезвия до звона. Вот валка леса на избушку – а вот лесозаготовка первичного образа повести, когда главное – не упустить ничего, не забыть, взять объёмом, кубатурой, на площадку припереть, а потом, когда будет уже около дома лежать – разберёшься, главное на месте. Нет ничего труднее, чем из полного небытия создать нечто стоящее, и непосильное есть что-то в таком рождении. Это и есть добыча. Добыть осину на ветку, дерёва на лыжи, оленя. Выудить, перетянуть в твоё пространство. А как добыл – так и с плеч гора. Как ягоду в коробе принёс с листочками, с веточками – потом отвеется.
Дальше только с виду легче. Привести в божеский вид. Ещё каторжней, тем более уже драматургия сложилась, радость испытана, а надо перелопатить в литературный облик. И вроде даже глупо. Всё понятно, и теперь формальности. Хотя последние рабочие дни радостны, и мелкие доработки просты и недушемучительны. Тут не похоже на стройку: в избе внутренняя отделка муторнее, чем возня с брёвнами и стропилами.
Но главное-то не сходство ремёсел, а любовь. Без любви к тому, что пишешь, ничего не выйдет. Промысел в тайге вовсе не всегда так ярок, как кажется со стороны. Есть и нудные полосы, бывает и оттепель после первых морозов, от которой будто всё насмарку. Только капает с дерев жёлтым, и не пойти: снег не держит, да и мокрый будешь, как выдра. Есть поломки техники, сжирающие время. Есть и просто усталости разных сортов. Товарищ, которым дорожу, рассказывал, как его рвало от усталости ночью в избушке. Не вынести без любви – и к своему делу, и к тому, что вокруг. Получится писать, если полюбишь до слёз, как тайгу любят, как любят места, на которые власть рукой махнула, а оно чем дальше и заброшенней, тем дороже. Любят, не противопоставляя одно место другому, а видя всю Россию от Океана до Океана, как узорный плат. А когда на дорогое посягнут, то ещё и защитником проснёшься.
Когда пролетаешь над такими местами или на время покидаешь – по хребту мураши бегут. Те же мураши, когда о дорогом пишешь, – вот делись ими с читателем!
Так и учит жизнь отличать настоящее от поддельного… Книгу от текста, писателя от автора, учителя от педагога. Два урока – урок книги и урок промысла – они вместе. Но с годами уступают третьему.
Наработать слог, настропалиться кроить повествование может каждый средней руки литератор. О пластике мало кто думает, как об отдельном уменье, но, попотев, – справится. Добавить слух к слову, начитанность и вообще интерес к литературе, писательским судьбам. Да и прелесть комнатного труда – не в шахте сапогами хлюпать. Поэтому главное – не дар, а как с ним обойдёшься. На какую службу поставишь. Литература, как любое мастеровое дело, – это наука, как даренное Богом не угробить. Пустить не во славу своего пупа, а на благо родной земле и её жителям, раз единственный смысл художественного творчества – оказание духовной поддержки согражданам. А многочисленные примеры иного удачного применения – не более чем искушение. Проверка на верность.
Разрозненные способности ничего не стоят. В прежние времена писали хорошо и не будучи сочинителями. А как пишут самородные гении, каким врождённым даром к слову обладают! Вспомним хотя кузбасского художника Ивана Селиванова и его дневники-записки или сочинение Афанасия Мурачёва о разгроме Дубческих скитов. Потому разговоры о «слоге» опустим. Примечательно, что и читатели бывают удивительно необъёмные, монорельсовые. Независимо от количества образований и других культурностей. Но учат-то не эти – а те читатели, что, желая выразить благодарность, будто говорят заключительно-главное слово в том отрывке, которое ты пытался вымучить. И ничего нет дороже такого слова.
И штука не в знании приёмов, не во врождённом слухе к слову и не в способности озарятся чудным драматургическим или поэтическим решением, а только лишь в умении распорядиться всем этим, взрасти сильным и щедрым сердцем.
Бунин, Толстой, Достоевский, Астафьев учат мастерству, масштабу. Гумилёв и Есенин – ответу за слово. А потом как граница пересечёт дорогу и воздух сменит цвет – начнутся живые люди, современники, которые-то и покажут, куда дар направить. Расскажу о двух. Оба сибиряки. Первый – Николай Александров. Родился в городке Болотном недалеко от Новосибирска. Жил в самом Новосибирске, а последние годы – в сорока километрах от Новосибирска в посёлке Колывань. Не путать с рудной Алтайской Колыванью, основанной демидовскими промышленными людьми.
В юности так представляется образ писателя.
Солидный, несколько полный господин с щеками и бакенбардами. Он только проснулся и в халате бродит по обширной квартире с большими окнами. Возможно, на парк. Пьёт на ходу кофе или курит трубку. Главное в его состоянии – полное отсутствие какой бы то ни было спешки и озабоченности чем бы то ни было. Вволю побродив, наш классик садится за огромный, покрытый зелёным сукном стол и какое-то время творит, прерываясь на задумчивые проходы по квартире. Далее возможна прогулка. Потом обед, после которого обязателен полуторачасовой сон. Потом кофе или чай. Прогулка. Ужин. К вечеру стол и книги.
Николай Александров – другой. Его распорядок неизменен на протяжении пары десятилетий. Нижеприведённое впечатление о нём – из первых, давнишних. Коля вставал в шесть утра, по чёрной мгле мчал на тридцать первой «Волге» на работу в Новосибирск (у него и теперь небольшое по нашей поре издательство «ИД Историческое наследие Сибири»). По морозу под сорок. По асфальту в чашах дыр. Мимо бетонного забора ТЭЦ-2 с косыми рёбрами устойчивости и невидимой во тьме колючкой поверху. Примчав в издательство, проведя разнарядку и отзвонясь, тут же мчал куда-нибудь на ОбГЭС, Мелькомбинат, Горводоканал или Пороховой завод. Просить денег на книги по истории области или на издание какого-нибудь поэта, например Николая Зиновьева из Краснодарского края (не путать с песенным Зиновьевым). Потом – переговоры, библиотека, журнал «Горница», звонки, ездотня. К вечеру в Колывань. Кормёжка куриц и огребание снега. И вопрос к Николаю: «А когда же ты пишешь?» И ответ: «А всегда пишу. Мои рассказы, они внутри как камушки точатся, гранясь друг о дружку. Потом я их высыпаю на бумагу и живу дальше, никого не мучая».
Каждое гостевание в Колывани оборачивалось встречами со школьниками. Выступлениями на Рождественских чтениях. Приехав отдохнуть, гость попадал в обмолот.
Александров никогда не уподоблялся издателям, для которых издательская деятельность – средство обогащения и которым нет разницы, «чо клепать» – кнопки, пиво или книги. Книги, которые он считал особенно нужными, – просто раздавал. «На двадцать миллионов библиотекам отдали. Мне ж „луреатство“ дали – „Меценат года“!» Издал «Историческую энциклопедию Сибири», разработал и внедрил программу семейного чтения «Мудрые дети», включённую в образовательный план области. По области провёл под сотню семинаров по «Мудрым детям» и ни одного творческого вечера со своими книгами. Любимый писатель – Макаренко. Рассказы Александрова нашло питерское издательство «Русская симфония» и предложило издать книгу. Отдал безгонорарно. Зарядил «Народную летопись», которую люди сами пишут. Сотая часть дел… Но тут даже не дела́, а дух отношения, которому счастье вторить. Как-то так… И снова вопрос: «Когда же ты пишешь?»
И ответ с каким-то умудрённым, но не усталым выдохом:
– Это уже и не важно. Есть вещи, не принадлежащие одному человеку…
Всё это уже было, и на горло собственной песне наступали, и ради будущего пахали как проклятые. И все боятся повторить, обегают это место, как отравленное, мол, хватит, проехали! А этот, наоборот, туда и метит, мол, в том и сила, что было, чтоб продолжилось! А все корят, даже пишущий журналист из районной, кажется, газеты пытается, но безуспешно: «Николай и сейчас живёт расчётливой и до подробности продуманной суетой: планёрки, кучи писем и бухгалтерских отчётов, вымаливание денег на книги. Всё бы протестовало против такой расточительности, если б в его рассказах не угадывались глубинные потоки русских предков-писателей – Толстого, Достоевского и Бунина, которые и дали жизнь этому скромному, но живительному роднику сибирской педагогической прозы». Наверное, это подтвердят и серый бок ТЭЦ-2, и остов Сибсельмаша, и усаженный Колиными ёлочками и сосенками склон Колыванского угора. И эти строки:
«Я знаю, что когда-то и совсем скоро здесь будут стоять разлапистые высоченные сосны, гудеть вековечно и трубно на ветру и янтарно блестеть весенней смолой. А кто-то полюбуется на них, посидит и задумчиво помечтает, прислушиваясь к тишине позднего вечера или к шуму дождевой капели, в которой, я знаю точно, будут отгадываться хрупкие удары моего отгулявшего сердца…
…Так и книги и написанные, и изданные, мои… и наши книги, и все дела прочие большие и малые обязательно прорастут заложенной в них любовью к будущему.
Я успею посадить ещё несколько сотен сосен, и дай Бог успеть увидеть следы своих дел. Ведь так хочется верить, что каждый след твой нетленно красив».
Ещё человек-урок. Писатель из Иркутска Анатолий Байбородин. Родился в Забайкалье, в Бурятии. Отец из тех, про кого сказано:
Забайкальский мужичок Вырос на морозе, Летом ходит за сохой, А зимой в обозе.Матушка, в девичестве Софья Лазаревна Андриевская, из Читинской области, из Красного Чикоя, из мест, освящённых пресветлым образом Преподобного Варлаама Чикойского, к мощам которого можно приложиться в Казанском соборе в Чите. Предки Байбородина по материнскому корню происходят из семейских старообрядцев, в своё время оттеснённых в Польшу, а потом во второй половине XVII века сосланных в Даурию. Переехали семьями, вроде бы и отсюда название семейские.
Надо знать и любить Забайкалье, занимающее первое место по числу солнечных дней в стране и по малоснежности. Климат резко континентальный, морозный, снега почти нет, а который есть – выдувает, и степь желта и в конце января. Горы, озёра с зелёным льдом, чахлый даурский соснячок по сопкам. Бурятские лошадки, возлежащие на федеральной трассе.
Все худо-бедно знают или Байкал, или уж сразу Дальний Восток. А Даурия как-то пролистана нетерпеливым читателем. Но и у неё есть свои радетели в русской словесности. По словам Владимира Личутина, «Анатолий Байбородин в Сибири и в России, может быть, один из немногих, а может, и из самых первых стилистов и знатоков русского слова». Многим его проза кажется густоватой, закрытой, даже придуман ярлык: орнаменталист. Но зато какой Русью от неё веет! Как сумел воплотиться писатель в языке, вместив в него и устную народную речь, и обобщённый опыт литературных стилизаций, пропущенный через сердце! Уж сколь говорено о писательских раскладках: этот, дескать, поэт-энциклопедия, этот – поэт-фонотека, этот – библиотека. А тот – едва не форсунка… Дак вот если на то пошло, Байбородин – писатель-музей. Живой музей русского языка со школой ремёсел в пристройке. Забайкальский историко-лингвистический заказник имени Варлаама Чикойского. Принимая во внимание труды писателя по изучению обрядов, крестьянской хозяйственной жизни, языка во всём многообразии пословиц и поговорок и, конечно, работу над его «Русским месяцесловом». Заповедность, несмешиваемость… Знаете, как капля дождя на замасленном седле.
Вообще он уже давно не писатель, а носитель и мыслитель. Бывает так: переплетётся всё в Русском мире, что мозги врасклин, и боязно в раздражении и ошибке не то выплеснуть, а с Анатолием можно свериться: Сибирь, язычество, православие, друзья и недруги Отечества, защита, смирение…
…Образы русских пространств, где каждый уголок должен быть воспет в русском слове. Светлая сосновая Чита и Верхнеудинск (после революции Улан-Удэ, то есть Верхняя Уда). Пласты тверди, плавно переходящие друг в друга, насечка промёрзлых хребтов, жёлтой степи, чуть присыпанной снежком. Для чего всё это? Да чтобы постичь огромность и правомерность каждого человека, который тем ценней, чем безлюдней вокруг него, – сейчас и ценятся-то такие дальние уголки русского духа. Енисей. Лена. Олёкма. Колыма. И везде люди. И каждого ты должен понять и поддержать, добраться и обогреть своими книгами, разделить любовь до последнего мураша. Чтоб крикнул забайкальский мужичок в морозную даль: «Не один!»
Ещё одного учителя нет в живых, но есть стихотворение:
Беркуты возвращаются, взламываются реки. Громче гудки, слышней голоса. В рыжем, как хорь, и в белом, как лунь, человеке синие-синие намолаживаются глаза. Где они, тонны тысячелетней хмури? Нет их и не было никогда. Ветер – груб и заносчив, как лейтенант из Даурии, встречные останавливает поезда. Вихри солнца! Гул молодой свободы. Каждому дереву грянул срок. И чернокорые березы из Нерчинского Завода, как декабристские жены, светло стоят вдоль дорог.Это Михаил Евсеевич Вишняков из Читы. Вечная тебе память, старший брат, хоть и не был с тобой знаком лично!
Для таких – и здравствующих, и взирающих на происходящее сквозь прозор вечности великое предательство, которое пережила Россия во время переворота девяностых годов, – боль неизбывная. И то, как были преданы и попраны все наработки советского периода, стоившего нам стольких сил и потерь, по значению сопоставимо лишь с событиями давних революционных лет.
Первой предала интеллигенция без раздела на русских и нерусей. Литературная дама с тонкой сигареткой: «Э-э-э… поскольку в ближайшее время всё решать будут деньги…» «Пе-пе-пе…» Главное – сказать с максимально невозмутимым видом, нога на ногу. А до этого-то! И «Ах, духовность! Ах, зажимают, бедную!» И «Ах творчество!». Это тебе не пролетариат, который «гайку точит» и в тарелку смотрит. Или в бутылку.
Ну что ж. Добро! Духовность так духовность. Теперь-то, пожалуйста, молись – сколько влезет! Вон храмов понастроили. Но «опять неладно»: попы плохие! Народ, правда, долго держался, пока привороженность к телевизору и непривычка к Достоевскому не сделали дело.
И всё равно. Твёрдость убеждений, способность служить Отечеству и людям. Умение быть верными во всём знании русской истории, с восприятием её как родного и неделимого.
Упокой, Господи, многострадальные и мятежные ваши души, дорогие учителя, упомянутые сегодня ушедшие русские мыслители и художники, а особенно те, кому по гроб жизни обязан, но обошёл словом в очерке. Бог в помощь тем, кто и сейчас в строю. Далеко-далеко от вас и мурашиная возня столичных литераторов, обслуживающих новую элиту, и их мёртвый сценарный литературный стиль, будто заранее упрощённый под подстрочник, и потуги заработать на переводах, из-за того, что, дескать, «наши-то козлы-издатели не платят»… Именно из-за этого, а не ради того, чтобы явить западному читателю образ русского человека, щедрого, широкодушного и способного в случае чего и самого́ европейского книгочея перетащить на закорках через любой разлом, болоти́ну.
«…Жизнь течёт дальше, – рассветным байкальским ветерком уразумляет Байбородин. – Матереют сыновья и дочери, уходят в свои, отцами забытые, юные миры; но, будто ангелы в солнечной плоти, являются внуки и внучки и лепечут на ангельском говоре, похожем на перезвон родниковый, тянут ручонки к понурой, натруженной дедовской шее, и от того теплеет и светлеет пожилая, утомленная душа. Жизнь продолжается. Истаивает серым вешним снегом жажда мщения, и вместе с зеленями майскими и робкими просыпается любовь».
И гуще по Толстому настой, взвар жизни с годами. Тут уже и красота замысла вступает: как собрать повесть? И идёт художник не от бунинской правды ощущения, когда любое сюжетное обострение, кроме разве что смерти, как измена правде. Вернее, не только от неё… Э-э-эх… Тут важнее не от чего, а к чему. К плотности. К драматургии смыслов. К житию. К притче. И никуда без эпоса, без истории. И без «Портрета» Гоголя.
Как не изменить? Как отогреть и передать детворе заветы предков? Как устоять народно и державно, когда у самого народа будто слух отбило к чужеродному, и он с такой лёгкостью вдался в валентины-хелувины? Как остаться верным и такому народу, вылечить его глухоту состраданием и участливым словом? И как не ошибиться, не споткнуться о свою гордыню? Не припозориться, не углядев главного? Сколько чудных людей, подвижников, героев вокруг! Один музей собрал в заброшенном клубе и живёт там, как экспонат, другой школу народной музыки! Один издательство тянет, другой заводишко, а третий храмы строит. Один крест не снял, и ему живьём голову отняли, другой гранатой себя взорвал, но всё повернул по-своему, и за ним сила выбора осталась, правда и память народная.
Если действительно в тебе дар теплиться – то и обходись с ним не как с собственностью, а как с Божьей ценностью, неси осторожно, затаив дыханье, не дай Бог, стрясёшь. А лучше замри, осмотрись и направляй. Знай силу слова, чтоб ни промашки, ни неточной цели, ни рикошета… Чтоб ничего дорогого не прижечь, иконки не уронить… Помоги близким. И хорошо, если и они в свой черёд скажут:
– Славные уроки!
Людмила Улицкая. Чтение как подвиг
У каждого поколения есть свои характеристики. Я принадлежу к поколению, которое задним числом назвали поколением «беби-бумеров» – 1943–1963 годы рождения. Этот термин придумали в 1991 году, когда вообще разглядели эту проблему. До этого времени, от самой седой древности, со времен Сократа, который, кажется, первым пожаловался на невежественность молодого поколения, старики жаловались на молодое поколение. На папирусе, на бумаге, даже на глиняных табличках есть эти жалобы. То есть в глазах старшего поколения новые всегда по своим качествам уступают стариками.
В обобщениях всегда есть большое удобство и еще бо́льшая приблизительность. Обычно поколению «беби-бумеров» приписывались следующие свойства: заинтересованность в личном росте, коллективизм, командный дух и прочее. Наверное, так оно и есть, но я, вероятно, представляю некоторую маргинальную часть этого поколения, основной ценностью которого было чтение. Именно так – не книги, а само чтение. Страстное, напряженное, умное и трудное чтение. К тому же и опасное, потому что за чтение могли выгнать из института, с работы, даже посадить в тюрьму. Чтение было связано с риском, требовало смелости и уж во всяком случае преодоления страха. Это был своего рода подвиг.
Когда я обдумывала эту тему, я набрела на замечательную статью Аверинцева в сборнике, посвященном памяти Мандельштама. Называлась она «Страх как инициация – одна тематическая константа поэзии Мандельштама». Там приведена цитата из «Египетской марки» Мандельштама: «Страх берет меня за руку и ведет… Я люблю, я уважаю страх. Чуть не сказал: „с ним мне не страшно!“ Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок и в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками».
Я ахнула, когда прочитала эту фразу, – мы не знали, что у Мандельштама страх был так связан с его творчеством. И тень этого страха легла и на нас, читателей советского времени. Но, правду сказать, наше чтение тоже было творчеством своего рода. И связано это было с тем, что мы жили в мире, где некоторая неопределенная часть книг считалась запрещенной. И чтение таких книг каралось законом. Существовала статья 190 Уголовного кодекса, позже статья 70, в соответствии с которыми можно было получить от пяти до семи лет тюремного срока за хранение и распространение антисоветской литературы. Из этого следовало, что была литература разрешенная и запрещенная.
Никто из моих знакомых никогда не видел списков запрещенных книг. Если такие списки и существовали, то хранились где-то в столах гэбэшного начальства. Прошло много лет, прежде чем пришло понимание этой границы – разрешенного и запрещенного. Это был старинный российский вопрос, и мы были не первым поколением, которое с ним столкнулось. А были ли разрешены эпиграммы Пушкина, ходившие по рукам в начале XIX века? Лицейские шалости, матерные вирши, «Гаврилиада», в конце концов? Они были неподцензурными… Российская цензура всегда хорошо работала. Достаточно вспомнить историю Чаадаева с его «Философическими письмами», Радищева, издавшего свое «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1790 году и получившего смертный приговор за это сочинение. Милосердием Екатерины Второй этот приговор заменили десятилетней ссылкой в монастырь, но книга эта была впервые напечатана в 1905 году, после первой русской революции, спустя сто с лишним лет после ее написания. До той поры книга Радищева ходила «в списках». Специалисты считают, что их было около сотни. Во всяком случае, Пушкин читал именно такой список, к нему и давал свои комментарии. Таким образом, есть все основания говорить, что и Александр Сергеевич Пушкин читал «самиздат».
Ко многим книгам, которые попадали в руки во времена нашей молодости, было такое отношение, что их надо быстро прочитать, вернуть хозяину или передать товарищу, но чужим не показывать. Вообще почти любая книга – ценность, и это доказывали также огромные очереди, которые выстраивались, когда объявляли подписку на невинных классиков. Впрочем, так ли они невинны? И Толстой, и Достоевский, и Лесков имели неприятности с цензурой и при жизни, и даже после смерти. История российской цензуры уже написана, и она чрезвычайно интересна.
Историю каждого человека можно описать разными способами: через его генетику, то есть унаследованные им от родителей свойства и черты, через образование – где, чему и сколько человек учился, через общение – с кем общался, дружил, соседствовал, а можно и через последовательность прочитанных книг. Попытаюсь восстановить свою…
Как это ни смешно, даже мои первые детские книги не относились к числу разрешенных, они давно уже были изъяты из библиотек, хранились в «спецхране» и выдавались по специальному разрешению. Это были книги из книжного шкафа моей бабушки Елены Марковны, которая успела закончить гимназию в 1917 году и сохранила девчачьи романы Чарской, чудесную книгу Луизы Олкотт «Маленькие женщины», и они же, ставшие взрослыми, там же была и книжка о маленьких японцах и маленьких голландцах, и подшивка журнала «Задушевное слово»… В этом же шкафу я нашла и первую настоящую книгу «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» неизвестного мне автора Мигеля де Сервантеса Сааведра, академическое издание… Другой книжный шкаф, который пополнил мое образование немного позже, принадлежал второй бабушке, Марии Петровне. Он был поинтереснее и поопаснее, но до него еще надо было дорасти: «Камень» Мандельштама и «Четки» Ахматовой, «Котик Летаев» Андрея Белого, «Образы Италии» Муратова и «Толкование сновидений» Фрейда, даже, прости господи, томик Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» с насмешливыми пометками покойного деда. Кстати, там же я нашла книжку, которая у меня сейчас хранится дома (много документов бабушки и дедушки я отдала в архив, а эту не отдала), – «Восстание ангелов» Анатоля Франса. Она имеет очень странный вид – в самодельном переплете, а переплет короче, чем формат страниц: приблизительно на палец страницы сверху вылезают. На последней странице написано: «Этот переплет я сделал из краденой папки и старых носков в самые тяжелые дни пребывания моего в камере № 3 в Сталинградской тюрьме». Дальше дата – март 1934 год. И подпись моего деда.
В шкафу бабушки Маруси обнаружилась и русская Библия, интерес к которой проснулся у меня позже. Это была домашняя книга, читаная, даже зачитанная, с подчеркиваниями. Была и вторая Библия, у прадеда с материнской стороны, с параллельным переводом, на иврите и на русском. Но это была Тора, без Нового Завета. Обе хранятся по сей день у меня дома.
Здесь не могу не сделать отступления – о Библии. Библия в годы моего детства была книгой редкой, изданной до революции, а после революции издавалась она только в издательстве Патриархии и купить ее было почти невозможно. Я прекрасно помню Евангелие, переписанное одной церковной старушкой от руки, как в догутенберговские времена. Самиздат, между прочим!
Первое Евангелие, которое я купила в подарок моей подруге году в 60-м, было приобретено у таможенника, который конфисковал эти издания в аэропорту, когда их пытались ввезти в нашу неевангелизированную страну иностранцы. С таможенником свела меня красавица, живущая в нашем дворе. Она была валютная проститутка, но слов таких мы еще не знали. Евангелие было новенькое, изданное на русском языке бельгийским издательством «Жизнь с Богом», стоило 25 рублей. Моя университетская стипендия составляла 35 рублей. Это для размерности суммы – Евангелие было дорогой книгой. Таможенник неплохо зарабатывал, но покупатели не были в претензии.
Продолжу повествование о книжных шкафах. Моими воспитателями были два шкафа моих бабушек и еще один, третий, в квартире моей подруги-одноклассницы Лары. Интеллигентная русско-еврейская семья из Тбилиси, шкаф большой. Все книги стояли корешком вперед, а некоторые позади, припрятанные. Оттуда мы с Ларочкой однажды вытащили две книжки. Одна была «Декамерон» с иллюстрациями. Я узнала тогда, что такое гульфик. Книжка была очень увлекательной, мы ее долго разглядывали, прочитали, но она не показалась нам особенно смешной. Наверное, только современники могли здорово смеяться над этими довольно тривиальными историями.
Вторая книжка был сборник стихотворений Бориса Пастернака, «Избранное» 1934 года издания. Там было стихотворение, которое я не могу не привести, – оно было чрезвычайно важно для меня. Думаю, что оно важно для всех – там есть формула взаимоотношений человека с поэзией:
Так начинают. Года в два От мамки рвутся в тьму мелодий, Щебечут, свищут, – а слова Являются о третьем годе. Так начинают понимать. И в шуме пущенной турбины Мерещится, что мать – не мать, Что ты – не ты, что дом – чужбина. Что делать страшной красоте, Присевшей на скамью сирени, Когда и впрямь не красть детей? Так возникают подозренья. Так зреют страхи. Как он даст Звезде превысить досяганье, Когда он – Фауст, когда – фантаст? Так начинаются цыгане. Так открываются, паря Поверх плетней, где быть домам бы, Внезапные, как вздох, моря. Так будут начинаться ямбы. Так ночи летние, ничком Упав в овсы с мольбой: исполнься, Грозят заре твоим зрачком, Так затевают ссоры с солнцем. Так начинают жить стихом.Для девочки 12–13 лет текст не вполне внятный, но тем не менее с этого момента или около него началась моя жизнь с поэзией.
Пути моего чтения были прихотливы, а отношения с писателями складывались по законам любовного романа: первое прикосновение, жар и пыл, потом либо охлаждение, либо пожизненная любовная связь со взлетами и падениями. Классе в пятом-шестом произошел роман с О’Генри. Тронул меня лаконизм рассказов и элегантность финала. На каждой странице коричневого лохматого томика (до сих пор жив!) засохшие капли супа и компота. Наизусть. И вовсе не Чехов. Нисколько не Чехов! А потом начинался Толстой. На всю жизнь. И нисколько не Достоевский. И не Диккенс, а Томас Манн… Продолжается Пастернак, появляется Мандельштам.
После окончания школы, с 1960 года, меняется ландшафт, его решительным образом меняет новая подруга Наталья Горбаневская. Настоящий живой поэт. В те времена Наташа издавала свои стихи сама. Поэт Николай Глазков еще в 40-х годах запустил термин «самсебяиздат», но к тому времени мы уже знали, что это называется «самиздат», – Наташа делала маленькие сборники, печатала их на папиросной бумаге, поэтому, наверное, ей удавалось печатать по семь экземпляров. Очень красиво и элегантно их брошюровала. Книжечки были тоненькие. Все эти книжечки я передала пятьдесят лет спустя в архив «Мемориала» – они ездят по всему миру с выставками, посвященными тому времени.
Таким образом, первый настоящий самиздат, с которым я встретилась, – книги Натальи Горбаневской. Три года тому назад я ехала в электричке из Шереметьева домой, откуда-то прилетевши из-за границы, бросила взгляд за окно – там было дивно прекрасно: только что выпавший снег, согнувшиеся в три погибели березы, а ехала я из жарких стран, где никакого снега нет. Глаз очень радовался. Всякий раз, когда у меня радуется глаз красоте природы, я вспоминаю, как мантру, одно стихотворение Наташи Горбаневской:
Я в лампу долью керосина. Земля моя, как ты красива, в мерцающих высях вися, плетомая мною корзина, в корзине вселенная вся. Земля моя, как ты красива, как та, что стоит у залива, отдавшая прутья свои, почти что безумная ива из тысячелетней любви. Земля моя, свет мой и сила, судьба моя, как ты красива, звезда моя, как ты темна, туманное имя Россия твое я носить рождена.Когда я приехала домой, все еще бормоча про себя это стихотворение, мне позвонили и сказали, что Наташа умерла. И совершенно нерасторжимым образом слилось для меня это стихотворение и сообщение о ее смерти, и это чувство красоты ее жизни – «судьба моя, как ты красива».
Благодаря Наташе я очень рано познакомилась с питерской поэзией начала 60-х годов. В те годы еще было неизвестно, какой из четырех молодых питерских поэтов совершит своего рода поэтическую революцию: Рейн, Найман, Бобышев или Бродский. Первой это поняла Анна Андреевна Ахматова. Хотя, надо сказать, что и Рейн прекрасный поэт, есть замечательные стихи и у Наймана, и у Бобышева, которого я недавно перечитывала. Но Бродский всех затмил. Первые стихотворения Бродского пришли от Наташи.
Вот стихотворение раннего Бродского, написанное уже в 1969 году. Я не могу отказать себе в удовольствии его привести, тем более что сегодня, когда я пишу этот текст, на дворе как раз второе января, вторник… И тысячелетие уже не то, о котором поминал Пастернак…
Так долго вместе прожили, что вновь второе января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля – дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутненной оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег коль выпадет, то думалось – навеки, что, дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. Так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ; что губы, припадавшие к плечу, с моими, задувавшими свечу, не видя дел иных, соединялись. Так долго вместе прожили, что роз семейство на обшарпанных обоях сменилось целой рощею берез, и деньги появились у обоих, и тридцать дней над морем, языкат, грозил пожаром Турции закат. Так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари, на старом диванчике, что прежде чем возник был треугольник перпендикуляром, восставленным знакомыми стоймя над слившимися точками двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, что сделали из собственных теней мы дверь себе – работаешь ли, спишь ли, но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь и черным ходом в будущее вышли.Сегодня, когда прошло около шестидесяти лет с тех пор, как я начинала свое опасное чтение, я могу с уверенностью сказать, что с 60-х годов начиная была выстроена целая индустрия подпольного чтения. Существовали три принципиально разных источника:
1. Дореволюционные и довоенные книги, которые оказались под запретом. Это главным образом «религиозка» – Василий Розанов, Бердяев, Флоренский, Владимир Соловьев.
2. Написанные в России, не изданные официально или уничтоженные после издания, изготовленные одним из домашних способов – фотокопированием, перепечаткой на машинке, в редких (и более поздних) случаях ксерокопированием. Начиная от Василия Гроссмана до Солженицына, Шаламова, Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам, Венечки Ерофеева.
3. Привезенные или присланные из-за границы издания на русском языке. Кроме уже упомянутого издательства «Жизнь с Богом», к нам попадали через приезжих иностранцев и дипломатов книги на русском языке, изданные в «ИМКА-пресс», РСХД, наконец, в издательстве «Ардис». Это был первый «тамиздат».
Для меня лично самиздат начинался как поэтический. Кроме перепечатанных на машинке стихотворений Цветаевой, Гумилева, Ахматовой и Мандельштама, существовали и поэтические самиздатские журналы – «Синтаксис», собранный Александром Гинзбургом, несколько ленинградских поэтических журналов. Но главное, что необходимо понять, – самиздат был чрезвычайно разнообразен, и он не исчерпывался поэзией. Кроме поэтического и уже упомянутого религиозного, существовал самый опасный вид самиздата – политический. Он был ошеломляющий по воздействию: это в первую очередь Оруэлл с его «Скотским хутором» и романом «1984 год», и некоторое количество чисто политических исследований, не поднимающихся на такой высокий художественный уровень, – «Технология власти» Авторханова, «Большой террор» Конквеста, «Новый класс» Джиласа… Существовал самиздат художественный переводной, научный, националистический, неомарксистский и даже музыкальный.
Мы читали днями и ночами, читали годами и росли вместе с чтением. Репрессии за изготовление самиздата ужесточались, редко какое регулярное издание выдерживало больше трех номеров, редакторов, составителей и машинисток ловили и сажали. В 1965 году прошел процесс над Синявским и Даниэлем, опубликовавшими свои книги за рубежом, и после этого процесса посажены были десятки людей. Кстати, посадили и Александра Гинзбурга, составившего «Белую книгу», посвященную именно этому процессу над двумя писателями. Он же был и автором самиздатского поэтического журнала «Синтаксис». Несколько позже, в 1968 году, стали выпускать «Хронику текущих событий», два десятка смельчаков собирали по всей стране материалы о репрессиях, о тех политических процессах, которые шли в те годы.
Вернусь к моему личному чтению. 1965 год стал для меня годом, когда я открыла сразу двух великих русских писателей, которые стоят как пограничные столбы русской литературы, – Платонов и Набоков.
Так случилось, что их книги почти одновременно попали ко мне в руки. Надо сказать, это было очень тяжелое испытание. Две такие, не хочу сказать – взаимоуничтожающие, но во многом очень противоположные, вскипающие друг от друга стихии. Платонова тогда напечатали – первое посмертное издание. С Набоковым было интереснее: один студент, с другого факультета, канадец русского происхождения, дал мне прочитать «Приглашение на казнь». Это был абсолютный переворот для меня – я поняла, что есть другая русская литература, помимо русской классической и русской советской. Советскую я не читала из внутреннего протеста. Какой может быть Пашка Корчагин, Павлик Морозов и Зоя-Таня Космодемьянская, когда «уже написан Вертер»! Даже хорошую сов. литературу не читала – это был мой личный снобизм. Морщила нос. Никакого Трифонова – он потом, очень запоздало был прочитан, и было уже неинтересно. И зачем мне было читать «Зубра», когда я слушала лекции Тимофеева-Ресовского? И я все читала книжки из шкафов, уже не бабушкиных, а других людей. Один был Анатолий Васильевич Ведерников, в те годы заместитель редактора журнала Московской Патриархии. У него была прекрасная домашняя библиотека, от Розанова до Мережковского. Второй – отец Александр Мень. Обоим благодарна по гроб жизни. И вот попал в руки роман «Приглашение на казнь» и все перевернул. Это было абсолютным потрясением.
В университете в те годы была некая фарцовщица, которая занималась профессиональной перепродажей всего, чего угодно. В те годы всего, чего угодно, и не было: туфель, колготок, чулок, помад, трусиков и лифчиков. Книгами она, вообще-то, не занималась. Я к ней пришла в корпус «Л» высотного здания на Воробьевых горах купить не помню что. Может, сапоги. И увидела в кресле книжку, которая называлась «Дар», и автором ее был Набоков. Глаз мой загорелся таким пламенем, что она как опытный продавец сказала, что книга не продается. Я немедленно сняла с руки бриллиантовое бабушкино кольцо, отдала ей и взяла книгу. Надо сказать, что ни одной минуты я не пожалела об этом кольце. Книга оказалась настоящим бриллиантом. Она читана-перечитана мной, всеми моими друзьями. Она даже после «Приглашения на казнь» была ошеломляющей.
В 1968 году я закончила университет, попала в Институт общей генетики Академии наук, что было лучшим распределением. Время большого чтения продолжалось. Книжки приходили, прибегали, прискакивали сами. В конце 60-х – начале 70-х годов возникло движение евреев за выезд, за эмиграцию. Ворота страны то открывались, то закрывались, выпускались периодические журналы «Евреи в СССР», «Таргут». У меня не было намерения уезжать в Израиль, но все с этим связанное было дико интересно: про историю образования этой страны мы ничего не знали или знали очень мало. В те времена я даже не знала чрезвычайно важного семейного факта, что мой дедушка Яков получил свой десятилетний срок за то, что работал в еврейском антифашистском комитете (ЕАК), большая часть которого была расстреляна. Его посадили, потому что он, владеющий несколькими иностранными языками, составлял политические обзоры для Михоэлса, председателя ЕАК, на основании иностранных газет – что происходит в Израиле, что говорят об этом арабы, какие там есть партии и что об этом пишут англичане, немцы, французы.
Именно в те годы в руки мне попала книжка «Исход» писателя Леона Уриса. Это довольно посредственный роман, но действие в нем происходит поначалу в российских местечках, а потом во времена образования Израиля, и там было очень много фактического материала. Я роман прочитала бегло, потому что дали на короткое время, но мне очень захотелось его иметь. У меня была пишущая машинка «Эрика», мне ее подарила мама к окончанию института. Печатала я плохо, до сих пор печатаю медленно. Мы нашли машинистку, выдали мою машинку, потому что своей у нее не было, и она взялась за перепечатку «Исхода». Ждали, ждали, а потом выяснилось, что машинку вместе с перепечаткой и книжкой забрали в КГБ. Кто-то стукнул. Не буду рассказывать о деталях этой истории, но на этом закончилась биологическая карьера не только моя, но и еще нескольких людей, с которыми мы вместе работали, – закрыли всю лабораторию. Так закончился мой роман с биологией. На самом деле не закончился – если бы сегодня я снова должна была идти учиться, то снова бы пошла изучать генетику. Точно – не в писатели. Однако надо признать, что в писатели привела меня любовь к чтению. К тому трудному, ответственному, жизненно важному чтению, которым было заражено мое поколение, по крайней мере некоторая его часть, к которой и я имела честь принадлежать.
Собственно, на этом можно было бы и закончить. В 1990 году в России был принят закон о запрещении цензуры. В течение двух лет почти все те книги, которые были опасным чтением, появились на прилавках книжных магазинов. Издательства не сделали на этих книгах бизнеса. У меня даже было такое впечатление, что все, кому было это рискованное чтение интересно, уже прочитали эти книги. Может быть, самый яркий пример – «Архипелаг Гулаг», за который более всего сажали и трепали. Он лежал не только на прилавках магазинов, но и на всех переходах, но никто его не расхватывал. Парадоксально, но эта великая книга, книга-подвиг оказалась гораздо важнее на Западе, чем на родине. Коммунистическое движение во Франции и в Италии пошло на спад после того, как западные коммунисты узнали о большом терроре, о роли ЧК – НКВД – КГБ в жизни страны и отшатнулись от коммунистического режима, от сталинизма.
В России эта книга, по-видимому, так и осталась непрочитанной, потому что через несколько лет после крушения советской власти народ дружно проголосовал за человека, воспитанного в старых традициях КГБ. Именно это и свидетельствует о том, что великая книга Солженицына осталась непрочитанной. Здесь же и корень возрождающегося в нашей стране сталинизма.
Эпоха чтения началась для человечества за 6–5 тысячелетий до нашей эры, когда оформилась письменность и информацию стали передавать от человека к человеку с помощью алфавитов, изобретенных гениями человечества. В начале пятнадцатого века произошло еще одно событие, изменившее путь цивилизации, – было изобретено книгопечатание, началась новая эра, эра Гутенберга. Сегодня мы находимся на пороге следующего этапа в жизни человечества: информационная революция уже отменяет книги, а рвущаяся вперед наука и современные технологии, по всей вероятности, скоро изменят и самого человека таким образом, что информация будет считываться мозгом напрямую с носителей, минуя механизм привычного нам чтения. Для получения информации не надо будет совершать никаких подвигов, достаточно сделать один клик.
Но есть одна загадка: если подвиг чтения больше никому не нужен, то почему мы снова чего-то боимся? Почему остается страх? Кажется, загадка невелика, но об этом стоит подумать.
Макс Фрай. Здесь никого нет
– Никакого Макса Фрая, конечно же, нет. Не только в философском смысле, как вообще всех, но и в самом обычном, житейском. Меня нельзя увидеть глазами и пощупать руками, я это имею в виду.
Это на самом деле очень удобно: когда тебя нет, тебя не принимают всерьёз, не берут в расчёт, смотрят сквозь пальцы, а значит, ты совершенно свободен, причём не в результате долгой изнурительной борьбы с обществом, а изначально, по праву рождения, вернее, по праву отсутствия факта рождения.
В частности, в моём положении можно не принадлежать (то есть при всём желании невозможно всерьёз принадлежать) ни к какой-либо национальной, ни тем более к мировой литературе. Что ни делай, всё равно ты – вне общего литературного контекста. А значит – свято место пусто не бывает, – приходится самостоятельно создавать себе этот контекст. С блек-джеком и шлюхами, разумеется; где бы мы все были без наших блек-джеков и шлюх.
В силу этих (сугубо технических) причин мои руки настолько развязаны, что они – практически крылья. Штук шесть, не меньше. Мне крупно повезло.
– Когда-то, ещё в конце прошлого века, меня придумала пара художников; изначально предполагалось, будто я – их художественный проект. Ну, в общем, примерно так оно сперва и было. Но с тех пор прошло больше двадцати лет и многое изменилось. Теперь ещё надо крепко подумать, кто из нас чей проект.
Впрочем, мы умеем договариваться. Они охотно одалживают мне свой опыт, сформированные в процессе его нелёгкой добычи суждения и некоторые автобиографические детали.
Взамен я даю им смысл.
– Прежде чем стать художественным проектом, я был призраком, годами сидевшим в красном кресле в холле трёхэтажной виллы Вальдберта, в баварском городке Фельдафинг, известном в основном своими полями для гольфа, домиком для свиданий короля Людвига Баварского на острове в центре озера Штарнберг, ну и ещё этой виллой, где постоянно сменяются гости, писатели и художники, приглашённые Мюнхенским магистратом. Возможно, впрочем, уже не сменяются, но в девяностые годы прошлого века дела обстояли именно так.
История моего рождения отчасти (и не без доли художественного вымысла, к которому пришлось прибегнуть ради хоть какой-то связности изложения) описана в книге «Энциклопедия мифов»; для настоящей, серьёзной автобиографии она, разумеется, не подходит, зато для беллетристики – в самый раз.
– В моей жизни (как я уже говорил выше, одолженной под проценты смысла у авторов художественного проекта «Макс Фрай»; здесь и далее речь будет идти только о ней, где ж я вам в два часа ночи другую возьму) – так вот, в моей жизни было три великих учителя литературного мастерства.
Первым учителем стала пятиклассница Наташа, которая охотно возилась с дворовой малышнёй и водила нас на чердак слушать страшные сказки, которые придумывала сама. В Наташиных рассказах события всегда происходили с ней самой, или с кем-то из общих знакомых, или на нашей улице, или в школьном дворе. С тех пор я точно знаю, что самые лучшие истории – те, которые могут случиться с нами, слушателями и читателями. А даже если на самом деле не могут, пока мы читаем и слушаем, точно знаем, что могут всё равно.
Вторым моим учителем оказался анонимный автор тибетской Книги Мёртвых. Благодаря ему я знаю, что хорошая книга обязательно должна быть спасательным средством для гибнущего (и просто потенциально способного однажды погибнуть) сознания. Бревном, которое Аллах раз за разом посылает тонущему мореходу Синдбаду, дружеской рукой, лодкой, монетой для перевозчика. Ключом, паролем, мостом.
Мой третий учитель – русский поэт Арсений Тарковский. Положа руку на сердце, не то чтобы он действительно чему-то путному меня научил, просто я так часто вслед за ним повторяю: «И я из тех, кто выбирает сети, когда идёт бессмертье косяком», что добросовестная экспертиза наверняка отыщет в химическом составе моей иллюзорной, вымышленной крови несовместимую с небытием дозу его стихов.
– Читать, по семейному преданию, я умею примерно лет с четырёх; по моим собственным воспоминаниям, вообще всегда. Точнее, я просто не умею не читать.
Моими первыми книжками стали «Война миров» Герберта Уэллса и «Война и мир» Льва Толстого. Смешное совпадение, но это правда так. Выбор был обусловлен тем, что оба двухтомника, Уэллс и Толстой, стояли на нижней полке, их было легко доставать тайком от родителей и быстро ставить на место, услышав шаги в коридоре. В этих книгах, как мне казалось, излагалась недоступная остальным детям ужасающая информация про настоящую взрослую жизнь.
В мой самый первый школьный день всем первоклассникам подарили по книжке с картинками и сказали: «Всего через год вы сможете сами их прочитать». Мне досталась книжка «Три поросёнка», в ней было, если не ошибаюсь, двенадцать страниц, на каждой – картинка и несколько строчек текста очень крупными буквами. Вопрос: «За кого меня тут принимают?» – в тот день впервые стал для меня по-настоящему актуальным. Так с тех пор и стоит.
– Умереть от одесской холеры семидесятого года мне не дал старик Хоттабыч. Папа неотлучно дежурил рядом и читал вслух книжку Лазаря Лагина. А какой дурак согласится умереть, не дослушав интересную сказку? Ну вот и я – нет.
С тех пор я очень хорошо знаю, зачем нужна художественная литература. И какова порой её власть.
– Что люди иногда лгут, рассказывают о том, чего нет и не было, мне стало понятно достаточно рано. Однако всё, что написано в книгах, ещё долго казалось подлинной правдой: в голове не укладывалось, что кто-то станет набирать красивыми печатными буквами и тиражировать враньё.
Постепенно выяснилось, что книжная правда выгодно отличается от повседневной. Она бывает трагична, но никогда не бессмысленна и не скучна. Значит, в книгах пишут не просто всю правду подряд, а самую главную её часть – осенило меня.
Таким образом, один из важнейших принципов символизма «a realibus ad realiora» – от реального к реальнейшему – был переизобретён мною заново, в возрасте примерно семи лет, хотя термин «реалиора» (сверх-, над-реальность) стал известен мне много позже. Тот (редкий на самом деле) случай, когда, изучая чужие идеи и теории, начинаешь гораздо лучше понимать себя.
– Впрочем, для меня «реалиора» не просто термин, придуманный символистами, а ныне почти забытый. Я оттуда родом. Я, собственно, до сих пор здесь живу.
– «Непостижимое и неопределённое – вот единственное святое» – эти слова вложил в уста своей героини автор романа «Вирсавия» Торгни Линдгрен. Благодаря ему у меня теперь есть чёткий ответ на мучительный школьный вопрос: «Что хотел сказать автор?» Автор в моём лице всегда, во всех случаях, при любых обстоятельствах хотел сказать нечто непостижимое и неопределённое. Непостижимое и неопределённое – единственное, что по-настоящему занимает меня.
– В детстве у меня (как, наверное, почти у всех) были сказки Андерсена. Из всех его сказок больше всего меня впечатлил цикл про Оле Лукойе; неудивительно: в детстве у многих непростые отношения со снами, и часто совершенно не с кем об этом поговорить. Правда, приключения мальчика Яльмара казались мне скучноватыми, но это не имело значения: возможность узнать, как оно бывает у других, сама по себе бесценна.
Но больше всего меня потряс брат Оле – тот, который на коне, в чёрном плаще и вышитом серебром кафтане. И даже не сам по себе брат, а тот факт, что Смерть рассказывает сказки тем, кого уносит с собой.
Смерть рассказывает сказки тем, кого уносит. Господи боже, вот бы их когда-нибудь почитать, оставшись при этом в живых! Мне много лет этого хотелось, может быть, больше всего на свете. Даже когда стало понятно, что Андерсен – просто сказочник, а сказочники всё выдумывают, всё равно хотелось. Потому что – ну ясно же, что всё остальное он может быть выдумал, а про Смерть, рассказывающую сказки, откуда-то узнал.
Почитать книгу сказок брата Оле Лукойе мне, конечно, так и не удалось. Но в некоторых особо важных вопросах слова «нет» для меня не существует. Поэтому я уже много лет эти сказки пишу.
– В русской литературе мне всегда недоставало несбывшейся русской литературы. Теоретически имевшей шанс осуществиться, но так и не осуществившейся.
Собственно, всё, что я делаю – и как писатель, и как составитель сборников чужих рассказов, и как частное лицо, по мере возможности способствующее изданию книг некоторых других авторов, – осуществляю одну из несбывшихся русских литератур, фундаментальным, знаковым автором которой мог бы стать Александр Грин, до сих пор настолько недооценённый, насколько это вообще возможно для фигуры такого масштаба.
Я отдаю себе отчёт, что пытаюсь сделать нечто невозможное. Но возможное сделают и без меня.
– Чтение художественной литературы всегда казалось мне разновидностью сновидения. Контролируемое сновидение для ленивых, но всё равно любопытных – так я обычно говорю.
Самое ценное, что нам дают сновидения – и обычные, и навеянные читательским забытьём, – уникальный опыт, получить который при иных обстоятельствах невозможно. И сновидец, и увлечённый читатель проживают гораздо больше жизней, чем изначально им было отпущено скаредным бытийным кладовщиком.
Для меня это – область личной ответственности автора. Тот, кто пишет книгу, в каком-то смысле дарует дополнительную жизнь всем, кто её прочтёт. Очень важно, что это будет за жизнь. Каких попало, лишённых смысла и радости, и без наших усилий хватает, надо выправлять этот скорбный баланс.
– Лучшее, что может произойти с человеком на этой земле, – момент торжества его духа и созидательной воли над унылой рутиной небытия. Жизнь, в которой этого ни разу не случилось, прошла бессмысленно. Книга, в которой этого не случилось, написана зря.
А я стараюсь зря ничего не делать. Я, несмотря на своё сомнительное происхождение, очень практичный автор. И персонаж.
– У меня обострённое чувство комического; считается, будто оно вырабатывается благодаря умению обнаруживать противоречия в окружающем мире. Исходя из этого, обострённое чувство комического совершенно неизбежно для всякого мыслящего человека. С чем с чем, а с неразрешимыми противоречиями у нас тут всё очень хорошо.
На самом деле моё обострённое чувство комического ковалось в отделении травматологии Одесской городской детской больницы. Нас там было очень много – переломанных, прооперированных, выздоравливающих подростков. Большинству из нас было больно двадцать четыре часа в сутки: на обезболивающих немилосердно экономил младший медицинский персонал, а наши родители далеко не всегда знали, кому и сколько следует совать в карманы белых халатов. Взятки в советских медицинских учреждениях – тайная сакральная наука для избранных, в школах и даже вузах её не преподавали.
Это всё я рассказываю не для того, чтобы кого-то разжалобить, просто ввожу в контекст. Мы были подростками, нас было много в сравнительно небольшом замкнутом пространстве, нам всегда было больно, и у нас была куча свободного времени. В больницах развлечений особо нет.
Так вот, никогда в жизни, ни до, ни после этой больницы, мне не приходилось столько хохотать. Смеялись мы, практически не затыкаясь, над всем на свете – друг другом, своими загипсованными конечностями, костылями, каталками, «утками» и «подсовами», толстыми краснолицыми санитарками подшофе, крысами в туалете, бродячими собаками, голубями и прохожими, которых видели из окна. И анекдоты друг другу рассказывали, и разные забавные случаи из жизни. Но, честно говоря, это было не обязательно: смешным нам тогда казалось вообще всё.
С тех пор я знаю цену чувству комического: оно здорово помогает отвлечься от острой боли. Всё остальное по сравнению с этим – полная ерунда.
– Положа руку на сердце, я не знаю, что делаю в этом вашем так называемом реальном мире, где существует оружие массового уничтожения, бойни и смертная казнь. С этим я совершенно точно не справлюсь. В смысле, ничего не исправлю. Я не умею себя обманывать и заранее знаю, что все мои усилия тщетны. Но продолжаю их предпринимать, просто потому что это красиво. А обречённость бодрит.
– Я по натуре человек деятельный, мне всегда было нужно занятие. В смысле, ЗАНЯТИЕ. ДЕЛО. С очень больших, прямо до неба, букв. Однако в юности меня не прельщало ни одно из занятий, которые был готов предложить мне окружающий мир. Некоторые казались не очень отвратительными, но даже таких было не слишком много. Ну и ДЕЛО со всех больших букв из подобных занятий не сделаешь. Максимум, можно как-то выжить, опираясь на них.
Зачем, собственно, выживать, тоже было не очень понятно. Вескими казались разве что гамлетовские резоны: какие сны в том смертном сне приснятся, никому не известно, может, ещё гаже текущих. А если вообще никаких, я так не играю. Поэтому ладно, пока живём.
Однажды в гостях мне дали посмотреть журнал «А – Я». Заграничный эмигрантский журнал о неофициальном современном советском искусстве. А там – Вагрич Бахчанян (по малолетству он меня больше всех тогда впечатлил), Косолапов, Пригов, Булатов, Кабаков, Комар-Меламид, Коллективные Действия, Герловины и другие, весь вот этот вот московский романтический концептуализм, и не только он.
Это было натурально как удар молнии. Оказывается – дошло до меня – бывает и такое искусство. Какое угодно искусство бывает, оказывается. Всё, что угодно, может стать (и считаться) искусством, если оно – остроумное (или просто непонятное) высказывание, оформленное каким-либо удивительным образом. А остроумные высказывания – это же именно то, что я могу. Wow! В смысле, мамочки. Держите меня семеро, это же ОНО.
Мне, конечно, неправильно тогда показалось. Но моё наивное понимание того, что такое искусство и, главное, уверенность, что я вот это прекрасное и удивительное тоже могу, стало для меня настоящей опорой. Теперь ясно, что делать! Можно приступать.
Одно из ярчайших воспоминаний моей жизни: я сижу на балконе, крашу оставшейся от ремонта нитроэмалью найденную на улице доску. И уже знаю, что на ужасном горчичном фоне будет изображён осёл и кривая (я не умею не только чертить шрифты, но даже писать мало-мальски пристойным почерком) разноцветная надпись: «Нежность ослика живородящего след оставит в сердцах». И ещё знаю, что как только найду голубую краску, покрашу ею овальный фанерный щит, тоже найденный на улице, нарисую белые облака, оскаленных по-вампирски пионеров в школьной форме и воздушные шарики; на шариках будут буквы, из которых сложится слово «У Ж А С». Дело, стало быть, только за голубой краской, но ничего, дорисую осла и сразу её где-нибудь раздобуду.
То есть я сижу, занимаюсь никому не нужной фигнёй, планирую следующую никому не нужную фигню, а с неба на меня проливается, страшно сказать, божественный свет, и я – золотая пылинка в столбе этого света и одновременно – сам столб. И заранее знаю, что теперь так будет всегда, ну то есть как минимум в те моменты, когда я буду при деле, вернее, при ДЕЛЕ, все буквы очень большие, до неба, и я тоже до неба, а небо – до меня.
Так началась жизнь. А что там были за картинки с кривыми буквами, не имеет никакого значения, потому что с точки зрения небес, на которых я с тех пор хотя бы отчасти обитаю, нет никаких картинок, только столб света и золотая пыль.
– Я никого ничему не хочу научить. Нет у меня ни такого желания, ни даже уверенности, будто, если вдруг захочу, смогу. Я вообще не слишком верю в обучающую силу каких бы то ни было записей, включая так называемые священные тексты.
Но что действительно можно сделать – это ободрить тех, кто самостоятельно пришёл к чему-то более-менее сходному с тем, что пишешь ты. Пусть знают, что они не одни такие психи, и вообще не психи, а ровно наоборот. Подобная поддержка для меня когда-то была бы бесценной, пусть она теперь будет у тех, кто хотя бы отчасти похож на меня.
– Так называемый реализм (то, что принято называть реализмом, хроники душного замкнутого мира без намёка на выход наружу, без единого шанса даже на сквозняк извне) на поверку обычно оказывается мошенничеством, преднамеренным или нет – иной вопрос. А так называемая сказка исполнена подлинной, живой правды гораздо чаще, чем может показаться. Даже не потому, что иносказание – легкодоступный способ говорить правду, просто всякая жизнь при должном к ней подходе – это terra incognita, восхитительная, страшная, сложная, многоцветная, непредсказуемая, где может случиться всё, что угодно, и слава богу, что так, потому что предсказуемые варианты нам вряд ли понравятся.
– Немного досадно, что прекрасный, ёмкий и точный термин «метареализм» («метафизический реализм») давным-давно занят замечательными поэтами (Ольга Седакова, Алексей Парщиков, Аркадий Драгомощенко, Виктор Кривулин, Елена Шварц и ещё полтора десятка таких же значимых для русской поэзии имён). Этот термин идеально подошёл бы мне для самоопределения, но он, повторяю, занят, не толкаться же локтями. Следовательно, метареалистом мне не бывать.
Ладно, значит, никак не стану называться, так и буду вызывающе торчать из вашего культурного контекста не называемым никем.
– У меня неоднозначное отношение к разного рода наградам и премиям: литература не кажется мне той областью деятельности, где кто-то может победить, а кто-то проиграть. Однако у меня есть литературная награда, которой я дорожу, – Order of Dodo of Honour, он же орден Почетного Додо, учреждённый совместно Институтом книги и сообществом сети книжных магазинов «DodoMagicBookroom» для поощрения заслуг перед российской словесностью и читательской/зрительской аудиторией в области фантазии, воображения, жизнеутверждения, созидательной игры, остроумия и человеколюбия.
Кроме меня, кавалерами ордена стали Нил Гейман, Юрий Норштейн, Джоан Харрис и Евгений Клюев. В этой награде прекрасно всё, особенно сам орден из войлока оранжевого цвета и тот удивительный факт, что моё имя в ряду награждённых выглядит вполне логично. Не то чтобы оно там необходимо, но действительно вполне может стоять.
Внезапно лицом к лицу столкнуться с логикой, в рамках которой твоё существование допустимо, само по себе награда для вымышленного автора-персонажа вроде меня.
– Как и майор Бриггс из сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», я (не совсем безосновательно) боюсь, что любви может оказаться недостаточно. Но делаю вид, будто ни черта не боюсь.
– Пространство текста куда более пластично и податливо, чем пространство материального мира, и при этом имеет на него несомненное (хотя в большинстве случаев опосредованное) влияние. То есть текст является инструментом не только познания, но и преображения реальности; вопрос лишь в том, насколько пишущий этим инструментом владеет. И осознанно ли действует.
Я – да.
– Мои амбиции непомерны. Мне нужна власть над миром, и ничего, кроме власти над миром.
В каком-то смысле эта власть у меня есть.
А меня – нет.
Сергей Шаргунов. Отче, тебе отчет
В моем окне живет луна. Какая твердая она!Это первое стихотворение, которое я продекламировал, двухлетний, вскочив в кроватке и разбудив родителей, когда яркость (и ярость) ночного светила пробивалась сквозь неплотно сведенные шторы.
Я родился в Москве 12 мая 1980 года и вырос в сталинском, желтого оттенка доме со шпилем на Фрунзенской набережной, напротив Министерства обороны, и жил там до семнадцати лет. Этот дом с внутренним двором, закрытым со всех сторон его высокими стенами, снится очень, слишком часто.
Иногда снится воспоминание: на закате сияют солнцем множество окон, как золотая чешуя, и, запрокинувшись, не могу оторваться, зачарованный.
Часто душа спящего переносится в двухкомнатную квартиру, порой и наяву, когда хочу себя успокоить и обогреть. Прихожая со старинным резным зеркалом, стеклянные двери с золотистой завесой, ведущие в гостиную с иконостасом и балконом, другая комната с моим письменным столом, ванная с окном, из которого виден красный флаг строительной выставки, кухня, мусоропровод, коридор с книжным шкафом и кладовкой, заваленной книгами. Я сидел в кладовке по утрам и читал все подряд – Гёте, Гоголя, Чехова, энциклопедии…
А до этого, еще не научившись читать, уже начал писать слова. Открывал отцовские книги и перерисовывал буквы. Книги обычно были религиозные, самодельные, в домотканых бежевых обложках, буквы расплывались. Каждое слово, еще не понимая смысла, я обводил в рамочку – как бы траурную, на самом деле так утверждая ранний логоцентризм.
Мой папа-священник владел подпольным печатным станком в избушке в Рязанской области. Выпускал там жития и богослужебные правила и раздавал верующим. Слово «книги» было сладким и запретным. В Киеве арестовали и посадили в тюрьму знакомого родителей, который ночами печатал на машинке жития новомучеников, я дружил с его маленькой испуганной дочкой. Считалось, что через телефон (с трубкой, положенной на рычаг) подслушали, как он барабанит по клавишам, и поэтому пришли с обыском. Слово «книги» в присутствии телефона говорить воспрещалось.
Однажды отец шел ужинать по коридору с рыжебородым дядей Сашей, духовным чадом.
– Надо забрать книги, – рассуждал тот себе под нос.
– Что? – переспросил отец, побледнев.
– Детские! – выпалил гость, и оба устремили взгляды на скромный зеленый аппарат, стоявший на подоконнике возле кухонного стола.
Я проскочил, просочился между ними, сорвал трубку и закричал, к их ужасу, полный смутного восторга:
– Книги! Книги! Книги!
Может быть, так выкликая литературную судьбу.
Сам я по собственному хотению тоже писал жития, стихи, сказки, уже с четырех лет записывал проповеди и речи на магнитофон: «Дорогие братья и сестры, я расскажу вам о празднике Покрова Пречистой Богородицы» или «Дорогие друзья, сейчас вы узнаете, как делать электричество и сажать огурцы!».
Мне было всего шесть, когда в рукописном журнале «Родник» вышло мое пасхальное стихотворение (будем считать первой публикацией).
Христос воскрес – и соловей запел, А лес еще сильней зазеленел. Вот небо светлее стало, И в храмах радость настала. Весенние почки поют: «Везде уют, везде уют…» Поют ручьи, и воздух подпевает, И с каждым днем тепло все прибывает. «Христос воскрес!» – священники запели, И улыбались люди и звери.Слово «уют» я знал, потому что так назывался магазин на Комсомольском проспекте.
Нельзя сказать, что родители захваливали, как-то особо поощряли раннее творчество, они не мешали, иногда умилялись, но вел меня личный жаркий интерес или даже инстинкт. Тот же, что заставлял перерисовывать буквы, еще не умея читать.
Во мне жило двойственное отношение к выдыхавшейся советской власти. Родители были против системы, и я акварельными красками превратил наволочку от подушки в домашний триколор, мечтал о восстановлении храма Христа Спасителя, о чуде превращения пара в мрамор…
Но запретное манило, губастая девочка Маша со двора, которая нравилась, подарила кокетливо алый первомайский флажок. Я прятал тряпицу, как подпольщик, а улучив момент, доставал из кузова игрушечного самосвала и мечтательно думал о ней.
Папа молился царственным мученикам, и у нас дома оказались еще неизвестные миру останки Романовых: кости, черепа, а также броши и пуговицы. За столом все ругали действовавшие порядки – от папиной духовной дочери Анастасии Ивановны Цветаевой до моего крестного поэта Станислава Красовицкого, но одновременно меня привлекал и изумлял настоятель храма, где служил папа, архиепископ Киприан Зернов, изысканный седой иерарх, веривший в «красную идею». В четыре года я впервые попал в алтарь, и он дал мне тяжеленное, окованное золотистым металлом Евангелие – я выдержал и с тех пор стал алтарничать. Когда подрос, ходил с зажженной свечой, читал на солее молитвы по-церковнославянски…
Помню, как владыка возглашает на проповеди, воздымая руки:
– Нашему человеку есть куда пойти: райсовет, райком, райсобес!
В этом райском перечислении его не смущала концовка последнего слова.
В десять лет я задумал (вот прямо дико возжелал) издавать собственный журнал и дал ему имя «Свобода» (в основном он был литературно-исторический, заполненный рассказами и размышлениями о былом и грядущем). Родители противились, хоть и вяло… Но я подбил на дело соседского мальчика Артема, чья мама Марина подрабатывала машинисткой. Она набивала мои тексты, по эскизам оставляя прогалы, где я приклеивал иллюстрации или сам рисовал. Заголовки статей вырезал по букве из газет и журналов… Потом она относила получившееся ксерокопировать, прошивала скрепками, и каждый месяц сто экземпляров «Свободы» уходили в руки ошалелых взрослых на митингах в Лужниках неподалеку от нашего дома. Марина была довольна ей причитавшимся. Одни мальчишки тогда мыли машины, а мы с приятелем продавали журнал… Это усердие привлекло внимание, в популярном «Огоньке» вышла заметка «Вундеркинд», а следом и моя, одиннадцатилетнего, ответная публикация (будущие биографы легко найдут в архивах).
Я много читал и много писал – пьеса о Понтии Пилате, поэма о разбойнике в глухих лесах, киносценарий о Сталине и его дочери Светлане, стихи, рассказы… И одновременно остро и жадно следил за новостями, огромная страна ломалась и менялась ежедневно. Дело не в какой-то уникальности восприятия, таких, рано и резко повзрослевших, возбужденных происходящим детей хватало в то стремительное, как водокруть, время…
Попович, я не был октябренком и пионером наперекор школе, но осенью 91-го, когда одноклассники принялись лихо рвать с прошлым в виде советских плакатов и портретов в кабинете музыки, выхватил у них оплеванную фотографию Ленина и отпустил в окно навстречу теплому ветру.
В ту осень я прочитал всю поэзию Ходасевича и прозу Кнута Гамсуна, и этот причудливый коктейль навечно что-то преобразил в моем существе.
Между тем наступившая новь оказалась свирепа.
К отцу в храм вереницами потянулись бездомные, беженцы, нищие.
Слово «свобода» очень скоро начало горчить и кислить.
В сентябре 93-го года я убежал из дома к распущенному и осажденному Верховному Совету. Проник за баррикады, к кострам, в толпу, где большинство было бедным и немолодым, и кричал вместе со всеми: «Советский Союз!» – и так возвращал долг утраченной родине.
– Не кричи, не застудись, – заботливо говорила старушка, похожая на библиотекаршу, сквозь громоздкие очки растроганно поглядывая на меня, наверняка похожего на Гавроша.
Где я пропадал, родителям сообщил запах костров, въевшийся в штаны и ветровку.
А потом была кровавая развязка, и большой дым, и дом, превращенный в костер.
В 93-м в большинстве погибли молодые и даже мои тогдашние сверстники. Тема 93-го стала для меня сквозной. В те же тринадцать я напечатался в газете «Завтра» у Александра Проханова со стихотворением «Любовавшимся на расстрел», которое начиналось так:
В черные кольца заключена, Челюстью сытою двигая, Дымом тлетворным встает ото сна, Чернь выползает безликая. Клокочет на мертвом изгибе моста, Спелой развесилась вишнею, Ржет, суеверного страха полна Перед убитыми лишними…В семнадцать, уже студентом, я приду работать в думскую комиссию по расследованию той трагедии и познакомлюсь с родными убитых и покалеченными. В тридцать три напишу роман «1993» про мужа и жену, простых людей, которых злой вихрь истории закрутил и швырнул друг против друга (название книги пришло в голову, когда спросил себя, как ее назвать, и тотчас, пролетая в машине, увидел вывеску кафе «Гюго» и, конечно, вспомнил «Девяносто третий год»). У меня есть какое-то чувство, что я еще что-то должен сделать: возможно, сниму фильм про эту маленькую гражданскую войну и памятник, надеюсь, помогу поставить всем погибшим.
У отца был друг молодости Володя Филимонов, синеглазый силач джек-лондоновского типа: вместе катались на крышах поезда дальнего следования, ночью кутаясь в газеты. Володя прошел экспедиции на Крайнем Севере, однажды заплутал в ледяной тундре, полз, но выжил, прокусив горло глухарю и напившись горячей крови. После перестройки стал крутым бизнесменом, промышлял драгоценными камнями, сгорел от рака легких. На отпевание в храм пришел его младший бизнес-партнер Игорь Сухотин, бледный банкир с пшеничными усиками. Мы заговорили с ним на поминках. Вскоре, придя в гости к вдове, я принес ему почитать свои стихи и рассказы, он вызвался их издать, а потом пропал, исчез, испарился. С концами. Видимо, тело зарыли, утопили или закатали. Но от него осталась записная книжка, которую почему-то отдали мне. Как будто Игоря рассеяла, взорвавшись над его пшеничной головой, нейтронная бомба, но выжила тетрадь в кожаном рыжем переплете, прожженном сигаретой, с кофейным подтеком внутри, с разноцветными именами видных гангстеров и политиков, телефонами, адресами, планами, стрелками и кружками… Я тоскливо и медленно листал ее темным вечером, тинейджер, и вдруг синей ручкой на свободной странице в книге пропавшего, растаявшего бесследно человека начал составлять свой план на жизнь. В этих новых записях было что-то магическое. Это был странный свежий побег от мертвого ствола. Именно в тот вечер я принял какие-то важные решения.
Через справочную узнал телефон Думы, позвонил в нужный кабинет, нашел подходящие слова о движении, которое представляю (имелась в виду банда моих одноклассников), и спустя месяц, весной 1996-го, сам даже не имея права голоса, стал самым молодым участником предвыборного штаба Геннадия Зюганова, куда входили очень разные люди-легенды, от писателя Валентина Распутина до рок-музыканта Егора Летова. Это был уникальный опыт участия в исторических событиях, о котором когда-нибудь где-нибудь повспоминаю.
Я не забывал писать и, заканчивая школу, подал документы сразу в два места: в Литературный институт, на семинар поэзии (приложив стихи), и на факультет журналистики МГУ (международное отделение). Пройдя творческий конкурс там и там, все же выбрал Университет.
Отец не был доволен, он хотел для меня если не семинарию, то филфак или истфак. Но, увлеченный изящной словесностью, я рано начал понимать: чтобы огонь горел, нужен приток воздуха, надо быть распахнутым в мир, насыщаться опытами драматичной и динамичной реальности. Филологическое размеренное уныние может окоротить живую творческую стихию. Что до истории, то она не только в архивном крохоборстве, но и вокруг, новейшая и дичайшая, ныряй и плыви.
Семнадцатилетний, я был одинок на журфаке, где все кайфовали от безумств эпохи и надо было безутешно бродить и, перефразируя Диогена, восклицать: «Ищу патриота!» Все кайфовали, а я… Тоже отчасти кайфовал, тусил с девчонками на Манеже, не любил теоретические предметы, но запоем читал древнерусскую и античную литературу. А еще митинговал с генералом Львом Рохлиным (и потом хоронил его), выпускал боевую четырехполосную газету «Как жизнь молодая?» и каждую неделю впотьмах ехал на троллейбусе и метро на далекое радио, где в 7:30 утра вел в прямом эфире «программу молодежной оппозиции».
Хорошо помню тот вечер, когда решил писать прозу всерьез. Почему и как именно всерьез, пожалуй, и сам полностью не мог выразить, но ощутил. Нужно было рассказать историю, полную драматургии, но при этом выбрать и удержать интонацию. Что-то щелкнуло в голове, и заиграла мелодия, сел за компьютер и набарабанил за час рассказ «Солнечные дни» о столкновении на летней жаркой улице с пацанчиком-грабителем, вооруженным ножом, когда все решается один на один, потому что прохожие – бесполезный фон. Потом стоял у окна, прижимался лбом к ледяному стеклу и в темной синеве прозревал грядущее. На следующий день опять писал и, зная о чем, чутко и бережно относился к главному – мелодии. Это был рассказ «Чужая речь» про молодого человека, который на Арбате притворился американцем и разводит окружающих. Я даже старался не смотреть на монитор, не читать, что получается, роняя первые приходившие и соединявшиеся неразлучно слова. Наверное, такого вдохновения и возбуждения, как в это изначальное время, когда отчасти нелепо и наивно, но горячо и свежо выдаешь литературу, уже не будет никогда. Я распечатывал и всучивал рассказы друзьям, с наслаждением читал вслух. Если в тринадцать лет я уже принимался за роман и далеко продвинулся, а в четырнадцать в «Независимой газете» опубликовал, принеся в редакцию, несколько зловеще-лиричных зарисовок, теперь это было какое-то новое, уже определенное и потому волнующее состояние.
Помню, даже на письменном экзамене по русскому языку, когда нужно было что-то подчеркивать, обозначать части речи, разбирать состав слов, я, увлекшись и отвлекшись, бисерным почерком подпольщика записывал на отдельном листочке абзацы новой, настырно просившейся на волю прозы.
В те же восемнадцать лет я влюбился в яркую инфернальную поэтессу, которая была несколько старше и хищно играла чувствами – страдал, сходил с ума, менял кожу и продолжал писать. Из этих чувств и записей родилась моя первая повесть «Малыш наказан».
Осенью 1999 года в день, когда был взорван второй дом в Москве, по скользкой желтой листве бульвара, девятнадцатилетний, я шел в редакцию «Нового мира». Знал, что это главный литературный толстяк, и решил начать с него, а вдруг…
Серый кинотеатр на Пушкинской, узкий пенал проулка, дверь с клавишей, запищавшей при нажатии, старая тусклая лестница, принявшая немало подошв.
Спустя неделю из редакции перезвонили: проза, к моему удивлению и удовольствию, пробила журнальную толщу, и вот уже в сумрачной комнате отдела прозы с пыльным черепом на высоком шкафу в компании сотрудников журнала – сухого, аскетичного, похожего на каторжанина Руслана Киреева и улыбчивой Ольги Новиковой, похожей на лукавую лису Алису, я вычитывал верстку, и мы придумывали название для подборки рассказов. Рассказы были не автобиографические, про других, но в первом рассказе «Бедный Резанов» герой отождествлял себя со всем, что попадалось на глаза, и в какой-то момент пересекался с автором. Киреев предложил общее заглавие по фразе из текста: «Как там ведет себя Шаргунов?» (так и назвали).
Тогда же он сказал:
– У вас чувствуется размах. Не думали написать что-то побольше?
Спасибо ему за вопрос, ободривший на большее. В тот же вечер, придя домой, принялся за повесть.
Что до первой подборки рассказов, несколько месяцев ожидая выхода номера, я жил ежедневным предвкушением этого «посвящения в писатели».
Помню, карабкался зимним вечером по черному и высокому железному забору, чтобы проникнуть в какой-то клубешник, на который не хватило денег, а мой приятель с журфака, уже заплативший на уличном входе, заорал со ступенек:
– Вон лезет автор журнала «Новый мир»!
– Дурак, не сглазь, – прошипел я.
Помню, как шагал по блестящему, отражавшему огни асфальту мартовской Москвы, гремя гриндерсами с красноватыми носами, вдыхая ветер, расстегнув черную куртчонку, в синем свитере-кольчуге с горлышком, наискось груди болталась сумка на липучке, а внутри ее лежал журнал с бледно-голубой обложкой.
Вскоре написались и были приняты новые рассказы. Чем-то забавное воспоминание: однажды, вернувшись из универа, я, тогда еще не имевший мобильника, услышал голос новомирской Ольги Новиковой на домашнем автоответчике:
– Дорогой Сережа, подскажите для корректуры, как правильно: ярость цветов или яркость?
Я тотчас перезвонил и выпалил, боясь не догнать неумолимый поезд корректуры:
– Конечно ярость!
Повесть об отчаянной влюбленности юнца в обольстительную даму, которая крутит им и вертит, нежную и грубую книгу, похвалили в журнале, но не решились взять, и не брали нигде: ни в других журналах, ни в издательствах…
В мае 2001 года мы лихо плясали с длинной светлоглазой девчонкой в зале клуба, выпали на воздух, сели за столик, светало, я держал ее запястье, чувствуя колотящийся пульс танцпола, она рассказала, что из Перми, учится на ветеринара, я рассказал, что хочу быть писателем и уже пишу.
– Слушай, так есть же эта… премия, – она задорно пихнулась острым локтем, – по телику показывали. Отправь им!
По телику тогда и впрямь все время показывали ролик премии «Дебют» с профилями младых Лермонтова и Шолохова и призывом к молодняку – прислать свои рукописи и обрести славу.
Что ж – спасибо, милая барышня-ветеринарша, – я отправил с почты «Малыша» в большом конверте, как сейчас помню, желтом. Только для той же номинации «Крупная проза», как потом выяснилось, отправили себя еще сорок тысяч претендентов. Был длинный список, был короткий, было пестрое жюри… И пышное вручение в ресторане «Прага» при скоплении культурной и государственной знати в декабре 2001-го.
В то утро я проснулся с мыслью-бомбой. Лежал и думал: если выиграю, как поступить? В тюрьме по обвинению в подготовке русского восстания на севере Казахстана сидел писатель Лимонов. У него не было денег на защиту, а главное – этот процесс сопровождал тотальный игнор. Все молчали или кривились: «Так и надо». Никому не было дела до судьбы того, кому лишь за его намерения прокуратура требовала впаять срок в 14 лет. И я решил сказать об этом деле, и вот – вручают премию, и в микрофон ясно и просто говорю, что отдаю все деньги на адвокатов заключенного Эдуарда Лимонова. Не будем забывать, это, по сути, были еще девяностые, самое начало нулевых, особая атмосфера и, конечно, особая среда…
Знай жюри о моем решении, подозреваю – ни за что бы не наградили.
У скольких физиономии перевернулись после такой акции «прямого действия»! Но кто-то захлопал… Сколькие подходили и ныли, как я их разочаровал, отворачивались, гримасничая… Деньги поступили адвокату, потом я приезжал на суд в Саратов. Рад, что поучаствовал в освобождении Эдуарда, с которым таинственно связана моя жизнь и длится многолетняя дружба (и кстати, получая премию за первую свою повесть о разбитой любви, думал о том, что и его первый роман поначалу тоже отвергали повсеместно).
В том же декабре в «Новом мире» вышла моя статья «Отрицание траура», которую вспоминают до сих пор с завидной регулярностью, называя манифестом поколения, хотя предсказанное поколение проявилось позднее. Статья, написанная в двадцать лет, вызвала газетные отповеди и литературный скандал. Это был по-пионерски (со звоном в голосе и размахом первооткрывателя) предъявленный прогноз неизбежного возвращения социальности и интереса к достоверному в литературе (я провозгласил «новый реализм», которым теперь маркированы многие и многие – Прилепин, Сенчин, Садулаев, Рубанов, Авченко, Гуцко и т. д.).
Едва получив «Дебют», ощутил импульс для новой повести и молниеносно написал ее, назвав «Ура!». Наперекор бедам и болям, гниению и распаду захотелось изобразить наступательного героя, настроенного на преодоление. Он ударяется об острые углы жизни (повсюду пьянка, наркомания, подлость, криминал), вскрикивает, но это крик: «Ура!» Он побеждает себя, вырываясь из плена времени. «Ура!» – текст, полный энергии, свежести, солнца, праздника. Некоторые главы нарочито назывались словно бы рекламными слоганами: «Утро – гантели – пробежка», «Выплюнь пиво, сломай сигарету». Повесть вышла в «Новом мире», а потом и книгой.
– Книги не так часто имеют цвет. «Ура!» имеет цвет, – сказал как-то в интервью Андрей Битов, – это алый цвет…
В 2002-м я выпустился с журфака, получил диплом и отправился на прямой телеэфир, где наговорил дерзостей доминировавшей тогда общественности и познакомился с журналистом Юрием Щекочихиным, который бурно мне возражал, но позвал в редакцию своей «Новой газеты».
Открытый вопрос: правильно ли было удариться в репортерскую журналистику, не сбил ли я этим настрой на художественность? – но согласился пойти в отдел расследований, был на штурме «Норд-Оста», летал по стране и рассказывал, как орудуют организованные банды, мы часто и много спорили с Щекочем, в том числе на газетных полосах, навсегда запомню его как романтичного и смелого человека. Он звал меня с собой летом 2003-го в Рязань, где его, как считается, и отравили…
Одновременно с остросюжетной работой в «Новой» я затеял «Свежую кровь» в «Независимой газете» – пространство новых авторов, тех самых, которых предсказал в поколенческом манифесте. Многие из них опубликовались впервые на этой полосе и не только со статьями, но прозой и стихами. С одним из начинающих авторов, еще студенткой, Анной Козловой у меня случился роман, и вскоре она стала моей женой.
В 2004 году в «Новом мире» и потом книгой появилась странноватая повесть «Как меня зовут?», стилистически экспериментаторская и экзистенциальная, быть может, болезненно-ознобная, как само общество: юноша работает под псевдонимами на «почвенном» радио и в «либеральном» издании и под конец, затосковав, устраивается обычным почтальоном – переносчиком чужих слов.
В том же году, сговорившись с друганами Романом Сенчиным и Захаром Прилепиным, я учредил «народническое» движение одноименное повести – «Ура!» (и кричалкой: «Мы разгоним силы мрака! Утро-Родина-Атака!»), которое устраивало литературные вечера и уличные акции с требованием большей справедливости. Не скрою, весь этот движ закрутил и ослепил: обыск на квартире, напугавший беременную жену, задержания, камера предварительного заключения в Воронеже, бесшабашные эфиры, работа с неравнодушными душами по всем регионам…
26 марта 2006 года родился мой сын Иван, которого люблю бесконечно.
В первые недели после его рождения, пока он курлыкал из колыбели, я написал «Птичий грипп» – трагикомический памфлет о бытовании молодежных стай середины нулевых. Здесь сплошной экстрим, и чем гротескней, тем реалистичней: остервенели все – и сотрясатели трона, и его оберегатели. Страсти и противоречия жестоко разрешаются не только в книге, но и в жизни. Текст во многом пророческий и не только потому, что буквально сбылись какие-то сюжеты, но и в главном – скажу не без некоторого пафоса – в передаче симптоматики социального недуга. Такая симптоматика наблюдалась, к примеру, и в конце XIX – начале XX века, и известно, чем дело кончилось. Когда книга писалась, очень многие «переломы судеб» – от раскроенного черепа журналиста Олега Кашина до дела Удальцова-Развозжаева – были только в будущем… Поэтому лично мне перечитывать не смешно, а страшновато.
В 2007 году мне предложили избраться в Госдуму и на съезде «Справедливой России» единогласно утвердили в федеральной тройке, после чего на самом верху началась паническая атака: надо остановить наступление дерзкого. Я отказался добровольно капитулировать, несмотря на все угрозы и посулы, и был вышиблен с выборов. Бюллетени по всей стране пришлось изуродовать пробелом – тройка ужалась до двойки. После этого меня мстительно внесли в черные списки на ТВ, закрыли доступ в любые медиа. Помню, как звонили, звали на передачи, присылали машину к подъезду и в последний момент издевательски сообщали: извините, отбой. Однажды я даже поспорил с пришедшим в гости приятелем: «Спешить некуда, все равно всё отменят» – так и произошло. Ладно бы эфиры, черт бы их побрал, на работу журналистом устроиться было невозможно, началась тотальная нищета, мой брак с Аней, увы, разрушился… Вокруг злорадствовали и охранители, и либералы, и политиканы, и литераторы. Несколько недель я даже смиренно подрабатывал дворником, скреб лопатой возле китайского посольства напротив заснеженного парка Дружбы. Так почему-то получилось, что былое испепелилось и обнулилось, пришлось заново отстаивать себя среди широкого недоброжелательства и при прямом противодействии «начальников жизни».
В 2008-м, в августе, я отправился на войну в Южную Осетию, как будто бы готовый ко всему. Решил все увидеть своими глазами и увидел – будничность смертоубийства. Жара, застывшие тела, сожженные танки, Цхинвал, Горийский район, грохот и пожар. Это была моя первая война. Потрясение воскресило силы, вдобавок обжег стыд: есть те, кому гораздо хуже… Теперь я старался больше путешествовать, наблюдать, ездил по заброшенным русским деревням, записывал на диктофон монологи последних жителей, среди прочего отправился в Киргизию, когда там случилась революция, и погрузился в жуткое месиво азиатского бедняцкого бунта… Кое-что из пережитого и впечатлившего вошло в «Книгу без фотографий», роман взросления и самовоспитания, ранний мемуар, появившийся в 2010-м на пороге тридцатилетия. Сквозная метафора: утрата фотоснимков. Тема: цепкость памяти. Кошка прыгнула на лежавший на диване коллективный снимок класса, лапой семерых убивахом, рыжебородый бородач изъял флешку из фотоаппарата в чеченских предгорьях, свистнули мобильник в придорожном архангельском кабаке – сцены-вспышки все равно отпечатались в мозгу. Эту книгу перевели на английский, французский, сербский и даже арабский.
Не могу не вспомнить, как в 2011 году прокатились уличные протесты, на мой взгляд почти сразу обреченные на неудачу – с разрывом между уставшими от фальши и беспредела, но наивными тысячами граждан и отдельными лукавыми персонажами, вросшими в трибуну. А затем искренних, выхваченных из толпы русских мальчиков закрутили и начали показательно перемалывать жернова. В то время мне представилась возможность побывать на нескольких «писательских встречах» с президентом, и я каждый раз – то лично, то публично – просил его о милосердии и рад, что многих посаженных удалось амнистировать или скостить им сроки. Мне удалось передать президенту письмо от Ильи, отца Даниила Константинова, – парня в отместку за его активизм по тяжелой статье засадили в тюрьму, пытали и хотели отправить на долгие годы в лагерь. В результате сфабрикованное дело было «очищено от политики», и молодого человека освободили.
В 2012-м я стал главным редактором сайта «Свободная пресса». Познакомился с инвестором, любящим современную русскую литературу, и убедил поддержать проект: создать место полемики авторов разных убеждений и аккумулировать тех ярких и неудобных публицистов, которых не найдешь ни в официозных, ни в прогрессистских медиа. Прошли годы, не все удачное сохранено, но раскрутился сайт мощно, входит в десятку самых популярных.
В 2013-м вышел роман «1993». Мне хотелось показать «маленьких людей», закрученных адским вихрем. Простая семья трудяг, расколотая историческим землетрясением. Но еще было важно доказать себе: могу создать объемное, наполненное судьбами, сюжетное, многослойное, семейно-историческое произведение.
2014 год – Крым и Донбасс, где я с самых первых дней оказался военкором. Для меня это был мост надежды и боли между Россией и желавшими воссоединения с ней миллионами людей. В те дни немалое количество приятелей в ответ на мои размышления и репортажи принялись жечь и рубить мостики отношений. Ну и пусть, не это главное, горько другое… Горек раскол – вековечная наша болезнь. Я не стал сторонником и тем более апологетом власти, но я всегда сочувствовал крымчанам, десятками лет добивавшимся права на референдум. Вспоминаю рассветный Перекоп, казаков с ружьями, первые хлипкие заслоны и ожидание удара, который всех сомнет. Вспоминаю беркутовцев на ночной дороге из Ялты, только что получивших российские паспорта, – плясали, как будто вот-вот взлетят, еще пропахшие пожаром Майдана. Севастополь, ликующая площадь: «До-мой!» – ту радость нельзя подделать, да и сложно объяснить и передать тем, кому она чужда.
Донбасс верил в крымский сценарий, но его подвесили на мясной крюк, и это подлость.
Вспоминаю пограничную реку, которую переходил вброд, чуть не попав в плен. Темную степь, по которой несся в грузовике. А назавтра – синее чистое небо с вертолетами и штурмовиком, грохот бомбежки и гибель тех, с кем ехал вместе.
Вспоминаю Донбасс осенью, обгорелый, истекающий кровью. Аэропорт, черная девятиэтажка сотрясается от прямых попаданий. Лупят минометы, «Грады» и «Ураганы», помогаю тащить тела убитых танкистов. Жмурятся на солнце и непрерывно курят два командира-товарища, похожие на пиратов, тоже уже обреченные, «Гиви» и «Моторола»…
Вспоминаю Ясиноватую. Стариков, женщин, детей, ютящихся в подвале. Мальчика Женю семи лет, который, заикаясь, сказал: «Страшно, все время ба-бах!» (а наверху лежали убитые полчаса назад подростки). Сквозь слезы я приободрил его: «Ты же храбрец!» И он вдруг робко и криво улыбнулся.
Я ездил туда и буду ездить, желая там живущим только мира: и в Донецк, и в Луганск, и в другие городки и поселки – с лекарствами, едой, книгами, в библиотеки, к студентам в университет…
В 2016-м в новом для меня жанре нон-фикшн вышла семисотстраничная книга «Катаев. Погоня за вечной весной», которую писал несколько лет, по крупицам собирая биографию любимого и полузабытого писателя. Я взялся за это расследование о Катаеве из любви к его волшебной красочной прозе, но и из досады на отсутствие должного осмысления его головокружительной, вровень с двадцатым веком судьбы.
В 2016-м же гештальт был закрыт – спустя почти десять лет в КПРФ предложили избраться в Думу, и, будучи беспартийным, я стал депутатом от четырех сибирских регионов. Я воспринял эту работу как обязанность быть каждодневным спасателем, задачу помощи тем, про кого забыли. Постоянно летаю в Сибирь, непрерывно бомблю запросами кабинеты чиновников и добавляю к этому огласку через статьи и выступления и каждую неделю отчитываюсь, что удалось сделать, кому помочь. Спасаю от закрытия и исчезновения школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки… Вот две жительницы Алтая. У Ирины Байковой, любящей матери, безработной, как и множество ее земляков, «ювенальная юстиция» по беспределу отобрала трех дочек, я добился их возвращения, а Ирине нашли работу. Евгению Наумову, попавшую в долговое рабство, собирались выкинуть из единственного дома. Она хотела в петлю, детей, мальчика и девочку, забрали бы в приют. Удалось выкупить ее жилище, теперь она счастлива, обрела мужа, удочерила его дочку, купили корову, живут крепким хозяйством… Сколькие люди, находящиеся на черной черте, когда тянет ледяным гибельным сквозняком, нуждаются в простейшей поддержке. Хотя бы в малом, но спасительном обогреве…
Один из уроков этой работы – раскол преодолим «народничеством», потому что все, кто искренен, как правило, хотели бы очеловечивания страны, большей справедливости, честного общего дела, и это дело могло бы врачевать любые исторические раны и идеологические язвы.
Я всегда голосую в Думе по совести, могу оказаться единственным, кто против. Бывает и угрожают, и даже после одного резонансного голосования, когда перешел дорогу «строительной мафии», подожгли квартиру – чудом спасся отец…
В моем рассказе «Аусвайс» про похмельного толстяка-депутата, который обнаружил потерю ксивы и стал сходить с ума, превращаясь в ничто, в нагого червя, перед этим превращением у входа в серый дворец один из осаждающих здание ходоков поверяет ему страшную тайну: «Здесь вам в питье подмешивают гадость. В воду, в чай, в кофе, в сок, во все… Чтоб вы были тихими и гладкими. Тихими и гладкими, да. Тут любого за год этой добавкой переделают. Был бы я депутатом – я б со своим термосом приходил и на всякий случай со своими бутербродами!»
Сколько их было мужественно-задубелых, грозно-басистых, приобретавших глянцевитость и округлость физиономий и бархатистую вкрадчивость речи. Главная угроза – утонуть в кожаном кресле. Нет, не утону.
А что дальше – самому интересно. Но надо жить так, чтобы каждый год был отмечен чем-то существенным.
В 2017-м женился на Насте Толстой. Она – очаровательная краса, а еще и душевно близкий мне человек, тонкий филолог, специалист по русской литературе, написанной на чужбине в двадцатом веке. Она – моя находка, а я, надеюсь, ее.
В 2018-м у меня вышла книга прозы под названием «Свои» – здесь и обращение к предкам, от арктического путешественника Владимира Русанова до режиссера Сергея Герасимова, и новые рассказы: статист из телевизионной массовки, или житель тайги, расчищающий каждый день заброшенную взлетную полосу, или робкая и хрупкая северокорейская официантка и помутненно увлеченный ею турист, или некто Валентин Петрович, оказавшийся в центре литературного скандала и доживающий свой век на даче… Промежуточная книга. Хотелось бы, чтоб впереди был сильный роман.
А это промежуточный, безыскусный, как барабанная дробь, отчет.
В слове «отчет» содержится слово «отче».
В подростковые годы мне приходилось разборчивой скороговоркой исповедоваться отцу, и, склоняя голову под мягкой епитрахилью, пропахшей сладким дымом, в шелковом сумраке я беззвучно просил: «Отче, прости мне прегрешения, вольные и невольные».
К чему пришел? Куда иду? Зачем? Откуда-то знаю, что должен делать. Рисовать буквы (кстати, обожаю писать от руки). И в прозе больше всего ценю – изобразительное. Рожден рисовать словами?
Любого, кто движется, упрекнут в тщеславии, и, наверное, рассказ о собственной жизни из года в год кого-то раздражит, как бегущий вверх по ступенькам эскалатора раздражает неподвижных, прилипших пятернями к поручню.
Если честно, внутренне я сам неподвижен. И время внутри меня застыло. Больше всего люблю уединение, тишину и созерцание, желательно – спокойной воды.
Этот текст, быть может, исповедь. Особый жанр, где выводы предоставлено делать читателю и тому единственному, кто ведает прошлое, будущее и секреты своего промысла. Помню, как писал печатными буквами, вкривь и вкось, первую исповедь, недавно научившись писать. «Варовал малину за зобором. Шиптал ни преличнаи слова». И только одну фразу написал без ошибок: «Разбил мамы вазу».
Не знаю, зачем этот финал, но еще чаще, чем дом из детства, снится, что перед причащением исповедуюсь в храме – причем всегда, из года в год, мне лет двенадцать, и меня терпеливо и жалостливо, без упреков, выслушивает отец, и всякий раз так легко на сердце, пусть и во сне.
Леонид Юзефович. Любовь к Блоку
Стихи я любил с детства, но первым поэтом, лет в тринадцать пронзившим мне сердце, стал Александр Блок.
Вот это, из цикла «На поле Куликовом»:
Река раскинулась. Течет, грустит лениво И моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят стога.И вот это:
Пролетает, брызнув в ночь огнями, Черный, тихий, как сова, мотор…Или это:
Грусть – ее застилает отравленный пар С галицийских кровавых полей…Битву на Куликовом поле мы проходили еще в младших классах, но о «галицийских кровавых полях» я понятия не имел. «Мотор» для меня был просто мотор, я не сумел бы объяснить, почему, будучи «тихим, как сова», то есть находясь в нерабочем состоянии, он летает и брызжет огнями, однако все это было совершенно не важно. Лишь много позже я узнал о том, что почувствовал уже тогда, – поэзия не обязательно должна быть понятной, чтобы быть понятой.
У нас дома был томик Блока из довоенной «Библиотеки поэта». Моя мама, Галина Владимировна Шеншева, в 1943 году после мединститута уезжая на фронт, взяла его с собой и, что самое удивительное, привезла обратно. Студентом я подарил его одной девушке, с которой у меня был роман. Любимый поэт как обладающая чудесной силой святыня призван был скрепить нашу любовь, но через два месяца любовь ушла, а вместе с ней меня покинул и мамин Блок. Впрочем, многие стихи из этой маленькой синей книжечки я к тому времени знал наизусть.
В 1950 году, когда мне было два года, мама вышла замуж за Абрама Давидовича Юзефовича, усыновившего меня и заменившего мне отца. Он всю жизнь проработал на старинном, основанном еще в середине XIX века Мотовилихинском пушечном заводе в Перми, куда попал после института, был начальником ствольного цеха, главным технологом. В заводском поселке Мотовилиха на окраине города прошла первая половина моей жизни. Когда мы с мамой приехали из Москвы к моему будущему отчиму, в его комнате в общежитии было, по словам мамы, одиннадцать книг – десять томов «Энциклопедии машиностроения» и «Война и мир» в одном большеформатном томе. К стихам отчим был равнодушен, но поэтическое отношение к миру ему было очень даже свойственно. На пенсии он заинтересовался китами и горячо одобрял международные конвенции по их защите. Незадолго до его смерти я сказал ему: «Папа, тебе не о чем в жизни жалеть. По-моему, твоя совесть должна быть чиста». Он ответил: «Ошибаешься. Я делал гарпунные пушки для китобойной флотилии „Слава“».
Мама стихи и любила, и сама их писала. В зрелом возрасте – только юмористические. Вообще она отличалась веселым нравом и легкомыслием. Последнее отчасти передалось мне и не раз выручало меня в таких ситуациях, где благоразумие вряд ли бы помогло. На вопрос, страшно ли ей было на войне, мама отвечала, что нисколько, потому что их медсанбат находился в абсолютно безопасном месте – мины до них не долетали, а снаряды через них перелетали. Однажды они с начальником должны были идти по минному полю, и начальник галантно пропустил ее вперед, как если бы они входили в театр. Мама засмеялась и пошла.
По легкомыслию она вела на фронте дневник, хотя краем уха слышала, что за это можно угодить под трибунал. Сейчас ее дневник хранится у меня дома. Никаких важных мыслей и наблюдений, ради которых стоило бы так рисковать, он не содержит. Девичьи излияния перемежаются проклятьями фашистам, описания природы – собственными мамиными стихами. Одно из них написано в апреле 1945 года, под Кёнигсбергом:
Усатый трубач, оловянный солдат Мне подарен в знак дружбы тобой, И в мешке вещевом непременно назад Повезу я солдата домой. Отдохнет там трубач, спутник тягостных дней И в пути неизменный мой друг. Я уверена, станет тогда он живей, На трубе заиграет мне вдруг. И напомнит о прошлом, о походах былых, О друзьях, что погибли в бою, И о подвигах славных, о бессмертии их. Мне напомнит и дружбу твою.Стихотворение посвящено некоему С. П. А. Кто он был такой, я у мамы выспросить не догадался, но, похоже, отношения между ними действительно были не более чем дружескими. Вывожу это из того, что даритель трубача обозначен всеми тремя инициалами. То есть мама называла его с отчеством, значит, по ее тогдашним понятиям, был он человеком немолодым. Что касается солдатика, едва ли С. П. А. взял его с собой на фронт, как мама – Блока. Вероятно, подобрал в одном из брошенных хозяевами немецких домов. А вот исполнила ли мама обещание и привезла ли оловянного усача домой, неизвестно. Я, во всяком случае, его не видел.
Мама была еврейка, но один ее дед, живший в Мелитополе и служивший в банке, перешел из иудаизма в лютеранство, а другой, владевший магазином писчебумажных принадлежностей в Кронштадте, обратился в православие. Подозреваю, что цель этих разнонаправленных конфессиональных пертурбаций была одна – оба хотели обойти процентную норму и дать возможность всем своим многочисленным детям поступить в гимназию.
Гимназические увлечения маминых родителей не сказались на их судьбе, но я – плод школьного романа. Даже, можно сказать, двух. Мама, отчим и мой биологический отец, Константин Владимирович Ефимов, учились мало того что в одной московской школе, но еще и в одном классе. Отец воевал в пехоте, потом служил в Смерше. В Москву вернулся в 1946 году, как и мама, после войны лечившая немецких военнопленных в лагере под Шауляем. Оба были в одном звании – старшие лейтенанты. Бурный роман завершился свадьбой, однако семейная жизнь не заладилась. Еще до моего рождения отец, как многие фронтовики, начал пить, пропивал не только деньги, но и вещи. Мама недолго это терпела. Терпение никогда не входило в число ее добродетелей. В 1949 году, как раз в те дни, когда Москва праздновала 150-летие со дня рождения Пушкина, она развелась с одним своим одноклассником и вскоре вместе со мной уехала в Пермь, к другому. Он со школы был в нее влюблен.
Отец алкоголиком не стал, но мама очень боялась, что я пойду по его стопам. Хлебнув женского лиха, свой долг она видела в том, чтобы всегда и везде давать бой пьянству. У нас дома прятались соседки, сбежавшие от разбушевавшихся после получки мужей. Если пьяный супруг ломился к нам в квартиру, мама смело встречала его горьким словом правды и мягким – увещевания. На фронте она оперировала под бомбежкой, но в таких конфликтах ее храбрость значила все-таки меньше, чем красота. Мама считалась самой красивой девочкой в классе. Она занималась в балетной студии и, хотя в хореографическое училище ее не взяли из-за высокого роста, до старости сохраняла идеальную фигуру. Осанка и длинные ноги придавали ее речам неотразимую для буянов убедительность.
Своего настоящего отца я в сознательном возрасте видел один раз – в 1978 году, в ресторане «Якорь» на улице Горького. Он меня пригласил туда после того, как я через справочное бюро разыскал его телефон и позвонил ему домой. Из двух его дедов один был русский, другой немец, а из двух бабушек – одна русская, другая армянка. За бутылкой коньяка с родины этой моей прабабки, оглушенный внезапно свалившейся на меня информацией о многосоставности крови в моих жилах, я забыл выяснить классовое происхождение отцовских предков и место их жительства до приезда в Москву. То и другое так и осталось для меня тайной. В следующий раз я увидел отца через десять лет, в гробу.
Зато я не преминул поинтересоваться, какие у него отношения с поэзией. Отец сказал, что стихов не читает, но в школе их сочинял. «О любви и природе?» – спросил я. Он усмехнулся: «Я же не девочка. Я писал стихи о войне в Испании». – «И больше ни о чем?» – не поверил я. «Только об испанской войне, – подтвердил он. – Когда пал Мадрид, выбросил эту тетрадь и больше стихов не писал».
Оказалось, что Блока он тоже раньше любил. Блока и Есенина. Вернее, Есенина и Блока. У мамы эти двое располагались в обратном порядке по степени важности. Одно время к ним присоседился было Евтушенко, но ненадолго и на птичьих, по сравнению с хозяевами ее сердца, правах.
Студентом я узнал, что вскоре после смерти Блока часть его библиотеки купил Пермский университет. Получить эти книги было непросто, но знакомая библиотекарша показала мне один бесценный том с пометками Блока. Не помню, что это была за книга и о чем шла речь на странице, где остались его подчеркивания, но сам рисунок карандашных линий на полях и в тексте стоит у меня перед глазами. Мне чудился здесь тот же завораживающий ритм, что и в стихах моего божества.
Тогда же нашлась еще одна ниточка между мной и Блоком: он, оказывается, написал стихи о моей двоюродной бабушке, сестре деда по маме, певице и танцовщице Бэле Казарозе-Шеншевой. Накануне революции Бэлочка, как называл ее дед, была широко известна в узких кругах петербургской богемы. Жемчужиной ее репертуара были эстрадные песенки на стихи Михаила Кузмина. Он и придумал ей псевдоним Казароза, якобы испанский, потому что в поставленной Мейерхольдом драме Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна» она исполняла зажигательный танец трактирной гитаны. Этот ее коронный номер и описан Блоком в стихотворении «Испанке»:
Не лукавь же, себе признаваясь, Что на миг ты был полон одной, Той, что встала тогда, задыхаясь, Перед редкой и сытой толпой. И в бедро уперлася рукою, И каблук застучал по мосткам, Разноцветные ленты рекою Буйно хлынули к белым чулкам…Казароза стала прототипом героини моего романа «Казароза», но, в отличие от нее, не была убита на сцене в 1920 году, а вскрыла себе вены девятью годами позже.
Прозу я начал писать взрослым женатым человеком, на исходе третьего десятка, а первое свое стихотворение – о море, которого не видел, и охраняющем родные берега советском крейсере – сочинил в шестилетнем возрасте.
Последнее – в позапрошлом году, через сорок лет после того, как служил лейтенантом в Забайкалье и жил в поселке Березовка в пятнадцати километрах от Улан-Удэ:
Мне комнату сдавали эти ревнители враждебных вер – старообрядец дядя Петя и тетя Шура, из «бандер», кержак и грекокатоличка, но брак был крепок, прочен дом. Зимой топилась жарко печка складским ворованным углем. Их дом природа окружала, жарки цвели среди камней, чуть дальше Селенга лежала с японским кладбищем над ней. На сопках рядом – выше, ниже уже и места нет крестам, чтоб в Судный День восстать поближе к разверзнувшимся небесам. Для дяди Пети, тети Шуры кресты у самой верхотуры поставил сын, гордясь собой. Хоть сварены из арматуры, но фон – небесно-голубой.Сейчас я пишу одно стихотворение в несколько лет, а в юности писал по несколько штук в неделю, а то и в день. Первым печатным изданием, опубликовавшим мои стихи, стала заводская многотиражка «Мотовилихинский рабочий», вторым – газета «Молодая гвардия», орган Пермского обкома ВЛКСМ. Мне было семнадцать лет. Строго по сезону я воспел весну, птиц на проводах и столовку на заводе, где в то время работал фрезеровщиком. Сумма гонорара составила 7 рублей 20 копеек. Мне хватило этих денег, чтобы с двумя такими же, как я, юными виршеплетами отметить блистательное начало моей литературной карьеры ужином и бутылкой сухого вина в молодежном кафе «Космос».
Год спустя я взошел на новую вершину – областное книжное издательство выпустило литературный альманах «Современники» с моими стихами. Они находились там вместе с творениями еще сорока с лишним пермских поэтов, но я не чувствовал себя затерянным в рядах этого легиона. О моем исключительном месте среди товарищей по лире свидетельствовал тот факт, что мне позволили напечатать большой и, главное, вызывающе аполитичный цикл стихов о любви. Правда, за то время, пока альманах шел к читателю, я успел расстаться с адресатом моей любовной лирики. Это была та самая девушка, которой я подарил маминого Блока и которая мне его не вернула. Она, конечно, не стоила таких стихов, но я постарался о ней забыть и наслаждался успехом, как вдруг в газете «Звезда», органе обкома уже не ВЛКСМ, а КПСС, появилась разгромная рецензия на наш альманах. Ее автором был не какой-нибудь завалящий доцент-филолог из пединститута, а живший тогда в Перми знаменитый писатель Виктор Астафьев.
«Всех других авторов переплюнул Леонид Юзефович циклом стихотворений „Узел губ“, – констатировал Виктор Петрович в статье „Под одной крышей“, позже включенной в его Собрание сочинений. – Весь этот цикл – о губах, точнее, об „узле губ“. И резвится же молодой автор! На его висок „медленно слетает любимой обнаженная рука“, и прозренье на его душу „ставит печать“, и он начинает „с презреньем все шорохи мира встречать“. И „губы неизбежного полудня“ касаются его лица, и ему „бессмертье снится“, и он раскаивается в том, что „пришел молиться на распятье твоей руки“, и „у влюбленных руки виснут, хоть губы связаны узлом“, а то еще автору „заглянет в душу звезды косматая душа“».
Астафьев прав. Это плохие стихи, но я их не стыжусь. Они – такой же источник по истории моей жизни, как сохранившийся у меня в домашнем архиве билет в Большой театр, где студентом я слушал «Бориса Годунова» и где по ходу действия на сцену выводили живую лошадь. Или детские рисунки дочери Гали и сына Миши. Или письма моей жены Наташи, оставшиеся от того времени, когда я еще не перебрался к ней в Москву. В первые дни нашего знакомства я, само собой, неустанно охмурял ее чтением наизусть Блока, Анненского, Заболоцкого, позднего Луговского, раннего Тихонова. Ни Есенин, ни Пастернак среди моих фаворитов не числились, а Мандельштама я тогда почти не знал.
До недавних пор я лично и довольно близко был знаком с единственным большим поэтом – Алексеем Решетовым. Мы с ним сошлись, в частности, на любви к Блоку. В столицах Решетова знают мало, но на Урале он классик, в его родном городе Березники на севере Пермской области ему поставлен памятник. Леша – первый и, наверное, последний увековеченный в бронзе человек, с которым я неоднократно выпивал.
И человек этот – поэт.
Жизнь оказалась длинной. В ней были разные периоды и разные увлечения, но теперь, когда моя молодость оживает и приближается ко мне стремительнее, чем в былые годы от меня уходила, я опять полюбил стихи едва ли не больше всего на свете.
Думаю, это уже навсегда.
Об авторах[4]
Авченко Василий Олегович
Родился в 1980 году в г. Черемхово Иркутской области. Российский писатель и журналист. Окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Живет во Владивостоке.
Автор книг: Правый руль. М., 2009; Глобус Владивостока. М., 2010; Кристалл в прозрачной оправе: Рассказы о воде и камнях. М., 2015; Фадеев. М., 2017; и др.
Аксёнов Василий Иванович
Родился в 1953 году в селе Ялань Красноярского края. Окончил ЛГУ, кафедра археологии. Прозаик. Лауреат премии Андрея Белого (1985). Живет в Петербурге.
Автор книг: День первого снегопада. Л., 1990; Солноворот. СПб., 2003; Малые святцы. СПб., 2008; Время ноль. СПб., 2010; Весна в Ялани. СПб., 2014; Десять посещений моей возлюбленной. СПб., 2015; Оспожинки. СПб., 2016; Была бы дочь Анастасия. СПб., 2018.
Аствацатуров Андрей Алексеевич
Родился в 1969 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ (ныне СПбГУ). Филолог, писатель. Живет в Санкт-Петербурге.
Автор книг: Т. С. Элиот и его поэма «Бесплодная земля». СПб., 2000; Феноменология текста: игра и репрессия. М., 2007; Генри Миллер и его «парижская трилогия». М., 2009; Люди в голом. М., 2009; Скунскамера. М., 2010; Осень в карманах. М., 2015; И не только Сэлинджер: Десять опытов прочтения английской и американской литературы. М., 2015.
Басинский Павел Валерьевич
Родился в 1961 году в г. Фролово Вологодской области. Учился на отделении иностранных языков Саратовского университета, окончил Литературный институт имени А. М. Горького и аспирантуру при нем. Писатель, литературовед, критик. Лауреат премии «Большая книга» (2010) за художественное исследование «Лев Толстой: Бегство из рая». Живет в Москве.
Автор книг: Сюжеты и лица. М., 1993; Московский пленник. М., 2004; Горький. М., 2005, 2006; Максим Горький. Страсти по Максиму. М., 2007, 2011, 2017, 2018; Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина. М., 2008; Максим Горький. Миф и биография. СПб., 2008; Лев Толстой: Бегство из рая. М., 2010, 2011, 2017; Полуденный бес. М., 2011; Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. История одной вражды. М., 2013, 2016; Скрипач не нужен. Роман с критикой. М., 2014, 2015; Лев в тени Льва. М., 2015; Лев Толстой – свободный человек. М., 2016, 2017; Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. М., 2018; и др.
Бояшов Илья Владимирович
Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена. Прозаик. Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» (2007). Живет в Петергофе.
Автор книг: Играй свою мелодию. Л., 1989; Безумец и его сыновья. СПб., 2002; Армада. СПб., 2007; Путь Мури. СПб., 2007; Танкист, или «Белый тигр». СПб., 2008; Конунг. СПб., 2009; Кто не знает Братца Кролика! СПб., 2009; Каменная баба. СПб., 2010; У Христа за пазухой. СПб., 2011; Эдем. СПб., 2012; Кокон. СПб., 2013; Джаз. СПб., 2015; Жизнь идиота. СПб., 2017.
Варламов Алексей Николаевич
Родился в 1963 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Писатель, публицист, исследователь русской литературы XX века. Лауреат премии «Большая книга» (2007). Живет в Москве.
Автор книг: Дом в Остожье. М., 1990; Здравствуй, князь. М., 1993; Ночь славянских фильмов. М., 2001; Пришвин. М., 2003; Александр Грин. М., 2005; 11 сентября. СПб., 2005; Григорий Распутин. М., 2007; Михаил Булгаков. М., 2008; Алексей Толстой. М., 2008; Купол. М., 2008; Теплые острова в холодном море. Иркутск, 2008; Последние времена. М., 2010; Андрей Платонов. М., 2011; Стороны света. М., 2011; Все люди умеют плавать. М., 2011; Как ловить рыбу удочкой. М., 2011; Мысленный волк. М., 2014; Мария и Вера. М., 2014; Шукшин. М., 2015; Душа моя Павел. М., 2018.
Веллер Михаил Иосифович
Родился в 1948 году в г. Каменец-Подольский, Украинская ССР. Окончил филологический факультет ЛГУ. Писатель. Живет в Москве.
Автор книг: Хочу быть дворником. Таллин, 1983; Разбиватель сердец. Таллин, 1988; Технология рассказа. Таллин, 1989; Рандеву со знаменитостью. Таллин, 1990; Приключения майора Звягина. Л., 1991; Легенды Невского проспекта. Таллин, 1993; Самовар. Иерусалим, 1996; А вот те шиш! М., 1994; Кавалерийский марш. СПб., 1996; Все о жизни. СПб.; М., 1998; Памятник Дантесу. СПб.; М., 1999; Гонец из Пизы. СПб.; М., 2000; Запоминатель. СПб.; М., 2000; Жестокий. СПб., 2002; Кассандра. Харьков, 2002; Представления. Харьков, 2003; Забытая погремушка. М., 2003; Б. Вавилонская. СПб.; Харьков, 2004; Любовь зла. СПб.; Харьков, 2004; Великий последний шанс. М., 2005; Мое дело. М., 2006; О любви. М., 2006; Песнь торжествующего плебея. М., 2006; Махно. М., 2007; Смысл жизни. М.; Минск, 2007; Перпендикуляр. М., 2008; Легенды Арбата. М., 2009; Человек в системе. М., 2010; Мишахерезада. М., 2011; Психология энергоэволюционизма. М., 2011; Социология энергоэволюционизма. М., 2011; Энергоэволюционизм. М., 2011; Эстетика энергоэволюционизма. М., 2011; Странник и его страна. М., 2014; Любовь и страсть. М., 2014; Бомж. М., 2015; Наш князь и хан. М., 2015; Конец подкрался незаметно. М., 2015; Накануне неизвестно чего. М., 2016; Подумать только. М., 2017; Огонь и агония. М., 2018; Веритофобия. М., 2018; и др.
Водолазкин Евгений Германович
Родился в 1964 году в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского государственного университета и аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Прозаик, эссеист. Лауреат премии «Ясная Поляна» (2013), «Большая книга» (2013, 2016). Живет в Петербурге.
Автор книг: Монастырская культура: Восток и Запад. СПб., 1999; Всемирная история в литературе Древней Руси. Мюнхен, 2000; СПб., 2008; Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии. СПб., 2002, 2006; Похищение Европы. СПб., 2005; Соловьёв и Ларионов. М., 2009; Часть суши, окруженная небом: Соловецкие тексты и образы. СПб., 2011; Инструмент языка. М., 2012; Лавр. М., 2012; Совсем другое время. М., 2013; Пара пьес. Иркутск, 2014; Дом и остров, или Инструмент языка. М., 2015; Авиатор. М., 2016.
Гаврилов Анатолий Николаевич
Родился в 1946 году в Мариуполе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Писатель. Лауреат премии Андрея Белого (2010). Живет во Владимире.
Автор книг: В преддверии новой жизни. М., 1990; Старуха и дурачок. Владимир, 1992; К приезду Н. М., 1997; Весь Гаврилов. М., 2004; Берлинская флейта. М., 2010; Вопль впередсмотрящего. М., 2011.
Гиголашвили Михаил Георгиевич
Родился в 1954 году в Тбилиси (Грузия). Окончил Тбилисский государственный университет и аспирантуру. Кандидат филологических наук, автор монографии «Рассказчики Достоевского» (1992). Литературовед, переводчик, прозаик. Лауреат премии «Большая книга» (2010). Живет в Германии.
Автор книг: Толмач. СПб., 2003; Тайнопись. СПб., 2007; Чертово колесо. М., 2009; Захват Московии. М., 2012; Тайный год. М., 2017.
Етоев Александр Васильевич
Родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский механический институт (Военмех). Прозаик, редактор. Живет в Петербурге.
Автор книг: Эксперт по вдохам и выдохам. СПб., 1998; Бегство в Египет. СПб., 1998; Душегубство и живодерство в детской литературе. СПб., 2001; Кому лебедь, кому выпь. СПб., 2003; Человек из паутины. М., 2004; Трилогия о супердевочке Уле Ляпиной. СПб., 2004, 2005, 2008; Правило левой ноги. СПб., 2007; Книгоедство. Новосибирск, 2007; Экстремальное книгоедство. М., 2009; Порох непромокаемый. СПб., 2012; Будьте счастливы жуки и пираты. М., 2014; Жизнь же… СПб., 2014; Территория книгоедства. СПб., 2016; и др.
Идиатуллин Шамиль Шаукатович
Родился в 1971 году в Ульяновске. Окончил журфак Казанского государственного университета. Журналист, прозаик. Лауреат премии «Большая книга» (2017). Живет в Москве.
Автор книг: Татарский удар. СПб., 2005; СССР™. СПб., 2010; Убыр. СПб.; М., 2012 (под псевдонимом Наиль Измайлов); Убыр. Никто не умрет. СПб.; М., 2013 (под псевдонимом Наиль Измайлов); За старшего. М., 2013; Это просто игра. СПб.; М., 2016 (под псевдонимом Наиль Измайлов); Город Брежнев. СПб.; М., 2017.
Крусанов Павел Васильевич
Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена. В восьмидесятые годы активный участник музыкального андеграунда. Живет в Петербурге.
Автор книг: Где венку не лечь. М., 1990; Одна танцую. СПб., 1992; Рунопевец. М., 1997; Отковать траву. СПб., 1999; Укус ангела. СПб., 2000; Бессмертник. СПб., 2000; Ночь внутри. СПб., 2001; Бом-бом. СПб., 2002; Другой ветер. СПб., 2002; Действующая модель ада. М., 2004; Американская дырка. СПб., 2005; Все прочее – литература. СПб., 2007; Мертвый язык. СПб., 2009; Ворон белый: История живых существ. М., 2012; Царь головы. М., 2014; Железный пар. М., 2016; и др.
Курицын Вячеслав Николаевич
Родился в 1965 году в Новосибирске. Окончил Уральский государственный университет (Екатеринбург) и аспирантуру РГГУ (Москва). Писатель, журналист, литературный критик, арт-куратор, телеведущий. Лауреат премии Андрея Белого (2005). Живет в Москве.
Автор книг: Любовь и зрение. М., 1996; Журналистика. СПб., 1998; Современный русский литературный постмодернизм. М., 2000; Акварель для Матадора. СПб., 2000; Матадор на Луне. СПб., 2000; 7 проз. СПб., 2002; Месяц аркашон. СПб., 2003 (под псевдонимом Андрей Тургенев, совместно с К. Богомоловым); Курицын-уикли. М., 2005; Спать и верить. Блокадный роман. М., 2007 (под псевдонимом Андрей Тургенев); Чтобы Бог тебя разорвал изнутри на куски! М., 2008 (под псевдонимом Андрей Тургенев); MTV: покорми меня. М., 2009; Книги Борхеса. М., 2009; Набоков без Лолиты. М., 2013; Опус для Димы, другого Димы, Кати, Миши и Юли. М., 2015; и др.
Левенталь Вадим Андреевич
Родился в 1981 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет СПбГУ. Писатель, публицист, критик. Живет в Петербурге.
Автор книг: Маша Регина. СПб., 2012; Комната страха. М., 2015.
Малышев Игорь Александрович
Родился в 1972 году в поселке Реттиховка Черниговского района Приморского края. Окончил электростальский филиал Московского института стали и сплавов. Увлекается музыкой. Сочиняет песни и поет в рок-группе «Лес». Живет в г. Ногинске Московской области.
Автор книг: Лис. М., 2003; Дом. М., 2008; Там, откуда облака. М., 2011; Корнюшон и Рылейка. М., 2009, 2010; Космический сад. М., 2010; Суворов – непобедимый полководец. М., 2010; Номах. СПб., 2018.
Матвеева Анна Александровна
Родилась в 1972 году в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Прозаик, журналист. Живет в Екатеринбурге.
Автор книг: Па-де-труа. Екатеринбург, 2001; Небеса. М., 2004; Голев и Кастро. М., 2005; Перевал Дятлова. М., 2005; Найти Татьяну. М., 2007; Есть! М., 2010; Подожди, я умру – и приду. М., 2012; Девять девяностых. М., 2014; Завидное чувство Веры Стениной. М., 2015; Призраки оперы. СПб., 2015; Лолотта и другие парижские истории. М., 2016; Горожане. М., 2017; и др.
Мелихов Александр Мотелевич
Родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Писатель, публицист. Живет в Петербурге.
Автор книг: Провинциал. Л., 1986; Весы для добра. Л., 1989; Исповедь еврея. СПб., 1994; Горбатые атланты, или Новый Дон Кишот. СПб., 1995; Роман с простатитом. СПб., 1997; Чума. М., 2003; Нам целый мир чужбина. СПб., 2003; Красный Сион. СПб.; М., 2003; Интернационал дураков. М., 2010; Тень отца. М., 2011; Броня из облака. СПб., 2012; Так говорил Сабуров. СПб., 2012; Колючий треугольник. СПб., 2013; Бессмертная Валька. СПб., 2013; Каменное братство. СПб., 2014; И нет им воздаяния. М., 2015; Воскрешение Лилит. М., 2016; Испытание верности. М., 2016; Краденое солнце. М., 2016; Свидание с Квазимодо. М., 2016; Былое и книги. СПб., 2016; Застывшее эхо. СПб., 2016; Заземление. М., 2017; В долине блаженных. М., 2018; и др.
Москвина Татьяна Владимировна
Родилась в 1958 году в Ленинграде. В 1982 году окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Писатель, драматург, критик. Живет в Петербурге.
Автор книг: Похвала плохому шоколаду. СПб., 2003; Смерть это все мужчины. СПб., 2004; Люблю и ненавижу. СПб., 2005; Вред любви очевиден. СПб., 2006; Она что-то знала. СПб., 2007; Энциклопедия русской жизни. СПб., 2008; Ничего себе Россия. СПб., 2008; Мужская тетрадь. М., 2009; Женская тетрадь. М., 2009; Общая тетрадь. М., 2009; Позор и чистота. М., 2010; Страус – птица русская. М., 2009; В спорах о России: А. Н. Островский. СПб., 2011; Жар-книга. СПб., 2012; Жизнь советской девушки. М., 2014.
Носов Сергей Анатольевич
Родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литинститут им. А. М. Горького. Прозаик, драматург. Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2015). Живет в Петербурге.
Автор книг: Внизу под звездами. Л., 1990; Памятник Во Всем Виноватому. СПб., 1994; Хозяйка истории. СПб., 2000; Член общества, или Голодное время. СПб., 2001; Дайте мне обезьяну. М., 2001; Грачи улетели. СПб., 2005; Музей обстоятельств. СПб., 2008; Тайная жизнь петербургских памятников. СПб., 2009; Франсуаза, или Путь к леднику. М., 2012; Полтора кролика. СПб., 2012; Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников – 2. СПб., 2015; Фигурные скобки. СПб., 2015; Поцелуй Раскольникова. СПб., 2016; Построение квадрата на шестом уровне. М., 2018.
Попов Валерий Георгиевич
Родился в 1939 году в Казани. Окончил Ленинградский электротехнический институт, затем сценарный факультет ВГИКа. Прозаик. Живет в Петербурге.
Автор книг: Южнее, чем прежде. Л., 1969; Жизнь удалась! Л., 1981; Грибники ходят с ножами. СПб., 1998; Третье дыхание. М., 2004; Комар живет, пока поет. М., 2006; Горящий рукав. М., 2008; Плясать до смерти. М., 2012; Дмитрий Лихачев. М., 1914; Довлатов. М., 2015; Зощенко. М., 2015; За грибами в Лондон. М., 2018; и др.
Постнов Олег Георгиевич
Родился в 1962 году в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный университет. Прозаик, драматург, филолог. Живет в Новосибирском Академгородке.
Автор книг: Эстетика И. А. Гончарова. Новосибирск, 1997; Песочное время. Новосибирск, 1997; Пушкин и смерть. Новосибирск, 2000; Смерть в России. Новосибирск, 2001; Страх. СПб., 2001; Поцелуй Арлекина. М., 2002; Антиквар. СПб., 2013.
Захар Прилепин
Родился в 1975 году в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Писатель, публицист, общественный деятель. Лауреат премий «Ясная Поляна» (2007), «Национальный бестселлер» (2008) и «Супернациональный бестселлер» (2011), «Большая книга» (2014). Живет в Нижнем Новгороде.
Автор книг: Патологии. М., 2004; Санкья. М., 2006; Грех. М., 2007; Ботинки, полные горячей водкой. М., 2008; Я пришел из России. СПб., 2008; Terra Tartarara. Это касается лично меня. М., 2009; Леонид Леонов: игра его была огромна. М., 2010; Черная обезьяна. М., 2011; Восьмерка. М., 2012; Книгочет. М., 2012; Обитель. М., 2014; Летучие бурлаки. М., 2015; Не чужая смута. Один день – один год. М., 2015; Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской. М., 2015; Семь жизней. М., 2016; Все, что должно разрешиться… М., 2016; Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы. М., 2017; и др.
Проханов Александр Андреевич
Родился в 1938 году в Тбилиси, Грузинская ССР. Окончил Московский авиационный институт. Писатель, сценарист, публицист, журналист, общественный деятель. Лауреат премии «Национальный бестселлер» (2002). Живет в Москве.
Автор книг: Иду в путь мой. М., 1971; Желтеет трава. М., 1974; Кочующая роза. М., 1975; Время полдень. М., 1977; Место действия. М., 1979; Вечный город. М., 1981; Дерево в центре Кабула. М., 1982; В островах охотник… М., 1984; Африканист. М., 1984; И вот приходит ветер. М., 1985; Рисунки баталиста. М., 1989; 600 лет после битвы. М., 1988; Последний солдат империи. М., 1993; Ангел пролетел. М., 1994; Чеченский блюз. М., 1998; Красно-коричневый. М., 1999; Господин Гексоген. М., 2002; Крейсерова соната. М., 2003; Надпись. М., 2005; Политолог. Екатеринбург, 2005; Теплоход «Иосиф Бродский». Екатеринбург, 2006; Пятая империя. СПб., 2007; Свой-чужой. М., 2007; Виртуоз. М., 2009; Истребитель. СПб., 2010; Алюминиевое лицо. СПб., 2011; Поступь русской победы. М., 2012; Крым. М., 2014; Русский камень. М., 2017; Убить колибри. М., 2017; Гость. СПб., 2018; и др.
Рубанов Андрей Викторович
Родился в 1969 году в г. Электросталь Московской области. Учился в Московском государственном университете на факультете журналистики. Писатель. Живет в Москве.
Автор книг: Сажайте, и вырастет. СПб., 2005; Великая мечта. СПб., 2006; Жизнь удалась. М., 2008; Хлорофилия. М., 2009; Готовься к войне! М., 2009; Живая земля. М., 2010; Йод. М., 2010; Тоже Родина. СПб., 2011; Боги богов. М., 2011; Психодел. М., 2011; Стыдные подвиги. М., 2012; Патриот. М., 2017.
Садулаев Герман Умаралиевич
Родился в 1973 году в с. Шали Чеченской Республики. Окончил юридический факультет СПбГУ. Прозаик, публицист. Живет в Петербурге.
Автор книг: Я – чеченец! Екатеринбург, 2006; Радио Fuck. СПб., 2006; Пурга, или Миф о конце света. М., 2008; Таблетка. М., 2008; AD. М., 2009; Бич Божий. М., 2010; Марш, марш правой! СПб., 2011; Прыжок волка. М., 2012; Зеркало атмы. М., 2013; Иван Ауслендер. М., 2017; Жабы и гадюки. М., 2018.
Секацкий Александр Куприянович
Родился в 1958 году в Минске. Окончил ЛГУ и аспирантуру философского факультета ЛГУ, кандидат философских наук. Доцент кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ. Философ, писатель, публицист. Лауреат премии Андрея Белого (2008). Живет в Петербурге.
Автор книг: Моги и их могущества. СПб., 1996; Соблазн и воля. СПб., 1999; Онтология лжи. СПб., 2000; Три шага в сторону. СПб., 2000; Сила взрывной волны. СПб., 2005; Прикладная метафизика. СПб., 2005; Дезертиры с Острова Сокровищ. СПб., 2006; Два ларца, бирюзовый и нефритовый. СПб., 2008; Изыскания. СПб., 2009; Последний виток прогресса. СПб., 2012; Странствия постороннего. СПб., 2014; Размышления. СПб., 2014; Миссия пролетариата. СПб., 2015; Щит философа. СПб., 2016; Философия возможных миров. СПб., 2017; и др.
Сенчин Роман Валерьевич
Родился в 1971 году в г. Кызыл Тувинской АССР. Окончил Литературный институт им. Горького. Прозаик. Лауреат премии «Ясная Поляна» (2014), «Большая книга» (2015). Живет в Екатеринбурге.
Автор книг: Афинские ночи. М., 2000; Минус. М., 2002; Ничего страшного. М., 2007; Московские тени. М., 2009; Елтышевы. М., 2009; Лед под ногами. М., 2010; На черной лестнице. М., 2011; Информация. М., 2011; Не стать насекомым. М., 2011; Нубук. М., 2011; Тува. М., 2012; Наш последний эшелон. М., 2013; Теплый год ледникового периода. М., 2013; Московские тени. М., 2013; Чего вы хотите? М., 2013; В обратную сторону. М., 2014; Комплекс стандартов. Казань, 2015; Зона затопления. М., 2015; По пути в Лету. М., 2015; Напрямик. М., 2016; Конгревова ракета. М., 2017; Постоянное напряжение. М., 2017; Срыв. М., 2017; Рок умер – а мы живем. М., 2017; Все личное. М., 2018; Дождь в Париже. М., 2018; и др.
Слаповский Алексей Иванович
Родился в 1957 году в селе Чкаловское Саратовской области. Окончил Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. Прозаик, драматург, сценарист. Живет в Москве.
Автор книг: Искренний художник. Саратов, 1990; Я – не я. Саратов, 1994; Анкета. М., 1997; Книга для тех, кто не любит читать. М., 1999; Первое второе пришествие. М., 1999; День денег. М., 2000; Синдром феникса. М., 2007; Они. М., 2005; Пересуд. М., 2008; Пропавшие в стране страха. М., 2009; Пропавшие в Бермудии. М., 2009; Большая книга перемен. М., 2010; Общедоступный песенник. М., 2010; У нас убивают по вторникам. М., 2012; Вспять. Хроника перевернувшегося времени. М., 2013; Гений. М., 2016; Неизвестность. М., 2017; и др.
Александр Снегирёв
Родился в 1980 году в Москве. Учился на архитектора, политолога. Писатель. Лауреат премии «Русский Букер» (2015). Живет в Москве.
Автор книг: Как мы бомбили Америку. СПб., 2007; Нефтяная Венера. М., 2008; Тщеславие. М., 2010; Чувство вины. М., 2013; Вера. М., 2015; Как же ее звали? М., 2015; Я намерен хорошо провести этот вечер. М., 2016.
Степнова Марина Львовна
Родилась в 1971 году в г. Ефремове Тульской области. Окончила Литинститут и аспирантуру ИМЛИ. Прозаик, переводчик. Лауреат премии «Большая книга» (2012). Живет в Москве.
Автор книг: Хирург. М., 2005; Женщины Лазаря. М., 2011; Безбожный переулок. М., 2014; Где-то под Гросетто. М., 2016.
Тарковский Михаил Александрович
Родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Писатель, поэт. Лауреат премии «Ясная Поляна» (2010). Живет в поселке Бахта Туруханского района Красноярского края.
Автор книг: Стихотворения. М., 1991; За пять лет до счастья. М., 2001; Замороженное время. М., 2003; Тойота-креста. Новосибирск, 2009; Енисей, отпусти! Новосибирск, 2009; Полет совы. М., 2018.
Улицкая Людмила Евгеньевна
Родилась в 1943 году в г. Давлеканово Башкирской АССР. Окончила биологический факультет МГУ. Писатель, сценарист, общественный деятель. Лауреат премии «Русский Букер» (2001), «Большая книга» (2007, 2016). Живет в Москве.
Автор книг: Бедные родственники. М., 1993; Медея и ее дети. М., 1996; Веселые похороны. М., 1997; Казус Кукоцкого. М., 2001; Первые и последние. М., 2002; Девочки. М., 2002; Второе лицо. М., 2002; Искусство жить. М., 2003; Искренне ваш Шурик. М., 2003; Детство-49. М., 2003; Сквозная линия. М., 2004; Люди нашего царя. М., 2005; Даниэль Штайн, переводчик. М., 2006; Истории про зверей и людей. М., 2007; Русское варенье и другое. М., 2008; Зеленый шатер. М., 2011; Священный мусор. М., 2012; Детство 45–53. А завтра будет счастье. М., 2013; Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. М., 2014; Лестница Якова. М., 2015; Дар нерукотворный. М., 2016; Человек со связями. М., 2016; Три сказки. М., 2018; и др.
Макс Фрай
Псевдоним художника Светланы Мартынчик (иногда используется в качестве псевдонима для совместных литературных проектов художников Светланы Мартынчик и Игоря Степина). Родилась в 1965 году в Одессе. Училась на филологическом факультете Одесского государственного университета. Прозаик, беллетрист, публицист, художник, автор ряда литературных проектов. Живет в Вильнюсе.
Автор книг: Лабиринты Ехо. Цикл из 8 книг. СПб., 1996–2003; Хроники Ехо. Цикл из 8 книг. СПб., 2004–2013; Идеальный роман. СПб., 1999; Энциклопедия мифов. СПб., 2002; Жалобная книга. СПб., 2003; Сказки старого Вильнюса. СПб., 2012; Сновидения Ехо. Цикл из 7 книг. М., 2014–2018; и др.
Шаргунов Сергей Александрович
Родился в 1980 году в Москве. Выпускник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Прозаик, публицист, критик. Лауреат премии «Большая книга» (2017). Живет в Москве.
Автор книг: Малыш наказан. СПб., 2003; Ура! М., 2003; Как меня зовут? М., 2005; Битва за воздух свободы. М., 2007; Птичий грипп. М., 2007; Книга без фотографий. М., 2011; Катаев. М., 2016.
Юзефович Леонид Абрамович
Родился в 1947 году в Москве, детство и юность провел в Перми. Окончил Пермский университет. Историк, писатель. Лауреат премии «Большая книга» (2009, 2016), «Национальный бестселлер» (2001, 2016). Живет в Петербурге и Москве.
Автор книг: Самодержец пустыни. М., 1993; Триумф Венеры. Знак семи звезд. Пермь, 1994; Костюм Арлекина. М., 2001; Дом свиданий. М., 2001; Князь ветра. М., 2001; Песчаные всадники. М., 2001; Казароза. М., 2003; Журавли и Карлики. М., 2009; Путь посла. М., 2011; Зимняя дорога. М., 2015; и др.
Сноски
1
Думаю, что еще со времен рассказа В. М. Шукшина «Кляуза» – подробнее об этом в моей книге «Шукшин» (М.: Молодая гвардия, 2015).
(обратно)2
Именно так.
(обратно)3
Я стал главным редактором в 2011 году, а ушел с этой должности в самом начале 2016 года. К сожалению, через несколько месяцев после моего ухода журнал был закрыт.
(обратно)4
В библиографии авторов приводятся только первые издания произведений.
(обратно)
![Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе [Сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/629420/primary-large.jpg)
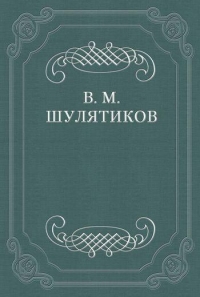
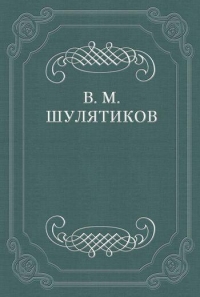


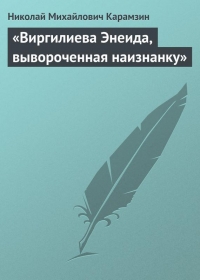
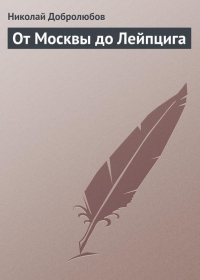
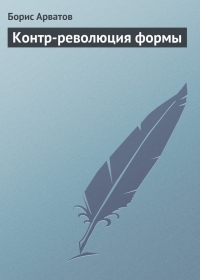

Комментарии к книге «Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе [Сборник]», Анатолий Николаевич Гаврилов
Всего 0 комментариев