Дмитрий Быков Салтыков-Щедрин
Лекция посвящена творчеству русского классика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, более всего пострадавшего от того, что в России был примерно семидесятилетний период марксистского литературоведения, которое совершенно замолчало или извратило этого, в сущности, глубоко религиозного писателя. Из него сделали памфлетиста, причем памфлетиста третьеразрядного, от всего его наследия более или менее актуальными и входящими в повседневный круг чтения остались только сказки. И в некоторой степени «Господа Головлевы». Может быть, самое эффектное, но далеко не самое удачное его произведение.
Салтыков-Щедрин, увидев, сколько народу пришло почтить его память, – спасибо большое вам за это, кстати, невзирая на погоду, вы сюда собрались, – увидев, как много народу его помнит, перечитывает и прилагает его сочинения к текущей политической реальности, думаю, был бы сильно удивлен. Он искренне полагал, что его сочинения не переживут тех пестрых, как он выражался, времен, как он сам обозначал восьмидесятые, и уж тем более не переживут девяностые, до которых он не дожил, но которые предвидел, эпоху так называемой пореформенной реакции.
Я полагаю, что если бы он представлял себе всю меру истинной актуальности своего наследия, то творчество его было бы куда более желчным и пугающе саркастическим. Хотя на самом деле, как мы сейчас поймем, ценен он нам не сарказмом. Сам он незадолго до смерти сказал одному из своих ближайших друзей – Алексею Унковскому: «Не то жаль, что умрешь, а то, что после смерти помнить будут одни анекдоты». Эти слова оказались пророческими, как и многое из того, что он говорил.
Из всей русской классики Салтыков-Щедрин был, вероятно, самым неприятным человеком. Пожалуй, в этом смысле он может конкурировать с Некрасовым, который тоже много настрадался от собственного ужасного характера, приступов черной ипохондрии, которые укладывали его лицом к диванной спинке на трое суток, от сложных отношений с женщинами и так далее. Но у Салтыкова-Щедрина не было даже тех развлечений, какие были у Некрасова. У Некрасова их было три: карточная игра, в которой он не знал себе равных, умел даже не только выигрывать, но и проигрывать нужным людям; охота, свидетельства которой легко можно обнаружить в знаменитой некрасовской квартире на Литейном, где всех начинающих авторов встречал огромный медведь, стоящий на задних лапах, чтобы они знали, куда попали, и это, пожалуй, правильно; в-третьих, разумеется, Некрасов не чуждался женской любви, как писал он одной из своих французских содержанок, «я – несчастный Сердечкин», он имел склонность по сердечному порыву достаточно многих людей к себе приближать, и хоровод этот и поныне, в отличие от донжуанского списка Пушкина, не выявлен, Некрасов был прекрасным конспиратором.
Салтыков-Щедрин никогда не охотился, ненавидел карты и называл их пустой тратой времени и был всю жизнь верен своей жене – единственной своей Лизе, из-за которой насмерть поссорился с матерью, и любил жену до такой степени, что совершенно не предполагал, что в семье могут быть еще и дети, это казалось ему каким-то странным отвлекающим моментом. По воспоминаниям того же Унковского, когда после пятнадцати лет брака Лизонька забеременела, он пришел в абсолютное неистовство, не понимая, как это бывает, как такое возможно, как героиня Мопассана, которая недоумевала, что с этого бывают дети. Вбежал к ближайшему приятелю, топнул ногой, крикнул: «Моя жена беременна!» – и выбежал в полном негодовании, не понимая, что происходит.
Человек, который, действительно, весь ушел в литературу, который, помимо литературы и некоторых попыток государственнической деятельности, не занимался ничем, его ничто не отвлекало. Фигура вырисовывается довольно трагическая. Особенно если вспомнить, что Некрасов в 1875 году, зная, что смертельно болен, его назвал своим единственным другом и завещал ему, по сути дела, всю русскую литературу, «Отечественные записки», которые после этого, правда, недолго просуществовали. Некрасов-то его одного видел преемником. Хотя после первой встречи с ним писал Тургеневу: «Видел Салтыкова – пренеприятный, пренеблаговоспитанный, грубый господин с трубным голосом, кажется, страшно самовлюбленный».
Представить себе самовлюбленного Салтыкова очень трудно, потому что это был человек, который, кажется, с одинаковой страстью ненавидел и все вокруг себя, и самого себя. Но не потому, что таков был его нрав, а потому, что он исходил из весьма строгих и чистых представлений об идеале. К сожалению, все вокруг этот идеал оскорбляло.
Как все дети властных матерей, он рос мальчиком необычайно нежным и сентиментальным, матушка его, Ольга Михайловна, очень напоминала Арину Головлеву, пожалуй, это наиболее точный ее портрет. Более точный даже, чем в «Пошехонской старине», где воспоминания несчастного Никанора, лирического alter ego Салтыкова-Щедрина, уже сильно смягчены старостью. Когда читаешь «Пошехонскую старину», видишь, как воспоминания старика о крепостном праве и о крепостных зверствах подергиваются легким флером ностальгии, примерно так, как мы с вами вспоминаем год какой-нибудь 1977-й. Умом мы понимаем, что ничего хорошего не было, но сердцем накрепко к этому прикипели.
А вот в «Господах Головлевых» содержится довольно подробный портрет Ольги Михайловны, и мы можем себе представить, что это было такое. Это была женщина, удивительным образом сочетавшая ум, феноменальную память, силу, бесстрашие и совершенную безжалостность. Единственный человек, который вызывал у нее некоторое подобие христианских чувств, помимо, может быть, другого сына – Дмитрия, который проявлял некоторые склонности к хозяйствованию, единственной ее отдушиной был, конечно, Миша. О муже я и не говорю, поскольку мужа вообще в доме никто всерьез не принимал, он все больше молился, и его mania religiosa, видимо, как-то передалась маленькому Михаилу Евграфовичу.
Более того, в замечательной книжке Константина Тюнькина 1989 года впервые опубликованы были дневники и письма отца, который называет жену не иначе, как Ольгой Михайловной, по имени-отчеству, подробно протоколирует все, что она делает, и всегда он с умилением и удивлением отмечает, что Ольга Михайловна приблизила Мишу. Вот это странно, потому что этой женщины боялись панически, она была при всем своем уме и при всех талантах до некоторой степени Салтычиха, но она чувствовала к нему род удивительной жалости, удивительного сострадания – мальчик рос очень нежным. Представить себе, что когда-то этого господина будут называть грубым, представить, что от матюгов Салтыкова будут шарахаться в «Современнике», где все были, в общем, не шибко вежливые люди, чего уж там говорить, и не шибко аристократического происхождения; представить себе, что его будут называть самым грубым, крикливым, неприятным из русских литераторов, было совершенно невозможно. Потому что когда он, шести лет, впервые сам начал читать и прочел Евангелие, он вспоминал об этом позднее как о времени неслыханного восторга, выразившегося, как он пишет, в жалении всего и вся.
Салтыков-Щедрин, наверное, самый сентиментальный из всей великой русской классической плеяды. Представить себе, что человек, написавший циничнейшие русские памфлеты, безнадежнейшие русские сатиры, так мучительно рыдал от жалости ко всем, кстати, и в зрелые годы тоже, очень сложно. Но если вспомнить «Пропала совесть», если вспомнить «Рождественскую сказку», странную сказку о том, как мальчик умирает после проповеди о Правде, потому что сердце его переполнено восторгом и он не может этого вместить, – мы поймем и этого, другого Щедрина. Мы увидим в нем самое главное, что в нем было – его религиозные чувства.
Салтыков-Щедрин не был славянофилом и не был западником, и, строго говоря, его отрицание русской действительности базируется не на западнических и не на либеральных, и не на каких-либо других прозаических началах, оно стоит на глубочайшем религиозном отвращении к мирскому, на глубочайшем, страстно воспринятом идеализме, причем не немецкого, ненавистного ему, а французского толка.
Он и в детстве начинал со стихов, и вообразить Салтыкова-Щедрина, пишущего стихи – ну, проще представить танцующего Толстого. Хотя на балах в свое время Толстой этим занимался довольно интенсивно, но как-то это не очень вяжется с толстовской сохой. Точно так же совершенно невозможно было представить Некрасова, певца горя народного, того Некрасова, которого нам навязывали, Некрасова, который отечески беседует с крестьянами, представить себе этого Некрасова, который говорит: «Мы тут новичка освежаем (купец приехал, и его ощипывают; освежать – значило обыграть, разуть), так он сбежал от нас и другим еще десять тысяч, гадина, проиграл!»
Но еще сложнее представить себе Салтыкова-Щедрина, воспитанника Царскосельского лицея, который искренне готовит себя к пушкинской поэтической карьере. Надо сказать, что он был человек очень привязчивый и в Лицей ехать страшно не хотел, первые два года он учился в Московском пансионе, все было замечательно, но учился слишком хорошо и в две открывшиеся вакансии попал вместе со своим приятелем – его перевели в Царскосельский Лицей, и там он сочинял элегии и оды, частично опубликованные, вошедшие в его собрания, не такие плохие, но бесконечно унылые, страшно меланхолические.
Допустим, вот Куприн – мы всё понимаем про Куприна, мы понимаем, действительно, что это был с натурой борца маленький, круглый, с татарскими глазками писатель невероятной медвежьей силы, прославленный такими эскападами и шуточками, которые Пьеру Безухову показались бы цинизмом. Человек, от которого стонал литературный Петербург. Человек, который никогда ничего не прощал. И тем не менее этот Куприн пишет: «Розовая девушка с кораллами на шейке // Поливает бережно клумбу резеды…», а ничего не поделаешь, нежная, сострадательная душа, и она чувствуется в лучших его вещах.
Точно так же в Салтыкове-Щедрине всегда сидел этот оскорбленный, отторгнутый от дома несчастный ребенок, который страдает в холодном Петербурге, и в Царскосельском Лицее, вообразив себя поэтом (а он очень гордился тем, что он – тринадцатый выпуск того самого пушкинского Лицея), он пишет стихи о русских равнинах, покрытых снегом, о песнях колокольчика, о любви ямщика, и все это дышит невероятным идеализмом, невероятной нежностью ко всем этим пространствам.
После выпуска он сразу же получил место в военном министерстве, ненавидел эту работу, она никогда не могла представиться ему исполненной смысла, он никак не мог понять, зачем он должен это делать. Потому что, действительно, как он писал: в год написать двести прошений от незначащих людей незначащим людям не значит – состоять на государственной службе. Тем не менее государственная служба состояла в этом.
Он страстно увлекся в это время Фурье, ему казалось, что именно французские социалисты лучше объясняют мир. Потому что в германских нет любви к миру, а во Франции как-то оно плодороднее, говаривал он. Был он близок и с Петрашевским. Слава богу, не слишком близок.
И в 1848 году, когда в России неожиданно настал этот чудовищный, бессмысленный, идиотский заморозок, который ничего уже не изменил, а только все испортил, Салтыков-Щедрин оказался одной из первых его жертв. Разумеется, ему повезло не так, как Достоевскому, Достоевский, как вы знаете, был приговорен к расстрелу, замененному четырьмя годами каторги, пережил чудовищную инсценировку этого расстрела, всю жизнь не мог забыть вот этих пяти минут перед казнью, которые он успел распланировать: минуту – на мысли о прошлом, минуту – на мысли о будущем, минуту – на мысли о Боге…
Всего этого Салтыков-Щедрин был лишен, потому что ничего такого не сделал. Он не был в Петрашевском кружке. Он всего-то и напечатал две повести в «Отечественных записках». Первая называлась «Противоречия», это обычная повесть в письмах о любви кроткой девочки Тани к ищущему персонажу Нагибину, который правды добивается и не может ее найти. И главное противоречие там сформулировано очень точно: люди-то все кругом хорошие – почему же жизнь такая чудовищная?!
И вторая замечательная вещь, в которой уже чувствуется Щедрин, называется «Запутанное дело» и по фабуле своей предвосхищает сказку о мальчике, который умер от разрыва сердца. Главный герой Мичулин очень болезненно и остро воспринимает то, что где-то врут, то, что значительное лицо, очень точно, кстати, списанное с гоголевского «значительного лица» из «Шинели», орет на просителей, то, что в нищете прозябают прекрасные люди, а отвратительные люди чувствуют себя значительно лучше. Все эти противоречия всеми воспринимаются как норма. А Мичулин был человек настолько трогательный и чистый, что даже когда отец ему говорил: «Будь со всеми ласков, ласковое теля двух маток сосет» – он, разрыдавшись, убегал, потому что это было ему невыносимо. И вот он взял да и помер, в этом, собственно, и заключается все запутанное дело. Более того, доктор, стоя над ним, в ответ на вопрос робкого Мичулина: «Что, доктор, значит помирать надо?» – спокойно отвечает: «Непременно умрете, часа через два-три». И вид у этого доктора такой, как будто его отвлекли от какого-то жизненно важного дела, хотя его жизненным делом как раз и является лечить больного. Все очень точно, как видим.
Напечатано это было в тех самых «Отечественных записках», которые впоследствии, тридцать лет спустя достались Щедрину как редактору. Ничего крамольного это сочинение в себе не содержало. Но в 1848 году, испугавшись французской заразы, Николай Павлович, который перед этим уже двадцать три года подмораживал Россию, решил заморозить ее окончательно. Прекратилась и та несчастная, робкая литературная и политическая жизнь, которая была. Да тут же умер еще и Белинский. И наступил черный, абсолютно беспросветный этап, который уж нам-то с вами хорошо понятен, потому что дело было даже не в репрессиях, дело было в абсолютной безнадежности всего.
Надо сказать, что Салтыков-Щедрин, злобный, язвительный, мало кого ненавидел в русской истории и литературе, но Николая I он ненавидел тяжелой, какой-то гнойной ненавистью. И было за что. Некрасов замечательно об этом писал:
Помню я Петрашевского дело, Нас оно поразило, как гром, Даже старцы ходили несмело, Говорили негромко о нем. Молодежь оно сильно пугнуло, Поседели иные с тех пор, И декабрьским террором пахнуло На людей, переживших террор.Террор выразился, в частности, в том, что Салтыкова-Щедрина, который всего-то написал две повести обличительного направления, выслали в Вятку, и не преуспевающим чиновником военного ведомства, а несчастным письмоводителем, составителем годовых отчетов. Ему приходилось обрабатывать, перерабатывать, перелопачивать десятки и сотни никому не нужных справок. Вятское хозяйство нашел он в полном запустении. И нужно было отправлять все это в Петербург на отчет и после этого еще выезжать с инспекцией в окрестности Вятки. Большую часть года, примерно восемь месяцев из двенадцати проводил он в этих бессмысленных и бесконечных разъездах. Кто бывал в Вятке, в Кирове, понимает, что этот город, мало изменившийся, представляет собою. Мне не хотелось бы его обижать, все-таки как-никак Евгений Шварц родом оттуда, да и Заболоцкий из Уржума неподалеку, как раз из того самого Уржума, который особенно лютой ненавистью ненавидел Салтыков-Щедрин за отвратительную дорогу, туда ведущую, дорогу, в которой обязательно уж какая-нибудь ось ломалась.
Все мы знаем, что главная проблема Никиты Белых – нынешнего вятского губернатора, заключается в вятских дорогах. Они очень точно совпадают с описаниями Салтыкова тех времен. Город стоит на холмах. Знаменитый собор тоже на холме. Подъезд к нему чрезвычайно затруднен. Город весь изрыт. Он весь пересечен какими-то огромными, неясного происхождения оврагами, почему в «Губернских очерках» и назван Крутоярском.
В этих ярах и предстояло Салтыкову долгих семь лет ползать. Самое удивительное, что ссылка его в Вятку, в чем заключается, наверное, главная и страшная ирония со стороны Николая Павловича, была бессрочной. Ведь он не сидел, ведь его не репрессировали, ведь ему можно было заниматься литературой – его просто туда выслали, и все его ежегодно подаваемые жалобы, все его несчастные и униженные мольбы о том, чтобы ему разрешили пусть не Петербург, пусть не Москву, но хотя бы что-нибудь поближе, – все это безусловно и немедленно заворачивалось. Вот здесь бюрократическая машина срабатывала очень быстро. Он мгновенно получал отрицательный ответ.
Семь лет продолжалась эта пытка. Семь лет с его двадцати двух до двадцати девяти провел он в уездных, губернских, русских местах. Насмотрелся на них. Прекрасно понимал всю меру идиотизма этой жизни. И надо сказать, что изобретенный им протагонист Щедрин, под каковым псевдонимом он всю жизнь с тех пор и писал, поняв, что под псевдонимом оно надежнее, этот самый персонаж из «Губернских очерков», занимается в книге главным образом одним – он ездит и плачет. То есть он плачет, разумеется, не буквально. Он ноет. Сохранились письма матушки, которая пишет: «Мишенька стал что-то не по-хорошему брюзглив». Если бы она представила себе ту реальность, в которой Мишенька находился, думаю, она бы простила его брюзжание.
И только в 1855-м, когда Николай Павлович освободил наконец от себя замороженную им страну: то ли отравился в результате Крымской войны, то ли простудился – но, в общем тогда, когда, как пишет Окуджава в «Путешествии дилетантов», пришел его черед сказать «Господи Боже мой» и когда он наконец приказал долго жить, к огромному облегчению мыслящей России, для Салтыкова-Щедрина забрезжил некоторый свет, забрезжила надежда. Очень скоро было пущено словцо «оттепель», которое придумал не Эренбург, а Федор Иванович Тютчев, и не в 1953-м году, а в 1855-м.
Случилась оттепель. Как видите, столетний цикл никуда не девается. И Салтыков-Щедрин был немедленно прощен и возвращен в литературу, и поощрен к литературным занятиям – и «Губернские очерки» немедленно были напечатаны. По правде сказать, это далеко не лучшие его сочинения. Как скучно было жить, пока он их писал, как скучно было их писать, так скучно и их читать. Для того чтобы понять вкус моря, выпивать его необязательно. Достаточно одного рассказа – любого – для того, чтобы понять, какова была тогдашняя губернская жизнь.
Вскоре после этого Салтыков-Щедрин задумывает главное свое произведение. Собственно, относительно главного произведения расходятся мнения. Кто-то, безусловно, назовет «Головлевых», кто-то – «Современную идиллию», которую многие, в том числе Ленин, считали лучшей панорамой русской жизни – всей, от деловой до светской, от крестьянской до чиновной. Но мы склонны думать, во всяком случае, я и большинство моих друзей-единомышленников, что все-таки его основное произведение – это «История одного города», книга очень странного жанра.
Получилось с ней вот как. Салтыков-Щедрин в 1857 году, познакомившись с Некрасовым и сильно не понравившись ему, тем не менее привлек его сердце тем, что вовремя сдавал обозрение, это для «Современника» была большая редкость. Как человек, проработавший некоторое время ответственным секретарем, могу вам сказать, что это и посейчас явление весьма экзотическое – человек, вовремя сдающий текст. В результате Салтыков-Щедрин был приглашен в «Современник» писать ежемесячные обозрения под названием «Наша современная жизнь». Он их писал вполне успешно. Ему надоела очень быстро наша современная жизнь. И он решил писать ее в некоем метафорическом виде.
Он выдумал город Глупов, стоящий на берегах реки Глуповицы, и принялся в пародийной форме изображать сначала Глупов дореформенный, а потом, после 1861 года, Глупов пореформенный. Эта метафора ему настолько понравилась, что постепенно, отвлекшись от основных своих занятий журнальных, он в течение полугода написал замечательный вот этот текст – «История одного города». Текст, который не имеет жанрового обозначения.
В замечательной работе киевского филолога Миши Назаренко «Мифопоэтика М. Е. Салтыкова-Щедрина» делается попытка рассмотреть это как эпос, как минипею такую, в бахтинской терминологии, ну, если угодно, как пародийный, сатирический эпос, восходящий, конечно, к фольклору, и в основе своей не такой уж юмористический, скорее серьезный, скорее гротескный.
Я рискнул бы сказать, что «История одного города» – это такая русская «Илиада» и «Одиссея» в одном флаконе, поскольку нацию вообще делают две эпических поэмы: поэма о войне и поэма о странствиях. И вот они у Щедрина сошлись в этом тексте. Удивительно вот что: как мы знаем, Дон Кихот Ламанчский, например, задумывался как пародийный герой. Великая книга получилась случайно. «Гаргантюа и Пантагрюэль» задумывалась как сатира. Я не говорю уже о том, что «Легенда об Уленшпигеле» задумывалась как веселое продолжение народных очерков, народных сказок об этом странном, вполне реальном персонаже. Я уже молчу о том, что и Гашек писал своего «Швейка» в полной убежденности, что он пишет роман-фельетон. Вообще, чем серьезней твои намерения, тем хуже у тебя, как правило, получается. Единственное исключение, наверное, составляет Лев Толстой, который захотел написать русскую «Илиаду» и написал ее. Бывают такие счастливые люди, у которых все получается.
В принципе же, для того, чтобы получилось что-то великое, нужно, по всей вероятности, писать с заведомо несерьезными намерениями. Салтыков-Щедрин полагал, что он пишет пародию на «Историю государства Российского». Вышел у него великий трагический эпос о русской судьбе, который приложим решительно ко всему, что здесь происходит.
Более того, если мы внимательно прочтем «Сто лет одиночества» Маркеса, мы увидим, что Маркес в свое время внимательно читал Щедрина. «Сто лет одиночества» являют собою не что иное, как латиноамериканский парафраз всей щедринской эпопеи о городе Глупове. Замените Глупов на Макондо, и вы увидите то же самое: во-первых, на что совершенно справедливо указывает Назаренко, появляется зависимость летописи от истории и истории от летописи. История прекращается тогда, когда дописана или, в случае Маркеса, расшифрована летопись. «История прекратила течение свое». Вспомните этот гениальный финал и сравните его «ибо тем родам, которые обречены на сто лет одиночества, не суждено появиться на земле дважды». Мы увидим все те же события: пожар, эпидемию, смену властей, восстание, попытки самоуправления, и все это изложено у Щедрина задолго до Маркеса тем же маркесовским слогом, подчеркнуто нейтральным, часто ироническим, подчеркивающим катастрофический масштаб всего происходящего.
Есть огромный разрыв между первой главой «Истории одного города», абсолютно иронической, издевательской, содержащей великолепный перечень градоначальников, и его страшным финалом, тем катастрофическим, эсхатологическим ужасом, который веет над этой последней фразой Угрюм-Бурчеева: «Оно пришло!» Что «ОНО» – не расшифровывается. История прекратила течение свое. Пришла на Россию последняя гибель.
А начинается все очень невинно, начинается с прелестного перечня градоначальников. Один из которых, например, личными усилиями увеличил население Глупова почти вдвое, оставил полезное по сему предмету руководство, умер от истощения сил, или другого, который оказался с фаршированной головой, или третьего, который по рассмотрении оказался девицею.
Когда мы сегодня перечитываем биографию Грустилова или Угрюм-Бурчеева, или Брудастого, «Органчинка», который знал две фразы «разорю» и «не потреплю», а впоследствии, сломавшись, мог говорить уже только «пплю», мы обнаруживаем поразительную вещь – Салтыков-Щедрин в этой книге изложил всю абсолютно типологию русской власти. Здесь не может появиться президент или царь, или премьер, который бы не вписывался в эту парадигму. Как Менеделеев одновременно с этим создал свою периодическую таблицу, так Щедрин начертил периодическую таблицу всех русских политических элементов, всех элементов русской жизни. Почему так получилось – вопрос отдельный.
Как раз недавно мне пришлось в связи с горящими торфяниками вспомнить сцену пожара из «Истории одного города». Пожалуй, эта сцена переломная в романе – будем называть это романом вслед за многими исследователями. Переломная, потому что здесь кончается весь юмор. Тот самый юмор, который так взбесил Писарева. Писарев был, как известно, очень плохой критик, хотя очень эффектный стилист. Он просто ничего не понял в книге и написал о ней идиотскую статью «Цветы невинного юмора», полагая, что Щедрин просто зубоскалит.
Но это же метафизическое, религиозное произведение. И на это зубов Писарева не хватило, он на этом обломался, потому что всякой метафизики был лишен от рождения.
Так вот здесь как раз замечательный перелом в сцене пожара. Все было весело. И вдруг, как пишет Щедрин, «человек стоит перед картиной своего рухнувшего мира». Ясно, что прошлое прошло. Почему произошел пожар? Потому что никто не предпринимал никаких мер к его предотвращению. Довели до того, что время закончилось само.
И вот в этом абсолютно точная формула всех русских реформ. Они пришли не тогда, когда они назрели, а тогда, когда так уже больше нельзя. И происходят не потому, что кто-то их запланировал, кто-то их грамотно провел, а просто потому, что рухнул дом, в котором жили. Вот это поразительное предвидение. Оно, конечно, составляет стержень «Истории одного города». «История одного города», вообще говоря, очень эсхатологическое произведение. Ведь глуповцы с самого начала живут в предчувствии того, что на них эта последняя гибель прилетит. И она неизбежно на них прилетает, потому что они делают для этого все возможное с самого начала. И потом таинственным образом возрождаются. Потому что ничего другого здесь на этом месте произойти не может.
Окончательный конец истории, – я думаю, что эта антиутопия еще не сбылась над нами, – происходит только после Угрюм-Бурчеева. Почему же? Потому что Угрюм-Бурчеев – это первый глуповский градоначальник, в котором не остается ничего человеческого. Он лишен главного – в нем начисто отсутствует сострадание. Угрюм-Бурчеев – прохвост, палач. Угрюм-Бурчеев с его маленькими светлыми стальными глазками, Угрюм-Бурчеев, в котором нет никаких абсолютно человеческих чувств – ни милосердия, ни умиления, ни сострадания. Прежние градоначальники были идиоты, но в них было хоть что-то, даже Органчик мог сломаться, а Угрюм-Бурчеев сломаться не может, потому что его любимое занятие – это маршировать во дворе, самому себе подавать команды и самого себя пороть шпицрутенами.
Конечно, в нем угадывается Николай Павлович, угадывается в нем и Аракчеев, угадываются в нем и все бывшие и будущие лидеры России, которые пытаются вести страну по так называемому мобилизационному сценарию. Мобилизационный сценарий выражается в том, что все глуповцы проходят через один и тот же работный дом, получают там один и тот же кусок хлеба с солью, а семейные пары, по мнению Угрюм-Бурчеева, подбирать стоит не по любви, а по физическому сходству, по росту и комплекции. И ночью дух Угрюм-Бурчеева витает над этим страшным городом, следя, чтобы не было противоправительственных снов. Вот это гораздо страшнее, чем проект «О введении единомыслия в России», привидевшийся в то же время Козьме Пруткову.
Это эсхатологическая фигура, фигура космического масштаба. И когда Щедрин писал «Историю одного города», он сам по-настоящему изумился тому, что из невинной шутки у него получилось мрачноватое пророчество.
Тут надо сделать лирическое отступление о том, что все это время литература была не главным его занятием. Представьте себе, этот человек абсолютно искренне купился на то, что в России возможны великие преобразования. И пока правая его рука писала «Историю одного города», левая совершенно искренне пыталась управлять государством. Поскольку он пострадал при прежнем режиме, ему в порядке компенсации предложена была та же чиновничья работа, но в гораздо более приличных местах: вице-губернатор Тверской губернии. И он начал там преобразования.
А когда друзья его, такие, как тот же Некрасов, например, скептически покачали головами, он написал очерк «Каплуны», который настолько отвратил, скажем, Чернышевского, что не был даже напечатан. 1862 год, представьте себе, вот этот очерк «Каплуны» читать – одно удовольствие. Конечно, советское литературоведение вынуждено было с этим что-то делать. Потому что это было напечатано, это пришлось включить уже, посмертно, разумеется, в «Литнаследство», и в 4-й том двадцатитомника – что-то надо было делать с этим текстом.
Но текст этот на самом деле заключает в себе довольно смешные, довольно странные иллюзии, поэтому все советские литературоведы писали: «Ну, это написано о прекраснодушных либералах-интеллигентах… О мечтателях, о тех, кто надеялся на какие-то преобразования…» Нет, ничего подобного.
Это написано об интеллигенции. Каплуны – это интеллигенция. Каплуны бывают двух родов: каплуны довольные и каплуны угрюмые. Довольные каплуны считают, что весь мир создан для того, чтобы они загаживали птичник, и считают, что все у них замечательно, – это средний класс, офисные клерки, офисный планктон, на современном языке. А есть каплуны недовольные, угрюмые – это несогласные. Всех каплунов объединяет одно: они много ругаются и ничего не делают.
Был в творчестве Щедрина этот период, несчастный период, примерно семилетний, с 1957 по 1864 год, – у него все шло семеркой, – когда он был искренне убежден, что надо что-нибудь делать, надо делать дело. Удивительно: некоторая часть русских литераторов, не только литераторов, но и теоретиков, идеологов, экономистов, кого хотите, была искренне убеждена, что надо заниматься именно в пореформенной России хозяйством, потому что, как издевательски писал сам Щедрин пять лет спустя, как только мужик будет освобожден, хозяйство процветет. Но ничего подобного не происходило.
Во-первых, огромное количество мужиков, как мы помним по «Вишневому саду», воспринимало волю как трагедию. Во-вторых, ничего не процвело, потому что начались такие обманы, такие чудовищные сделки с собственной совестью и с господами, начались такие странные взаимно-презрительные отношения в этой пореформенной России, где «все переворотилось и только укладывается», что Салтыков-Щедрин, купив имение в Витенево, разорился в считанные месяцы. Хотя он искренне полагал, что должен показать всему миру пример свободного хозяйствования.
В это же самое время ровно теми же идеями одержим Фет, который тоже был большим прогрессистом и который тоже начал с того, что всем даровал свободу и начал пытаться выстроить с крестьянами свободные экономические отношения. Крестьяне его обворовали очень быстро. После чего Фет и превратился в того жестокого крепостника, которым его запомнило то же самое советское литературоведение. Он был процветающим помещиком. И Льва Толстого еще ругал за либерализм. Но это был уже Фет второй половины 70-х. До того это был искреннейший либерал, абсолютно уверенный, что с мужиками надо договариваться по-человечески. Он не понимал, с каким развращенным, с каким забитым народом он имеет дело. И не понимал того, что свобода, буде она будет дана, будет прежде всего использована всеми для обмана всех. Понимал это один Некрасов, написавший «Либералов и триумфатров».
И вот это последнее разочарование Щедрина было по-настоящему страшным. Потому что только здесь, поняв наконец, что он говорит с народом на принципиально разных языках и никогда не договорится, вот здесь он стал тем желчным Щедриным, которого мы помним по «Сказкам». Разумеется, этот один мужик может прокормить двух генералов, как в этой лучшей сказке и говорится, но мысль о том, чтобы обустроить собственную жизнь, этому мужику не придет в голову никогда.
Вот здесь я должен, пожалуй, покаяться. Как известно, незнание предшественника не освобождает от ответственности. Когда я писал «ЖД», я думал, что теория о захваченной стране выдумана мною. Но оказалось – не мною. Следовало бы внимательно прочесть переписку Щедрина со славянофилами. Как ни странно, первым эту идею высказал замечательный славянофил Павлов. Он писал Щедрину: «Вот написали бы вы книжку о том, что у нас страна захваченная и что все эти чиновники, которые на нас пришли, все 14 классов – это не свои, это оккупанты. И ведут они себя здесь как оккупанты. И страна наша, по сути, никогда, с Петровских времен, не жила по своему закону. Это Петр оккупировал Россию, чтобы заставить ее жить и развиваться на западный образец». Насчет западного образца можно спорить, насчет того, что оккупировал Петр, можно спорить тем более. Потому что при Иване Грозном все это уже было. Но нельзя не признать одного: Россия – захваченная страна. И вот об этой захваченной стране Щедрин пишет в последующих своих текстах.
И в «Современной идиллии», и в «Благонамеренных речах», и в «Господах Молчалиных» проходит самая страшная мысль – вот эта жизнь в захваченном государстве, а термин «варяги» появляется уже у него, как ни странно, эта жизнь ужасна не только тем, что она развращает захватчиков, она ужасна тем, что она развращает захваченных. И в книге «За рубежом», вероятно, самой горькой из того, что Щедрин написал, появляется чудовищный диалог, вечно вызывающий гомерический хохот, – «Мальчик в штанах и мальчик без штанов».
Так вот этот разговор немца, мальчика в штанах, с русским мальчиком без штанов, который на протяжении всего разговора не выходит из лужи, – это знак страшного разочарования в обеих мировых системах. Разочарования, конечно, религиозного. Запад далеко отошел от Бога, а русские и не знали его никогда. Вот это тот ужас, который позднего Щедрина переполняет.
О том, чем он болел, кстати говоря, в русской историографии нет сколь-нибудь конкретного ответа. Дело в том, что Щедрин жаловался на болезни начиная с пятилетнего возраста. Так он сильно, видимо, нравственно страдал. Но, как ни странно, он действительно был болен. Просто, как большинство людей, живущих духом, живущих мозгом, он, по всей видимости, сильнее зависел от умственной своей жизни, чем обычные наши сограждане. Он воспринимал свою душевную боль как физическую. Это можно сказать и о Блоке. Как ни странно, это можно сказать и о Ленине. Вот о Толстом нельзя. Потому что толстовская жизнь, скорее, наоборот, была всегда невероятно физиологична. И поэтому Софья Андреевна Толстая с горечью жаловалась в дневнике: «Левочка совсем не верит, что может быть тоска. Он полагает, что это всегда от желудка». И действительно, он на личном опыте, должно быть, это знал. Вот человек, вся жизнь которого, особенно умственная, была детерминирована жизнью телесной. И совершенно правильно говорил Чехов о том, что «Крейцерова соната» с ее проповедью безбрачия продиктована исключительно старческой невозможностью долее размножаться – ничего другого за этим нет.
Но вот если Толстой был физиологичен, то Щедрин был в телесной своей жизни невероятно духовен. Его постоянная боль за Россию была именно физической, все помнят единственные сохранившиеся поздние фотографии, эти страшные белые глаза на узком лице, жуткие, выкаченные, как будто его распирает изнутри отчаяние, пронзительный этот взгляд, от которого не спрячешься, взгляд, тем же Куприным описанный в рассказе про учителя гимназии, к которому мы вернемся в финале. Так вот, все эти хвори, которые его так страшно разрывали на части, заставляли его беспрерывно обращаться к лекарям. И один из его друзей, врач, кажется, Белоголовцев, хотя сейчас не уверен, записал: «Пожалуй, он, действительно, болен. У него нет ни одного здорового органа. Но чем он болен – сказать решительно невозможно. Есть эмфизема от долгого курения и порок сердца врожденный. И, собственно, все».
Но Салтыков-Щедрин ведь жаловался на совершенно другое, он жаловался, что каждое движение причиняет ему боль. Жаловался на припадки ипохондрии. И на разлад в семье. На клевету литераторов, которые никак не желали достаточно глубоко его прочесть и понять. И это верно. Потому что понимали его, как правило, чрезвычайно примитивно. А аллегории его, весьма сложные и глубокие, всегда встречали категорический отпор. Всем казалось, что это слишком зашифровано и недостаточно храбро.
А ведь давайте зададимся простым вопросом: зачем, в сущности, было так глубоко шифровать? Ведь читатель все знает, о чем написано. И писатель все знает. И все они перемигиваются. Зачем нужна эзопова речь? Чтобы рассказать правду? Но эту правду все знают. Чтобы показать свою смелость? Но это жалкое желание не стоит таких усилий.
Салтыков-Щедрин не зашифровывал. Салтыков-Щедрин обобщал, пытаясь доискаться до корня, до матрицы той истории, которую мы в результате получили. Это не попытка шифровки. Это попытка максимальной типизации. Максимального обобщения. И нужно сказать, что большинство его обобщений работают до сих пор.
А шифров-то особых там и нет. Все очень понятно. Как, например, в диалоге «Торжествующая свинья, или разговор свиньи с правдою». Свинья, которая находится в хлеву, и шкура ее лоснится от хлевной жидкости, устраивает правде допрос.
Свинья (кобенится): Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит? Правда: Правда, свинья.
Свинья: Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?
Правда: Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного! Свинья: Ой ли? (Авторитетно.) А по-моему, так все эти солнцы – одно лжеучение… ась?
Правда безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотья. В публике раздаются голоса: правда твоя, свинья! лжеучения! лжеучения!
Свинья (продолжает кобениться): Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?
Правда: Правда, свинья.
Свинья: А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу – и горюшка мало! Что мне! Хочу – рылом в корыто уткнусь, хочу – в навозе кувыркаюсь… какой еще свободы нужно!
И кончается этот разговор так:
Свинья. Нечего мне «свиньей» – то в рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я – Свинья, а ты – Правда… (Хрюканье свиньи звучит иронией.) А ну-тко, свинья, погложи-ка правду! (Начинает чавкать. К публике.) Любо, что ли, молодцы?
Правда корчится от боли. Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!
Что это за аллегория? Речь, конечно, идет уже не о царизме. Да и плевать уже было тогда Щедрину на царизм. Свинья, корень зла в которой он так успешно обнаружил, – это те самые 90 % населения, у которых нет возможности поднять голову, нет возможности взглянуть в небо и увидеть солнышко. Это не мещанин, это не обыватель даже. Это – норма. Это мы, если угодно. Это все, кроме тех, у кого хватает еще кое-какой силы робко прошептать: «Корень зла в тебе, свинья». Это страшная аллегория, исполненная самоненависти, а вовсе не упреков окружающим.
И эта-то самоненависть его и сожрала. К 63-м годам, в момент работы над последним и, может быть, главным его сочинением, которое называлось «Забытые слова». Сам он объяснял замысел этот очень просто. Сейчас много слов, которые никто уже и не помнит. Никто не помнит, что такое «совесть». Никто не помнит, что такое «жертва». И уж вовсе никто не помнит Бога.
И это была попытка хоть как-то напомнить слова, а потом, как знать, и мысли, А потом, как знать, и поступки. За этой работой как раз смерть его и застала. Но умер он не от одной из бесчисленных своих хворей, не от артрита, который, как он писал, его слишком мучил, и не от порока сердца, умер он от апоплексического удара, от инсульта, и, к счастью, без мучений. Единственное, в чем ему повезло. Удар случился накануне. После этого сутки он прожил без сознания. И умер.
Самое удивительное здесь то, что современники почти этой смерти не заметили. 1889 год. Время, когда казалось, что все замерло. Что никогда не будет иначе. Когда писал сам Салтыков-Щедрин: «Время стало пестрое». Пестрое, потому что в нем не осталось никакой единой краски. Все раздробилось. Каждый против каждого. А на самом деле, как писал он тогда же, «все – одно». И что такое это «одно», мы понимаем.
Пожалуй, только Куприн в «Исполинах» воскресил его и понял. Там, собственно, история, когда пьяный учитель гимназии расставляет перед собой портреты Пушкина, Гоголя, Некрасова и начинает им всем выставлять оценки. А учитель гимназии это как раз фигура из «Губернских очерков» самого Салтыкова-Щедрина, и все будущие гимназические безумцы, и будущий Передонов Сологуба – все уже в «Губернских очерках» представлены. Так вот, потом у Куприна учитель вдруг замечает чей-то направленный на него из-за угла пронзительный страшный взгляд. И ему чудится, что уста на одном портрете разомкнулись и произнесли такое слово, которого он не мог бы себе вообразить в устах ни одного из русских классиков. И после этого утром, проснувшись в ужасе, он берет портрет Салтыкова-Щедрина и уносит его в самый укромный уголок квартиры. Потому что ему под этим взглядом страшно.
И вот мне думается, что каким бы жестоким, каким бы экспансивным и импульсивным, каким бы зачастую несправедливым к себе и к нам ни был Салтыков-Щедрин, то, что под его взглядом страшно, – это хорошо. Потому что есть у нас основания для больной совести или нет, а все-таки иметь больную совесть лучше, чем иметь спокойную. Каковы бы ни были иллюзии этого человека, каковы бы ни были его перехлесты, каковы бы ни были его желчные временами обобщения относительно братьев-литераторов, он нам завещал главное – ему было от всего невыносимо. И это настолько лучше, чем лоснящаяся свинья, что, пожалуй, стоит иногда перечитывать этот довольно тяжелый, довольно печальный и, в общем, великий массив из двадцати коричневых томов.
Вопросы
Вы в школе когда преподаете, рассказываете так, как нам, или..?
Да, примерно так. Ну, может быть, более экспансивно, потому что они должны же усваивать… Я больше там стараюсь им читать.
Вот я, например, читаю им любимые свои сказки. В первую очередь, конечно, «Богатыря», «Конягу», «Мужика с генералами» – они очень хихикают всегда. И это очень меня огорчает. Потому что если бы они не понимали, о чем речь, то это было бы все-таки лучше. А раз понимают, значит, увы, ничего не изменилось у нас. Но, видите, в речь очень уходит это все. Например, там мне ужасно нравится, разговор щуки с карасем-идеалистом. Карась начинает свой диспут с вопроса: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» И щука втягивает его в себя от изумления, она и не пыталась его проглотить, она просто так, грубо говоря, офигела, что втянула его с водой.
И в классе всегда в этот момент истерика, им ужасно это нравится. Я бы предпочел, может быть, какую-то другую реакцию. Им очень нравится, когда едят карася.
Ужасно мне нравится тоже – когда мы с коллегами-педагогами отправляемся в ресторан скромно выпить-пожрать, всегда, когда приносят жареную рыбу, кто-нибудь обязательно говорит: «Карась – рыба смирная и к идеализму склонная». Такое абсолютное бессмертие, которое бы очень огорчило самого Салтыкова-Щедрина.
Как вы думаете, останется ли этот писатель лет через сто в русской литературе?
Это от нас с вами зависит. Во-первых, будет ли что-то лет через сто – большой вопрос. Потому что после Угрюм-Бурчеева, как мы знаем, последняя гибель…
Тут вот в чем штука. Вот одна вещь, о которой я, к сожалению, не успел рассказать, потому что она слишком умозрительна. Салтыков-Щедрин понял один из главных законов русского развития: здесь никто искреннее не верит в то, что говорит. Существует огромная подушка между властью и народом – это подушка безопасности такая. Поэтому в России не может быть фашизма. В России никто никогда не будет по-настоящему верить ни в черносотенные идеи, ни в идеи суверенной демократии, ни в антикавказскую риторику.
Очень точно об этом сказал Белинский: «Русский мужик произносит имя Божие, почесывая себе кое-где». Вот есть огромная дистанция между этой святостью и этим поведением жизненным. Говорят все одно, думают другое. Это очень хорошо как гарантия от тоталитаризма. Но это же и гарантия от развития. И вот Щедрин это понял, потому что что делают его глуповцы? Почему они глуповцы, собственно? Они не верят в то, что говорят. Они живут ложной жизнью. Они не верят в то, что делают. У них существует огромный зазор между мыслью и жизнью.
Это гарантирует их от Угрюм-Бурчеева до какого-то момента… Но потом это гарантирует их и от того, чтоб вырваться из замкнутого круга.
Такие города, как Глупов и Макондо – они живут себе, живут, а потом случается потопчик какой-то в том или ином виде.
И я далеко не убежден, что через сто лет кто-то вообще еще будет говорить о русской культуре как таковой. Но если будет, то будет говорить и о Салтыкове-Щедрине. Нам ведь дорого всегда не то, что кто-то нам нарисовал прекрасную жизнь, идиллическую, нам дорого, что кто-то нам нас показал. И вот когда читаешь Щедрина, думаешь: «Нет, все еще не так страшно, ребята. Может быть хуже». Это такой комок нервов, боли и омерзения к себе и людям! Почитаешь: «Не, не, ничего… Схожу-ка я завтра на работу…» Ну как-то, в общем, все не так страшно. Не так страшно. Так что будет обязательно.
Скажите, пожалуйста, вы вот как считаете, Жванецкий – сатирик или юморист?
Я думаю, он поэт по преимуществу. Я недавно детям давал Бабеля и договорился до довольно странной формулы – вот одно из преимуществ преподавания, что ты что-то формулируешь для себя. Бабель написал две великих книги: «Одесские рассказы», о том, как все друг другу свои, налетчики, ограбляемые этими налетчиками, Мугинштейн, тетя Песя с привоза, полиция – все свои, все родные; и «Конармия» – о том, как все друг другу чужие, даже внутри одной семьи.
Вот Жванецкий – это такой поэт Одессы, где все друг другу свои. И поэтому главная тема Жванецкого – это «да, все ужасно, но мы все вместе, и, может быть, эта жизнь для нас как-нибудь и норма, и, может быть, мы ее переживем, тем более, что она вызывает в нас такие добрые чувства, такое единение».
Он – поэт такой лирический, и, конечно, он не сатирик совсем. Потому что его сатира очень нравилась всегда объектам этой сатиры. Вспомните, как в 70-80-е годы сидит все Политбюро, сидят все сантехники, все взяточники, сидят полным залом и все радостно слушают, как им про них все это говорят.
Вот Салтыкова-Щедрина они так не слушали. Его даже свой брат интеллигент ненавидел, а народ вообще не читал. Сатирик должен быть такой, чтоб его не любили. Культовый сатирик – это вообще оксюморон. И поэтому Салтыков-Щедрин такой нелюбимый писатель в русской литературе. Но именно поэтому он такой хороший писатель.
Это не значит, что Жванецкий плох. Я признаю, что это очень хороший автор. И Довлатов не сатирик, потому что его читать приятно.
А хорошую сатиру надо читать так, как читаешь «Русские сказки» Горького, – как будто глотаешь гранату и она внутри тебя взрывается. Когда вот, например, так погордишься каким-нибудь своим гражданским подвигом, скажешь чего-нибудь на «Эхе Москвы», думаешь, ну как я хорош! А потом читаешь сказку из горьковского цикла, где в некотором царстве живут евреи специально для погромов, и есть группа протестующих против погромов, и среди них мальчик Гриша семи лет. Они каждый день пишут воззвания, там все их подписи и последняя: «Гриша Будущев, семи лет, мальчик». А евреи – очень хитрый народ, и вот они как-то раз перед погромом спрятали все чернила и всю бумагу, – «что они будут делать тогда, эти шестнадцать и с Гришем?» И Гриша, которому уже 43 года, плачет, размазывает сопли, кричит: «Хосю плотестовать!» Они тогда пошли и на заборе стали писать, но их прогнал городовой, и они разошлись по домам. Это неприятная очень сказка, да. Но довольно полезная.
По поводу религиозности Салтыкова-Щедрина…
Понимаете, я делаю этот вывод в основном из сказок. Потому что «Пропала совесть» – абсолютно религиозное сочинение. «Рождественская сказка» – и подавно. Ну и потом, понимаете, все-таки «Запутанное дело» как самое задушевное из ранних сочинений, показывающее положительно прекрасного человека в ужасном мире, конечно, это метафизика, конечно, религиозность.
Искандер однажды очень точно сказал, что религиозность не зависит ни от морали, ни от добра, ни от чего… Есть масса нравственных атеистов. Религиозность – это как музыкальный слух: она либо есть, либо ее нет. Вот и все». И она никак с моралью не коррелирует. Вот у Щедрина было безусловно религиозное мировоззрение. Думаю, по двум причинам. Ну, мне так кажется… Во-первых, потому, что оно эсхатологично. Оно исходит из постоянного ощущения расплаты. А во-вторых, потому что он мерит людей по идеалу. Он судит их с точки зрения этого идеала. И сам стремится к этому идеалу.
Все говорили – «грубый Щедрин», он старался очень таким быть, на нем эта кожура наросла. Но одна его подруга вспоминает такую историю, в воспоминаниях ее есть кусок. Короче, он в трудном положении. Он литературой никогда много не зарабатывал. Ему пишет кто-то из ее приятелей и просит в долг 5 тысяч рублей. Он не может дать и отказывает. И три дня потом ходит и говорит: «Ну, как же?! Ну ведь он же пропадет! Зачем же он у меня попросил, ведь он знает, что у меня нет». – «Да, ладно, господи, да мало ли у него друзей», – утешает его семья. – «Нет, как же! Я отказал человеку! Я был, может, последней его соломинкой! Как теперь жить? Как он меня взбутетенил! – говорил он в негодовании – Я работать третий день не могу!» И хотя в этом была и какая-то и поза тоже, но искренность тоже была.
И, в общем, в 63 года просто так не умирают. А мучился-то он и того больше. Он всех судил очень жестко, но себя – первого.
Мне кажется, что вот эта больная совесть – это и есть та примета религиозного чувства, о которой надо говорить. Вот благотворительность – это не значит религиозность. Потому что пошел, сделал добро, сам себя поцеловал на радостях – и все хорошо. Или там со свечкой в храме постоял – тоже. Или в синагоге, да? И все замечательно.
Нет, религиозность начинается с самоненависти. И она у него была так сильна, что вот дай Бог здоровья всем его читателям это пережить благополучно.
И вот на этих двух основаниях я его отношу к религиозной традиции с гораздо большим основанием, чем Льва нашего Николаевича, который незадолго до смерти написал: «Или Бога нет, или всё – Бог». Для Михаила Евграфовича такого вопроса не было.
Были ли какие-либо отношения у него с Достоевским?
С Достоевским были, очень интересные. Кстати говоря, один из его первых рассказов после ссылки назывался «Порфирий Петрович» и рассказывал о чиновнике, тоже в уголовном ведомстве, по-моему, это никем подробно не отслежено. Они знакомы-то были, причем знакомы были года эдак с 1847-го, знакомы были еще со времен «Бедных людей».
Но надо сказать, что Щедрин вообще ни с кем общаться не любил. Он был социофоб, ярко выраженный. Достоевский, напротив, был человек очень общительный. Любил поговорить. Особенно любил поговорить о гадостях. Особенно с людьми, от которых зависел в тот момент. Например, придя к Тургеневу и попросив у него взаймы, рассказал ему историю о своей некрофилии. Это он как бы ему отплатил таким образом. Много было у него таких веселых случаев. Большой был говорун и весельчак.
А что касается Щедрина, то он ведь и разговаривал очень странно, вспоминают, что у него была такая бормочущая манера, говорил что-то все под нос, надо вслушиваться. Руками размахивает, голос неприятный. Ну и потом все-таки, невзирая на большую личную симпатию, на то, что он считал Достоевского первоклассным литератором, он ненавидел его взгляды, ненавидел его журнал «Эпоха», о котором написал довольно резко.
Так что, пожалуй, отношения были, как бы сказать, более уважительные, чем с Тургеневым, и при этом гораздо более рискованные в каком-то смысле. Они друг к другу боялись приближаться. Оба понимали, что если один другому скажет настоящую гадость, то это будет очень гадкая гадость.
Вот с Тургеневым можно было так пошутить безнаказанно. Он был малый добрый. И только в самые критические моменты хватался за ружье. Вот Толстой сказал: «Ваша дочь занимается благотворительностью. Это мерзко, это ложь!» – «Я вам дам в морду!» – воскликнул Тургенев, и их чудом разняли. А у Достоевского с Салтыковым было бы иначе, они бы друг другу наговорили бы такого, что это нелегко было бы забыть.
Поэтому личного общения не было, хотя в творчестве масса общих мотивов. И между прочим, именно Щедрин был инициатором того, что Некрасов помирился с Достоевским и попросил у него для «Отечественных записок» «Подростка». Не очень хороший роман, но тем не менее.
И Салтыков говорил с гордостью: «Вот другие всё одинаково пишут, а Достоевский, хоть и плохо, да разное». Но любили они друг друга, конечно.
Раз перешли от Щедрина к Достоевскому, позвольте перейти от Щедрина к Быкову. Вот в этом замечательном диалоге «Разговор свиньи с правдою» и для Щедрина, и для вас тоже, конечно, в сегодняшнем изложении, было очевидно совершенно, что свинья съест Правду и это совершенно безнадежно…
Это отнюдь не очевидно…
Поэтому вопрос у меня к вам такой: когда вы выступаете вот в этих «Барьерах», «Поединках», где против вас выходят люди, я не хочу назвать их «свиньей», но какой смысл вам во всем этом участвовать?
Смысл очень простой. Ведь мы говорим не для того, чтобы что-то изменить, мы же говорим для того, чтобы что-нибудь сказать. (смех в зале). И единственный способ изменить мир заключается все-таки в расширении границ человеческого, в каком-то расширении границ разрешенного. Вот сейчас намечается какая-то новая реформа школы и мне предстоит, видимо, как школьному учителю, посильно бороться еще и с этим нововведением.
Два человека, Ивлиев и Кондрашов, два в прошлом учителя географии, один – руководитель думского комитета по культуре, другой – руководитель издательства «Просвещение», разработали такую концепцию: надо все предметы в школе разделить на образовательные и воспитательные. Образовательных должно остаться пять – это физкультура (смех в зале), «Россия и мир», есть такой центропупистский предмет, история Отечества, ну и какая-нибудь из модификаций Закона Божьего и, может быть, если повезет, русский язык. Вот Дмитрий Медведев сказал, что все-таки нам «надо развивать фольклор» (смех в зале). Это очень интересно. Он и так развивается, уже вернулся анекдот, все хорошо. Но он же, видимо, думает, что фольклор – это радостные частушки типа. «Вставай, Ленин, вставай, дедка […] у нас пятилетка!» (смех в зале).
Видимо, это останется. Остальные все предметы будут воспитательные. Значит, этим людям никто не объяснил, что обучение и есть воспитание, что чем человек умнее, тем менее он склонен к всяким гадостям.
Я хожу на все эти сомнительные «Барьеры», на которые меня, правда, очень редко зовут, потому что мало ли вдруг… – я хожу туда вовсе не для того, чтобы победить Никиту Михалкова. Никита Михалков непобедим (смех в зале). И даже если я победю, побежду (обратите внимание, что в русском языке этот глагол не имеет будущего времени – «не хвались, едучи на рать»), даже если я одолею по рейтингу Никиту Михалкова, это ничего не изменит в Никите Михалкове, но десять мальчиков или девочек, которые смотрят в этот момент телевизор, задумаются, из них двое, может быть, примут это к сведению, и один вырастет приличным человеком.
Вот ради этого стоит такие вещи делать. А вовсе не для конкретного результата. И Щедрин писал не для того, чтобы изменить русскую жизнь, а для того чтобы через 185 лет после дня его рождения две сотни не очень преуспевающих людей устроили себе вот такую вот отдушину. И один из них при этом еще и наварился.
Какие вам нравятся анекдоты из сегодняшней жизни? Ваш любимый?
Мой любимый такой:
Путин, Сурков и Сечин приходят в кремлевскую столовую.
– Владимир Владимирович, что вы будете?
– Мясо.
– А овощи?
– Овощи тоже будут мясо.
(смех в зале)
Никому не говорите, но он довольно широко опубликован.
70-я статья…
Никакой здесь нет статьи, потому что это, в общем, очень добрый анекдот. Им же не человечину приносят, а им приносят что-нибудь скромное.
Скажите, пожалуйста, а вот юбилей Салтыкова-Щедрина – это как-то предвидели или это спонтанно?..
Что? То, что он широко отмечается? Знаете, я думаю, тут очень простая причина: он действительно такой писатель, которого в школе никто всерьез не читает. А потом вдруг открывают для себя уже взрослыми людьми. И этот шок оказывается так силен, что хочется как-то отметить это событие.
По-моему, он из тех счастливых исключений, когда писатель приходит к взрослому читателю. Вот детей, скажем, мучают «Войной и миром», и у них образ школьного восприятия: Наполеон, Кутузов, все эти дела – это с самого начала уже заслоняет реальный роман. Ребенку не до «Войны и мира». Я всегда ратовал бы за то, чтобы ему давать «Анну Каренину» или «Казаков», любой другой текст, «Воскресение» с удовольствием они читают. Но «Войну и мир» – это тяжело, это не по их силам, у меня на «Войну и мир» уходит три месяца с детьми. Это огромная работа. Но, правда, им нравится роман, тем немногим, кто прочел.
А Щедрина они не читают вовсе. Поэтому он стал достоянием взрослых. Особенно сейчас, когда открываешь и читаешь – и просто все родное. (смех в зале) Толстой гораздо менее актуален.
Дмитрий, подскажите, а как надо преподавать в старших классах, чтобы не было так мучительно скучно?
Надо с ними быть в диалоге. У меня нет рецептов готовых. Мать моя часто говорит, что я – плохой методист. Я действительно не методист. У нас в школе есть историк, я постоянно бегаю к нему, мы все бегаем на уроки друг к другу, когда у нас окно, вот я бегаю всегда к Кузину послушать, потому что я не понимаю, каким образом он это делает, но у него класс сидит вот просто как изваяния. Я спросил его как-то однажды: «Как вы этого добиваетесь?» – «Модуляцией», – сказал он. (смех в зале). Действительно, каким-то образом они сидят перед ним как змеи перед факиром.
У меня в одном классе была веселая такая девочка Маша, сильно пьющая, на урок приходящая с коньяком, и как-то я, в общем, не возбранял ей это, если она демонстративно доставала фляжку, я говорил: «ну, если ты можешь адекватно отвечать, то ради бога… пей, да дело разумей». Она тут же ее убрала, ей стало неинтересно. Я ее как-то спросил: «Машка, а чего вы все так смирно сидите на Кузине, ведь он ничего абсолютно не делает? Вот я ору иногда, да». И она ответила: «Он не орет, Львович, он смотрит, но смотрит так, что лучше бы он визжал». (смех в зале) И это очень верно. Это один способ, себя вот так преподнести.
Есть другой. Можно с ними выстроить диалог. Чтобы им было интересно, увлекательно. И им действительно очень увлекательно. Я много от них услышал интересных вещей. И многие из них опубликовал, естественно, под своим именем. Потому что это же общий разговор, это же я их провоцирую на это.
Вот. Я не могу работать с классом хорошистов. Я не могу работать с классом, в котором все хорошо знают предмет. Я могу работать с отпетыми, которым литература жизненно необходима, и это делается очень просто: вы приходите в такой класс, первые пять минут вас будут слушать всегда, если вы – новый человек, они просто еще думают, с какой стороны вас убить, – вот в эти первые пять минут, которые у вас есть, нужно употребить максимум трудных слов, как если бы вы говорили с аспирантами, «трансцендентность», «акциденция», «метемпсихоз», как известно, дети в методике погружения гораздо лучше ловят предметы: через два часа они понимают, о чем вы говорите, а через три начинают поддерживать разговор на этом же уровне. Вот мой первый класс был такой. Когда они сидели уже абсолютно махнувшие на себя рукой, я начал им рассказывать о пореформенной России, увлекся, и через три месяца этот класс лучше всех в школе знал литературу. Больше они не знали ничего. Но вот математичку один из них назвал «тварь дрожащая». Она прибежала ко мне жаловаться, я говорю: «А что вы жалуетесь? Это цитата. Это прекрасно. Мальчик прочел «Преступление и наказание». И это нам очень понравилось.
Или я могу работать с отличниками, которые сами мотивируют. Такой класс у меня тоже есть, они знают всё лучше меня, и с ними мне интересно. Вот там я люблю рассказывать этот эпизод, про масонство применительно к «Войне и миру», про Баздеева. А потом говорю: «Ну вот, я вам, в сущности, фигней какой-то забиваю головы, а ведь завтра комиссия Минобраза, которая частную школу будет проверять особенно жестоко. Ну что вы им скажете?!» И такой ленивый голос с камчатки: «Львович, вы говорите, что надо – мы скажем». (смех в зале)
Вот если у вас есть такие отношения с классом, то все будет хорошо. И у них действительно все отскочило от зубов, когда было надо, комиссия сказала: какие прекрасные, какие мотивированные дети!» Сейчас это слово «мотивированные» очень модно. Мотивированные, да.
А вот с хорошистами я не знаю, как работать, я не знаю, как их заинтересовать. Им литература не нужна. Они в ней не находят ответов на свои проблемы. А вот отпетые находят, не случайно я помню, как мне один такой, совсем безнадежный, вот такой гориллообразный мальчик говорил: «Ну, я Базаров…» Я говорил: «Да, ты Базаров, и поэтому учись у него. Вот если бы он вел себя чуть лучше, он бы, может быть, не помер».
Дмитрий, вы в гуще школьной темы. Мы-то со стороны видели фильм «Школа», а каково ваше мнение о нем?
Эстетически мне это очень нравится. Там есть потрясающие сцены, снятые одним куском, как вот две последние серии. Там прекрасные актерские работы. Очень хорошая, узнаваемая речь.
Но это все не имеет никакого отношения к школе. И слава Богу. Потому что это какой-то ужасный мир. Вы же знаете, что Гай Германика в школе не училась. Ее оттуда выгнали. Это страшный мир, возникший в воображении больного, книжного подростка, такого загадочного, такого ненавидящего тоже всех и себя.
Но эти взрослые половозрелые путаны в 10 классе, эти страшные мальчики-новоконформисты, эти законченные нацики… «С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат?», как писал Лермонтов. Я в разных школах преподавал – и в частных, и в обычных, и один мой ученик до сих пор мне делает скидку за починку моей машины в автосервисе, я помню, это был странный, страшный малый такой – Сережа, я первый в его жизни поставил ему «четыре». И он мне сказал: «Дмитрий Львович… Вы, прям, ангел…» (смех в зале)
Вот. Всякие у меня дети бывали. Но таких вот, как в фильме, у меня не было, слава Богу. И я думаю, что их и нет. Вот есть вечный такой вопрос: а что делать учителю, если его ребенок ударил? В школе же есть такие ситуации, фактически есть. Если класс тебя бойкотирует, что делать? Они если захотят тебя бойкотировать, они всегда тебя уроют, потому что ты один, а их тридцать. Или, если ты в хорошей школе, двадцать. Или, если в сельской, трое. Но все равно – трое на одного, понимаете? Это нормальная ситуация.
Ребята, не надо до этого доводить. Когда он тебя ударил, уже делать нечего, уже ничего нельзя делать, уже надо менять профессию, уже надо переквалифицироваться в управдомы.
Вот в 1993 году в сентябре в Белом доме что надо было делать? Не доводить до этого. А когда до этого уже довели, тут делать нечего. Точно так же и здесь. Ты обязан сделать так, чтобы они тебя слушали. Как ты это будешь делать – твоя проблема. Ты можешь орать, ты можешь льстить, подлаживаться, ты можешь быть смешным, можешь быть клоуном, ты можешь внушать безумное почтение к себе, чтобы они чувствовали это. Если не умеешь этого, то все.
В общем, это довольно тяжелая штука. Я иду по самому простому пути. Самому циничному. Я знаю, что дети любят уважать себя. И у них нет никаких оснований для самоуважения. Надо их заставить уважать себя, и они будут за это тебя любить. Докажи им, что они умные. Поставь перед ними сложную, серьезную задачу. Заставь их решить эту задачу. И они будут тебя обожать.
Скажи им: «Ребята, сегодня у нас очень трудная тема. Мы пишем сравнительную характеристику Кутузова и Наполеона. Я понимаю, что это далеко не для 10 класса, это сложнейший вопрос, но кто это сделает хорошо, тот может рассчитывать на любую пятерку и мое уважение». Тема элементарная, на самом деле, идиотская, но ребенок, пишущий это, начинает себя чувствовать хозяином миров. Найдите пару хороших сочинений, прочтите их в классе. Дайте ему это почувствовать. Лучше возьмите того ученика для этой цели, который уже положил на себя с прибором и чувствует себя отпетым и не видит за собой перспектив, – внушите ему, что он – непонятый гений, и любая попытка зашуметь на вашем уроке будет пресекаться этим непонятым гением, особенно, если у него здоровые кулаки.
Это довольно простое дело, в общем. Но зато, когда они вас понимают и когда они с вами, большего счастья у вас не будет ни от чего. Потому что вот это действительно блаженство, настоящее блаженство, почти телепатическое: когда вы понимает, что хотят они, они понимают, что говорите вы.
Вот поэтому я люблю эту работу. А если бы у меня было так, как в сериале «Школа», смею вас уверить, я дня бы там не остался, слава Богу, меня газета пока еще, в скромных пределах, кормит.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
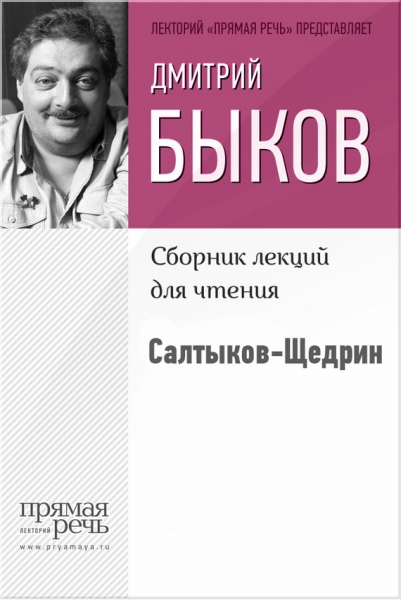

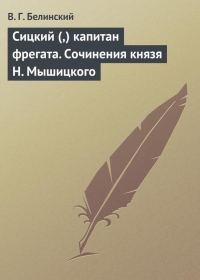
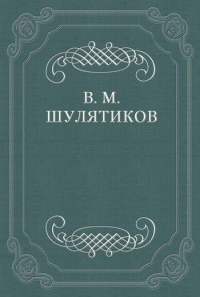



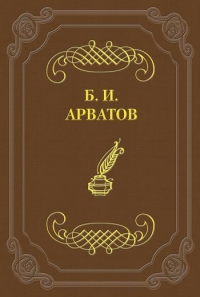

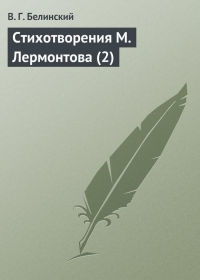

Комментарии к книге «Салтыков-Щедрин», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев