Валерий Брюсов «Поэзия Армении» и ее единство на протяжении веков Историко-литературный очерк
1
Две силы, два противоположных начала, скрещиваясь, переплетаясь и сливаясь в нечто новое, единое, направляли жизнь Армении и создавали характер ее народа на протяжении тысячелетий: начало Запада и начало Востока, дух Европы и дух Азии. Поставленная на рубеже двух миров, постоянно являвшаяся ареной для столкновения народов, вовлекаемая ходом событий в величайшие исторические перевороты, Армения, самой судьбой, была предназначена – служить примирительницей двух различных культур: той, на основе которой вырос весь христианский Запад, и той, которая в наши дни представлена мусульманским Востоком. «Армения – авангард Европы в Азии», эта, давно предложенная, формула правильно определяет положение армянского народа в нашем мире. Историческая миссия армянского народа, подсказанная всем ходом его развития, – искать и обрести синтез Востока и Запада. И это стремление всего полнее выразилось в художественном творчестве Армении, в ее литературе, в ее поэзии.
Современная наука[1], в теории, выставленной и блистательно развиваемой акад. И. Я. Марром, видит в самом составе армянского народа два разнородных элемента, западный и восточный. Происхождение армянского народа эта теория связывает с так называемым Киммерийским движением VIII–VII вв. до Р. Х. В ту эпоху одно из фригийских племен (следовательно – индо-европейского корня), перебросившись, вместе с другими, из Фракии в Малую Азию, продвинулось на верховья рек Галиса и Евфрата и затем подчинило себе население соседних стран, в том числе Урарту и Наири, частью поработив, частью ассимилировав аборигенов (народ не индо-европейского, по Н. Я. Марру, яфетидского корня). Из слияния этих двух элементов: завоевателей фригийцев, индо-европейцев по происхождению, и покоренных урартийцев. яфетидов по происхождению, и возникла армянская народность, сочетавшая в себе, таким образом, чисто восточный элемент (урартийцы) с элементом западным (фригийцы). Это подтверждается филологическим анализом армянского языка, показаниями античных историков, данными археологии, этнографии, географии и, наконец, свидетельством народных армянских преданий. Мы вправе поэтому рассматривать армянский народ, в самом его существе, как западно-восточный, одновременно – и азиатский и европейский.
Вся история Армении могла только усилить это дву-единство народного духа, так как армянский народ попеременно подвергался разным влияниям, то со стороны своих восточных, то – западных соседей. На заре ее истории Армении суждено было испытать сильное воздействие персидского иранизма, так как она входила, как отдельная сатрапия, в состав державы древне-персов (с VI по конец IV в. до P. X.). Армянами управляли персидские сатрапы, армяне судились по персидским законам и участвовали в персидской армии; в народе получил широкое распространение персидский язык и многие чисто персидские обычаи; наконец, в значительной степени усвоили армяне и национальную религию древне-персов. Персы – народ арио-европейского корня; их язык принадлежит к семье арийских языков. Но держава древне-персов была прямой наследницей ассиро-вавилонской (семитической) империи. Персы испытали могучее давление той семитической культуры, которая сложилась за несколько тысячелетий до нашей эры в Передней Азии, преимущественно в бассейнах Тигра и Евфрата, включив в себя и элементы культуры Египта, с которым ассиро-вавилоняне были в постоянных сношениях. Поддаваясь иранизации, армяне восприняли и известную долю культурных начал Ассиро-Вавилонии.
Период персидского господства оставил глубокие следы на всем характере армянского народа, которые можно в следующие века следить в нравах, в верованиях, в государственном строе. Персидский язык, напр., был настолько распространен в Армении, что его знали даже женщины (свидетельство Ксенофонта), и несомненно, что еще в эту раннюю эпоху в армянский язык проникло множество иранских корней. Армянский пантеон почти совпадал с иранским, и Страбон писал, что «все святыни персов чтутся также и армянами», на что указывают самые имена армянских богов: Арамазда, Анаит, Тир, Михра; были переняты армянами и идеи зороастризма. Двор армянского царя, с его официальным титулом «царь царей», до последних времен был сколком с роскоши персидского царского двора. Вообще влечение к пышности, великолепию, торжественности было в значительной степени усвоено армянами под воздействием их восточных соседей и, одно время, господ.
Противовесом этому влиянию явилось могущественное влияние эллинизма, который стал быстро распространяться на Востоке после походов Александра Великого (ум. в 323 г.) и возникновения в Азии новых полугреческих государств. Македонское завоевание как бы распахнуло двери на Запад для всей Передней Азии, которая целые тысячелетия жила обособленной, замкнутой жизнью. В течение ближайших трех столетий (с конца IV до середины I в. до P. X.) благотворный дух Эллады, вея над Арменией, во многом видоизменил идеи, миросозерцание и самый характер народа. Умирающая Греция передала как многим другим странам, так и Армении свои последние вздохи, оплодотворившие всю европейскую культуру. Поддаваясь эллинизации, архмяне тем самым становились причастны бессмертному источнику красоты и мысли, из которого и поныне мы почерпаем наши лучшие идеалы.
Результаты эллинизации уже определенно сказались в Армении к эпохе Тиграна Великого (95–56 гг. до P. X.) и его преемников. По крайней мере, высшие классы армянского общества находились тогда под несомненным греческим влиянием. Армянская архитектура того времени носила отпечаток эллинского художества; в армянских храмах появились статуи олимпийцев, отожествленных с национальными божествами; образованные армяне понимали по-гречески, читали греческих писателей, интересовались греческим искусством; существовало обыкновение – посылать юношей, чтобы закончить их образование, в Афины и другие научные центры Эллады. Мы знаем, что ко двору армянского царя приглашались эллинские риторы, поэты, ученые, художники; что в столицах Армении, в придворном театре, исполнялись пьесы великих трагиков Эллады; что сын Тиграна Великого, царевич (впоследствии – царь) Артавазд II, сам писал драмы и стихотворения на греческом языке. Глубоко в массу народа это эллинское влияние, по-видимому, не проникало, но все же творческое воздействие его явно выразилось потом во всех проявлениях духовной жизни Армении.
Попутно должно отметить, что в ту эпоху, когда случайности исторических судеб вознесли одно время Армению до высоты настоящей «империи», когда владения армянского «царя царей» простерлись «от Куры до Иордана и от гор Мидийских до Киликийского Тавра», – армянский народ принял в себя новую волну восточной стихии, – семитической. Тигран Великий и Артавазд II доходили в своих завоеваниях до пределов Иудеи и нашли полезным переселить в свою страну значительное количество евреев (армянские историки уверяют, что до 100 000 семейств). Позднее некоторые знатнейшие армянские фамилии выводили свое происхождение именно от этих иудейских выходцев и даже прямо от царя Давида Псалмопевца. Разумеется, эта волна эмигрантов не могла иметь существенного влияния на состав народа, но некоторые следы в его характере оставить могла, как и вообще разные другие народности Малой Азии, в те десятилетия, когда армянские цари-завоеватели совершали свои походы от Каспийского моря к Средиземному и от берегов Понта Эвксинского до глубин Месопотамии, когда вновь смешивались племена, когда строились новые города (как великолепная столица Тиграна – Тигранакерт) и заселялись выходцами с разных концов земли и когда сокровища, в том числе и художественные, накопленные веками, текли из завоеванных стран в пределы своей властительницы – Армении.
После вступления Рима в число азиатских держав и после распространения по всему Востоку римского могущества, постепенно забиравшего под свою тяжелую руку царства и народы, Армения не могла не поддаться новой сильной волне западного влияния, на этот раз романизации. Римляне появились в Азии в начале II в. до P. X. (189 г. битва при Магнесии), но Армения долго сопротивлялась римскому воздействию: романизации противился эллинизм высших классов общества и иранизм народных масс. Высшие классы видели в римлянах – варваров, поработителей Эллады; народ тянул в сторону соседней, родственной по обычаям и по религии, Парфии, которая во многом была преемницей персидской державы. В течение трех столетий (от середины I в. до P. X. и до середины III в. по P. X.) борьба между Западом и Востоком в Армении воплощалась в форме борьбы «партии римской» и «партии парфской». Потребовались целые века, чтобы романизация достигла успехов в Армении, и нужны были коренные перевороты в политических отношениях, чтобы Армения уже в III в. по P. X. тесно сблизилась с Римом и стала его верной союзницей.
Первоначальные отношения между Арменией и Римом были враждебные. Поступательное движение римлян на Восток грозило утратой самостоятельности всем местным государствам, что вызывало естественные коалиции азийских царств против Рима. Такой коалицией были и союзы Тиграна Великого с Митридатом понтийским (Эвпатором) или Артавазда II с царем парфским Ородом. И, в общем, за все три столетия, до возникновения новоперсидской державы, армяне всегда оставались естественными врагами Рима, хотя не раз, уступая угрозам силы, выступали как союзники римлян. Рим не был в силах поработить Армению; медали, выбитые римлянами с надписями: «Armenia devicta»[2], «Armenia recepta»[3], «Armenia capta»[4] и т. под., были лишь хвастовством; вассалитет Армении, которого добился Рим, был (по признанию Моммсена) «лишен внутреннего содержания»; попытка Траяна обратить Армению в римскую провинцию не удалась, не продержалась и года и т. д. Но удары, которые Рим наносил Армении: походы Суллы, Лукулла, Помпея, Антония, Корбулона и др. обессилили ее; римляне, действуя шаг за шагом, принудили Армению отказаться от всех своих завоеваний и постепенно замкнули ее в ее естественные границы, низвели с высоты «империи» на степень национального царства, которое позднее уже не могло сопротивляться своим сильным соседям.
При всем том постоянные сношения с Римом, то враждебные, то дружественные, неизбежно вводили в Армению элементы романской культуры. Уже Тигран Великий вступил в ряд «друзей и союзников римского народа» и сыну своему завещал союз с Римом, как залог благополучия царства. Новые войны с римлянами привели в Армению много военнопленных-италийцев; за ними последовали римские купцы. Антоний со всей армией принужден был провести несколько месяцев в Армении (37 г. до P. X.); Август отправил в Армению особое посольство, во главе с Тиберием Клавдием, будущим принцепсом (20 г. до P. X.); позднее с посольствами являлись – Гай Цезарь, усыновленный Августом (1 или 2 г. по P. X.), и Германик (18 г. но P. X.). На армянский престол стали всходить – возводимые, разумеется, происками Рима – лица, получившие римское воспитание (Тигран V, Тигран VI и др.). Царь Тиридат (58–59 и 62 – 107 гг. по P. X.), после долгой (и во многих отношениях победоносной) войны с римлянами, согласился лично поехать в Рим и принять армянскую корону из рук Нерона. С Тиридатом ехало много знатных армян; города по пути устраивали им торжественные встречи; в Неаполе и в Риме в честь царя были даны пиры, праздники, представления в театрах, игры в цирке. Уезжая обратно, Тиридат повез с собой много италийских художников, мастеров, рабочих для восстановления разрушенных во время войны городов и храмов.
Начиная со II в. по P. X. культурное влияние Рима начинает явственно сказываться в Армении. Это подтверждают и данные археологии, – известные раскопки в Гарни (древняя Гарнея), где найден храм, относящийся к II–III вв. и совпадающий с формами римской архитектуры того времени. То же влияние отразилось в некоторых деталях других археологических находок. Надобно предположить, что распространялось среди армян также знание латинского языка и римской литературы. По крайней мере несомненно, что армянские юноши для окончания образования стали ездить в Рим, как раньше ездили в Афины. Впрочем, армяне могли знакомиться с латинским языком и на родине, так как в течение всего II в. в разных армянских городах стояли римские гарнизоны. В пределах древней Армении теперь находят немало латинских надписей; в одной греческой надписи царя Тиридата (III в.) месяц доименован латинским названием (февраль) и т. д.
Противовесом римскому влиянию служила в Армении «парфская партия», влияние которой поддерживало в народе вражду к Риму, ко всему, идущему с Запада. Парфия во многом была близка Армении, так как сложилась при сходных условиях; между двумя народами, армянами и парфами, существовали давние связи родства, общности в нравах, почти единства в верованиях. Кроме того, союз с Парфией давал надежду на сохранение политической независимости, тогда как сближение с Римом означало подчинение ему, переход в состояние вассальной зависимости (что римляне подчеркивали, требуя, чтобы армянские цари принимали корону из рук представителя Рима). В середине I в. по P. X. парфам удалось возвести на армянский престол свою династию (к ней принадлежал и Тиридат I, ездивший в Рим). Династия вскоре национализовалась, но осталась в родственных отношениях с парфскими царями, что тоже должно было способствовать жизненности в Армении начал, общих с Парфией. Стоявшая не на высокой ступени культуры, Парфия не могла влиять на Армению в прямом смысле слова, но союз и общение с парфами укреплял в армянах традиционные, иранские элементы. Таким образом, в Армении, которая одновременно и романизовалась и влеклась к своему иранскому соседу, оба начала, Запада и Востока, развивались параллельно.
Ориентация Армении резко изменилась, когда, после падения парфского царства (около 226 г.), на его месте возникла держава ново-персов. Сасаниды, заняв престол парфских царей, определенно порвали с традициями своих предшественников. Полные мечтами о былом величии персидской монархии, ново-персы стали стремиться к тому, чтобы восстановить в своей земле древние персидские обычаи, между прочим, и древний зороастризм, во всей первоначальной чистоте, и воздвигли гонение на все парфское. Естественно, что Сасаниды не могли не смотреть недружелюбно на Армению, где продолжала царить парфская династия, свергнутая ими в Парфии. Кроме того, ново-персы с самого начала выказали агрессивные стремления по отношению ко всем соседним землям, – как к пограничным провинциям Римской империи, так и к Армении. К этому времени культурное влияние Рима в Армении настолько окрепло, что стал возможен теснейший союз армян с римлянами против общего врага. В течение следующего столетия во всех войнах, какие вела империя против Персии и которые, в сущности, были единой непрерывной войной (растянувшейся потом на ряд веков), армяне всегда выступали на стороне римлян как их верные союзники.
Связь Армении с Римом еще более усилилась, когда армянский царь Тиридат III Великий принял, со всем народом, крещение (295, 299 или 301 г.), и христианство стало официальной религией армян. Приняв христианство, которое глубоко проникло в душу народа, армяне окончательно связали себя с миром Запада, с христианским миром Европы. В продолжение всех следующих веков они оставались верны своей религии и не поддались проповеди ислама, который позднее властно подчинил себе большинство народов Передней Азии. Христианство вырыло непреодолимую пропасть между армянами и персами. Однако прозелитизм новообращенных и политический союз с Римом не означал для Армении полного разрыва с Востоком. Восточные начала поддерживались в Армении этого времени воздействием христианской Сирии, откуда армяне и приняли новое учение. Сирийское влияние позднее явственно отразилось на первых этапах армянской литературы и на памятниках древнейшего церковного строительства в Армении.
Как известно, римляне весьма дурно отплатили армянам за их верность. Император Иовиан, заключив с Персией позорный мир, предоставил на разгром персам Армению, и она не могла, конечно, сопротивляться державе, борьба с которой оказалась не под силу и Риму. Позднее же (конец IV и начало V в.) римская империя и персы прямо поделили между собою Армению, так что в течение двух столетий (до начала VII в.) она оставалась разрезанной на две части, византийскую и персидскую. Границы этих половин постепенно менялись, так как завоевания отдельных византийских императоров – Юстиниана, Маврикия, Ираклия и др., вырывали у персов отдельные армянские области, присоединяемые к империи. Но общее положение дел оставалось неизменным. Эти две Армении стали как бы двумя очагами, в которых разгорались и крепли основные начала армянской жизни: в византийской – западные, в персидской – восточные.
Византийские императоры сознательно стремились к романизации (по терминам того времени, т. е. эллинизации) своей части Армении: вводили в ней общеимперскую администрацию, объявляли государственным языком – греческий, способствовали распространению греческой литературы, византийского искусства и т. д.; наконец, принимали меры, вплоть до насильственных, к сближению армянской церкви (весьма рано обособившейся) с византийской. В персидской Армении, по меткому выражению историка Елисея (Егише), «царство перешло к нахарарам», т. е. владетельным князьям, которые собирали подати, выставляли в персидскую армию определенный контингент войска, но во внутренних делах распоряжались самостоятельно (что повело к утверждению феодализма). В этой части Армении развивались начала национальные, иранские, не говоря уже о том, что некоторое влияние на жизнь народа не могли не получить и ставшие владыками персы (ирано-сасанидские черты в армянской архитектуре).
Успехи того и другого влияния можно проследить па ряде исторических фактов. В V в. возникла и стала быстро развиваться национальная армянская литература, после изобретения свв. Сааком и Месропом армянского алфавита. Первоначально армянская литература определенно подпала под сирийское влияние и, как полагают, первый перевод книг Святого писания был сделан на армянский язык с сирийского (впоследствии – исправленный по греческому тексту). Но с VI в. в армянской литературе проявляется, в сильнейшей степени, влияние греческое. Армяне переводят на свой язык громадное количество греческих книг: сочинения по философии, богословию, риторике, истории, грамматике и по точным наукам, как математика, астрономия, медицина, география и т. под. Весь этот период в армянской литературе носит название эпохи эллинистов. Своего расцвета движение достигает в VII в., когда даже самый армянский язык приспосабливается, в книгах, к формам греческого языка, обогащаясь новыми речениями, новыми оборотами речи, новой расстановкой слов, порой искусственной. У писателей-эллинистов заметно и желание воспринять лучшие стороны греческой литературы: пытливость мысли, аналитическое отношение к трактуемому предмету, точность и ясность изложения.
Параллельно этому, в армянском народе несомненно существовала партия, тянувшая в сторону сближения с персами. Представители ее вербовались преимущественно в высшем слое общества, особенно среди владетельных князей, которым политические отношения к Персии давали различные преимущества. Традиция (по новым исследованиям – несправедливая) обвиняет, напр., в симпатиях к персам Васака, бывшего правителем персидской Армении в эпоху восстания 451 г. и отказавшегося примкнуть к народному движению. Во время войн Юстиниана часть армян добровольно действовала на стороне персов. В армянских областях, присоединенных Юстинианом к империи, вспыхнуло восстание, имевшее целью – вернуть эти области Персии и т. д. Эти факты и предания, несмотря на ряд открытых выступлений (восстаний) против персидского гнета, как Вартана Великого (451 г.), Ваана Мамиконида (484 г.), Варта (511 г.), другого Вартана (571 г.) и др., свидетельствуют о наличии среди армян партии, которая чувствовала связь и сродство Армении с Восточным миром.
Арабское завоевание (середина VII в.) объединило все армянские области под властью халифата. Следствием этого была утрата Арменией той связи с Западом, которая поддерживалась через Византию, и четыре столетия после того армянская культура развивалась преимущественно под воздействиями восточными. Непосредственное владычество арабов в Армении продолжалось приблизительно два столетия (от 652 г. по 861 или 885 г.), но зависимость армянских земель от халифата постепенно ослабевала (что показывает уменьшение дани, которой были обложены армяне: с 13 миллионов диргем в VIII в. на 8 милл., потом 4 милл. в IX в. и менее 2 милл. в X в.). Ослабление халифата повело к тому, что армянские феодальные владения постепенно превратились в полунезависимые армянские «царства» и «княжества», из которых самое значительное было царство Багратидов (с 885 г.), со столицею в Ани. Просуществовавшее также два века (последний Багратид, Гагик II, был убит в 1079 г.), Багратидское царство развивалось в обособленности от Западного мира, от новой Европы, в которой складывалась тогда (IX–XI в.) своеобразная средневековая культура. Во всем Багратидском периоде мы не находим значительных следов воздействия Западной Европы и, напротив, видим немало черт, проникших с мусульманского Востока. Правда, связь с Византией восстановилась, но она сама к этому времени во многом поддалась восточным влияниям.
Эти две эпохи, – арабского владычества и царства Багратидов, – характеризуются решительным преобладанием в армянской жизни и в армянском искусстве восточных, азиатских начал. В архитектуре византийские формы, господство которых относится к VII–VIII вв., понемногу уступают влиянию арабского архитектурного стиля, который сначала подчинил себе светские постройки, а потом коснулся и храмов. Мусульманское влияние сказывается и в некоторых чертах армянской миниатюры. В литературе распадается школа эллинистов, и писатели начинают искать своего собственного стиля. Возможно, что в поэзию уже в эту эпоху проникают некоторые формы персидской и арабской лирики. К концу периода восточные начала начинают живо чувствоваться во всех сферах культурной жизни. Но Армению ждал новый обновляющий приток идей с Запада.
Багратидское царство и другие армянские «царства» и «княжества» на севере распались и были поглощены Византией (начало XI в.). Вскоре затем все эти области были захвачены новыми завоевателями, тюрками-сельджуками (падение Ани 1071 г.). Однако армянская самостоятельность не погибла под этими ударами. Она возродилась на юге, в Киликии, где армянскими выходцами, во главе с князьями Рубенидами, было основано Киликийское царство, – сначала маленькое баронство, потом обширное и значительное государство. Это Киликийское царство просуществовало три столетия (приблизительно с 1080 г. по 1375 г.). В то же время на севере коренные армянские области также добились освобождения от тюркского гнета при содействии единоверной Грузии (начало XII в.). В области Ани стали правителями, под грузинским сюзеренитетом, князья Долгорукие (Иван и Захария и их потомки); в соседних областях – другие армянские княжеские дома. Эти полунезависимые княжества (Долгоруких именовали тогда и «царями») продержались до походов Тамерлана (XIV в.) и завоеваний турок-османов (XV в.).
В Киликийском царстве произошло сближение армян с Западной Европой. На самой заре его существования киликийские армяне вступили в сношения с крестоносцами, путь которых лежал через Киликию. Впоследствии эти сношения с Европой не прерывались, но развивались шире. Рубениды, получившие королевский титул в 1198 г. от папы и германо-римского императора, и их преемники связали себя с владетельными домами Запада длинным рядом брачных союзов. До нас дошла разнообразнейшая переписка королей Киликии с европейскими государями и папами (на латинском языке). Обширная торговля Киликии привела в нее выходцев со всех концов мира, и все большие города Европы имели в киликийских центрах свои колонии и фактории. Один документ, относящийся к царствованию Левона V (середина XIV в.), перечисляет в киливийской гавани суда из Генуи, Венеции, Нима, Монпелье, Севильи, Брюгге, Лондона, Мессины, с Майорки, с Крита… Государственный строй Киликии совпадал с формами западного феодализма. Ученые Сиса (столицы Киликии) именовали себя «докторами». Один из киликийских писателей, Нерсес Ламбронский (XII в.), жаловался, что «населенно заимствует у франков любовь к благам временным, так же как и много прекрасных вещей» и т. под.
Параллельно этому в областях древней Армении происходило дальнейшее объединение армянской культуры с определявшейся культурой мусульманского Востока. В позднейших строениях, обнаруженных раскопками в Ани, всего больше мотивов арабского зодчества. Остатки дворцовой обстановки и домашнего обихода свидетельствуют о развитии чисто «восточной» пышности. Хотя с Киликией северная Армения находилась в постоянных сношениях, обособленное положение все же делало ее естественным членом восточной семьи государств. Культура новой Персии и Грузии должна была в этот период гораздо живее влиять на древнюю Армению, нежели Западная Европа, влияние которой могло доходить лишь через посредство Киликии. Три столетия отдельного существования Киликийского царства и царства Долгоруких завершили процесс тысячелетий: западные и восточные элементы, в разных формах и проявлениях, были восприняты армянским народом. Исторические судьбы словно озаботились, чтобы то и другое влияние имели свои преимущественные эпохи и свои центры восприятия.
Монгольское нашествие и завоевание турок-османов положили конец самостоятельности Армении. После того три столетия (XVI, XVII и XVIII) все армянские области томились под мусульманским игом. Беспримерные опустошения во время походов Чингиз-хана, Ленктимура (Тамерлана) и турок-османов, истребительная политика турецких султанов и персидских шахов и кровавые войны между Турцией и Персией, ареной которых большею частью была Армения, – надолго загасили светоч армянской культурной жизни. Но 2-тысячелетняя культура, конечно, не могла погибнуть. Новыми ее носителями, положившими начало армянского возрождения, явились армянские колонии, богато расцветшие во всех больших центрах Европы, отчасти Америки и Азии. В колониях были основаны, между прочим, первые армянские типографии и зародилась новая армянская литература. По самому своему положению армянские колонии в Европе (в Венеции, Вене, Амстердаме, Париже и др. городах) способствовали проникновению в среду армян европейских идей. В то же время в самой Армении силой вещей в массу порабощенного армянского народа просачивались обычаи, верования и уклады жизни мусульманского мира. Таким образом, и в эти тягостные века работа тысячелетий продолжалась.
С начала XIX в. часть армянских областей перешла под скипетр России. Этим для части армян была открыта возможность для мирного развития народных сил и новой культурной жизни. Зародилась новая армянская литература и был выработан новый литературный язык, называемый ашхарапар – в отличие от древнего классического грапара. Однако и в этом возрождении сказалась вековая разъединенность армян: на Западе и на Востоке (в России) в основу нового литературного языка были положены различные наречия: константинопольское – у западных армян, араратское – у русских. Сообразно с этим новоармянская литература пользуется двумя, несколько отличающимися одно от другого, наречиями. Помимо того и самое развитие новоармянской литературы шло в двух течениях, – западном (в Европе) и восточном (в России), что повело к образованию двух основных литературных школ, получивших название: школы турецких и русских армян. В этом разделении можно видеть последний отголосок извечной борьбы в Армении двух начал, – Запада и Востока.
Влияние яфетидов и арийцев, Персии и Эллады, Парфии и Рима, Ново-Персии и Византии; арабы и царство Багратидов, Анийское княжество Долгоруких и Киликийское царство, Армения под мусульманским игом и армянские колонии в Европе; школы турецких и русских армян в новой литературе, – таковы, в схематическом изображении, те этапы, которые характеризуют взаимодействие Востока и Запада, Азии и Европы в Армении. Если исторической миссией армянского народа должно признать искания синтеза этих двух извечно противоборствующих начал, то армянская литература должна отразить в себе этапы этих исканий. И, прежде всего, отразить эту борьбу разнородных элементов и первые попытки их гармонического примирения должна лирика, как голос народной души.
2
Двуединство армянского народного характера дает ключ к армянской народной поэзии.
Существует армянская народная сказка, по-видимому, весьма древнего происхождения. Когда-то, – рассказывает сказка, – розу любила птичка булбул и воспевала розу лучше всех других птиц; никакая птица не могла сравниться с булбулом в искусство песни. Но пришло такое время, что прилетела другая чужеземная птица – в армянской сказке: иадон, и этот надои тоже полюбил розу и стал ее воспевать еще лучше, так что булбул должен был улететь, и его песни забылись. Булбул по-армянски значит – соловей: слово это заимствовано из персидского языка; но иадон тоже значит – соловей: это – искаженное греческое слово ‹…› (аидон, с перестановкой двух первых букв). В народной сказке, следовательно, символически изображена смена двух влияний – персидского и эллинского, восточного и западного. В народной армянской песне те же влияния сказались в сочетании восточной яркости, пестроты с западной сдержанностью, стройностью.
Определить время, когда возникли те или другие песий, большею частью невозможно. Лишь некоторые удается приурочить к известной эпохе, или потому, что они дошли до нас в памятниках известного времени (так, несколько древнейших народных песен сохранили нам Моисей Хоренский, Григорий Магистр и др.), или потому, что песня явно относится к известному историческому событию (такова песня о пленении короля Левона, новые песни о Зейтунском восстании и т. под.). Самое содержание песни и даже язык, на котором она сложена, не всегда дают точное указание на время ее возникновения, потому что новые поколения нередко приспосабливали старую песню к своим воззрениям и к своему говору (вставляли, напр., на место имен языческих богов – Имена Христа, Богоматери, Григория Просветителя, Святых и заменяли обветшалые слова и выражения более обычными в данные годы). Поэтому народную песню, – у армян, как у других народов, – приходится рассматривать как итог всей исторической жизни народа. Поколение за поколением, век за веком производили свою критическую работу: песня, менее удовлетворявшая эстетические требования, забывалась; песня, нравившаяся новому веку, как нравилась она отцам и дедам, укрепилась в народной памяти. Таким «естественным отбором» вырабатывался некий канон, создавался особый ковчег песен, где хранилось все, казавшееся народу особенно близким, дорогим и нужным. Уцелевшие на протяжении веков народные песни – не свидетельства отдельных увлечений того или другого периода, но общее выражение народного духа.
До сих пор нет всеобъемлющего собрания армянских народных песен, какое успели, напр., составить (не говоря о первенствующих народах) латыши или финны. Условия исторической жизни всячески препятствовали собиранию материала; поныне армянские фольклористы продолжают находить и записывать неизвестные еще образцы народного творчества (пишущий эти строки сам был свидетелем таких записей в Тифлисе в начале 1910 года). Но собранного как в научных изданиях (над чем в последние годы особенно много потрудился проф. К. Костаньяиц), так и в популярных «песенниках» («ергаран» и «тагаран») достаточно, чтобы дать понятие об особом, исключительном богатстве армянской народной лирики. «В каждом армянине есть поэт», – утверждает старинная поговорка, и она оправдывается сборниками армянских песен. Обладая обычными достоинствами народного творчества, – безыскусственностью, непосредственностью, меткостью эпитетов, – армянская песня поражает, кроме того, особой изысканностью словесного выражения, несвойственной, напр., песне славянской. Знакомясь с армянскими песнями, норой едва веришь, что это не тонко обдуманные создания какого-нибудь позднейшего поэта, искушенного в стихотворной технике, пока не узнаешь, что все эти песни поныне поет народ на плоскогорьях под Араратом, в долинах Аракса, в горных деревнях древней Айастан и еще недавно, до последних трагических дней, пел на побережьях Вана.
В армянской народной песне нет суровости песен скандинавских, вскормленных холодным морем и свинцовым небом: в ней дышит знойность юга и роскошь Востока. Нет в армянской песне заунывности и наивности несен русских, сложенных во дни младенчества нашего народа: в ней чувствуется большая зрелость народа, с самой колыбели брошенного в среду культурнейших наций земли. Нет в армянской песне и грубости германских песен, част отталкивающих своей цинической откровенностью: она заимствовала утонченность мысли и изысканность чувствований у своих восточных соседей. В то же время армянской песне чужда преувеличенная чувственность восточных народных песен: арийская кровь и эллинская школа наложили спасительную узду на восточный разгул фантазии. При всей своей страстности армянская песня – целомудренна; при всей пламенности, – сдержанна в выражениях. Это – поэзия, по-восточному цветистая, по-западному мудрая, знающая скорбь без отчаянья, страсть без исступления, восторг, чуждый безудержности: не песня персидского гаремного владыки, но вздох влюбленного, поджидающего свою милую на свидание; не призыв Магомета – «ведите в плен младых рабынь!» – но благословление матери сыну, идущему на правый бой; не покорный стон вдовы индуса перед погребальным костром, на котором ей предстоит обуглиться вместе с трупом, но полный христианского смирения плач жены на могиле любимого мужа. А особое изящество форм и оригинальность подхода к каждому замыслу позволяют назвать армянскую народную поэзию песнями народа-художника.
Народные песни, переведенные в этом сборнике, должны подтверждать сказанное выше, поскольку перевод может передать очарование народного творчества. Как ни накладывает властно национальность свою печать на создания поэта, все же в «искусственной» поэзии всех народов и эпох есть нечто общее, некоторая всемирная художественная культура, что позволяет пересоздавать стихи на другом языке. В народной песне – все, начиная с языка, своеобразно, единственно, неповторимо. Не довольно сохранить содержание, мысли, образы: при всей точности перевода может отлететь что-то невыразимое, составляющее основную прелесть народной песни. Все же можно обратить внимание читателей на такие вещи, как «Ноктюрн», (название, конечно, позднейшее, данное собирателями), очарование которого в той сдержанности, с какой народный певец передает пламенную роскошь южной ночи; – на любовную песню: «О, злая, с черной красотой…», в которой утонченность самого построения, особого рефрена с повторением только что сказанных слов, сделала бы честь любому мастеру стиха наших дней; – на маленькую, записанную на берегу Вана, песенку: «Ах, раствориться и стать водой…», где в семи строках целое море нежности и где поражает именно неожиданный подход к столь, казалось бы, избитому сюжету. Далее нельзя не указать на своеобразие «обрядовой» свадебной песни «Царю что дам я…», где певец оставил себе в каждом четверостишии лишь по одному стиху (остальные – повторения) и, при таком ограничении художественных средств, достигает величайшего разнообразия; – на сходное построение песни: «Вновь прилетели те птицы…»; – на песни колыбельные и похоронные; – на веснянки – «джан-гюлюмы»; и, наконец, на склад, на манеру всех других, представляющих такое разнообразие замыслов и напевов!
Лирика в армянском народном творчестве господствует, но только оригинальностью своих созданий. Рядом с песнями армянский народ создал немало стихов повествовательных (исторических, на темы религиозные и иных) и сказок. Особый интерес представляют они для этнографа, так как отражают нравы, верования и народный дух разных эпох. В единую эпопею, подобную «Илиаде» и «Одиссее» или «Песне о Нибелунгах», армянские народные поэмы не спаялись. К тому же древнейшие из них, отрывки из которых приводил Моисей Хоренский, утеряны. Те, которые дошли до нас, все относятся уже к эпохам после принятия христианства и притом, сравнительно, поздним. Наиболее популярна поэма о Давиде Сасунском (Сасунское княжество процветало одновременно с Анийским княжеством Долгоруких, т. е. в XIII–XIV вв.). Давид – олицетворение народных идеалов, герой безмерно сильный, неустрашимо храбрый, глубоко целомудренный, непоколебимо честный, до конца правдивый. Но в поэме придана Давиду и комическая черта, оттеняющая его благородство: наивная простота, в которую переходит его прямодушие и которая нередко доводит героя до самых опасных положений; кроме того, Давид – косноязычен, способен увлекаться, порой совершает явные промахи, – все это сообщает образу жизненную правдивость. Рядом с Давидом очертан в поэме ряд других лиц, в характеристике которых также соединены светлые и темные черты, например, дядя Давида – Ован; даже в «злодее» поэмы, великане Мысрамелике, мелькает кое-что привлекательное. Поэма живо изображает быт своего времени, княжеские усобицы конца средних веков и гнет надвигавшихся мусульман. Несомненно, «Давид Сасунский» создан не без сильного воздействия персидского эпоса (образ Рустема и др.), но армянские сказители внесли в поэму и свои черты, напр., ослабили чрезмерности восточных образов. В нашем сборнике, как образцы народного армянского эпоса, мы даем значительную часть поэмы «Давид Сасунский» (вариант Манука Абэгиана) и сказку о «Владыке Аслане», в которой чисто восточный сюжет обработан в христианском духе.
Народная поэзия была в Армении, как мы видим то и у других народов, поэзией устной: ее создания хранились в памяти народа. Поэзия искусственная могла возникнуть только с распространением письменности, которая в Армении утвердилась сравнительно поздно. Традиция приписывает изобретение армянской азбуки свв. Месропу и Сааку в V в. по P. X. Существовала ли до той поры армянская письменность (которая могла пользоваться алфавитом греческим или сирийским), вопрос спорный; по-видимому, существовала, но до нас не дошло никаких, или почти никаких, ее следов. Мы знаем, что древнейшие армянские писатели пользовались иностранными языками, писали или по-гречески, как старейший из них царь Артавазд II, и как несколько позднейших, чьи сочинения дошли до нас: Агафангел (Агатангехос, IV в.), Фавст Византийский (Павстос Бюзандаци, IV в.) и др., или по-сирийски, как (может быть) Зеноб Глак (IV в.). После изобретения письмен возникает национальная литература на родном языке, но уже ее быстрый расцвет заставляет предположить, что ей предшествовали создания армянских писателей не только на чужих языках. Современная наука отказывается допустить, чтобы один и тот же век видел и самое рождение армянской письменности и ее богатое цветение, выразившееся в превосходном переводе Святого писания (который одним западным критиком назван «царицей переводов») и в последовавшем затем «золотом веке» армянской литературы. Предполагают поэтому, что еще до изобретения письмен существовали зачатки армянской письменной литературы, пользовавшейся или иностранным, или своим, но несовершенным алфавитом (на что есть намеки у различных авторов той эпохи). Но вся эта древнейшая письменность погибла, и для нас армянская литература начинается не ранее, как с V в. но P. X.
Эпоха, в которую армянская литература возникла, характеризуется в Армении, как, впрочем, и в большинстве других стран, преобладающим влиянием идей христианства. То было начало средних веков, когда складывалось средневековое миросозерцание, полагавшее в основу религиозное отношение к миру и тот взгляд, что этот мир есть юдоль греха, скорби и скверны, а истинная жизнь начинается за гробом. Средневековое миросозерцание осуждало все земные радости и подлинным благом считало лишь радости духовные, прежде всего радости молитвы, богопознания и, как их увенчание, экстатическое слияние с божеством. Схоластика и мистика – таковы два основных начала всей духовной жизни средневековья, определившие пути науки и искусства. Поскольку духовная жизнь Армении двигалась в направлении духовной жизни Запада, постольку те же начала предопределили дух ранней армянской литературы, в которой властно выразился элемент религиозный и которая к тому же была вовлечена в догматические споры, свойственные всему христианскому Востоку. Благодетельным противодействием такому одностороннему направлению явилось влияние классической греческой литературы, которая с того же V в. стала распространяться в Армении в многочисленных переводах, и в VII в. вызвала появление «школы эллинистов». Этому эллинскому влиянию ранняя армянская литература обязана многими из своих лучших созданий, особенно в ряду исторических трудов, не исключая и книги Моисея Хоренского (на котором сказалось, между прочим, влияние Гомера).
Весьма вероятно, что оба указанных влияния отразились и в ранней армянской поэзии. Наряду с религиозными гимнами, надо предполагать, писались в Армении и стихи, образцами для которых были греческие и латинские антологии или поэмы Гомера, Вергилия и александрийских эпиков. До нас. однако, дошла только одна струя этой ранней поэзии: религиозная, и о существовании второй мы должны лишь догадываться. Все «светские» поэмы того времени (что таковые были, нам кажется несомненным) утрачены; сохранились только «духовные» благодаря тому, что известная часть их была принята для церковного употребления. Именно церковь сберегла для будущих веков целый многовековый период армянской лирики, составив особый канон лучших стихотворений разных авторов, и своим высшим авторитетом утвердивши за этими стихами право на всеобщее внимание. Сохранилось также и небольшое число стихотворений вне этого канона, главным образом потому, что авторами их признавались те же лица, которым были приписаны и гимны, одобренные церковью.
Сборник, в котором дошли до нас древнейшие религиозные армянские песни, называется Шаракан. Полагают, что это слово – семитического происхождения и вошло в армянский язык лишь к XII в.; им означается «духовная песнь» и, в смысле собственного имени, та книга, где эти песни соединены. Редакция «Шаракана», известная ныне, выработана, по-видимому, лишь в XIV в., но ей предшествовали более ранние. Так, есть известия, что сборник духовных песен, прототип будущего «Шаракана», был составлен и одобрен церковным собором еще в VII в. В современном виде «Шаракан» обнимает религиозные песни, слагавшиеся на протяжении 8 столетий, причем традиция приписывает эти песни двум группам поэтов: древнейшим, от V до VIII в., в том числе – свв. Месропу и Сааку (V в.), Иоанну Мандакуни (V в.), Моисею Хоренскому (V в., по новым исследованиям жил гораздо позднее), католикосу Комиту (VII в.), Барсегу Тчону (VII в.), Иоанну философу (VIII в.), и более новым – от XI до XIII в., в том числе – Григорию Мартирофилу (XI в.), Нерсесу Благодатному (XII в.), Нерсесу Ламбронскому (XII в.), Иоанну Ерзынкайскому (XIII в.) и др., всего же 18 авторам. При всей научной спорности этих традиционных атрибуций, несомненно, что в «Шаракане» имеются наслоения разных эпох, и гимны, приписываемые древнейшим слагателям, отличаются от позднейших как по языку, так и по общему складу. В более древних преобладают стихи, впрочем не подчиненные определенной метрике; в более новых – кадансированная проза, богатая различными звуковыми украшениями (аллитерациями и т. п.).
Исследователь (и переводчик на русский язык) «Шаракана» Н. Эмин отмечает, что в более древних песнях «читателя поражают – простота формы, ясность содержания, оригинальность образов и торжественность тона». Качествами этими особенно выделяются песни, приписываемые авторам V века. Содержанием таких ранних тараканов служат, по большей части, эпизоды из земной жизни Спасителя. Напомнив в кратких словах то или иное евангельское событие, поэты затем изливают свои чувства в смиренном, покаянном сокрушении о грехах или в восторженном гимне, славящем конечное торжество истины. Почти все эти песни очень кратки; их образы заимствованы из Святого писания; поэтическое значение этих гимнов – в подлинном религиозном одушевлении авторов. В нашем сборнике ранние шараканы представлены несколькими отрывками, приписываемыми св. Месропу и Иоанну I Мандакуни.
Пробел между ранними и позднейшими гимнотворцами заполняют стихотворения, не включенные в «Шаракан», но пользующиеся огромной популярностью среди армян, – Григория Нарекского, автора X в. (951 – 1003 гг.), жившего в царстве Багратидов. Григорий Нарекский, сын выдающегося писателя Хосрова Андзевацийского, автора нескольких богословских трудов, и сам замечательнейший писатель всей своей эпохи, оставил ряд сочинений в прозе: толкования на библейские книги, проповеди и т. д. Но слава Григория Нарекского основывается на сложенных им духовных песнопениях, которые справедливо называются «священными элегиями». До сих пор молитвенник Григория пользуется широким распространением в армянском народе, называясь просто «Нарек». В стихах Григория Нарекского религиозное чувство соединяется с истинным поэтическим вдохновением, и многие аллегорические гимны этого поэта остаются прекрасными, независимо от их богословского толкования. Притом Григорий Нарекский довел до высокого совершенства форму стихов, любовно культивируя «звукопись» задолго до того, как она расцвела в лирике персидской и арабской. В этом отношении стихи Григория Нарекского являются предварением «светской» поэзии средневековья. На современников же Григорий Нарекский оказал сильнейшее влияние, и позднейшие поэты «Шаракана» несомненно вышли из его школы. В нашем собрании поэзия Григория Нарекского представлена двумя стихотворениями.
Из позднейших гимнотворцев «Шаракана» особенно выделяются три поэта: Нерсес Благодатный (f 1173 г.), Нерсес Ламбронский (1153–1198 гг.) и Иоанн Ерзынкайский (1250–1326 гг.). От Нерсеса Благодатного, кроме гимнов, включенных в «Шаракан», дошли до нас и другие поэтические создания: элегии, поэма на взятие Эдессы, стихотворное переложение Евангелия, а также сочинения прозаические. Потомок Аршакидов, впоследствии католикос, Нерсес Благодатный – один из замечательнейших и плодовитейших писателей Армении и имел огромное влияние на умы своего времени. Поэмы Нерсеса Благодатного все проникнуты истинным одушевлением, местами высоко трогательны и написаны с исключительным мастерством, обличающим большого художника, плененного и техникой своего искусства. Есть у Нерсеса Благодатного стихотворения, где каждый стих (точнее – два стиха полустишия) начинается последовательно с новой буквы алфавита. Такая стихотворная игра не мешает свободе и чистоте вдохновений поэта. В элегии на взятие Эдессы около 4000 стихов написано на одну рифму, но рассказ остается живым и в речи поэта не чувствуется никакого затруднения. Рассказывают, что многие стихотворения Нерсеса Благодатного (получившего свое прозвище столь же за кротость характеры, как за «благодатное» изящество стиля) – импровизации, плоды бессонной ночи, когда поэт в порыве одушевления творил одновременно и текст и напев, слова и музыку. А. Чобаниан справедливо называет Нерсеса Благодатного «одним из величайших поэтов церкви», и параллель его гимнам приходится искать в XIX в. у Верлена, в его книге «Sagesse». В нашем сборнике Нерсес Благодатный представлен переводом нескольких лирических гимнов и отрывков из элегии на взятие Эдессы.
Нерсес Ламбронский, живший в Киликийском царстве, был один из образованнейших людей всей своей эпохи (XII в.). Он также оставил много сочинений, о которых современные ему европейские авторитеты отзывались с величайшей похвалой. Греки и «франки» называли его «вторым апостолом Павлом» и дивились его святости, мудрости и учености. В стихах Нерсеса Ламбронского меньше непосредственного вдохновения и преобладает рефлексия. То же надо сказать о стихах Ованнеса Ерзынкайского (иначе: Иоанна Плуза или из Дзордзора), от которого, кроме гимнов, сохранились еще стихи дидактического характера, «Хвала св. Григорию Просветителю» и работы научные: рассуждение о движении небесных тел, грамматический комментарий и др. Иоанн Ерзынкайский представлен в нашем сборнике отрывками дидактического содержания.
Однако все эти поэты религиозного направления – только наполовину поэты. Для них поэзия важна и ценна не сама по себе, а по выражаемым в стихах идеям; поэзия еще не цель, а средство. Иногда непосредственное дарование заставляет и гимнотворцев «Шаракана» как бы забывать о своих дидактических задачах. У Григория Нарекского, у Нерсеса Благодатного, кое-где и у других, встречаются строфы и целые стихотворения, в которых поэт свободно изливает свое чувство. Но почти всегда и таким созданиям поэты придают аллегорическое толкование, хотят, чтобы их слова понимались иносказательно. Таково, напр., стихотв. Григория Нарекского об «алмазной розе», в котором мы видим только живую картину природы, но комментаторы признают аллегорическое изображение Богоматери. Кроме того, все эти поэты ограничены в выборе своих тем, посвященных исключительно или библейским сюжетам, или выражению чувств благоговейных. Ограничен и однообразен также выбор образов, большею частью почерпаемых из Святого писания. Современность этим поэтам как бы чужда: то, что они видели ежедневно, что непосредственно волновало их и всех окружающих, проникало в «духовные песни» лишь случайными намеками. Религиозная поэзия, – еще не свободная поэзия, так как поэту заранее указано, о чем и как он должен писать. Вполне свободное художественное творчество в армянской поэзии мы находим лишь в созданиях следующего периода, – в средневековой лирике (XIII–XVI вв.).
3
Средневековая армянская лирика создалась и окрепла в эпоху после окончательной редакции «Шаракана», в темные времена XIV века. То была эпоха, когда после 2-тысячелетнего, более или менее самостоятельного, существования армянский народ принужден был уступить натиску врагов, надвигавшихся со всех сторон. Оба центра армянской культурной жизни гибли под ударами монголов. Киликийское царство было на краю падения, и в 1375 г. последний король Киликийского царства, Левон VI, был захвачен в плен мусульманами. Оплот независимости армянского народа рушился: «окно в Европу» было вновь наглухо заколочено. В то же время на севере, как яростная буря, ломавшая все на своем пути, проходили полчища «железного хромца» Тамерлана, которого армянские летописцы именуют Ленктимуром. Вслед за ними должны были нахлынуть орды турок-османов. Ани был разрушен; города и селения лежали в развалинах; жители разбегались. Подступали века тяжелого порабощения, тем более тяжелого, что господами на этот раз являлись не утонченные, хотя бы и «коварные», византийцы, но персы или арабы, народы, умевшие ценить дары искусства и знания, но дикие турки, чуждые всему, кроме своего слепого фанатизма.
И странно! Именно в эти века в армянской литературе начинает расцветать изысканный цветок чистой лирики. Эпоха была в высшей степени неблагоприятна для всех вообще проявлений литературной деятельности. В то самое время, когда Запад начинал дышать первыми веяниями обновляющего Возрождения, когда в Европе мрачную схоластику прорезывали первые лучи воскресающего античного искусства и оживающей греко-римской науки, когда в средневековое миросозерцание, превыше всего ставившее умерщвление плоти, проникало сияние эллинской жизнерадостности, – в это самое время Армения силою вещей была отброшена к самым черным дням эпохи переселения народов, ко дням Аттилы и вандалов. Как в самое раннее средневековье, в Армении той поры литературе и науке приходилось ютиться и укрываться по уединенным монастырям; совместная литературная деятельность сделалась почти невозможной, литературное общение – крайне затруднительным. Самое образование, которое еще недавно стояло так высоко в академиях Кили-кийского царства и в школах царства Багратидов и князей Долгоруких, – было едва ли не уничтожено, так что писателям трудно было даже рассчитывать найти читателей своим произведениям. И. действительно, многие отрасли литературы склонили головы перед такими неодолимыми препятствиями, под такими жестокими ударами. Крайне уменьшилась деятельность переводчиков; остановились научные изыскания; история ограничивалась немногими, так сказать, только необходимыми созданиями; даже литература церковно-догматическая значительно обеднела. И только для лирики наступила эпоха нового расцвета, богатой и щедрой жатвы того, что было посеяно предыдущими веками. И, конечно, именно этими долгими веками культурного развития, напряженностью их духовной жизни объясняется этот блестящий расцвет самого благородного, самого утонченного, самого хрупкого из всех земных искусств, – чистой субъективной лирики.
Лирика армянского средневековья есть высшее и наиболее самостоятельное создание армянского народа в области поэтического творчества. От европейской поэзии армянская средневековая лирика не стоит почти ни в какой зависимости. Да и что могла дать лирическому творчеству западноевропейская поэзия XIII–XIV bb., еще только зарождавшаяся во всех странах, не исключая и передовой Италии? Несколько большему могла научить поэзия так называемых восточных народов – арабов, персов, – которые издавна культивировали чистую лирику. Указывают на различные заимствования армянских поэтов у своих восточных соседей, особенно в области формы. Так, напр., армянские средневековые поэты охотно строят целое стихотворение на одной рифме, как арабские; на все лады воспевают розу и соловья, как персидские; пользуются характерными особенностями стихотворной формы «газели» и т. п. Однако уже у поэтов предыдущего периода, у Григория Нарекского, как у гимнотворцев «Шаракана», мы находим и изысканное построение строфы, и многократное повторение одной рифмы, и особенно – глубокую игру внутренними созвучиями, ассонансами и аллитерациями, все то, что обычно считается заимствованием. С другой стороны, армянские поэты безусловно внесли в поэзию новый дух, отличный от господствующего духа характерно-«восточного» творчества: отвергли безудержную цветистость, необузданное накопление красок и безграничное нагромождение образов, что составляет необходимое свойство восточной поэзии. Вот почему за последние годы в науке выдвигается мнение, что армянская поэзия гораздо менее подвергалась прямому влиянию Востока, нежели думали раньше, что весь культурный мир Передней Азии, в том числе и армяне, совместно работали над созданием того стиля, который стал характерным как для лирики арабов и персов, так и для поэзии армянского средневековья.
Но можно оставить в стороне эти нерешенные вопросы о степени влияния одной литературы на другую. В конце концов это не так важно, ибо никакое благодетельное «влияние» не может создать искусства там, где нет его зерна. Как ни удобрять и ни поливать землю, на ней не всколосится нива, если в почву не были брошены нужные семена. Века культурной эволюции бросили такие семена в душу армянского народа, и в средние века этот сев всколосился, созрел и дал плод в десять раз и сторицей. Сияющая всеми семью цветами радуги, переливающаяся блеском всех драгоценных каменьев, благоуханная, как полевые цветы и как изнеженные ароматы, то лепечущая, как лесной ручей, то рокочущая, как горный поток, знающая усладительные слова нежной любви и обжигающие речи торжествующей страсти, всегда стройная, гармоничная, умеющая подчинять части общему замыслу, – средневековая армянская лирика есть истинное торжество армянского духа во всемирной истории. Длинный ряд поэтов, преемственно сохранявших традиции своих предшественников, постепенно вносивших новые элементы в содержание и неустанно совершенствовавших технику, идет от XIII до XVI в. – эпохи высшего расцвета средневековой лирики, которая затем частью замирает в созданиях XVII в., частью перерождается в песни ашугов.
Средневековая лирика тесно связана с религиозной поэзией предыдущего периода и вырастает из нее. На рубеже стоит творчество Иоанна Ерзынкайского, гимны которого нашли себе место в «Шаракане», а дидактические стихотворения уже характеризуют переход к поэзии свободной, в которой поэт говорит обо всем, что непосредственно волнует его в современности. Но еще отчетливее сказывается это в творчестве поэта, жившего одновременно с Иоанном Ерзынкайским (ум. в 1326 г.), и известного под псевдонимом Фрик (XIII–XIV вв., ум., м. б. в 1330 г.). Кто именно был Фрик, пока не выяснено. Есть мнение, отожествляющее его со священником по имени Хачатур Кечареци, который жил в ту же эпоху и также писал стихи; ныне это мнение оставлено. С именем Фрика дошел до нас ряд стихотворений, которые еще не все изданы. Написаны они частью на классическом грапаре. частью – с примесью форм разговорного языка того времени. Последнее – употребление общепонятного языка, вместо того, на который 8–9 столетий назад было переведено Святое писание и который уже стал «мертвым» для новых поколений, – составляет характерную черту отличия «средневековых лириков» (термин, конечно, условный) от «религиозных поэтов» предыдущего периода.
Поэзия Фрика – еще дидактична, но уже смело подступает к самой жгучей современности. Подхватывая то течение поэзии, которое отразилось в «Элегии на взятие Эдессы» и в исторических рифмованных хрониках, Фрик в своих стихах говорит обо всем том, что видел своими глазами, как непосредственный наблюдатель о событиях своего века, своего времени, своих дней. Во многих отношениях поэмы Фрика можно назвать сатирами в лучшем смысле слова: поэт с горечью изображает те отрицательные стороны жизни, какие подметил (напр., в приведенных у нас двух стихотворениях). Но Фрик и в другом отношении порывает с традициями своих предшественников. «В то время как большинство древних армянских писателей. – говорит А. Чобаниан, – приписывало, следуя примеру библейских пророков, бедствия, постигавшие Армению, наказанию за их грехи, Фрик восстает против самого Господа Бога и жалуется на его несправедливость по отношению к армянскому народу». Поэт как бы начинает грозную тяжбу с создателем, обвиняя в неправедном суде и его, и самую сущность вещей, судьбу (стихотв. «Колесо судьбы»). Дух свободной критики впервые загорается в этих стихах армянского вольнодумца XIV в. после той догматической покорности воле Божией, которой проникнуты стихи гимнотворцев «Шаракана».
В стихах Иоанна Ерзынкайского и Фрика армянская лирика освобождается от уз церковности и библейских образов. Оставалось сделать один шаг, чтобы перейти к чисто субъективной лирике. Этот шаг и делает младший современник Иоанна и Фрика – Константин Ерзынкайский (родившийся в конце XIII и скончавшийся в середине XIV века). О жизни его мы почти ничего не знаем, и из его произведений дошли до нас только стихи. Тем не менее, в истории армянской поэзии Константин Ерзынкайский должен занять одно из самых почетных мест. Он, между прочим, решительно отказался от классического грапара и стал писать на народном, живом языке, который с тех пор стал общепринятым языком лирики (так наз. «средний» или «средневековый» армянский язык). Важнее, однако, то, что поэт заговорил не только на языке жизни, но и о самой жизни ближе, интимнее, нежели Фрик. Не поучать, не упрекать, не выставлять неправду в сатире хотел Константин Ерзынкайский, но – излить в стихах свою душу, с ее радостями и печалями. Среди армянских средневековых лириков Константин Ерзынкайский был и первым, кто коснулся мотивов любви, ставших затем одной из господствующих тем армянской поэзии.
В нашем сборнике приведена поэма Константина Ерзынкайского, озаглавленная «Весна». Несмотря на упоминание в первой строфе о благости всевышнего, вся эта поэма исполнена духом почти языческим, дышит необузданным веселием бытия. Аскетический идеал средневековья, взгляд на эту земную жизнь, как на юдоль скорби, уверенность, что радости жизни – скверна и грех, остались где-то далеко позади. По силе, по энергии стиха и языка поэма сделала бы честь любой литературе Западной Европы того века, и Европе даже нечего ей противопоставить. А по духу, проникающему поэму, она всеми своими частями принадлежит великому веянью Возрождения, которое тогда едва занималось над передовыми странами Запада и неведомыми путями было занесено в далекие горы Армении. Поэт рад весне, счастлив ею и не боится, не стыдится выразить в стихах эту свою радость, это свое счастие. «Поэзия Константина Ерзынкайского, – справедливо говорит А. Чобаниан, – не создание богослова, ученого и сухого, но плод вдохновения, непосредственного порыва».
По путям, проложенным Иоанном Ерзынкайским, Фриком и Константином Ерзынкайским, пошел целый ряд поэтов следующих поколений – XIV, XV, XVI вв.: Аракел Багешский, Мкртич Нагаш, Кэробе, Ованнес (Ерзынкайский), Ованнес Тылкуранский, Саркаваг Бердакский, Григорий Ахтамарский, Газарос (Лазарь) Севастийский, Нерсес архимандрит и др. Поэзия их только за последние годы обратила на себя внимание исследователей, так что создания средневековой армянской лирики еще далеко не все изданы, собраны и изучены. Разумеется, не все названные поэты обладали равным поэтическим дарованием: одних должно поставить выше, другим отвести более скромное место. Но вся эта поэзия объединена тем же духом, сходной техникой стиха, одинаковыми или похожими формами, в которые выливалось творчество поэтов. В то же время в ней нельзя не отметить определенного поступательного движения, развития, которое вело к совершенствованию техники и к углублению тем. Зерна, брошенные зачинателями средневековой лирики, все принялись и дали ростки. Заимствуя у своих соседей – персов и арабов – некоторые темы и некоторые приемы их разработки, армянские поэты шли своей дорогой, продолжая дело двух Ерзынкайских певцов и, частью, желчного Фрика.
Определенно «восточный» колорит имеет поэма Аракела Багешского (поэта последних десятилетий XIV в.), который изложил стихами диалог между розой и соловьем. Очень возможно, что Аракел Багешский был не первый среди армянских поэтов, избравший такую тему, позднее же целый ряд лириков варьировал ее то ради красочности самих сопоставлений, то влагая в слова диалога аллегорическое содержание. Одна из известнейших поэм такого рода принадлежит Григорию Ахтамарскому, поэту уже XVI в. Историки литературы давно отметили, что образ соловья, влюбленного в розу, – «испоконвечен» в восточной поэзии. Мы его находим особенно часто у персидских лириков – Джелалэддина (XIII в.), Саади (XIII в.), Гафиза (XIV в.), и мн. др., также у арабских и турецких (позднее). Подражал ли Аракел Багешский какому-либо определенному образцу или воспользовался популярным сюжетом как общим достоянием (как им воспользовался, напр., в русской поэзии в XIX в. А. Фет в диалоге «Соловей и Роза»), пока не выяснено. Несомненно, однако, что армянский поэт внес в поэму и свое, хотя бы в заключительных строфах, где истолковывает диалог аллегорически: соловей – это Архангел Гавриил, роза – Богоматерь, царь – Христос. Но и помимо этого внешнего добавления в армянской поэме есть особая сдержанность, которой чуждались чисто-«восточные» поэты. В нашем сборнике стихотворение Аракела Багешского дано в отрывках.
Иной характер имеет лирика Мкртича Нагаша – поэта следующего поколения. Мкртич Нагаш родился, вероятно, в самом конце XIV в., т. е. на столетие позже Ерзынкайских певцов и Фрика и на несколько десятилетий позже Аракела Багешского. Достоверно известно, что Мкртич Нагаш был посвящен в епископы в Сисе в 1430 г.; смерть поэта относят, предположительно, к 1470 г. Известен Мкртич Нагаш также как художник (самое его имя, Нагаш, по-персидски, значит «живописец»), его кисти приписывается много миниатюр в рукописях того времени, и он считается основателем особой школы в миниатюрной живописи. Эпоха, когда жил Мкртич Нагаш, была из числа самых тягостных: он пережил эпидемию моровой язвы, опустошившую Армению, и не менее губительное нашествие Джахан-хана. В этих событиях поэт-епископ принимал близкое участие, всячески стараясь облегчать бедствия населения: посещал больных, выкупал пленных и т. п. Но, исполняя свой долг епископа, находил время и для занятий искусством.
Поэзия Мкртича Нагаша во многом подхватывает мотивы Фрика. Но за сто лет, прошедших с его дней, отношение всей Армении к переживаемым ударам изменилось: при Фрике еще была жива память о самостоятельности предшествовавших веков; при Мкртиче Нагаше мусульманское иго уже стало вековой традицией, рана оскорбленного национального самолюбия, конечно, не зажила, но временно затянулась. Поэтому не только личными особенностями двух поэтов надо объяснять различие их поэзии. Мкртич Нагаш, и в своей общественной деятельности выделявшийся добротой, кротостью, готовностью помогать несчастным, перенес и в поэзию мягкость своей души. Развивая темы Фрика, он не возобновляет его дерзостного спора с творцом, но с тихой грустью призывает покориться неизбежному. Поэмы Мкртича Нагаша, менее блестящие, менее разнообразные, нежели стихи некоторых других поэтов средневековья, все проникнуты глубоким чувством, и его религиозность выражается интимнее, нежели у первых гимнотворцев, и в образах более реалистических. В этом и значение лирики Мкртича Нагаша как нового этапа в развитии армянской поэзии. В нашем сборнике дано одно из характернейших стихотворений Мкртича Нагаша – «Суета мира».
Мотивы страстной любви, впервые затронутые в лирике Константином Ерзынкайским, были подхвачены в XV в. целым рядом поэтов. Эта вечная тема поэзии, быть может, всего более отвечает самой сущности лирики, искусства, запечатлевающего переживания личные, субъективные, а что сильнее волнует душу, нежели любовь? Расцвет лирики всегда совпадает с культом поэзии любви; так было и в Армении. Наиболее яркие стихи на эту вечную тему в XV в. писались двумя поэтами, которые оба носили имя Иоанна, – один Ованнес Тылкуранский, другой – просто Ованнес или Оаннес (может быть, также из Ерзынкайских монастырей). Ованнес Тылкуранский жил во второй половине XV в. и был уже в преклонных годах католикосом в Сисе, от 1489 по 1525 г. Кроме любовных песен, от Ованнеса сохранились стихи дидактического характера, поучения о страхе смерти, о вреде вина, о ложных друзьях и т. п. Известно, что еще при жизни Ованнес Тылкуранский пользовался как поэт высоким уважением современников. Мы даем одну из его песен любви, в которой лишь последняя строфа обличает в авторе его духовный сан.
Дата жизни другого Ованнеса неизвестна: вероятно, он жил также в XV в., если не в конце XIV в. Дошло до нас лишь одно стихотворение Ованнеса, но этого достаточно, чтобы сохранить за поэтом самостоятельное место в истории лирики. В Ованнесе нет мудрой рассудительности Нагаша: он весь – порыв, страсть, пламя. Но стихотворение Ованнеса вскрывает такие глубины чувства, которые стали широко доступны поэзии лишь в наш век. Смело можно сказать, что этот, мало кому известный Ованнес, быть может, простой монах, затерянный в армянском (думают: Ерзынкайском) монастыре XIV или XV в., писавший почти без надежды на читателя, – в выражении своего чувства во многом опередил всю современную ему поэзию на 2 или 3 века. Таких криков подлинной страсти нет ни в сонетах Петрарки, жившего на столетие раньше, ни в любовных песенках Ронсара, писавшего, вероятно, на столетие позже. Стихотворение Ованнеса (повторяем, единственное сохранившееся, воспроизведенное у нас) заканчивается примирительным аккордом. Но не это важно: важно, что поэт нашел такие признания («О, сердце ты мое сожгла…» и т. д.), которые вполне понятны стали лишь в наши дни, после того, как дали свои откровения и Альфред де Мюссе, и Гейне, и Бодлер…
Высшего своего расцвета средневековая лирика достигла в XVI веке, в котором ее наиболее характерным представителем явился Григорий Ахтамарский. Полагают, что он родился на острове Ахтамаре на Ванском озере, по-видимому, в самом конце XV в., был членом местной духовной общины и позднее стал Ахтамарским католикосом. Поэт сам указывает, что одно из его стихотворений написано в 1515 г.; с другой стороны, он был современником католикоса всех армян Михаила I (1547–1574 гг.); таким образом, жизнь Григория Ахтамарсксго падает, приблизительно, на годы 1500–1575. Известно, что положение армянскою народа в эту эпоху не только не улучшилось сравнительно с предшествующими, но, если то возможно, стало еще более невыносимо. Посольства армян к государям Европы, в частности в Венецию, к папе, к императору Германии (1547–1550 гг.), не имели существенного успеха, а, напротив, вызвали озлобление в мусульманах. Персы жестоко опустошали армянские области, а турецкие войска, выступившие против персов, продолжали эти опустошения. Некоторым утешением в этих бедствиях могло служить лишь зарождение в европейских армянских колониях первых культурных начинаний: в 1512 г. была напечатана первая книга на армянском языке; в середине века под руководством католикоса Михаила основана первая армянская типография в Венеции, перенесенная затем в Константинополь. То были первые, слабые ростки грядущего обновления.
При таких тягостных обстоятельствах местной жизни должен был действовать и творить Григорий Ахтамарский. Мы ничего не знаем о других его литературных трудах, кроме стихов, но сохранившиеся его поэмы (общим счетом около 20) показывают в нем, кроме вспышек поэтического гения, незаурядное литературное дарование. Поэмы Григория Ахтамарского всегда глубоко задуманы и, по общей концепции, по стройности выполнения, принадлежат к числу замечательнейших в средневековой лирике. Однако эта стройность плана и затем христианские идеи, вплетаемые поэтом в стихи, – это все, что взял от Запада поэт, всю жизнь проведший в глубине армянского монастыря. Образы, сравнения, весь дух поэзии у Григория Ахтамарского – вполне восточные. Восточным колоритом окрашена его «Песня об одном епископе» (которую мы даем в выдержках согласно с переводом К. Костаньянца), вариант жалоб Фрика на несправедливость судьбы. Еще более «восточным» характером отличается «Песня» (также переведенная нами), в которой поэт, прославляя свою милую, подыскивает десятки ярких уподоблений, сравнивая ее с солнцем, луной, утренней звездой, с драгоценными каменьями, с благоухающими деревьями, с блистающими цветами, со всем, что прекрасно в мире. Эта пышная поэма, насыщенная напряженностью страсти, по-восточному цветиста и сама похожа на горсть самоцветных каменьев, отливающих всеми цветами радуги. Духом восточной поэзии проникнуто и третье стихотворение Григория Ахтамарского, включенное в наше собрание, – «Песня о розе и соловье».
К XVI в., вероятно, относится и поэзия Наапета Кучака. Теперь установлено, что он не имеет ничего общего, кроме имени, с тем поэтом Кучаком, который жил в начале XVI в. в области Вана; Наапет Кучак, по-видимому, был родом из окрестностей Акина (Эгины), так как стихи его по языку, по складу, по отдельным выражениям близко напоминают местные народные песни. Но кто бы ни был исторический Наапет Кучак и на какие бы годы, точно, ни падала его жизнь (во всяком случае, он жил в конце средневековья), – стихи его остаются прекраснейшими жемчужинами армянской поэзии. Среди всех средневековых лириков Кучак выделяется непосредственностью и безыскусственностью своих вдохновений. Это, между прочим, даже подало повод к мнению, что Кучак был только собирателем народных песен, тем более, что в его стихах встречаются мотивы и целые стихи, бесспорно принадлежащие народной поэзии. Такое мнение опровергается, однако, явным оттенком некоторой книжности (ее в дурном смысле слова), лежащим на других стихах Кучака: он мог пользоваться народными песнями как материалом, но многое обрабатывал самостоятельно и своеобразно.
Литературное наследие Наапета Кучака сравнительно богато. До нас дошли от него: гномические отрывки, обычно – четверостишия, песни любовные и ряд трогательных песен изгнанника. Гномы Кучака представляют характерные образцы восточной мудрости. Большею частью, это – те же мысли, воплощенные в сходные символы, какие находим мы в поучительных стихотворениях персидских поэтов: о непрочности житейских благ, о гибельности лжи, о предпочтительности молчания и т. п., – но все это овеяно христианским отношением к миру. Несколько гномических четверостиший Кучака приведено в нашем сборнике. Представлены в нем и песни изгнанника Кучака, – в популярном стихотворении о журавле («Крунк», – впрочем, принадлежность этого стихотворения Кучаку оспаривается). Однако самое драгоценное среди созданий Кучака – его любовная лирика. Его стихи о любви все очень невелики по размерам, часто вложены в форму четверостишия, этого «сонета Востока», как давно было сказано. Чисто восточным колоритом отмечены и образы Кучака, – яркие, блистательные, порой преувеличенные и неожиданные. В стихах чувство страсти преобладает над чувством духовной любви, – тоже черта, роднящая Кучака с восточной поэзией. Но его сила и его очарование – в глубокой искренности его стихов. Это не искусственные рассуждения на избранную тему, не теоретическое или аллегорическое воспевание некоей «милой», которой, может быть, и не существует в мире. Нет, стихи Кучака – свободные излияния души, признания в том, что поэт действительно изведал, записанные по мере того, как их подсказывала самая жизнь.
А. Чобаньян, у которого мы заимствуем некоторые черты этой характеристики, проводит параллель между поэзией Кучака и стихами наиболее прославленных поэтов Востока. Лира Саади, Гафиза и даже Омара Хайама служила царям и вельможам; эти поэты были придворными, и их поэзия отзывается двором, блестит дворцовым лоском. Этого нет в простых песнях Наапета Кучака. Он независим в выражении своих чувств; он ближе к уличной толпе, нежели к дворцовым ступеням; его голос звучал не для «сильных мира сего», а в народных собраниях. Единственный султан, перед которым Кучак склонял голову, была его вечная и властная повелительница – любовь. А. Чобаньян предпочитает сравнивать Наапета Кучака с поэтами XIX века, с Гейне и Верденом, и это справедливо. В XVI веке Кучак дал в своей поэзии образцы истинной лирики, в том смысле, как это слово мы понимаем теперь, – поэзии интимной и свободной, личной и ставящей себе лишь одну цель: выразить чувство, владеющее поэтом в данный миг.
4
XVII век был эпохой, когда армянская средневековая поэзия замирала. Все безотраднее становилось положение Армении; лучшие силы страны покидали ее, – искали приюта на чужбине. Вырастали и крепли армянские колонии, где должна была зародиться новая жизнь, засветить новое армянское Возрождение. В пределах же древней Армении, опустошаемой, систематически обезлюдиваемой политикой султанов и шахов, почти не оставалось места для литературной работы. И все же за стенами монастырей находились трудолюбцы, которые брались за перо, чтобы переписать рукописи более счастливого прошлого и чтобы продолжить работу своих предшественников. В частности, не замолкал и голос поэзии. Несколько поэтов-монахов выступило в Армении именно в XVII в., и бодрые звуки их поэзии служат лучшим доказательством той силы народного духа, которую не могли сломить никакие испытания.
На самом рубеже века стоит Иеремия Кемурджиан, родившийся в 1600 г. То был довольно плодовитый писатель, много переводивший с латинского и греческого, писавший также по вопросам богословским, автор «Истории Оттоманской империи», армянской истории (современные ему события), географии и мн. др. сочинений, написанных на классическом грапаре. Между прочим, Кемурджиан писал также по-турецки и подарил турецкой литературе перевод отрывков из истории Моисея Хоренского. Но, несомненно, Кемурджиан был и поэтом. Кроме стихотворной «Истории Александра», он написал ряд лирических стихотворений, по-армянски (на народном языке) и по-турецки. В своей поэзии Кемурджиан продолжал традиции средневековой лирики, и в его стихах слышен подлинный голос души. Особенность лирики Кемурджиана состоит в том, что славит она преимущественно чувство разделенной любви, радость не только любить, но и быть любимым. Одно из таких стихотворений воспроизведено в нашем сборнике.
Значительнее и оказала большее влияние – поэзия Нагаша Ионатана (или Овнатана), который жил уже в конце века и умер в 1722 г. Ионатан, как и Мкртич, был художник, чему оба и обязаны одинаковым прозвищем: Нагашу Ионатану принадлежат прекрасные фрески в Эчмиадзине. Песни Ионатана все славят любовь и проникнуты какой-то особенной солнечностью. Местами в них чувствуется как бы легкая ирония, словно сам поэт чуть-чуть улыбается над уже изжитыми формами средневековой лирики; но все же в этих песнях столько ликования, такие смелые реалистические штрихи, что они захватывают читателя непобедимо. По приемам творчества этот поэт-монах почти вполне совпадает с той народной поэзией ашугов, которая в ту эпоху начинала получать широкое распространение в Армении. Нагаш Ионатан один из последних поэтов-монахов и один из первых поэтов-ашугов. В этом – историческое значение его поэзии, которой в нашем сборнике мы даем три образца: три «песни любви».
Но уже на смену умиравшей монастырской поэзии выступала поэзия ашугов. Народные певцы, рапсоды, существовали в Армении с незапамятной древности; об них упоминает еще Моисей Хоренский. Армяне, этот «народ-художник», любили, чтобы все празднества сопровождались песней. На семейных торжествах, вроде свадеб, крестин и т. под., в народных собраниях, просто на базарах и в кофейнях – певцы всегда были желанными гостями. Им уделяли почетное место на пире; их музыкальным инструментам (каманча, саз, тар и др.) отводили почетное место на особой полке; когда раздавалась песня, все смолкали, прислушиваясь внимательно. Издавна существовал и обычай состязания между певцами: ашуги поочередно пели песни своего сочинения, и побежденный, обыкновенно, уступал свою каманчу победителю. Возможно, что многие из песен, сохранившихся до сих пор в памяти народа и относимых нами к «народной поэзии», были сочинены именно ашугами для одного из таких состязаний. Но долгое время никто не задумывался над тем, чтобы записать и сохранить эти импровизации. Песни жили только в памяти самого слагателя и тех, кому сам автор передавал их: со смертью этих немногих – песня исчезала, забывалась, за самыми редкими исключениями.
Только в XVIII в. выработался новый тип ашуга-поэта, народного певца, который дорожит своими вдохновениями и хочет сохранить их. Вместе с тем такой ашуг, – до известной степени, конечно, – стал уже человеком книги, т. е. знакомым с поэзией прошлого. Завещая свои стихи будущему, он, естественно, начинал интересоваться прошлым. Наконец, повысились и требования некоторой части народа. От певца стали требовать, наряду с традиционными элементами песни, чего-то большего: оригинальности и строгости формы, глубины содержания. Появились придворные ашуги, певцы, певшие при дворе грузинских царей, где армянский язык получил распространение, рядом с грузинским. Так последовательно, под влиянием роста самих певцов и культурного роста народа, создался тип ашуга-поэта, подхватившего традиции средневековой армянской лирики и поведшего ее дальше, по новым путям. Одним из первых ашугов нового типа был певец Степаннос (живший, вероятно, в XVII в.), песни которого, частью, дошли до нас и который представлен в нашем сборнике одним из своих красивейших стихотворений.
Певцом, вознесшим поэзию ашугов на недосягаемую до него высоту, был Саят-Нова; мощью своего гения он превратил ремесло народного певца в высокое призвание поэта. Можно сказать, что все, что сделали предшественники Саят-Новы, ничтожно пред его подвигом и как бы померкло в лучах его славы. Саят-Нова первый показал и доказал своим примером, какая сила таится в голосе народного певца, – показал, что этот певец не только увеселитель на пиру, но и учитель, пророк, как бы ни казались легкомысленны темы его песен. Саят-Нова воспринял манеру своих предшественников, но придал ей чекан совершенства, и вдруг стало ясно, какое богатство, какая роскошь скрывается в той песне ашугов, к которой многие относились слишком поверхностно. В то время, как умирала монастырская поэзия ученых-монахов, Саят-Нова дал почувствовать, что армянская поэзия жива: она только ушла из монастырских стен в народ и зазвучала в свободных песнях ашугов, распеваемых на базарах, на площадях и на семейных торжествах, в скромных домах простолюдинов.
Саят-Нова наполнил своей жизнью весь XVIII в., так как родился в Тифлисе в 1719 г., а умер (был убит), там же, в 1795 г. Подлинное имя поэта – Арутин; Саят-Нова – псевдоним, означающий, согласно с расследованием Ов. Туманьяна, «царь песнопений» или «владыка музыки» (на языке индустани, который был широко известен в Передней Азии). Отец отдал маленького Арутина учиться к ткачу, но мальчик с ранних лет мечтал стать ашугом: он в свободные минуты убегал слушать состязания певцов и сам учился играть на каманче, на чонгуре и на таре. Рано стал Арутин и сочинять песни, которые распевал сначала в домах родственников, потом – у знатнейших тифлисцев, которые приглашали к себе талантливого юношу. Успех побудил Арутина окончательно отдаться ремеслу певца; он принял имя Саят-Нова и скоро сделался любимейшим ашугом во всем Тифлисе. Сколько можно судить по самым сочинениям Саят-Новы, он успел приобрести довольно обширные познания: в его стихах затрагиваются вопросы довольно сложные, упоминаются различные страны и народы, чувствуются отзвуки поэзии персидской, у которой, между прочим, Саят-Нова заимствовал формы своих песен. Кроме того, Саят-Нова знал много языков; он писал свои стихи не только по-армянски, но также по-грузински и по-турецки; до нас дошло 115 стихотворений Саят-Новы, написанных по-татарски (по-армянски только 46), а грузины считают его своим поэтом.
Дальнейшая жизнь Саят-Новы еще недостаточно исследована. Известно только, что он пользовался покровительством грузинского царя Геракла II, который высоко ценил дарование Саят-Новы и сделал его своим придворным певцом. При дворе грузинского царя разыгрался и основной роман знаменитого ашуга: его любовь к грузинской царевне, которой посвящено большинство его стихотворений. Позднее, уже в немолодых годах, Саят-Нова покинул блестящую жизнь при дворе и вступил в монастырь Сурб-Нишана в Агбаде; это решение поэта связывают со смертью его жены Мармар в 1770 г. В монашестве Саят-Нова принял имя Давида, и, согласно с новейшими архивными разысканиями Ов. Туманьяна, был возведен в сан тифлисского епископа. Этот сан был дан бывшему ашугу католикосом исключительно по настоянию царя. Но и за монастырской стеной епископ Давид не мог победить в себе влечения к поэзии: он продолжал писать стихи и тосковал по публичным состязаниям. Говорят, новый епископ иногда переодевался в одежду ашуга, тайно уходил из монастыря, пробирался в Тифлис и все-таки выступал перед народом как певец. Так, однажды, узнав, что в Тифлисе появился новый ашуг, затмевающий всех других, старик Саят-Нова не устоял перед желанием помериться с ним силами, надел свое старое платье бродячего певца, взял свою каманчу и, явившись на состязание, одержал победу над молодым соперником. Сохранилась переписка, в которой католикос жалуется царю на такое поведение епископа Давида, указывая на соблазн, проистекающий отсюда для народа; престарелому поэту грозило лишение сана, но царь попросил оставить своего любимого певца в покое.
В 1795 году Ага-Махмут-хан персидский обложил Тифлис, и населению угрожала жестокая резня. Узнав об том, престарелый ашуг, он же – епископ Давид, покинул свой уединенный монастырь и поспешил в столицу, чтобы спасти свою семью. Ему удалось удалить из города своих детей в Моздок, где они были в безопасности. Но сам Саят-Нова или не успел уехать, или не захотел покинуть своих сограждан в беде. Как бы то ни было, Саят-Нова был в Тифлисе в тот день, когда город был взят персидским полчищем. Поэт-епископ, вместе с толпой народа, молился на коленях в соборе. Персы потребовали, чтобы все вышли из церкви и приняли ислам. Саят-Нова отвечал одним стихом по-татарски:
Ну храма, нет! но выйду я, не отрекусь я от Христа!Мусульмане вытащили старика из собора силой и убили его на пороге. Теперь на этом месте поставлена мраморная доска, на которой вырезаны – даты рождения и смерти Саят-Новы и его три стиха:
Не всем мой ключ гремучий пить, – особый вкус ручьев моих! Не всем мои писанья чтить, – особый смысл у слов моих! Не верь: меня легко свалить, – гранитна твердь основ моих!Содержание стихов Саят-Новы на первый взгляд – однообразно; однообразными кажутся и формы его стихотворений. Но какое неисчерпаемое разнообразие сумел вложить поэт в эту кажущуюся однотонность! Он почти везде говорит о любви, но как разноцветны оттенки ее в различных стихотворениях, все эти переходы от тихой нежности к пламенной страсти, от отчаянья к восторгу, от сомнения в самом себе к гордому самосознанию художника! Поистине Саят-Нову можно назвать «поэтом оттенков». Он, в XVIII веке, как бы уже исполнил завет, столетие позже данный Верленом:
Pas la couleur, rien que la nuance![5]Да, не надо ярких красок! Истинный поэт дает читателю или слушателю перечувствовать все – лишь силою едва заметных переходов одного цвета к другому. Но как в то же время остры, глубоки и сочны в песнях Саят-Новы эти «оттенки»: их воспринимаем мы как самые яркие цвета, с которыми не могут соперничать никакие мазки менее удачливых (скажем прямо: менее гениальных) поэтов, накладывающих краски слишком густо. Тонкой и нежной кистью живописал Саят-Нова, и тем больше очарования в его всегда пленительных стихах.
Саят-Нова утвердил, освятил для песен ашугов особую форму стихов, приближающуюся к персидской «газели»; после того эта форма стала излюбленной и господствующей у всех певцов. Непременное повторение одного и того же слова (или нескольких одинаковых слов) в конце целого ряда стихов, требуемое этой формой, само уже принуждает поэта искать разнообразия в однообразии. Но в то же время эта форма, почти независимо от поэта, дает особую звучность, углубленную певучесть его стихам. У Саят-Новы соединяется с этим чуткая заботливость вообще о звуковой стороне стиха. Песни Саят-Новы исполнены ассонансов, аллитераций, повторных и внутренних рифм: он один из высших мастеров «звукописи», каких знала мировая поэзия. Вместе с тем он и – дивный эвритмист, умеющий находить новизну напева в общеупотребительных размерах. В этом последнем отношении Саят-Нову можно сравнить в нашей поэзии с К. Д. Бальмонтом. У последователей и подражателей Саят-Новы многие особенности его поэзии выродились в условность: изысканная форма свелась к мертвым повторениям, напевность – к пустой игре звуками, тонкая смена оттенков – к скучной монотонности содержания. Но у самого Саят-Новы все оживлено и одухотворено силой подлинного поэтического гения. Поэт был прав, когда заявлял гордо (это – гордость, создавшая «Памятник» Горация и Пушкина!): «гранитна твердь основ моих!» Хочется верить, что и к памятнику Саят-Новы «не зарастет народная тропа». Такими поэтами, как Саят-Нова, может и должен гордиться весь народ; это – великие дары неба, посылаемые не всем и не часто; это – избранники провидения, кладущие благословение на свой век и на свою родину…
Мощное развитие поэзии ашугов в стихах Саят-Новы, конечно, вызвало к жизни множество последователей и подражателей. Быстро создалась «школа Саят-Новы», и, в сущности, до самых наших дней, армянские ашуги все подчинены его неодолимому влиянию, вращаются в кругу им очертанной орбиты. Вот почему нет надобности ближе останавливаться на отдельных представителях поэзии ашугов конца XVIII и XIX вв. Среди них были певцы талантливые, сумевшие сказать свое слово; немало было среди них поэтов с настоящим даром песнопения, создававших напевные, ласкающие слух строки. Но из пределов, захваченных во владение поэзии ашугов Саят-Новой, никто из них, – как кажется, – не вышел. Все остались талантливыми учениками, – не больше. Добавим только, что число ашугов, т. е. тех из них, которые стали собирать и записывать свои песни, в XIX в. весьма значительно. Эта лирика представляет большой интерес, исторический и эстетический, но мы, в тех общих чертах, которыми характеризуем эволюцию армянской поэзии, принуждены обойти ее молчанием. Те 12 стихотворений Саят-Новы, которые приведены в нашем сборнике, в нашем посильном переводе, дают достаточное представление о различных темах и о характерных приемах поэзии ашугов.
Исключение мы можем только сделать для двух позднейших ашугов, во-первых, – чтобы все же охарактеризовать творчество народных певцов наших дней, а во-вторых, потому, – что у обоих этих поэтов сильнее, чем у других, звучит нечто свое, новое. Мы говорим об ашугах Лункианосе и Дживани. Первый из них, Лункианос, родился в самом конце XVIII в. в Эрзеруме, провел несколько лет в монастыре, потом оказался в Египте, служил секретарем у Ибрагима-паши, но, покинув его, отдался бродячей жизни, полной всевозможных лишений, причем побывал, между прочим, в Петрограде и умер в середине прошлого века в деревне Вареван. Дживани – уже наш современник; он родился в 1846 г. близ города Ахалкалаки, рано сделался бродячим певцом, ашугом, организовал даже целую труппу певцов и пел свои песни с огромным успехом в Александрополе, в Тифлисе, в Баку, в Батуме, в Карее; скончался Дживани в 1909 г. Поэзия Лункианоса замечательна своим мистическим оттенком, мало обычным в песнях ашугов. Поэзия Дживани более разнообразна, разностороння; поэт в своих песнях касался самых различных тем, – из певца любви становился моралистом, воспевал современные ему события, злобы дня и писал застольные песни и т. под. Между прочим, язык Дживани – уже современный литературный язык, и вообще на песнях Дживани сказалось книжное влияние. Среди несомненных подражаний Саят-Нове и некоторым новым поэтам Дживани создал несколько истинно прекрасных стихотворений, которые, вероятно, останутся в армянской поэзии навсегда. Именно такие песни мы постарались воспроизвести в нашем сборнике, так же как и одну из мистических песен Лункианоса.
Но поэзия Лункианоса и Дживани относится уже к следующему периоду. Раньше, чем ашуг Дживани начал слагать свои песни, возникла, выросла и окрепла новая армянская поэзия, – поэзия не народных певцов, но книжная, «искусственная», как обычно (и, конечно, неправильно) ее называют. На Западе, в Константинополе и в европейских колониях армян, и в пределах России, как в армянских областях, прежде всего в Тифлисе, так особенно в армянской колонии в Москве, – началось развитие новоармянской литературы, восстановившей связь армянской литературы с мировой. Выработан был новый литературный язык (точнее: два новых литературных языка или наречия, одно – у западных армян, другое – у русских), и ряд поколений армянских писателей принял на себя трудную, ответственную, но и благодарную задачу, – усвоить армянскому народу все то, что европейские литературы успели свершить за несколько веков, в течение которых Армения была отрезана от общекультурной работы человечества.
История новоармянской литературы есть совершенно особая область знания. Здесь, в этом кратком очерке, невозможно будет сколько-нибудь обстоятельно изложить эту историю и проследить все последовательные этапы ее развития. По многим причинам (в том числе и по недостаточной подготовленности к такой задаче пишущего эти строки) мы должны будем ограничиться лишь указанием на общие черты этого развития и также лишь общими характеристиками наиболее выдающихся деятелей. Притом, внимание мы обратим преимущественно на деятельность поэтов старших поколений, в большей или меньшей степени завершивших круг своего творческого подвига, так как для более молодых писателей, продолжающих идти вперед, изменяться и искать, еще не наступило время истории: их поэзия еще всецело подлежит критике, которой не место в нашем сборнике.
5
Возрождение армянской литературы тесно связано с деятельностью конгрегации мхитаристов, основанной Мхитаром Себастаци (1676–1749) в Константинополе, но упрочившейся в Венеции. Из этой коллегии вышел длинный ряд ученых, писателей и вообще деятелей просвещения.
Мхитаристы издали словари и грамматики армянского языка (древнего), сочинения по истории Армении, переводы классиков европейской литературы на армянский язык и много др. сочинений, оказавших могущественное влияние. Позднее часть мхитаристов основала особую коллегию в Вене и продолжала там ту же полезную деятельность. Из рядов мхитаристов вышли и первые новоармянские поэты, в том числе Багратуни и Алишан. Первый, Арсен Вагратуни (1790–1866 гг.), был представителем лжеклассицизма, еще господствовавшего в его время в европейских литературах. Второй, Геонд Алишан, также не избег этого влияния, но постепенно освобождался от него, что выразилось, между прочим, и в переходе от классического грапара (на котором написаны все более ранние стихотворения Алишана) к новому языку (константинопольскому наречию).
Геонд Алишан (1820–1901 гг.) оставил много ценных научных работ – по истории, археологии, географии и т. под. Но он был и выдающимся поэтом, стихи которого составили в общем 5 томов. В технике стиха Алишан достигал большого совершенства, и его произведения до сих пор сохраняют любовь значительного числа читателей, как искренние и красивые вдохновения. Алишаном написано немало религиозных стихотворений, молитв и гимнов; есть поэмы, посвященные историческому прошлому Армении; есть живые описания природы; особую глубину стихам Алишана придает его трогательная любовь к родине, воспламенявшаяся судьбой поэта, жившего на чужбине. В нашем сборнике Алишан представлен стихотворением «Раздан», в котором «вечная» тема поэзии – возвращение изгнанника в родной край – оживлена и согрета сильным чувством армянина-патриота.
Однако истинными основателями «школы турецких армян» (или константинопольской) в новоармянской литературе должно признать двух поэтов следующего поколения: Пэшикташляна и Дуриана – поэтов, творчество которых уже всецело пользовалось новым языком. Чтобы правильно оценить их деятельность, – так же как и деятельность работавших параллельно с ними зачинателей «школы русских армян», – должно представить себе огромность и трудности выдвигавшихся задач. Предстояло, прежде всего сделав выбор из разнообразных диалектов, выковать новое орудие литературной, в частности поэтической, речи: иначе говоря, – предстояло создать язык: угадать единство в противоречивых элементах народных говоров, приспособить этот язык для выражения всех оттенков утонченной мысли, сделать его пригодным для отражения всех порывов души совершенного человека. Конечно, эту задачу разрешали совместно и прозаики и поэты, но на долю тех, кто писал стихами, выпала наиболее ответственная ее часть: придать языку красоту при сжатости выражений. Рядом стояла другая задача, не менее огромная и не менее трудная: усвоить возникавшей новой армянской поэзии все завоевания европейских литератур, которые к середине XIX века пережили длинную эволюцию, изжив, одна за другой, школы псевдоклассицизма, сентиментализма, романтизма и уже вступив в период господства реализма. В Европе уже были и Гете и Шиллер, и Виктор Гюго и Мюссе, и Байрон и Шелли, не говоря о более ранних творцах: предстояло основные черты созданного ими сроднить и с армянской душой. Наконец, первые новоармянские писатели не имели права быть только художниками: положение родины обязывало их в той же мере быть трибунами, глашатаями полузабытых истин, будить народное самосознание, живить и одухотворять любовь к родному краю, посильно врачевать многовековые раны нации, укреплять в ней силы для борьбы и поддерживать веру в лучшее будущее… Только помня эти великие задачи, из которых ни одной нельзя было пожертвовать, можно справедливо оценить сделанное Пэшикташляном, Дурианом, Патканьяном, Шах-Азизом и др. «зачинателями», сумевшими пребыть и истинными поэтами.
Мкртич Пэшикташлян (1828–1868 гг.) был прямым учеником Алишана, так как воспитание получил в обители мхитаристов. Но в монашеский орден Пэшикташлян не вступил, и потому его жизнь прошла более бурно, подверженная всем волнениям страстей, надежд и разочарований. Во внешнем отношении жизнь Пэшикташляна была полна тяжелых испытаний; между прочим, изведал он и борьбу с материальной нуждой; но поэт не запятнал своего образа никаким угодничеством перед сильными. Он прожил свою жизнь скромно, но с достоинством, работал как учитель и был боготворим учениками, знал неудачную любовь, но нашел утешение в светлой дружбе и, благодаря своему ясному, приветливому характеру, приобрел гораздо больше друзей, ежели противников. Уже при жизни избранные круги общества сумели оценить творчество Пэшикташляна, и в дни его последней, предсмертной болезни множество лиц постоянно осведомлялось о его здоровье, что крайне трогало скромного поэта.
Наибольшую популярность имели трагедии Пэшикташляна, особенно те, сюжет которых взят из армянской истории; несмотря на условность формы, драмы эти имели облагораживающее значение возвышенностью своего содержания. В лирике – лучшие вещи Пэшикташляна те, в которых дышит патриотичное чувство: поэт умел подходить к таким темам не банально и каждый раз придавать своим стихам привлекательность новизны. Но, и как поэт природы, Пэшикташлян имеет право на внимание, так как он ее понимал и любил, «дышал одною жизнью» с ней. Темам любви также отдано значительное место в поэзии Пэшикташляна. Ю. Веселовский в очерке о творчестве Пэшикташляна справедливо говорит, что «поэт обладал необыкновенною способностью соединять в своих эротических стихотворениях восточную роскошь красок с миросозерцанием и духовным миром культурного европей ца». В этом отношении Пэшикташлян являлся истинным продолжателем основной традиции древней армянской поэзии. Остается добавить, что в поэзии Пэшикташляна сказывается влияние Гейне и Мюссе и некоторых других поэтов XIX века и что поэтический язык в его стихах еще носит следы раннего периода своего образования. В нашем сборнике Пэшикташлян представлен восемью стихотворениями, характеризующими его как поэта родины, любви и природы.
Совершенно иного типа была личность Петроса Дуриана (1851–1872 гг.), поэта следующего поколения, умершего почти 20-летним юношей и прорезавшего небосклон армянской литературы как яркий метеор. Родившись в бедной семье константинопольского армянина, учившийся только в народной школе, не имевший никаких покровителей или влиятельных друзей, Дуриан одному себе обязан и своим образованием, и своими успехами в литературе. Страстный, порывистый, но настойчивый, Дуриан всю жизнь боролся, – и с нуждой, и с непониманием современников, и с мировыми предрассудками, свойственными не одним только армянам. Автор ряда драматических произведений, выступавший на сцене и как актер, Дуриан наиболее силен как лирик; но лирика всегда – голос молодости, и ранняя кончина Дуриана не позволяет судить, каким мог бы он стать драматургом, если бы мог творить уже после опыта жизни.
Романтик, и по убеждениям и по природе, Дуриан в своих сравнительно немногочисленных песнях прокричал миру о своей страстной любви к родному народу, о своей вере в самого себя, о своих страданиях, которые были бы страданиями каждого мыслящего человека в окружавшей поэта среде, и, наконец, бросил (в стихотв. «Упреки») свой вызов Богу, несколько романтически-преувеличенный, но захватывающий душу искренностью и глубиной чувства… Юноша Дуриан остается в истории армянской поэзии как яркий, огненный штрих: среди других, более спокойных поэтов он показал, что значит в творчестве «темперамент», сила непосредственных переживаний, часто не только заменяющих «школу», «технику», но безмерно возвышающихся над ними… В этом – историческое значение творчества Дуриана, особенно важное и именно для поэзии «турецких армян», последующие деятели которой порой грешили излишней выдержкой, клонясь к холоду парнассизма и ставя себе идеалом его «непогрешимость». Впрочем, многие стихотворения Дуриана и по форме достигают большой изысканности; особенно же изящно умел поэт строить строфу, в чем учителями ему служили его любимейшие французские поэты: Виктор Гюго и Ламартин. В нашем сборнике мы стремились представить поэзию Дуриана во всех ее наиболее характерных образцах.
Наряду с Пэшикташляном и Дурианом в школе «турецких армян» работало немало других поэтов, деятельность которых падает на два средних двадцатипятилетия XIX в. (между 1825 и 1875 гг.). Среди этих поэтов, безусловно, были писатели с дарованием, произведения которых не прошли бесследно для армянской литературы. Из более ранних таковы – Галфаян (Хорен Нар-Бей, 1831–1892 гг.), также член общины мхитаристов, впрочем, впоследствии выступивший из нее, и Ачемьян (р. в 1838 г.), драматург и лирик, автор нескольких красивых стихотворений. Как эти два писателя, так и некоторые из их преемников (назовем: Восканиана, Руссиньяна, Тцеренца; в «Смирнской школе»: Мамуриана, Отиана, Парониана, Демирчибашья-на), бесспорно, – писатели с дарованием. В их произведениях новоармянский язык вырабатывался, очищался и обогащался новыми словами и оборотами. Одновременно с тем деятели школы «турецких армян», не по сознательному методу, но просто подчиняясь влечению личных симпатий, «пересаживали», так сказать, на армянскую почву цветы западной поэзии, особенно – французской. В ряде прямых переводов, сознательных подражаний и невольных реминисценций эти поэты усвоили армянской поэзии мотивы французских романтиков и, отчасти, парнассцев: В. Гюго, А. де Виньи, А. де Мюссе, Ламартина, Сюлли-Прюдома и мн. др. Такая деятельность и подготовила богатый расцвет последующего периода этой школы (конец XIX и начало XX века). Ряд поэтов (мы не будем здесь перечислять их имена) с большим совершенством разработал технику, обточил стих, обострил рифму, испробовал все формы (с особой любовью культивируя сонет) и передал в руки следующего поколения превосходно настроенный инструмент, способный выразить всю гамму раздумий и чувствований современного человека.
Иными путями шло развитие школы «русских армян», деятели которой выступили на литературное поприще позднее. В то время, как на Западе, благодаря деятельности мхитаристов, уже с XVIII века существовала новая армянская литература, хотя и пользовавшаяся для своего выражения мертвым грапаром, русские армяне долгие годы не имели, строго говоря, своей литературы (если не считать совершенно разрозненных попыток издания некоторых учебников, рукописных сочинений и т. под.). Только к середине века вполне созрела потребность дать литературное выражение новому народному духу, и приблизительно около той же эпохи, когда западные армяне стали делать попытки писать на константинопольском наречии, у русских армян возникло первое произведение на араратском наречии, ставшем затем общепринятым: то был роман Хачатура Абовьяна (1803–1848 гг.) «Раны Армении», написанный в 40-х годах (но напечатанный лишь в 1858 г.). Затем, в 50-х годах было положено основание периодической печати на разговорном языке: в 1850–1851 гг., в Тифлисе, Габриэл Патканьян (отец будущего поэта) издавал первый в России армянский журнал «Арарат»; в 1858 г. возник, благодаря энергической деятельности С. Назарьянца и М. Налбандьяна, в Москве, другой армянский журнал, «Северное сияние», продержавшийся несколько лет; Г. Арцруни была основана в 1872 г. в Тифлисе газета «Мшак», издающаяся и поныне… Эти издания вызвали к жизни целую литературу: публицистических статей, рассказов, также – романов и стихов. Из первых деятелей литературы, среди русских армян, должны быть отмечены имена – Раффи (1835–1888 гг.), стяжавшего большую и заслуженную популярность своими широко заду манными романами, Габриэля Сундукьяна (1825–1912 гг.), не менее известного создателя армянского театра, автора превосходных бытовых драм, Перча Прошьянца (роман «Сое и Вартитер», 1860 г., написанный, однако, на аштаракском наречии), и, наконец, зачинателей новой поэзии – Р. Патканьяна и С. Шах-Азиза.
Рафаэл Патканьян (1830–1892 гг.) вышел из семьи, преданной литературным интересам. Дед поэта, Керовпэ, выходец из Константинополя, учившийся у мхитаристов в Венеции и затем поселившийся в Нахичевани на Дону, сочинял песни, охотно распевавшиеся современниками. Отец поэта. Габриэл, по сану – священник, тоже писал стихи и еще больше времени отдавал публицистике, основав (как мы указывали) первый в России армянский журнал. Все три сына Габриэла стали писателями: Микаэл, – кроме статей публицистического характера, писал комедии и организовал первый в Тифлисе публичный театр; Керовпэ, – заняв в Петроградском университете кафедру армянской словесности и истории, оставил ряд научных трудов и ряд стихотворных переводов европейских классиков; наконец, Рафаэл Патканьян – стал знаменитым поэтом. Отец с ранних лет поощрял литературные интересы в своих детях, так что будущий поэт с детства дышал атмосферой литературы. Между прочим, отец сам поправлял его отроческие стихи и позднее некоторые из них напечатал в своем «Арарате». Начальное образование Рафаэл также получил под руководством отца, так как тот содержал в Нахичевани школу; затем, в 1843 г., будущий поэт перешел в Московский Лазаревский институт (основанный в 1815 г.); наконец, с 1852 г. слушал лекции в Юрьевском университете. За эти школьные годы Патканьяном было написано множество стихотворений: самые ранние – на грапаре, последующие – на разговорном языке, однако смешанном из разных диалектов (эриванском, ново-нахичеванском, астраханском) и только относящиеся к концу этого периода – на том «новом литературном языке», который тогда стал завоевывать права гражданства. Многие из юношеских стихотворений Патканьяна исполнены одушевлением молодости и поныне охотно поются армянской молодежью. Но серьезная литературная работа началась для Патканьяна лишь с середины 50-х годов.
В 1855 г. Патканьян вместе с несколькими товарищами издал первый сборник стихов (под псевдонимом Гамар-Катнпа), возбудивший общее внимание; эпиграф книжки гласил: «пиши так, как говоришь, и говори так, как пишешь» (Карамзин). Стихотворение «Слезы Аракса», появившееся вслед за тем, сделало имя молодого поэта популярным, и эта популярность росла с появлением новых стихотворений и новых книг Патканьяна. Одно время он издавал в Петрограде армянский журнал «Север»; но скоро прекратил его, переселился в родной город и здесь, подобно своему отцу, занялся педагогической деятельностью, так как одна литература еще не могла в то время обеспечить жизнь армянского писателя. Но задушевным делом Патканьяна оставалась все же литература: он продолжал деятельно сотрудничать в армянских периодических изданиях, и его стихи тотчас становились достоянием всего народа, видевшего в Патканьяне своего национального поэта. Рано перешли его стихи и в школу, так что дети воспитывались на его поэзии. Последние годы жизни Патканьяна были окружены всеобщим признанием и почитанием, в котором исчезали голоса отдельных недоброжелателей, раздраженных обличительными сатирами поэта. Однако материальное положение уже знаменитого писателя все же оставалось необеспеченным; чтобы дать возможность Патканьяну серьезно лечиться от грозного недуга, пришлось прибегнуть к общественной помощи… Необходимые средства были собраны, но спасти поэта уже не удалось: он скончался в родном городе и там же похоронен, хотя выражал желание покоиться в Эчмиадзине, где теперь воздвигнут Патканьяну скромный памятник-бюст.
Значение поэзии Патканьяна трудно оценить в полной мере читателю не-армянину. Ее основная сила в чувстве высокого патриотизма, в той огненной и бескорыстной любви к родному народу, которая выражается не в одних дифирамбах, но и в горьких сатирах. Истинная любовь не чуждается гнева и даже ненависти, и именно потому веришь в глубину любви Патканьяна, что он смел ненавидеть в родной стране все, достойное ненависти, и умел разить гневными стрелами все, заслуживающее таких ударов. Есть поэты, которые искренно любят родину, но их любовь – слепая, разливающаяся, без различия, на все «родное»; любовь других – безотчетная, не сознающая, на что именно она направлена, подобная привязанности зверя к тому лесу, где он родился; бывают и третьи, готовые любить родину из корыстных целей… Не таков патриотизм Патканьяна: его не ослепляет любовь, он видит грехи и язвы родного народа, но вместе с тем знает, за что его любит и что в нем любит. Это – патриотизм действенный, обязывающий не к безличным восторгам, но к решающим поступкам; это – любовь, оживляющая других и самому поэту дающая черпать из себя все новые силы. Но, конечно, надо быть сыном своего народа, чтобы вполне понять могучее впечатление, которое должна производить поэзия, проникнутая силой такой любви…
Патканьян писал публицистические статьи и беллетристические очерки (на нахичеванском наречии, широко популярные в Нахичевани), но его общенародное значение покоится на его лирике. Песни Патканьяна назначены для народа, и потому в них нет «особенной заботы об отделке языка» (определение Ю. Веселовского); в частности, самый язык Патканьяна представляет соединение разных элементов, так что в нем смешиваются различные армянские диалекты. Но зато поэт умел найти выражения меткие, прямо попадающие в цель, и в каждом стихотворении выдвинуть вперед все самое важное; благодаря этому стихи Патканьяна производят впечатление непосредственное, чем и объясняется их огромный успех в массе читателей. Поэзия Патканьяна во многих отношениях была выражением того, что другие смутно чувствовали в себе; поэт как бы стал голосом своего народа, дал язык немотствующей массе, и каждый читатель чувствовал как бы самого себя автором прочитанного стихотворения. Основой в поэзии Патканьяна является мысль: содержанием – сильный подъем патриотического чувства, все остальное – лишь прикрасой. Стихи Патканьяна, прежде всего и больше всего – голос учителя, в котором так нуждался армянский народ в ту эпоху… Разумеется, все это относится к главным созданиям Патканьяна, так как у него есть отдельные стихотворения другого характера, – выражающие чувство любви, отражающие красоту природы и т. п. Некоторым стихотворениям придан песенный склад, с повторением припева в каждой строфе, и этот прием, заимствованный из народной поэзии, придает стихам новую силу. В нашем сборнике Патканьян представлен преимущественно как поэт идеи и национальный певец, ибо таково его историческое значение. Представлены в сборнике и наиболее популярные стихотворения Патканьяна, как «Слезы Аракса» и «Песнь храброго Вартана Мамиконьяна».
Другим характером запечатлена поэзия Смбата Шах-Азиза (1841–1907 гг.). У него не было, каку Патканьяна, темперамента бойца и властного голоса учителя, хотя цели двух поэтов и понимание ими задач поэзии – схожи. Шах-Азиз, опять в отличие от Патканьяна, посвятил поэзии не всю свою жизнь, но отдал ей лишь порывы юности и отдельных периодов зрелого возраста. Сын священника, родом из села Аштарак (Эриванской губ.), рано потерявший отца, Шах-Азиз воспитывался в Москве, в Лазаревском институте, начал писать еще на школьной скамье и в 1860 г. издал под заглавием «Часы досуга» сборник юношеских стихотворений. Более серьезные стихотворения были опубликованы поэтом в его второй книге стихов, 1865 г., где появилась и большая поэма, названная «Скорбь Леона». Затем, только в 1893 г., Шах-Азиз издал третий и последний сборник стихов, впрочем, весьма небольшой по объему. Помимо стихов, Шах-Азиз участвовал в литературе как публицист и написал довольно много статей, появлявшихся в разных периодических изданиях. В Лазаревском институте Шах-Азиз занимал должность преподавателя армянского языка и исполнял свои обязан ности почти до самой своей смерти. Насколько известно, жизнь его прошла без особых волнений; не было у него и литературных врагов, и его старость была скрашена всеобщим уважением, покоившимся почти исключительно на стихах, собранных в сборнике 1865 г. Стихи Шах-Азиза получили широкое распространение, их охотно пели, изучали в школах, и поэт был признан в числе классиков новоармянской литературы.
«Ораторство – faculte maitresse[6] Шах-Азиза», говорит М. Берберьян, и это совершенно справедливо. Тот же критик отмечает «недостатки формы» в поэзии Шах-Азиза: «слишком однообразный размер стихов, невыдержанный ритм и неправильную рифмовку». Если добавить, что темы стихов Шах-Азиза – все обычные, основные темы лирики: любовь, чувство патриотизма, картины природы и раздумья над «вечными» вопросами, то образ поэта станет ясен. Шах-Азиз сам признавал, что, по его убеждению, дело поэта – «служить своей лирой обществу». В истории армянской поэзии Шах-Азиз занимает место рядом с Патканьяном, хотя уступает ему в непосредственном даровании, – так как выполнял ту же историческую задачу: ковать новый язык и будить национальное чувство. Тот же М. Берберьян, говоря о патриотических стихотворениях Шах-Азиза, которые называет «его речами о патриотизме, облеченными в стихотворную форму», добавляет: «декламаторский тон несколько парализует их силу». О любовных стихах Шах-Азиза этот критик выражается так: «как бы ни была сильна любовь, наружное спокойствие не покидает поэта; пылких излияний чувств вы у него не найдете». Наконец, о философских раздумьях поэта там же читаем: «не имея философского образования, он с жадностью хватался за все, более или менее ясно выраженные идеи; потому-то в разрешении этих вопросов (у Шах-Азиза) много неясного». Таковы ограничения, которые армянский критик счел необходимым сделать к оценке Шах-Азиза, отметив его «богатый и изящный слог» и несколько стихотворений, являющихся «украшением армянской лирики». Мы в нашем сборнике постарались представить эти стихотворения, в том числе действительно очаровательное – «Сон».
Современником Патканьяна и Шах-Азиза был поэт Георг Додохьян, среди стихотворений которого есть одно – о ласточке (представленное в нашем сборнике), прелестная песня, остающаяся украшением всех антологий армянской поэзии. Этой песне, конечно, суждено жить, пока жив будет или хотя бы будет изучаем армянский язык. Подобно французскому поэту Арно, автору стихотворения о «Листике», Додохьян – поэт одного стихотворения, но им он навсегда приобрел себе место в истории армянской литературы.
6
Рядом с названными «зачинателями» армянской поэзии среди «русских» работали и другие, деятельность которых, как и второстепенных поэтов школы «турецких армян», имела свое историческое значение. Так, писали стихи, представлявшие несомненные достоинства, и Хачатур Абовиап и Раффи, но значение этих писателей покоится не на стихах, а на написанных ими романах. Также более романистом был Газарос Агаян (1840–1912 гг.), впрочем, оставивший превосходную «Песню о прялке» (также включенную в наш сборник). Ряд других поэтов развивали темы Патканьяна и Шах-Азиза, «подыгрывая» им, но вместе с тем и двигая их дело вперед. Однако подлинное раскрытие всех богатств, заложенных в армянской поэзии, суждено было только следующему поколению поэтов, – родившихся в 60-х годах XIX в. и, следовательно, выступивших на литературное поприще в 80-х и 90-х годах. В истории всех литератур известны такие эпохи, когда для поэзии вдруг наступает время цветения, словно для вишневого дерева с наступлением весны. Такую эпоху и пережила поэзия «русских армян», когда в последние десятилетия прошлого века один за другим стали выдвигаться – Иоан-нисиан, Цатуриан, Туманьян и Исаакиан.
Иоаннес Иоаннисиан (род. в 1864 г.) выступило первым сборником стихов в 1886 г., в эпоху, когда поэтическая деятельность Шах-Азиза временно прервалась, а Патканьяна – стала несколько менее интенсивной, и был сразу встречен сочувственно и критикой и читателями. С тех пор Иоаннисиан до последнего времени продолжает работать как поэт, помещая свои стихи в периодических изданиях, хотя отдельных книг им издано немного (с его именем вышли всего 3 сборника стихов). Образование Иоаннисиан получил в Московском университете, что позволило ему вполне овладеть русским языком и дать позднее несколько мастерских переводов различных произведений русской поэзии. Некоторое время Иоаннисиан был преподавателем в Эчмиадзинской академии, затем – в семинарии в Тифлисе; за последние годы – переселился в Баку, где занял должность инспектора городских училищ. Человек прекрасно образованный, воспитавший свой вкус на классических образцах мировой литературы, Иоаннисиан во многих отношениях был создателем новейшей фазы новой армянской поэзии: многие ее деятели являются или прямыми учениками Иоаннисиана, или связаны с ним узами дружбы и не избегали его благотворного воздействия.
Указанные черты характера Иоаннисиана определяют и характер его поэзии. Нет сомнения, что его творчество, как и у всех истинных поэтов, развилось лишь под влиянием внутренних, «бессознательных» импульсов. Но, рассматривая его со стороны, можно подумать что оно является результатом методически выполняемого плана. Иоаннисиан словно ставил себе задачей – указать все пути и дать все образцы лирики. Песня, ода, элегия, обработка исторической легенды, философское раздумье – все эти и другие основные формы лирики были любовно и тщательно культивированы Иоаннисианом. Он с большим вниманием, чем его предшественники, отнесся также к технике своего искусства: язык Иоаннисиана чист и обдуман, его размеры строго выдержаны, и его рифма подчинена определенным законам. Выдающейся особенностью поэзии Иоаннисиана является ее близость к народной песне: поэт обработал некоторые древнейшие песни и предания (напр., песню о рождении Ваагна, легенду о царе Арташесе), воспользовался мотивами и приемами народной лирики, и некоторые стихотворения Иоаннисиана вернулись в народ: поются, как подлинные народные песни, утратив имя своего автора (напр., песня «Араз течет, волной бия…»). Конечно, это – одна из высших наград, о которой только может мечтать поэт. В этом смысле Иоаннисиан поистине поэт национальный. Между прочим, связь новой поэзии с народной – характерна вообще для всей школы «русских армян»: в этом сказалась ее «традиционность», в противоположность школе «турецких армян», которая теснее связана с течениями «Запада» – новых европейских литератур. Ту же близость к народной поэзии находим мы в творчестве Туманьяна и Исаакиана.
Ованнес Туманьян (род. в 1869 г.) представляет сравнительно с Иоаннисианом тип поэта более страстного, более непосредственного. Уроженец горного Лори, во многих отношениях автодидакт, человек огромной, но не систематической начитанности, влюбленный в армянскую старину и близкий духом ко всему укладу народной жизни, Туманьян как бы олицетворил собою тип южанина, в котором причудливо сочетаются два начала: кейф и гений. Ныне уже почти «патриарх» новой поэзии, так как уже успело вырасти новое поколение поэтов, принесших с собой новые идеалы, Туманьян является центром всей армянской литературной жизни в Тифлисе. Популярность Туманьяна, как поэта, огромна и особенно растет благодаря тому, что им написано много детских книжек, – сказок, легенд, рассказов, большею частью в стихах, – которые с жадностью читаются детьми. Таким образом подрастающие поколения учатся любить слово и поэзию по страницам Туманьяна и через его стихи впитывают в себя любовь к родному языку. В то же время Туманьян охотно сотрудничает в местной армянской прессе, давая преимущественно статьи по вопросам, связанным с историей литературы. И, кажется, нет во всем Тифлисе человека, кто не знал бы характерной седой головы поэта и не любил бы его, как благородного человека и прекрасного писателя.
Никакого методического плана, какой чудится (конечно, несправедливо) в поэзии Иоаннисиана, в творчестве Туманьяна усмотреть невозможно: оно разливалось свободно, как весенние воды, подчиняясь лишь прихотливому вдохновению художника. И вообще все творчество Туманьяна носит на себе черты импровизаторского таланта (что не исключает работы художника над своими произведениями, из которых некоторые известны в двух и трех последовательных обработках). Наибольшей силы поэзия Туманьяна достигает в лирических поэмах, где сказывается всестороннее знание народной жизни и живое проникновение в глубь народного духа. Для читателей другого народа знакомство с поэмами Туманьяна (например, с его «Ануш») дает больше в познании современной Армении и ее жизни, чем могут дать толстые томы специальных исследований. Поэт в резких и ярких чертах воссоздает быт родного народа, но делает это как художник, вызывая к жизни незабывающиесн образы, не столько индивидуализованные, сколько типические. Некоторая небрежность стиха щедро искупается у Туманьяна чутким пониманием ритма и редким даром звукописи. В целом, поэзия Туманьяна есть сама Армения, древняя и новая, воскрешенная и запечатленная в стихах большим мастером. В детских сказках Туманьян дал образцы наивной безыскусственности и светлого юмора, понятного и близкого детям. Наконец, сделано Туманьяном и несколько стихотворных переводов с русского (отрывок из былины, баллады Пушкина и т. под.), в которых пленяет изумительное проникновение в дух оригинала, способность угадать самую сущность переводимого произведения.
Третий тип поэта являет собою Аветик Исаакиан (род. в 1875 г.). На целое десятилетие более молодой, нежели Иоаннисиан, и на б лет моложе Туманьяна, Исаакиан не минул тех влияний, которых остались чужды его старшие соратники. Кроме того, самая судьба Исаакиана сложилась иначе, и перед ним было более широкое поле наблюдений, так как, не кончив курса в Эчмиадзинской академии, он уже в 1893 г. отправился за границу, где работал в музее в Вене и слушал лекции в Лейпциге. После того поэт неоднократно вновь уезжал в Западную Европу, где находится и ныне. Благодаря сближению с европейскими литературными кругами Исаакиан испытал воздействие того «символистического движения», которое властно захватило всю европейскую литературу в конце XIX в., хотя, впрочем, оно отразилось на творчестве армянского поэта только в своих основных чертах, скорее как мировоззрение, чем как литературная программа. Некоторые обстоятельства личной жизни, нашедшие, конечно, соответствующую почву в самом характере поэта, лишили его также той цельности, которая так привлекает в поэзии Иоаннисиана и Туманьяна. В творчестве Исаакиана есть надлом, надрыв, которого нет у его старших собратьев, и это сообщает его стихам особую остроту. Насколько поэзия Иоаннисиана – серьезно-спокойна, насколько творчество Туманьяна – страстно-радостно (говорим, конечно, об общем устремлении поэтов, а не об отдельных стихотворениях), настолько стихи Исаакиана страдальчески беспокойны и порывисты.
Литературное богатство Исаакиана можно разделить на две половины. Первую составляют его песни, в которых поэт так близко подошел к складу народной лирики, что иные стихотворения кажутся созданиями безымянных певцов, новой серией народных песен. Все обычные мотивы народной лирики использованы здесь со всем тем мастерством, какое дает в руки поэту новейшая стихотворная техника. Этого рода стихотворения связывают Исаакиана с поэзией Иоаннисиана и Туманьяна, делая его характерным представителем школы «русских армян», продолжателем лучших традиций прошлого армянской литературы. Другую половину в творчестве Исаакиана образуют его рефлективные стихотворения и его большая поэма «Абу-Ала-Маари», в которых особенно явно сказывается влияние символического периода литературы. Здесь Исаакиан выступает как один из европейских поэтов, ставя себе те же или сходные задачи, разрешить которые стремятся и лирики других народов – французские, немецкие, русские… По этим стихам можно судить, какого большого мастера имеет армянская литература в лице Аветика Исаакиана. Впрочем, характерно все же, что героем его основной поэмы избран арабский поэт и что вся она насыщена роскошью и негой Азии. Элементы Востока и здесь торжествуют свою победу в создании представителя школы «русских армян», как элементы Запада господствуют везде в творчестве представителей школы «турецких армян».
Ввиду особенно важного значения поэзии Иоаннисиана, Туманьяна и Исаакиана для всей современной армянской литературы, в нашем сборнике их творчество представлено исключительно полно. Эти три поэта составляют наиболее яркое «трехзвездие» на небе армянской литературы, и ее исторические пути лежат через деятельность этих трех писателей. Дальнейшее развитие армянской поэзии должно быть, – и так оно есть в действительности, – частью развитие начал, заложенных ими, частью преодоление поставленных ими пределов, ибо в «новом» всегда продолжение «старого» соединяется с его разрушением. Мы постарались представить разнообразнейшие образцы творчества Иоаннисиана, в том числе и его воссоздания древнейших песен и легенд. Поэзия Туманьяна представлена преимущественно его лирическими поэмами, в центре которых стоит всеобъемлющая «Ануш»; к ней присоединена историческая поэма «Голубиный скит», воссоздающая прошлое Армении, и «Сердце девы»; переведена нами и одна из детских сказок: «Капля меда». В творчестве Исаакиана нами представлены обе половины: ряд песен, приближающихся к народным, и ряд символических стихотворений вместе с большой поэмой (или «каситом в 7 сурах», как озаглавил автор) «Абу-Ала-Маари». Страницы, отведенные Иоаннисиану, Туманьяну и Исаакиану, являются центральными в отделе новой армянской поэзии, характеризуя то высшее развитие, которое пока было ею достигнуто.
Несколько обособленно от этой линии исторической эволюции стоит поэзия Александра Цатуриана (род. в 1865 г.), и только потому ее приходится рассматривать здесь отдельно, так как по своему влиянию на современников и по своему абсолютному значению она не уступала деятельности трех названных поэтов. Ровесник Иоаннисиана, Цатуриан выступил в литературе в тот же благоприятный момент, когда читатели ждали нового поэта, и его первые стихи почти сразу создали ему видное имя. Воспитанный в тяжелой школе жизни, сам пробивавший себе путь, Цатуриан теснее связал свою поэзию с вопросами общественными, которым посвятил значительную часть своих стихов, особенно позднейшего периода. Но рядом с ними он дал и образцы непосредственного лиризма, развивающего «извечные» темы любви и красоты природы. Воспитывая свой вкус преимущественно на лучших созданиях русской поэзии, Цатуриан много внимания уделял отделке языка, и в этом отношении его стихи в свое время представляли значительный шаг вперед, что и было тогда же единодушно отмечено критикой. Роднит же Цатуриана с плеядой его современников та же прикосновенность его поэзии к поэзии народной, которую мы отмечали у всех деятелей школы «русских армян»: таково, напр., очаровательное стихотворение «Веселый май, зеленый май!».
Выдающееся положение занимает Цатуриан в армянской литературе как переводчик стихами. И Иоаннисиан и Туманьян подарили родной поэзии несколько превосходных переводов, но у них то было делом случайного вдохновения. Александр Цатуриан, напротив, сознательно и систематически посвятил себя переводам. В двух томах им была издана антология из избранных произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Никитина и Плещеева; помимо того, Цатурианом были переведены «Стихотворения в прозе» Тургенева, «три рассказа» Гюи де Мопассана, отдельные произведения Шиллера (переводом его стихотворения «Дитя в колыбели» Цатуриан дебютировал в печати, в 1886 г.), Байрона, Гартмана, Гюго, Гейне и др. Эта деятельность переводчика, разумеется, не могла отразиться в нашем сборнике; точно так же по общему характеру книги мы не включали в нее полусатирических, полуюмористических стихотворений Цатуриана, собранных им в сборнике «Шалости пера», где есть очень удачные пьесы. Чистая же лирика Цатуриана представлена в нашем сборнике, по возможности, во всех ее основных направлениях.
Рядом с этими, наиболее видными поэтами своего поколения, работало немало и других, среди которых прежде всего должно назвать Дереника Дэмерчьяна (род. в 1876 г.). Его деятельность не имела такого же влияния, как деятельность его старших сотоварищей, но причина тому, главным образом, в скупости Дэмерчьяна как писателя: посвящая свое время другим областям деятельности (в том числе – музыке), он не имел возможности обработать и раскрыть свое дарование. Именем Дэмерчьяна подписано лишь ограниченное число стихотворений, но среди них есть прекрасная историческая поэма о Ленгтимуре, отрывки из которой представлены в нашем сборнике, как и небольшое, но пленительное по напеву лирическое стихотворение «Осень». Ныне Дереник Дэмерчьян живет в Тифлисе, примыкая к литературному кружку Туманьяна и являясь одним из лучших поэтов его «школы».
Более драматургом, нежели лириком, является Левон Мануэльян (род. в 1864 г.), автор также романа «Разбитая жизнь», рассказов и нескольких поэм. Несколько стихотворений Мануэльяна было в свое время переведено на русский язык, но они не представляют никакого существенного уклона от того, что сделано другими, более видными поэтами его поколения. То же приходится сказать о стихотворениях Леренца, выступившего как ученик Патканьяна, но заменившего страстную одушевленность своего учителя рассудочной риторикой; поскольку идейная поэзия имеет все права на внимание и всю силу воздействия на души современников, постольку поэзия тенденциозная стоит вне путей художественной эволюции. Учеником Туманьяна выступил Ваан Миракиан (род. в 1875 г.), издавший интересную поэму «Охота Лалвара», под псевдонимом Мир-Коно; но поэт не дал более ничего, и потому пока не может быть включен в общий ход развития армянской поэзии. Наконец, оставляя в стороне ряд других имен, мы должны назвать поэтессу Шушаник Кургпньян (род. в 1876 г.), которая после первых опытов в духе Исаакиана обратилась к идейной поэзии в духе правоверного марксизма. В этом отношении Кургиньян представляет собою характерное явление в армянской поэзии. В стихах Кургиньян есть одушевление, и ее поэзия в нашем сборнике представлена. Добавим, что по тому же пути стремится идти Акоп Акоииан (род. в 1869 г.) и несколько других, более молодых поэтов.
Таковы были пути развития школы «русских армян» при поэтах старшего поколения, творчество которых определилось еще в конце XIX и в самом начале XX в. Одновременно с тем поэзия «турецких армян» шла вперед своими путями, следуя, в общих чертах, эволюции западноевропейских литератур, особенно французской. Так, западно-армянские поэты, безусловно, подпали под влияние французского «нарнаса» («парнасской школы»), требовавшего прежде всего безупречности формы и отрешения поэта от своей личности, – исчезновения поэта за создаваемыми им образами. Направление «Парнаса» во всех литературах, усвоивших его, всегда вело к известной холодности творчества, но зато способствовало развитию пластики в поэзии и доводило до высшего совершенства технику стиха. То же произошло и с поэзией «турецких армян», которая в ряде своих лучших созданий может гордиться «непогрешимой» формой («impeccable» – техническое слово в этом отношении), большой скульптурностью образов и обдуманностью содержания в ущерб непосредственности вдохновений и страстности стихов.
Спасительным элементом оставалась для армянских поэтов их неизменная любовь к родине, которая согревала и оживляла их «парнасские» создания. Впрочем, некоторые из поэтов даже в выборе тем не избегли влияния своих западных сотоварищей и, уклонившись от чисто национальных сюжетов, разрабатывали задачи интернациональные. Несомненно, по своей абсолютной ценности иные из таких стихотворений не уступают написанным на темы народные, связанные с жизнью Армении. Для читателя-армянина эти произведения «турецких армян» могут представлять высокое очарование, так как на родном языке дают ему ту же красоту, которую он должен был бы иначе искать в созданиях чужеземных поэтов. Но такое очарование исчезает для читателя другой нации, который может знакомиться с этой красотой или в стихах своих поэтов, или в какой-либо иной, не армянской, литературе. Историческое значение за делом школы «турецких армян» остается, и для армянской литературы она дала много необходимого и прекрасного; но ее значение для читателей не-армян через это значительно уменьшается. В частности, русский читатель – и те «вечные» темы, которые столь охотно и успешно разрабатывает школа «турецких армян», и ту «безупречную» красоту формы, которой достигает она в своих лучших созданиях, – знает и по стихам русских поэтов, и по творчеству французских парнасцев. Вот почему в нашем сборнике поэзии «турецких армян» уделено меньше места, нежели «русских», хотя мы и высоко ценим отдельные произведения западных армянских поэтов.
Надобно, впрочем, признать, что школа «турецких армян» не дала поэта, который, по широте захвата и по богатству творчества, мог бы быть поставлен в ряд с корифеями школы «русских армян». На смену Пэшикташляну и Дуриану не пришел поэт с такой же стихийной силой дарования. Если не говорить о деятельности Демирчибашиана, с поэзией которого мы не могли ознакомиться (по причинам, указанным в «объяснении редакции»), то поколению Иоаннисиана, Цатуриана, Туманьяна и Исаакиана соответствует среди «турецких армян» поколение – г-жи Синил, Шанта, Чобаньяна, Малэзиана и Тэкэяна; моложе их, но примыкает к ним по характеру своей поэзии – Мэцаренц. Однако из ряда этих поэтов ни один не создал своего цельного «мира», какой открывается, напр., в творчестве Туманьяна. Все они к тому же исключительно лирики и чуждаются слишком обширных замыслов и всеобъемлющих задач.
Шант (род. в 1869 г.) – более драматург, нежели лирик. Его драмы очень замечательны (одна из них, «Старые боги», недавно была переведена на русский язык), но как чистый поэт он облюбовал себе ограниченное место: философских раздумий. Как философ-лирик, Шант создал ряд превосходных стихотворений, глубоко продуманных и тонко исполненных. Особое очарование поэзии Шанта коренится в совершенной гармонии между формой и содержанием: они у него связаны неразрывно, и чувствуется, что данная мысль могла быть выражена только в данных образах и никаких иных… Г-жа Синил (род. в 1863 г.) дала ряд красивых стихотворений, ни в чем не уступающих лучшим произведениям французской поэзии того же периода. В стихах г-жи Сипил есть что-то характерно женственное, что редко встречается в армянской поэзии. – Есть задушевность в поэзии Малэзиана (род. в 1873 г.), и есть большое мастерство в строгих стихотворениях Мисака Мэцаренца (род. в 1885 г.), скончавшегося рано и не успевшего развить свое прекрасное дарование.
Наиболее разнообразен и многосторонен среди этих поэтов Ваан Тэкэян (род. в 1877 г.). Вместе с тем он и наиболее национален, так как охотно затрагивает темы армянской жизни и вопросы о судьбах Армении. Есть отголоски поэзии Пэшикташляна и Дуриана в стихах Тэкэяна, и вообще он может считаться с наибольшим правом их прямым преемником. Со школой «турецких армян» Тэкэяна роднит мастерство формы, разработанной у него, как у всех западноармянских поэтов, до высокого совершенства. С другой стороны, Тэкэяна приближают к школе «русских армян» темы, которые характерны для русско-армянских поэтов, – например, о легендарной «лампаде Просветителя». В нашем сборнике поэзия Ваана Тэкэяна представлена рядом переводов, как даны образцы и поэзии г-жи Сипил, Шанта, Малэзиана и Мэцаренца. Стихи этих поэтов, как сходные по приемам с творчеством поэтов французских, легко, сравнительно, поддаются переводу, но вряд ли увеличение числа этих переводов соответствовало бы назначению нашей книги.
Особое место занимает в армянской литературе Аршак Чобаниан (род. в 1872 г.). Неутомимый деятель и плодовитый писатель, он оказал родной литературе неоценимые услуги. Он издавал тексты забытых армянских писателей, иеревел на французский язык образцы народной армянской лирики и лирики средневековой, собранные им в двух томах, редактировал, в Париже, армянский журнал, выступал с лекциями и докладами по вопросам, связанным с армянской жизнью и т. д., – вообще сделал так много, как никто, для знакомства западной публики с Арменией. За все это армянская литература обязана глубокой благодарностью Аршаку Чобаниану. Меньшее значение может иметь его собственное поэтическое творчество, с которым он тоже ознакомил европейских читателей, издав сборник своих стихов в собственном переводе на французский язык. Стихи Чобаниана, чаще всего перепев, иногда – талантливый, поэзии новых французских поэтов, особенно Бодлера и Верлена. В нашем сборнике представлено два стихотворения А. Чобаниана.
В общем, можно установить, что обе школы. – «русских» и «турецких» армян, независимо от размера дарования отдельных поэтов, выполняли в XIX в. каждая свою миссию. Первая – продолжала и развивала традиции древней армянской литературы и сохраняла теснейшую связь с народной поэзией и народной жизнью. Вторая – совершенствовала технику и вводила в армянскую литературу идеи и принципы западных литератур, усваивая себе их новые завоевания. Как мы уже указывали, то было возрождение в новой форме, в новой одежде исконной в армянской литературе борьбы начал Востока и Запада. Через русскую литературу, несомненно влиявшую на поэтов русской Армении, проникало в армянскую литературу углубленное отношение к выдвигаемым вопросам, как через французскую литературу, столь же несомненно влиявшую на западноармянских поэтов, стремление к совершенству стиля и формы. Попытка соединить оба эти направления выпала на долю следующего поколения поэтов, деятельность которых еще только развивается в наши дни.
7
Наиболее видным деятелем среди молодых поэтов «русской Армении» должно признать Ваана Тэриана (род. в 1885 г.). Выступивший с первым сборником стихов в 1905 г., но в ряде стихотворений, опубликованных позже, значительно развивший и углубивший темы своей поэзии, Тэриан был принят читателями и критикой как несомненная величина, хотя в оценке его голоса и разделились. Ученик символистов, Тэриан сделал попытку усвоить армянской поэзии все, что было достигнуто европейской поэзией (особенно – русской и французской) за самые последние десятилетия. Так, Тэриан коснулся тем, которые раньше оставались вне кругозора армянских поэтов, искал новых ритмов в армянском стихе, с исключительной строгостью отнесся к рифме, наконец, дал несколько превосходных переводов новейших русских и французских поэтов. Все эти стремления сближают Тэриана скорее с западноармянскими поэтами, но он остался верен основным течениям школы «русских армян» задушевностью своих вдохновений, подходом ко многим вопросам, всем своим миросозерцанием (не говоря уже о языке и стиле). В нашем сборнике поэзия Тэриана представлена несколькими разнообразными образцами, но, конечно, полного раскрытия его творчества должно ждать только в будущем.
Тем более должно это сказать о молодых поэтах, которые выступили как продолжатели начатого Тэрианом дела. Все они еще очень молоды, и направление их творчества совершенно не определилось. Мы даем, только как пример, два стихотворения Тер-Мартиросиана, не желая тем, однако, выделить начинающего лирика из ряда других и отказываясь высказать решительное суждение о размерах его дарования. К тому же рядом с поэтами, которых в общих чертах можно отнести к нарождающейся «школе Тэриана», работают в армянской литературе другие молодые поэты, идущие своими, от него независимыми, путями. Такова талантливая поэтесса, скрывающаяся под псевдонимом Лейли, одно стихотворение которой представлено в нашем сборнике. Сколько можно судить по тому немногому, что до сих пор напечатано ею, Лейли не задается никакими «программами» и безыскусственно, но не без подлинной, непосредственной художественности, пересказывает в стихах свои личные радости и печали, чаще – печали. Перечисление других молодых поэтов, как г-жа Арменуи Тиграниан и др., и характеристика их начинаний вышли бы из пределов нашей вступительной статьи.
Характерно, что в то время, как в поэзии Ваана Тэриана и его соратников школа «русских армян» делает шаги о сторону большего мастерства и большей строгости техники, школа «турецких армян» в своих молодых представителях устремляется к большему углублению и к большей широте содержания. Особенно заметно это в стихах двух молодых деятелей западноармянской литературы: Даниэла Варужана и Сиаманто (псевдоним Атома Ярджаньяна). О том, какие надежды в будущем можно соединить с этими именами, сейчас говорить затруднительно, так как есть горестное известие, будто оба молодых писателя трагически погибли в страшные дни начала великой войны (впрочем, есть и противоположный слух, утверждающий, что обоим им удалось спастись от турецкой резни). Во всяком случае, и то, что уже сделано Варужаном и Сиаманто, достаточно для того, чтобы обеспечить им место в истории армянской литературы и уяснить общее устремление их поэзии.
Варужан и Сиаманто, подобно многим западноармянским поэтам, не избегли влияния французской поэзии, но выбрали своими образцами те ее новые создания, в которых она освобождается от обособленности «символистов», а ищет сближения с жизнью. Как известно, этот выход из «башни из слоновой кости» всего резче выразился в мощном творчестве Эмиля Верхарна, и отзвуки его поэзии действительно явно звучат в стихах Варужана. Даже в форме стихов и Варужана и Сиаманто, в неравномерных строках их поэм, чувствуется влияние французских «верлибристов» – того же Верхарна, Вьеле Гриффина и др. Но молодые армянские поэты учились у французских собратьев не только технике, но и их живой связи с окружающей действительностью. Мир современной жизни и запросы современной души нашли свое выражение в стихах Варужана и Сиаманто, но не в тенденциозно-риторических рассуждениях, а в живых образах, возвышающихся до значения всеобщего символа. Варужан более суров и жёсток; Сиаманто более лиричен и женствен; но оба – истинные поэты. Каждый из них представлен несколькими образцами в нашем сборнике.
Великая война наших дней должна во многом изменить положение армянского народа, и это, конечно, отразится в армянской литературе и в армянской поэзии. Можно надеяться, что произойдет более тесное сближение между двумя, долгое время жившими обособленно, частями армянского народа, что западные армяне подадут руку восточным, а в литературе две раздельные «школы» сольются в одну. Есть уже несомненные признаки такого сближения. Тогда основные достоинства поэзии западных армян, – выработанность стиля и формальные достижения, – сочетаются с основными достоинствами поэзии армян восточных, – с постоянной углубленностью содержания и близостью к традиционным началам прошлого. То будет первый этап в новом осуществлении вековечной задачи армянской литературы – найти синтез Запада и Востока.
Давно сказано, что пророком быть – дело мудреное. Среди деятелей молодой армянской поэзии можно указать поэтов безусловно талантливых. Но талант – явление случайное, благостный дар неба, как голубые глаза. Явятся ли новые таланты в ближайшие годы и какие именно, этого нам знать не дано. Но по всему, что мы знаем о прошлом армянской литературы, мы вправе утверждать, что перед ней открыты самые широкие перспективы. В народной армянской поэзии и в поэзии армянского средневековья заключен неисчерпаемый родник новых вдохновений. Первая задача грядущих поэтов Армении – приникнуть к этому живительному ключу, черпать затаенные в нем мотивы и по-новому разрабатывать их во всеоружии современной стихотворной техники и в соответствии с духом времени и его новыми запросами. Вторая задача, тесно связанная с первой и подсказанная всем прошлым армянской литературы, – искать и явить миру новый синтез двух вековечных начал, которыми живет все человечество и которые так ярко выражены, в своем взаимодействии, в истории Армении: начал Запада и Востока. Примирить их в высшем единстве, что, на другой ступени развития, уже было сделано поэтами армянского средневековья, – есть выполнение исторической миссии всего армянского народа. Наконец, третья задача армянской поэзии это – полное, всестороннее, предельное выявление народного национального духа… Мировую поэзию справедливо сравнивали с божественной арфой, для которой каждый отдельный народ служит как бы особой струной. Заставить свою струну звучать ей присущим, единственно ей свойственным звуком, отличным от других, и вместе с тем звучать так, чтобы ее голос гармонично сливался со звуками других струн, образуя единую мировую мелодию, – таково самое, быть может, высокое призвание национального армянского поэта…
Сквозь черные тучи, столько раз заволакивавшие горизонт армянской истории, сквозь грозную и душную мглу, столько раз застилавшую жизнь армянского народа, победно пробивались и сияют поныне – огненные лучи его поэзии. Это сияние кажется нам лучшим обетом и для исторических судеб Армении в будущем… Перефразируя слова Тургенева, мы можем сказать с твердым убеждением: «Нельзя верить, чтобы такая поэзия не была дана народу с великим будущим».
1916Сноски
1
Здесь я могу дать только несколько намеков на исторические судьбы Армении. Более подробно история армянского народа изложена мною в отдельной брошюре, являющейся как бы дополнением к настоящему очерку и изданной также Московским Армянским Комитетом: Валерий Брюсов, «Очерк исторических судеб армянского народа с древнейших времен до наших дней», Мск., 1916.
(обратно)2
«Армения побеждена» (лат.)
(обратно)3
«Армения захвачена» (лат.)
(обратно)4
«Армения завоевана» (лат.)
(обратно)5
Никаких красок, только оттенки! (фр.) – «Одни оттенки нас пленяют, // Не краски: цвет их слишком строг!» (Перевод В. Брюсова.)
(обратно)6
способность, сила, дарование (фр.)
(обратно)

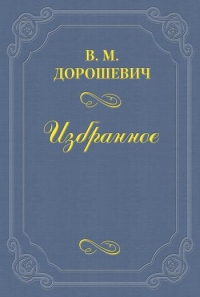



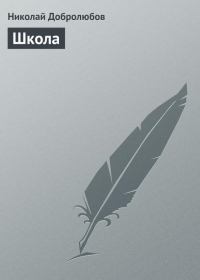
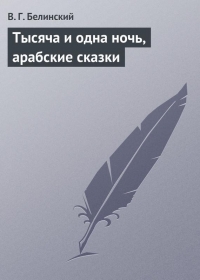
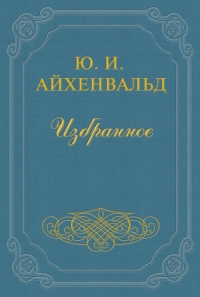



Комментарии к книге ««Поэзия Армении» и ее единство на протяжении веков», Валерий Яковлевич Брюсов
Всего 0 комментариев