Татьяна Владимировна Москвина Ничего себе Россия! Статьи, рецензии, эссе
Часть 1 Закуска. Аперитив
«S» как доллар
Я живу нынче на одной из линий Васильевского острова. Место тихое, степенное, дома стоят так плотно, что вроде бы не втиснуть в них очень уж явно очередную новорусскую дрянь. Нет, «крысы», конечно, не унимаются, и все что-то грызут и лепят, но где-то вдали, в переулочках.
Я же, возвращаясь домой, пока наслаждаюсь настоящим старым Петербургом, который, разумеется, обречен и оттого еще более, в своем предсмертном состоянии, прекрасен. Но вот замечаю я как-то в одном доме признаки начинающейся болезни: выселили оттуда мирный магазин посуды и кротко, как Травиата, погибающее ателье по ремонту одежды. Затянули паутиной. Зарычали злобными голосами, заурчали, стали что-то грызть, грызть, грызть… Что ж там такое будет? – с ленивым любопытством поглядывал квартал. Очередной бездарный ресторан? Офис марвихеров? Арбат, не к ночи будь помянут, престиж?
Действительность, как ей и положено на Руси, превзошла все ожидания. В середине июня паутину сняли, и обнаружилось, что фасад дома почти не пострадал. Правда, в него вставили чудовищной безвкусицы зеркальные стекла (таким образом, внутренности было не разглядеть) и приделали дикое гранитное крылечко с ввинченными фонарями. (Фонари продержались около месяца, после чего подверглись акту вандализма – квартал у нас тихий, но не настолько же.) Над витринами пролегла бордовая вывеска с непонятно чем – какая-то фамилия, написанная словно бы автограф, причем латинскими буквами. Первая буква, «S», была эффектно перечеркнута, как знак доллара. Только одной чертой, не двумя. По всей длине автографа бежала сверху тонкая красная линия, вечером светящаяся неоном и ужасно не идущая бледно-желтому, благородно сдержанному фасаду. Господи, подумала я с тоской, у них у всех, у новых хозяйчиков жизни, наверное, цветоаномалия, неужели они не чувствуют, до какой тоски этот красный неон не идет питерским домам…
Так что ж вы думаете? Это оказалась частная художественная галерея какого-то Ивана С.! Это он шикарно расписался латинскими буквами, фасонисто перечеркнув «S» почти как доллар. И теперь приглашает зайти взглянуть на его живопись.
Открытие галереи Ивана С. было упоительным. Возле входа он поставил тумбу, а на нее наклеил разодранные им на страницы журналы двадцатых годов. Поверх этого красовались объявления вроде: «Художник Иван С. ищет натурщицу» и т. п. Движение в квартале перекрыли. К галерее подъезжали старинные авто и кареты. Кто из ряженых, проходящих в галерею, и есть сам Иван С., у которого «S» как доллар, установить не удалось. К несчастью, именно в этот момент я, спеша по делу, заказала такси и металась по наглухо перекрытому кварталу в его поисках. Дорога моей жизни и дорога жизни Ивана С. решительно расходились…
Через некоторое время, влекомая публицистическим зудом, я позвонила в дверь галереи. Туда так просто не попадешь. Дверь, правда, сразу же открыли, и я попала в царство Ивана С. – пять или шесть прохладных залов, с цветами в вазах и возможностью купить альбом живописи Ивана С. всего за четыре тысячи пятьсот рублей. На осмотр оной живописи ушло около пятнадцати незабываемых минут.
Дело в том, что обычно художники-дилетанты подражают кому-то одному, выбранному за образец. Но наш «S» как доллар подражал чуть ли не всем сразу, отчаянно и вдохновенно подражал «живописи вообще» – от старых венецианских мастеров до импрессионистов. Там были и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и нечто философско-аллегорическое, вроде огроменного полотна «Хозяин времени», на котором задумчивый юноша непомерной красоты сидел под сенью такого же юноши, только увеличенного в размерах и как бы призрачного. Лица и тела несколько отделялись от платьев, и чувство композиции и меры художника вызывало некоторые спазмы. Страшная силища мазка и непреодолимое свечение колорита добавляло к этим спазмам еще и легкое головокружение. Красотища набрасывалась на вас буквально как зверь и искусывала насмерть.
Помимо юношей и дев, одетых в какие-то цветные перья, есть и главное. На картине «Девятый вал» художник изобразил пачки зеленых долларов, в легкой дымке катящих свои волны по метафизическому пространству где-то два на три метра.
Понятно. О-хо-хо, грехи наши тяжкие. Вот такие у нас теперь галереи. Такой, понимаете ли, новый Петербург.
Посудный магазин жалко до слез.
Да, завидую!
Так случилось в моей жизни, что я пишу про искусство. И не то чтобы я его так уж сильно любила. Просто таким, как я, говорливым, витиеватым людям с тяжелым характером и назначением писать, деваться от искусства некуда. Там все-таки можно запросто набросить тень на плетень. Одни говорят – гениально, другие говорят – вздор, ничего бесспорного. Зыбь и рябь. Всегда можно каких-нибудь рассуждений подпустить. Станцевать, так сказать, в тумане босиком.
Другое дело спорт. Тут никакой зыби и ряби, сплошные метры, секунды, голы. Победа конкретна, доказана, осязаема, исчислена. Кто победил, тот и лучший, без дискуссий.
А потому с завистью и восхищением я смотрю на такую область жизни, как спортивная журналистика. Никаких туманов – солнечная ясность. Никому не придет в голову написать, что лучшая команда была такая-то, правда, она и проиграла. Что такой-то – великий спортсмен, хотя он двадцать лет как не показывает результатов. В статьях об искусстве такое сплошь и рядом! «Замечательный артист» – а артист ничего путного не играл лет десять. «Выдающийся режиссер» – а он последнюю качественную картину еще при Брежневе сделал. В спорте этого быть не может. Тут достижения измеряются твердым безжалостным мерилом. На прошлых заслугах никуда не уедешь и фантомных репутаций здесь не сыщешь.
Но в спортивной журналистике есть один раздел, который меня восхищает особенно, до дрожи изумления. Это блиц-интервью со спортсменами. Сказочное, непостижимое явление! Как это им, спортивным журналистам, вообще удается?
Вот, скажем, пробежал человек дистанцию. И появляется вскоре перед камерой. О чем его спрашивать? Я бы ничего не смогла придумать. Произошло явление вне всякой вербальности – человек бежал-бежал и прибежал раньше других. Обычно это измеряется секундой или даже долями секунды. Что тут скажешь? Ну, можно сказать, что ему повезло. А можно сказать, что он молодец. Но о чем его спрашивать-то, Господи?
Однако люди могут всё. То есть не все люди могут всё, но спортивные журналисты – точно.
– Скажите, пожалуйста, имярек, вы волновались перед забегом?
Вопрос далеко не так прост, как может показаться. Имярек на этом месте обычно вздыхает. Если он волновался – это не очень хорошо. Надо владеть собой. Что он, псих, что ли? Но не волноваться совсем – тоже не очень хорошо. Как-то самоуверенно, нагло. Люди таких не любят. И судьба таких щиплет, а спортсмены – люди суеверные.
И наш бегун начинает нести довольно затейливую ахинею, из которой выясняется, что забег, конечно, ответственный и были некоторые чувства, с одной стороны, но была и вера и хорошая подготовка, с другой стороны, и определенные качества характера в конце концов помогли прийти к итогу, который очень радостен на сегодняшний момент.
– Значит, вы верили в свою победу?
Час от часу не легче. Сказать «Да, я верил в свою победу» – путь гибельный. Демоны спорта совершенно неутомимы. Тут же подслушают, донесут, напаскудят – так что в следующий раз до дорожки беговой не доберешься, свалишься с травмой в самое неподходящее время. Наш герой начинает бормотать круто слипшийся текст, из которого уже ничего не представляется возможным разобрать. Да, он возлагал некоторые надежды на этот забег, хотя были очень серьезные соперники. Тут он обычно вообще выворачивает в прошлое и вспоминает какие-то другие забеги и других соперников ни к селу ни к городу, а потом опять выруливает в настоящее время и с облегчением вспоминает о тренере и вообще обо всех людях, которым очень благодарен за то, что стал тем, чем он стал, потому что без тех, благодаря которым он стал тем, чем он стал, он бы никогда, наверное, не стал бы тем, чем он стал благодаря им.
На этом месте его разгоряченная, радостная физиономия постепенно вытягивается и суровеет, потому что наш человек, благодаря наставников, всегда почему-то делает особенно строгое, скорбное лицо. Как бы репетируя похороны своих благодетелей. Кураж победы заменяется усиленной задумчивостью. Между бровей пролегает заметная складка. Напрягаются скулы.
– Ну, что ж! – жизнерадостно рапортует змей-журналист, который так просто и элегантно, за минутку, стер всякие следы победы с лица героя. – Спасибо, имярек! Удачи вам в будущих забегах! Поздравляю!
Вот это работа. Вот это класс. Завидую!
Это такая птица
«Не понимаю, – сетовал великий фантомный поэт Козьма Прутков, – почему судьбу называют индейкой, а не другой, более судьбу напоминающей птицей?» Гениально. Действительно, почему «судьба-индейка»? Отчего не гусь, не курица, не ворона, не дрофа и не аист? Толстая, глупая птица счастья протестантского Рождества – что в ней схожего с фантастической, коварной инстанцией, непринужденно играющей с человеками в бесчеловечные игры?
Разгадка проста: первая часть слова затерялась в веках. Кто-то поленился выговорить целиком, получилось бессмысленно, но смешно, и пошло-поехало. А вы думаете, только великие мысли сохраняются в потоке времени? Да ничуть: сохраняются и оговорки, ошибки, исковерканные и перепутанные понятия. Конечно, «судьба-прохиндейка». Прохиндейка! И вот какая беда: по всем позитивным учениям выходит одно, а по законам судьбы абсолютно другое.
Вообще-то во все времена девушки, охотящиеся за богатыми мужьями, вызывали стойкое презрение. Они были всегда. И всегда вызывали презрение. Порочат они светлый образ Вечной Женственности, с которым мужчины не расстанутся никогда, даже в койке у проститутки будут помнить о нем. «Пусть мы свиньи, а вы не должны». Но друг человечества не находит в душе своей презрения. Он говорит: Бог с ними, с циничными охотницами. Как быть с теми, кто затесался в стаю гадин по недомыслию, не понимая себя и своей судьбы?
Возьмем для научного рассмотрения участь Ксении Собчак. Девушка уже даже целую книгу написала о том, как выйти замуж за олигарха. Но сама так и осталась девушкой, желающей выти замуж за олигарха. Это, конечно, не является препятствием для написания книги. Мы не требуем от специалиста-сексолога, чтоб он лично проделал все те занятные штуки, о которых он пишет. Не пристаем к кулинару, чтоб он постоянно питался теми блюдами, рецепты которых так вдохновенно излагает. Ксения Собчак знает, как выйти замуж за олигарха. Очень может быть, что ее советы многим помогут, и сотни тысяч бедных девушек, с их кривыми ногами и гнусавыми голосами, обретут свое счастье. Потому что олигархи в нашей стране – это не редкие драгоценные птицы, а целая популяция, численностью лишь слегка уступающая часовщикам или чистильщикам обуви. Нет, олигархов даже больше, чем часовщиков…
Итак, Ксения Собчак знает, но сама осуществить свое знание не может. На пороге осуществления сорвалась ее широко и пышно задуманная свадьба с олигархом Шустеровичем. Почему? Что такое узнал накануне свадьбы о своей будущей жене олигарх Шустерович, чего не знают все газеты России и их многомиллионная аудитория? Ничего он не мог узнать. Свадьбу, конечно, расстроила «индейка-прохиндейка».
Ксения Собчак могла бы выйти за олигарха, если бы была Золушкой, девочкой ниоткуда. Таких птичек прохиндейка обожает и с ними она играет в охотку. Но Ксения Собчак ни с какой стороны не Золушка.
Ксения Собчак могла бы выйти замуж за олигарха, если бы была дочерью другого олигарха. Это железно, и в такие дела прохиндейка не вмешивается, предпочитая издеваться над подобными персонажами уже после свадьбы и обычно с помощью детей или их отсутствия. Но Ксения – дочь советской трудовой интеллигенции, дочь людей с университетским образованием, профессоров с неистребимой привычкой что-то постоянно делать, работать. А стало быть что? А то, что мы и видим: ноль мужей-олигархов в судьбе Ксении Собчак. Девушка прилежно трудится на ТВ, в шоу-бизнесе, и хотя ее труд совсем иного качества, чем у папы и мамы, сужденный ей родовой вектор жизни остается без изменений. Не положено ей никаких олигархов!
Ксении Собчак положен совсем другой муж, принципиально другого типа и качества. В нем должно быть что-то героическое, настоящее. Это, вероятнее всего, труженик, но с оттенком популярности, с цельной натурой, лишенной всякого цинизма, милостивый к падшим созданиям. В нем должна зреть мысль о перевоспитании любовью. Например, возможен был бы Николай Валуев, замечательная была бы пара. Прохиндейка очень бы порадовалась за нее. Вот тут, в этом направлении надо было бы думать предприимчивой девушке, а не спорить напрасно с богами.
Надо внимательней слушать зовы судьбы! При всей злобности, она частенько подсказывает своим подданным, где правильная тропинка. Если чего-то желанного вам хронически не удается осуществить – значит, вам этого не дадут, как ни бейтесь, хоть умрите. Уж такая это птица.
Совсем обленились
Вскоре после новогодних праздников пришлось мне услышать, как на одном известном радио женщина-телекритик и женщина-обозреватель по культуре ругали телевидение. Они буквально задыхались от возмущения. Они не могли подобрать слов, чтобы те выразили бы всю силу их благородного, праведного гнева – гнева образованных, культурных людей, которых темные силы злобно гнетут и заставляют сутками смотреть этот ужас-ужас. И кстати, телекритик заметила – ладно, может быть, в телебеспределе будут просветы, вот на «России» покажут в Рождество фильм «Остров», я наконец посмотрю, на что обозреватель по культуре ответила – да, и я тоже…
Стоп-стоп, – подумала я. Как же так? Фильм к тому времени два месяца шел в кино. Продавался на диске. Было ясно, что это одно из главных событий в нашем кинематографе. А люди, которые профессионально занимаются культурой, высказывают суждения, люди, чья прямая обязанность – знать культурный ландшафт страны назубок, не удосужились посмотреть фильм, потратив на это всего два часа. Чем же таким важным они были заняты? Да как чем – смотрели изо всех сил телевизор, чтоб потом его же и поливать. С тем же успехом можно посоветовать плевать в суп, который собираешься съесть…
Другой пример. Наш питерский философ-провокатор Александр Секацкий засветился в «Школе злословия», ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Вещал практически один, привольно и широко. На следующий же день поднялись вопли в чатах и блогах о том, как хорош, красив и красноречив был Александр Куприянович, воин на чужом поле. Надо заметить, большинство сетевых болтунов чрезвычайно высокомерны. Они почему-то, на основании того, что их безграмотные писульки читают сто приятелей, чувствуют себя светилами. Смело высказывают суждения, выносят приговоры. Но источник их знаний всё тот же, и измениться он не может. Секацкий написал восемь книг, он много лет преподает на философском факультете университета, постоянно выступает – но болтуны заметили его только сейчас, в телевизоре. Потому что они точно такие же ленивцы, как и упомянутые мной официальные, профессиональные болтуны.
Все они, и дилетанты, и профессионалы, солидарны в одном – в ужасающей умственной лени. Они изо всех сил ругают телевизор – но они только его и смотрят! Составляют, значит, такой раздраженно-ругательный придаток телеаудитории. Им лень посмотреть фильм, купить книгу, зайти на концерт. Но как бы и чем бы человек не был занят, он всегда может прочесть за год пять-шесть русских книг и посмотреть семь-восемь фильмов, достойных того. Это капля времени! Если он этого не делает, он не имеет никакого права говорить-рассуждать о современном искусстве, клепать приговоры, вылезать со своим мнением.
Говорящие о деградации современной культуры, учтите – первой деградирует публика. Публика обленилась! Абсолютно «мышей не ловит». Ей лень вообще куда-то ползти, напрягать мозги, неохота поддерживать чей-то талант любовью и рублем.
Можно же прекрасно провести время – сначала посмотреть по ТВ Петросяна, а потом включить компьютер и написать в живой журнал, как отвратителен и ужасен Петросян. Милое и какое при этом энергосберегающее занятие! Никуда ходить не придется и ни о чем думать не надо. Чтобы поддержать молодого талантливого писателя или актера своим вниманием, участием, а может быть, о чудо, и пониманием, надо тратить время, силы, знания, надо учиться разбирать, сопоставлять, анализировать. Просто ходить надо в культурные места, ноги передвигать! А ругать телевидение за то, что неправильную жрачку дает, – тут много ума не требуется. Вы, брезгливо цедящие сквозь зубы, что-де сериалы – отстой, реалити-шоу – кошмар, фабрика звезд – зоопарк, знаете ли, например, кто такие Марианна Семенова и Ксения Каталымова? Конечно, нет. А это лучшие молодые актрисы Петербурга, талантливые, смелые, умные, великолепно и много работающие. Вместо того чтобы в стотысячный раз поливать ТВ, лучше сходите и посмотрите Семенову в спектакле «Всё о Еве» («Наш театр») или Каталымову в «Шутниках» («Русская антреприза имени Андрея Миронова»)…
Надо не кушать что дают, а потом ругаться – но жить иначе. Гордо и просто – жить иначе. Преодолевая слабость, инерцию и умственную лень. Вот и все!
Гербарий для девочек
В ресторан вошли две юные девушки. Их нельзя было назвать стройными или тонкими – они были бестелесными. Напоминали игру светотени на стене. Девушки, не издавая ни малейшего звука, приняли положение сидя и что-то прошелестели официанту. Им принесли минеральной воды и фруктовый салат. Они молча, глядя в окно или перед собой, обмениваясь какими-то потусторонними, известными у рыб и прочих обитателей морей сигналами, стали кушать свой салат со скоростью полклубнички в пять минут.
Смотреть на бестелесных девушек было приятно и удивительно. Но больше они не годились ни на что. При виде этих существ, мысли о сексе, рождении и воспитании детей, о ведении хозяйства, о работе хотелось сразу прихлопнуть, как жирных назойливых мух. Ведь быть обычной земной женщиной – это тяжелый физический труд, требующий сил. А эти девушки уже были готовы к ангельскому скольжению в облаках и волшебному сну в чашечках цветов…
Возможно, такие существа в ограниченном количестве зачем-то являлись на Третью планету всегда. Но сегодня, подражая им, миллионы девочек морят себя голодом, чтобы достичь их шелковой, бесплотной грации. И таким образом, о борьбе и конкуренции полов можно смело забыть.
О конкуренции можно было вести речь еще двадцать-тридцать лет назад. Тогда во всех почти что сферах деятельности встречались бодрые, обычно довольно плотные бабенции с дипломами, с толковыми башками, с энергией, с деньгами, чаще всего с мужьями и детьми на добавку. Они и сейчас встречаются – как правило, им за сорок. Гламур, с его идеей уничтожения земных женщин, пришел на русскую землю значительно позднее их полового созревания, и как бы они впоследствии не мудрили со своим телом, здоровые основы уже были заложены.
Ведь для развития организма необходимо питание, полноценное питание. Для головного мозга особенно! Оно нужно ребенку, чрезвычайно важно подростку. Издеваться над собой или принимать какие-то кардинальные решения в этой области возможно только после двадцати пяти лет, когда организм полностью выстроен.
А девочки ничего не кушают! Мучить себя они начинают обычно лет в тринадцать. Мозг питания не получает и не развивается. И что вырастает? Вырастает милое, бесплотное, бесполое существо, которому ничего по большому счету не нужно и которое ни на что не пригодно. Но у нас тут не Эльфинстон, эльфы без надобности, приходится как-то поддерживать жизнь. И вот несчастные эльфинки вынуждены идти служить продавщицами в магазин, секретаршами в контору, официантками в кафе, выполнять трудную, нудную, требующую физических и моральных сил работу.
Боже мой! Я их часто вижу. Покачиваясь на высоких каблучках и от малосилья волоча ноги по асфальту и задевая его этими каблучками, так что получается отвратительный скребущий звук, бледненькие, истощенные, чисто вымытые, в невесомых своих курточках, они еле-еле, ничего не соображая, бредут на проклятую службу. В кафе они десять раз переспросят вас и принесут не то, что нужно. В офисе не ответят ни на один вопрос, слабо шевеля губами и пытаясь понять, о чем их спрашивают. В магазине они стоят, прислонившись к стенке, и с трудом отлипают от нее, пролепетав: «Вам помочь?» Чудные, бестолковые, бестелесные цветочки…
А вот, полюбуйтесь, рядом парень-однокашник. С уже намечающейся плешинкой, с брюшком, полный жизни и огня. Он сейчас вынет плотный зад из машины, напевая веселую песенку, треснет бифштекса с жареной картохой, выльет в нутро пару пива и все дела. Он себя и так любит, во всех видах, ему незачем морить себя голодом ради чьего-то внимания. Да он только свистнет – полки эльфинок явятся на выбор, только ему они без надобности, скучные они какие-то и голова у них болит постоянно. С виду ничего – а не попляшешь, не поиграешь, не выпьешь и не поговоришь.
Так что война полов, можно сказать, отчасти закончена. Кому хватило ума кормить свой мозг, тот в ней и выиграл. Кому не хватило – пожалуйте в гербарий для девочек, раз в месяц кушать в ресторане фруктовый салатик, когда родители деньжат подкинут, да шелестеть остатками сухих лепесточков и крылышек в компании себе подобных.
Убить этот гламур – и то мало.
Особенности русского ума
Название моей статьи – это название цикла лекций великого Ивана Павлова. Пытливый академик однажды на свой страх и риск огласил открытые им особенности национального разума. А риск был немаленький, поскольку на русском свете стояли времена массовых репрессий (тридцатые годы двадцатого века). Иван Петрович, однако, уцелел, хотя делал время от времени заявления беспримерные. Что, дескать, он не только собачек, но даже лягушек бы пожалел для опытов, которые коммунисты ставят над людьми. К русскому уму он отнесся также критически.
По мнению Павлова, ему (русскому уму) свойственна особенность, которую можно описать в терминах автовождения – длинный тормозной путь. То есть если русский человек во что-то въехал, в какую-то идею, в какое-то убеждение, то ему очень трудно из этой идеи и убеждения вырулить. Ему не остановиться, хоть бы даже он и чуял подвижной русской душой, что остановиться надо бы. Поэтому история русских убеждений так часто обращается в историю русских заблуждений.
Скорее всего, бешеный старикан прав. Но нет ли у русского ума и еще каких-нибудь особенностей? Я решила набросать их краткий список.
1. «Маленькие хитрости».
Так назывался в свое время раздел журнала «Наука и жизнь», в котором читатели делились разными мелкими изобретениями. Это была фантастика! Люди выказывали потрясающую гибкость и невероятную изощренность ума – но в решении проблем, которых в нормальном налаженном быту не бывает. То есть сила ума шла на то, чтобы безумную действительность, где любая бытовая мелочь – дикая проблема, так отрихтовать своими «маленькими хитростями», чтоб она сделалась хотя бы немного пригодной для жизни. Это направление «русского ума» энергично развивается и в наши дни, но, к сожалению, в основном по руслу жульничества. (Я знаю, к примеру, человека, придумавшего гениальный способ деформации показаний электросчетчика с помощью обычной шпильки для волос.)
2. «Скепсис как оптика».
Наши люди, которых история отымела по полной программе, ко всему настроены внешне скептически, даже к рассказам экскурсовода. На физиономиях большинства наших туристов, скажем, никогда не появится выражение доверчивого счастья, если им скажут – вот, посмотрите, справа Дворец дожей. «Дворец дожей? Ну-ну, – читается на их лицах. – Хм-хм, посмотрим, что за Дворец дожей такой». Может, внутри у них все от счастья и дрожит – но разум настроен на сугубо критическое отношение к реальности. Если вы скажете нашему человеку – вот, это хороший фильм, он получил «Оскара», наш человек твердо скажет: «Мало ли за что у них там “Оскаров” дают. Посмотреть надо». Если вы станете утверждать, что такой-то человек очень умен, девять из десяти ответят вам: «Не знаю, не знаю. Я от него ничего умного не слышал». Скепсис надет на ум нашего человека, как очки, – потому что без скепсиса наш человек, как близорукий без очков, чувствует себя неуверенно.
3. «Истина далеко».
В иерархии свойств интеллекта, ум практический, решающий непосредственные житейские задачи, ценится невысоко. «Смекалка» есть у многих, а надуть ближнего вообще умеет каждый второй.
Поэтому в негласном почете все отвлеченное, неприкладное, метафизическое. Истина высоко и далеко, рядом ее быть не может. Русский ум редко ищет истину, так сказать, по месту прописки – нет, ему обязательно подавай Гималаи, йогов, Шамбалу, заброшенный монастырь, таинственный остров в океане, дебри Африки, мексиканский кактус, тоталитарные секты и французских интеллектуалов.
4. «Тютелька в тютельку».
Русский ум копирует любые чужие формы жизни один в один, тютелька в тютельку – но только формы. Прошу обратить внимание – за пятнадцать лет реформ мы скопировали ВЕСЬ антураж западного мира, от политики, банкоматов и казино до мобильных телефонов, кредитных карт и стриптиз-баров. Эта странная, призрачная, фантасмагорическая копия наполнена, однако, принципиально иным, нежели в западном мире, содержанием. Именно это гениальное свойство буквального копирования формы и привлекает, и пугает просвещенных иноземцев в русском уме.
Итак, что получается? Чтобы справиться с жизнью, русский ум постоянно копирует некие формы, но не может их присвоить, и жизнь остается чужой и трудной. Тогда приходится применять «маленькие хитрости», сохраняя защитный скептический вид. Ведь кругом одни обманы, а истина где-то далеко! Однако, напав на след истины, русский ум включает «длинный тормозной путь» и обратно ему уже не выехать…
Веселая картинка.
Время как деньги
Из всех общих галлюцинаций – галлюцинация времени самая солидная и подробно обставленная. С пространством куда хуже – я вот вынуждена верить на слово, что на свете есть, к примеру, Владивосток. Я его и сейчас из окна не вижу, и никогда не видела, и увижу вряд ли. А время, оперирующее числами и выраженное в цифрах, всегда со мной.
Еще немного, и вместо 2007 года наступит 2008-й. По законам арифметики 2008 больше, чем 2007, на целую единицу. На нашем человечьем счету времени, видимо, каждый год прибавляются, приращиваются какие-то таинственные проценты по накопительному вкладу, которые мы – а кто его знает? – возможно, когда-нибудь получим в потусторонней сберкассе. А вдруг предусмотрено – докажите обратное! – что человечество, доскрипев до новой эры и вдоволь помытарившись после новой эры, имеет право на доход с прожитого времени?
С этой точки зрения празднование Нового года из вполне бессмысленного превращается во вполне осмысленное. Если рассматривать наше пребывание на Земле как постоянную работу в занимаемой должности Человека Разумного, то каждый год, прожитый человечеством, откладывается на счете «ЧР-03/Земля». И стаж работы в должности человека поступает в общую копилку, откладываясь в виде будущей небесной пенсии каждому в отдельности и всем вместе. Мало того, счет человечества приносит даже здесь и сейчас, в земной зоне, ощутимую прибыль.
Вынесем за скобки огромное количество бесплатных наслаждений – тепло и свет Солнца, аттракцион со звездами и Луной, воду во всем ее головокружительном разнообразии, животный и растительный мир, разум и творческие способности, способ размножения и пр. Это нам подарено и так, по изначальным условиям эксперимента. Но заметили ли вы, что с каждым годом, отложенным на общем счете, нам поступают весомые проценты в виде возможностей манипуляций по сокращению времени?
Двести лет назад дорога из Петербурга в Москву занимала несколько дней. Теперь – один час лету. Письмо на бумаге требовало не менее получаса для написания и путешествовало день-другой (почта двести лет назад работала лучше). Нынче электронное послание идет несколько минут. Стирка одежды или приготовление еды были длительными процессами – сейчас все можно провернуть одновременно и за полтора часа максимум. Все справедливо! Технические изобретения людей не изымаются, не блокируются, а поступают в общее пользование, обращаясь в экономию личного времени. Вот вам и «проценты по вкладу». Накопили – получили. Прожили еще один год – получите еще. Таким образом, празднование Нового года есть торжество необманутых человеческих вкладчиков, чистое торжество небесной бухгалтерии. Тогда как другие светские праздники, особенно те, что связаны с историей, являются слабой, прерывистой галлюцинацией, не приносящей никакой прибыли.
Как известно, 7 ноября 2007 года исполнилось девяносто лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции, события, определившего жизнь, по крайней мере, трех поколений людей. И в этом году, впервые за восемьдесят девять лет, этот день не был отмечен никак – ни шествиями, ни представлениями, ни салютами, ни даже дискуссиями в прессе. Ни одного «революционного фильма» или передачи не было и по ТВ. Известное историческое русское животное корова слизала языком этот день из жизни общества, из истории, из культурного пространства. Я не говорю сейчас о том, хорошо это или плохо (хотя чего ж хорошего-то в таком нарочитом беспамятстве?), я говорю лишь о том, что это возможно. Празднества, обусловленные историческими событиями, всегда ненадежны. А вот праздник чистого времени – Новый год – хоть учрежден и не так давно, кажется довольно устойчивым.
Поскольку время – это деньги Бытия. Это язык, на котором оно с нами разговаривает. Время дается и отнимается, его сокращают и продлевают, у одних его много, а другим не хватает, одни его транжирят, другие берегут и копят, временем вознаграждают и наказывают, его порождают и прекращают.
И что самое замечательное во всей этой истории – мы, вовсю пользуясь временем, по-прежнему не знаем, что это такое и сколько у каждого из нас его осталось.
Занятно придумано.
Красота это…
«Не люблю уродов… Л-л-люблю все к-красивое…» – так бормотал когда-то в картине «Страна глухих» персонаж по имени Свинья. Формула эта (придуманная, кстати, Валерием Тодоровским) совершенно точна – уроды, калеки, люди безобразные и некрасивые (а также все, кто таковыми себя ощущает), разумеется, сильно неравнодушны к красоте. Что касается самих красавчиков и красоток, они чаще всего проявляют в этом вопросе загадочное равнодушие. Чем обладаешь, то разве ценишь? Красавица может обратить внимание на некрасивого, даже безобразного мужчину, а красавец вполне может жениться на девушке скромной внешности. Здесь сценаристы плохих фильмов не проявляют особой фантазии. Это действительность. Правда, сценаристы плохих фильмов обычно напирают на то, что избранник/избранница красивого героя/героини обладает высокими нравственными достоинствами, а вот это уже лабуда. По моим наблюдениям, красивых людей привлекают только две вещи: деньги и ум (и то и другое – реальная сила). Нравственные достоинства, в основном, только лишь смущают…
Я лично чувствительна к красоте, что сознаю с печалью – знаю, что соблазн, а что делать? Вкус у меня ужасный, как у армянского папика. Мне нравятся, к примеру, мальчики, которые в балетах пляшут. Впрочем, и мужчины из фильмов Хичкока, с квадратными подбородками, в серых костюмах-тройках, тоже хороши, не спорю. Но в общем, надо работать над собой и перестать восхищаться и охать. Нет, нет. Сущность мира не в красоте.
Кстати, запомните на всю жизнь: Достоевский никогда не писал, ни в одном своем произведении, что «красота спасет мир». В романе «Идиот» персонаж по имени Ипполит Терентьев, чахоточный мальчик, сочинивший пронзительную исповедь, обращаясь к князю Мышкину, произносит: «Князь, вы, кажется, говорили когда-то, что красота спасет мир». Вот и все, что мы имеем – предположение безумного мальчика о том, что тронутый князь, возможно, нечто в этом роде говорил. Ф. М. Достоевский был великий ум, временами прозревавший истину. Потому утверждение, будто «красота спасет мир» отдал своему герою, наивному и душевному путанику. Да и то не наверняка – может, Ипполит неправильно понял сумбурные речи князя. Ясно только, что Достоевский от своего лица такой ерунды утверждать не мог.
Если мы возьмем только один сегмент бытования красоты – физическую красоту человека, привлекательность лица и тела – то именно из романов Достоевского очевидно: погубить красота может вполне, даже своего носителя, спасти – только в одном случае. В одном исключительном случае, когда красота сочетается с истиной и добром, то есть в случае Спасителя. Этого случая мы ждем более двух тысяч лет с неослабевающим напряжением. Очень любопытствуем взглянуть, как это оно бывает-то, чтоб все розное и вдруг вместе. Чтоб существо было и разумно, и прекрасно, и светло, и других существ любило. Можно даже и еще подождать, главное – дождаться хоть когда-нибудь.
А в отрыве от всего прочего, сама по себе, как принцип организации формы, красота безразлична или даже враждебна миру. В «Идиоте», собственно говоря, фигурирует воплощенная красота, женщина фантастической привлекательности – Настасья Филипповна, погубившая все вокруг себя. «Ах, кабы она была добра! Все было бы спасено…» – мечтает князь Мышкин в начале романа, увидев портрет роковой дамы. То есть если бы красота соединилась с добром, все было бы спасено. Однако ни в пространстве романа, ни в пространстве реальной жизни такого божественного сочетания мы не видим.
Как правило, красивые злы и глупы, добрые безобразны, а умные вообще сами по себе. Не соединяются божественные свойства в человеческих пределах! Приходится выбирать, что дороже, любимее и предпочтительнее.
Я лично на стороне ума, конечно. От него наибольшая польза, с ним интереснее всего. Тем более, современное состояние мира занято промышленным перепроизводством красоты. Красоты столько, что от нее тошнит. Красивых женщин давно пора топить в ведре с водой, как досадный кошачий приплод. Рекламные красотки, выставляющие свои прелести напоказ по стенам всего мира, сбили цену нормальных баб до круглого нуля. Вдобавок злосчастным идиоткам (женщинам, страдающим умственной недостаточностью) нынче можно распоряжаться внешностью по их собственному усмотрению. И если раньше носы и губы отпускались строгой природой по намеченному графику, то нынче идиотки режут свои лица, приближаясь к какому-то идиотскому идеалу. Рушится индивидуальная прелесть лица, чья формула держится зачастую на каком-нибудь «лишнем», с точки зрения идиотки, миллиметре эпидермиса. Искусственная, мертвая «красивость» нового, правильного лица, ощущается бедной идиоткой как достижение. Увы, массовые представления о красоте сформированы дрянными, конъюнктурными стандартами, во имя воплощения которых уничтожается личность. Пока что резать лицо – операция дорогая, болезненная, так что имеется хоть какой-то заслон в виде естественного страха и отсутствующих денег, но что бы сталось с женской внешностью, если бы изменить себя было бы так же легко, как отредактировать картинку в компьютере?
По улицам городов стройными рядами шли бы полки одинаковых идиоток примерно шести-семи основных типов.
А вы говорите – красота. Ума бы немножко прибавить миру. Что касается добра… Не будем о грустном.
Своими боками
Недавно я увидела на лице знаменитой и очень хорошей нашей актрисы явные следы пластической операции. У нее было интересное, неправильное, обаятельное лицо, с большими глазами и длинным носом, и нос с глазами остались, но сочетание черт нарушилось, верхняя губа стала надутой и малоподвижной, появилась какая-то мертвенность, кукольность в некогда живой, обаятельной физиономии. Зачем она это сделала? – подумала я. Решительно все в мире кино знают, сколько кому лет, и все равно она будет получать возрастные роли своего амплуа, их будет не меньше и не больше. Даже, может, и меньше из-за этой надутой губы…
Однако любые здравые рассуждения на темы изменений внешности бесполезны. Никого ими не остановишь и не удержишь: здесь включается мощный фактор человеческого устройства, главный его пункт, о котором давно знали умные люди.
«И с чего это взяли все эти мудрецы, – спрашивает в «Записках из подполья» устами злого и гениального безумца Ф. М. Достоевский, – что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность не стоила и к чему бы ни привела… Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда даже до сумасшествия, – вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту…»
Как хорошо об этом знают пластические хирурги! По нормальному, добродетельному хотению, человеку надо следить за здоровьем и обращаться к врачам за всемерным укреплением оного. А по своему, самостоятельному, страстному хотению, по своему дикому капризу и раздраженной фантазии, они толпами идут изменять внешность – во всех смыслах дорогой ценой, в том числе и ценой здоровья. Человек хочет взять свою внешность под личный контроль, раз открылась такая возможность, и, зная человека, можно сказать твердо: он это сделает.
Это приведет в самом скором времени к созданию на базе человека естественного – человека искусственного. Авангардный отряд искусственных людей уже существует: во главе Майкл Джексон (вариант страдальческий) и Мадонна (вариант победительный). Но за артистическим авангардом тянется армия просто-жителей, и число самопальных гомункулусов увеличивается каждый день.
Но вот в чем вопрос: взяв свою внешность под свой контроль, на что будет ориентироваться человек, на какие выкройки и лекала?
Из детской книжки про Незнайку и его друзей я помню такой эпизод. Коротышки-мальчики, потерпев катастрофу на воздушном шаре, попадают в город, где живут коротышки-девочки. На досуге художник Тюбик начинает писать их портреты, поначалу довольно реалистические. Девочки не очень довольны. Он несколько изменяет манеру и рисует глаза больше, чем в реальности, волосы пышнее, губы пухлее. Девочки это одобряют, но требуют, чтобы художник двигался дальше по пути идеализации. В конце концов раздраженный Тюбик рисует шаблон, в котором прорезает огромные глаза, губки бантиком и копну волос, мажет красками по этому трафарету и только подпись ставит разную – и Синеглазка ничем не отличается на этом портрете от Белоснежки или от Розочки. Но девочки совершенно счастливы и довольны.
Вот и получается парадокс: человек достигает пика самостоятельности и берет под контроль даже свои природные данные, но голова-то его, голова бедная, глупая, испуганная, забита штампами, трафаретами, шаблонами. Он будет лепить себя по готовым образцам, по жалким сиюминутным представлениям о привлекательности, по картинкам из журналов, по мордашкам из киношки. И по миру бодрым маршем, кукольным шагом будут шагать – и уже шагают – одни и те же губы, груди, носы, волосы, ноги и прочие запчасти.
Человек дразнит природу, побеждает ее. «Ведь все дело человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал, хоть троглодитством, да доказывал» (Достоевский). Но, доказывая свою независимость от природы, человек впадает в полную зависимость от моды своего времени, от образчиков конъюнктурного дизайна и штампов привлекательности, зачастую самого дурного толка и вкуса. Что лучше: быть рабом природы или рабом моды? Во всяком случае для любого доказательства человек свободно располагает своими боками.
Собачий космос
Один человек, в советское время работавший на космодроме Байконур руководителем монтажных работ, рассказал мне замечательную байку и клялся, что это – чистая правда. Мне эта история так приглянулась, что я в нее поверила безоговорочно.
Оказывается, в космос запускали не только легендарных Белку и Стрелку. Туда отправилось довольно-таки изрядное количество собачек. Некоторые из них погибли, но были и такие, что благополучно выжили. Вот с этими, с выжившими, и возникли маленькие проблемы – куда девать? Обычно космическую собачку брал себе кто-то из работников космодрома. Не бросать же доблестно послужившее науке существо на произвол судьбы. Даже, кажется, какой-то паек собакам этим полагался от государства.
Одну такую собаку взял себе служащий, отправлявшийся домой, на Большую землю, как говорится. И вот, прогуливая своего пса обычным образом, в городе, он заметил странности общения побывавшей в космосе собаки с прочими собаками своего микрорайона.
Обывательские собаки при встрече с космической собакой впадали в какой-то дикий экстаз. Они падали на землю, выли, вставали на задние лапы – словом, всячески выражали восторг и преклонение перед собакой из космоса.
Было такое впечатление, что она каким-то неведомым образом сумела сообщить тварям одного с ней вида, где она побывала и что видела!
Как собака это рассказала, непонятно. Но еще больше поражает преклонение обычных собак перед космической собакой. Ведь у собак нет ни рекламы, ни телевизоров, ни шоу-бизнеса, ни пиара, никто им эту собаку не навязывал в качестве кумира – их экстаз и преклонение носили чистейший природный характер. Они инстинктивно восторгались существом, таким же, как они, но сделавшим что-то невозможное и видевшим что-то необычайное и простым псам недоступное.
Собаки не становятся на задние лапы и не воют от восторга, когда видят собаку отъевшуюся, раскормленную, с медалями и дипломами, или лающую громче других, или подстриженную по последней моде и разодетую в дорогущие комбинезончики. Всё это не имеет решительно никакого значения в «собачьем космосе». И внушает маленькую печальную зависть.
Почему у множества людей так замусорены, заболтаны, заглушены правильные инстинкты, что при виде действительно замечательного человека, который сделал что-то чудесное и видел/знает что-то необыкновенное, они не чувствуют никакого восторга, трепета, экстаза? А восторгаются какими-то грошовыми куклами. Как было бы здорово, если бы мы умели инстинктивно, безошибочным чутьем чуять ценность и значение человека, считывать с него мгновенно некую полноценную информацию, сами, без агрессивных подсказок и навязываний со стороны.
Ведь мы тоже животные, и высшие притом, и должны это уметь! Где-то оно обязано храниться, это чутье, и наверняка хранится, только заваленное и придавленное всякой чепухой.
Недавно я с отвращением смотрела на выступление одного писателя по ТВ. Он там сильно ратовал за президента, укрепление государственности, за прочие распрекрасные вещи. Так как у меня патологическая память, я хорошо помнила, как этот писатель в свое время предлагал заливать Б. А. Березовскому в глотку нефть, а потом поехал к нему в Лондон, брал интервью и говорил, что и Б. Б. очень тревожится о России; обзывал Путина мелким чекистом, а потом прозрел вдруг в нем великого государственника и т. д. То есть я на рациональном уровне знала, что весь этот человек – ложь, и всякое слово его – ложь. Но минуя рассудок, только по изображению и звучанию этого краснобая, можно было сказать то же самое! Это притворно-вдохновенное, бабье лицо, эта многозначительность цветистых фраз, эти лицемерные, как бы исповедально-пророческие интонации… Тут любая собака навострила бы уши и стала презрительно рычать.
Но огромная аудитория проголосовала за этого вруна и лицемера! Чутье на ложь забито напрочь. Равнодушно игнорируя подлинно необыкновенных, драгоценных людей, массы воют и виляют хвостом перед кумирчиками с их противным аляповатым блеском дешевой бижутерии.
Что же делать? Как обострить в себе инстинктивное восприятие сущности и ценности другого человека? Это, конечно, возможно. Только никто этим не занимается. Ни тренингов, ни кружков, ни справочников, ни учебников.
Вот и приходится людям заводить себе все больше и больше собак, чтобы, жадно потребляя их искренность и простодушие, восторгаясь их чутьем, хоть немного отдохнуть от собственной фальши и нравственной глухоты.
Подражалы
Возможно, я ошибаюсь, и все-таки есть у меня ощущение, что нет нигде на свете такого количества пародистов, как у нас, и ни у кого так широко и болезненно не развито искусство подражания. То есть, конечно, везде есть жанр пародии и всюду так или иначе люди чему-то подражают. Но это какие-то сугубо маргинальные, локальные, чисто развлекательные моменты. Трудно себе представить, чтобы главные телеканалы каких-либо цивилизованных стран часами, в лучшее время, в праздники показывали концерты пародистов. (О странах нецивилизованных и говорить не приходится – они, как правило, убийственно серьезны в принципе.)
У нас пародия и подражание – столбовая дорога, главное искусство нации! Основным божком пародии в последнее время стал молодой человек с ослепительными зубами и злыми глазами – Максим Галкин – но вслед за ним идут уже целые армии кривляк. А подражание? Ведь мы же научились изготовлять американское кино и американское телевидение – практически, без малейших отличек по форме. С ума ведь сойти – всего за пятнадцать лет мы воспроизвели весь антураж западного мира, от ресторанов, ночных клубов, бутиков и гламурных журналов до порнографии и хакеров. По форме к антуражу этому и не придерешься: почти что один в один. По форме…
Слово «форма» в размышлении над этой темой – главное. Именно форму, внешние признаки, видимые контуры русские умеют схватывать и воспроизводить абсолютно точно, мгновенно, тютелька в тютельку. Как только речь идет о сути, о смысле, о внутренних ценностях – тут они сразу скисают.
Недавно по телевизору опять показали знаменитый фильм по сценарию Максима Капитановского «Во всем прошу винить “Битлз”» – о битломании в СССР. В этой остроумной картине убедительно рассказано и показано, как обожание кумиров стало эрзац-идеологией, квази-религией целого поколения наших людей. Уже пожилые, лысоватые, малость или сильно потертые, они с упоением вспоминали, как шили себе брюки-клеш, как отращивали волосы, как срезали лацканы с пиджаков, как доставали фотографии своих богов, как переписывали в тетрадку со слуха слова их песен. Вроде бы трогательно, конечно, и все-таки приходят в голову грустные вопросы: да, форму сняли идеально, а по сути? Можно ли сказать, что кто-то действительно овладел свободолюбием, творческим бесстрашием, работоспособностью, скоростью умственного развития, личную смелость своих кумиров?
Кто на самом-то деле стал им, обожествленным битлам, подражать – в главном, а не в смешных мелочах быстротекущей моды? Если бы такой «кто-то» нашелся, то он сейчас бы поехал в Лондон и пел там на площади три часа вживую, как это делает сэр Пол Маккартни. Но что-то не видно этого «кого-то», видно одного сэра Маккартни… Передрали, как всегда, только форму. Ведь это, при соответствующих способностях, которые у нас, видимо, имеются в избытке от рождения, – легко приносит ощутимый и мгновенный результат. А сущность – ведь ее нельзя спародировать и быстро передрать, тут нужен долгий процесс вникания, ученичества, чтоб стать хоть сколько-нибудь похожим на того, кого истинно любишь.
В небольших количествах, на своем законном месте, пародия хороша и уместна. Но то, что происходит сейчас, – это уже не пародия, а какой-то ошалевший вал безудержного кривляния, мусорного подражания, деформации творчества. Стоит выйти любому бестселлеру, как тут же появляются кривые зеркала. Причем поскольку оригинальной пищи для кривляния уже не хватает, ярких творческих проявлений, чьи внешние признаки можно схватить, становится все меньше – пародируется уже пародия, подражают подражанию, извлекают квадратный мусорный корень из мусора же! И вот уже в книжных магазинах лежат рядом и «Духless» Минаева и «Лохless» неведомого писаки, Оксана Робски красуется бок о бок с «Оксаной Неробкой», а «Приключения Эраста Фандорина» сопровождены «Приключениями Ореста Фондурина».
Настоящая пародия всегда была изысканной забавой развитого ума. Театр «Кривое зеркало» в начале прошлого века был так артистичен и остроумен, что тексты его спектаклей (в частности, пародия на оперную «вампуку» – слово изобретено в этом театре) до сих пор памятны знатокам. Спустя век, «Кривым зеркалом» стало называться третьесортное телешоу для масс. Госпожа пошлость украла у разума еще одну привилегию! Вернее, всего лишь спародировала ее форму. Ведь ничего большего она не умеет…
Самый крутой
Без честолюбия ничего заметного не сделаешь, это факт. Но и чрезмерное рвение в достижении успехов опасно: судьба, как известно, не только индейка – это индейка сволочная и с явными признаками невменяемости. Надо как-то артистично балансировать, знать свою меру. Но как ее определить? Что это вообще за птица – популярность среди современников? Мечтать ли о ней или шарахаться от нее?
В жажде определения этой меры я недавно проделала немало позабавивший меня трюк. В поисковых системах Интернета есть такая опция: поиск по общественному мнению. Набираешь имя-фамилию, и тут же узнаешь, сколько раз в своих переписках и дневниках пользователи ее упоминали. Так сказать, определяешь неформальный индекс популярности. Ведь учитываются не публикации в СМИ, а личные письма, то, о чем каждый день болтают в сетевом быту.
Конечно, это своеобразная выборка, ведь ведущие в Паутине дневники и переписку не есть самые значительные или многочисленные группы населения. Это определенный контингент, даже что-то вроде народности, со своим фольклором, своей информацией и ценностями. И тем не менее известность среди данной народности все ж таки отчасти показательна.
Набрала я для начала свою фамилию и узнала, что дело обстоит неплохо – индекс упоминания в блогах составил более 500 единиц хранения (желающим повторить мой эксперимент сообщаю, что цифры каждый день колеблются). Вполне прилично для некоммерческого литератора, подумала я. Конечно, есть куда более раскрученные и плодовитые авторы. Я набрала для интереса имя Дмитрия Быкова и получила 5 000 единиц с копейками.
Что ж, все правильно, человек на виду, на слуху, балует поклонников информационными поводами. Живой укор современникам: пишет быстро, много и занятно. Не человек, а целый текстовой завод! Кто бы мог обскакать Дмитрия Быкова? Кто еще более на виду и на слуху? Оказалось, не только Виктор Пелевин (8 000), но и Дарья Донцова (7400) обходят Быкова, чего не скажешь о бедном Ф. М. Достоевском (4 300). Он актуален значительно меньше, чем Донцова. А вообще-то все не так уж плохо: в сегменте русской литературы со значительным перевесом лидирует у нас совсем не Пелевин с Донцовой, а медведица пера – Лев Толстой (23 000)… Так, а если пошарить в иных сферах? Скажем, Никита Михалков? Что ж, индекс неформального русского царя составил 6 000 с лишним. Примерно как у Ленина и Сталина.
Так, отлично. А кто может переплюнуть Никиту Сергеевича? Может, Владимир Жириновский? А вот нет, индекс Михалкова и Жириновского оказался примерно одинаков.
Осенило. Я написала в поисковой строке «Алла Пугачева» и получила 17 000 упоминаний. Несмотря на явную паузу в творчестве, примадонна по прежнему держит внимание современников. Но кто же может ее превзойти? Чья личность обсуждается и упоминается еще чаще?
Сомнений быть не может. Я набрала «Дима Билан» и получила… 59 000 единиц. Неужели поп-культура в самом деле стала властью более реальной, чем сама власть? Как-то неприятно жить в таком совсем уж кукольном пластмассовом мире. В тревоге я написала «Владимир Путин» и успокоилась. 65 000. Это составило предел, выше которого не мог подняться никто. Сколько я ни запрашивала «поиск по общественному мнению», путинская цифра была недостижима. Среди русских пользователей не находилось более известных и раскрученных жителей Земли ни в какой сфере. Шекспир дал примерно цифру Билана, с чем можно поздравить великого драматурга или тех весельчаков, которые его придумали, разыграв весь мир на четыреста лет. Тут следовало остановиться. Первое место было выявлено, определено и твердо очерчено.
И все-таки я еще раз попыталась найти фигуру, более популярную в блогах, чем наш президент, для окончательного построения своей экспериментальной вертикали. Если таковой нет среди властителей земных, может, поискать среди небесных? Мысленно попросив прощения у Создателя, сославшись на шуточный характер своих поисков, я набрала… «Иисус Христос».
О, йес! 67 000!
Вот все и в порядке. Картина мира в зеркале Паутины ясна. Скромнее надо быть… Ведь теперь-то мы уж точно знаем, кто у нас самый крутой!
В 2006 году я поняла, что…
… В России не было, нет и маловероятно, что будет хоть какое-то разумное соотношение цены и качества. Поэтому каждый поход в магазин сравним у нас с экстремальным видом охоты, а каждое посещение кафе или ресторана – с кутежом.
… Все девушки, которые носят короткие курточки – реалистки, все девушки, которые носят узкие длинные пальто – романтички. Если в гардеробе у девушки есть и то и другое, значит, она кого-то хочет заморочить.
… В мире информации живут своеобразные вирусы – до поры они дремлют, но при каких-то, только им внятных, «звуках трубы» пробуждаются и производят заражение.
К примеру, вирус «это не Шолохов написал “Тихий Дон”». Уже и лингвистическая экспертиза Нобелевского комитета подтвердила, что «Тихий Дон» и «Поднятую целину» написал один и тот же человек, нет – опять упрямцы твердят, что этого не может быть, потому что «Тихий Дон» – гениально, а все остальное у Шолохова не гениально. Как известно, в авторстве Шолохова сомневался и А. И. Солженицын. Вот интересно: а что, если мы усомнимся, что «Один день Ивана Денисовича» и «Двести лет вместе» написал один и тот же человек? На том бесспорном основании, что «Один день» – великое художественное произведение, а «Двести лет» – посредственная публицистическая жвачка?
… Победить «Кофе Хауз» может только сеть кофеен, которые будут еще дороже и гаже, чем «Кофе Хауз». Нет ли в этом правиле какого-то вселенского масштаба? Может, это вообще закон жизни?
… Если книга начинается словами «Поздним вечером вампир Петя вылез из пещеры», то, возможно, она более правдива, чем книга, начинающаяся словами «Я родился там-то, в таком-то году. Моя мама…»
… Когда в автомобиле гремит музыка, то она зачастую нужна вовсе не водителю. Этим летом видела: на берегу озера стояла машина и слегка вибрировала боками от «музыки» в стиле «уц-уц-уц». Хозяева между тем плескались себе в воде. И я поняла, что эту «музыку» слушал автомобиль. Это была его музыка.
… Агата Кристи, заметившая в одном романе, что «очень трудно любить человека, который все делает лучше, чем ты», а в другом – «милые девушки обычно выходят замуж за негодяев», возможно, права.
… Доказательством того, что Сергей Есенин все-таки повесился, служит смерть Айседоры Дункан. Как известно, ее задушил собственный длинный шарф, зацепленный дверцей автомобиля. Что-то в этом роде, может, я путаю детали, но точно, что это было связано с удушением. Конечно, это Есенин! Утащил бывшую жену, проказник.
… Афера под названием «современное изобразительное искусство» будет продолжаться. Удерживать современных художников от полноценного творчества нужно для того, чтобы спекулировать живописью старых мастеров. Она так и будет фантастически дорожать, пока какой-нибудь простак не спросит сам себя: а собственно, что такое делали все эти Рембрандты и Рубенсы? Не заняться ли мне тем же самым, что и они? Чего это я все мазюкаю какую-то хрень, только краски и холсты порчу? Смельчака ожидают чудовищные испытания – почище, чем изобретателей альтернативного топлива.
… Если в измененном состоянии сознания слегка приложиться губой к дверному косяку, то возникает любопытный эффект естественного силикона. Губа становится не дура, а примерно как у Памелы Андерсон или Маши Распутиной. Эффект держится около недели и проходит без последствий. Может, запатентовать?
… Как известно, «медленно мелют мельницы Господа, но они стирают все в порошок». Стало быть, в жизни каждого народа из прошлых веков остается только то, что эти мельницы пощадили, пропустили как угодное Господу. Вот и посмотрим, что осталось от царской России: церковь и культура. Сейчас медленные мельницы стирают советскую Россию. Интересно, что они оставят от нее? А то, что происходит в наличной реальности, поступит в жернова еще не скоро. Как медленные мельницы перемелют сегодняшний день, мы и не узнаем.
… Когда одна женщина средних лет приходит в вагон-ресторан и спрашивает себе сто грамм водки и салат, на нее почему-то смотрят с уважением. Как на женщину-летчицу или женщину-офицера, что ли. Вот, баба, а ведет себя, как человек. Противно, но почему-то лестно.
… В 2007 году я тоже что-нибудь пойму.
Маленькие хитрости большой толпы
Рассказывают, однажды Марлен Дитрих оказалась в аэропорту вместе с общим потоком народа. Вглядевшись в лица, она повернулась к спутникам и воскликнула: «Боже, сколько людей! И какие все некрасивые… Неудивительно, что нам столько платят!»
Нам – это понятно кому: избранным, кинозвездам, символам красоты. Но и отрабатывать свою плату они обязаны строго – как пришлось отрабатывать той же Марлен, в старости переставшей даже выходить из дому, чтоб не скомпрометировать собственный образ. Лежала она взаперти, кстати сказать, двадцать лет. Тем временем обычные тетушки, ее ровесницы, проживали обычную человечью жизнь, пользуясь ее обычными радостями и огорчениями и не оплакивая свою погибшую красоту, которой никогда и не было.
Кому много дается – у того много и отнимется. Нечего и крыльями хлопать попусту, не волнуйтесь, отберут все и у всех. Был талант – отберут талант (другим надо, очередь!), была красота – отберут красоту. Если не было ни таланта, ни красоты, заберут здоровье. Встает вопрос: может, в конце концов, выигрывает тот, кому жалеть было не о чем?
В любом большом известном миру городе можно вдоволь насмотреться на человечество в виде туристов. Туристы – это люди, которые что-то потеряли и с тех пор ищут это по всей земле, но никак не могут найти, потому как не помнят, что именно они потеряли. Присев в сторонке от толпы, вглядитесь в нее – в развязных итальянцев, деловитых японцев, скептических русских, самодовольных французов, высокомерных немцев (когда они говорят за вашей спиной, всегда кажется, что они или ругаются, или приказывают!)… Вы быстро обнаружите «закон Дитрих» – люди некрасивы. Имею в виду тех, кто затронут глобализацией, утратил старые национальные обычаи и одежду (национальная одежда обычно красива и скрадывает все пороки фигуры).
Люди некрасивы! Мало того, что они некрасивы от природы. Они некрасивы и преднамеренно. Создается впечатление, что они нисколько не озабочены своей внешностью. Они не следят за фигурой, не занимаются волосами и кожей, они носят самую пошлую, обыкновенную одежду, не идущую большинству фигур, женщины или пренебрегают косметикой, или раскрашены не в меру. В редчайших случаях вы встретите полного человека, который свою полноту осознает и учитывает в манере одеваться, и это наблюдение будет справедливо и для всех прочих физических недостатков (кривоногость, короткошеесть, сутулость, маленький рост и пр.). Нет, никто ничего не скрывает и никто ничего не стесняется.
Странная получается картина. Сияют витрины косметических лавочек. Распахнуты двери салонов красоты и магазинов одежды. Призывно шелестят блестящими страницами тысячи модных журналов, дающих тысячи модных советов. А миллионы топают себе, с грацией утюга, в каком-то джинсовом тряпье, которое утром упало на них из шкафа. И это – подавляющее число цивилизованных жителей Земли.
Отчего же люди не следят за собой, не хотят быть привлекательными? Ведь они так страстно тянутся к красоте, так жарко привечают своих кумиров, так неизлечимо мечтают о любви или хотя бы о приключениях? Кажется, люди делегировали всю свою страсть к красоте туда, в зазеркалье, завитринье, заэкранье, где обитает кучка мучеников и мучениц, обязанных следить за собой двадцать четыре часа в сутки. И за тем, чтобы эти несчастные отрабатывали свое исключительное положение, ведется неусыпный надзор. Попробовала бы Дженнифер Лопес заявиться куда без макияжа, с босым лицом и в любимых старых джинсиках – весь мир с гоготом начнет исследовать крапинки на ее личике и складки на животе. Чем больше толпа прощает себе, тем она придирчивее в отношении избранных, которым как раз и платят, чтоб они символизировали – «в человеке все должно быть прекрасно».
Разделение труда! И не придерешься: ведь есть же на свете некоторое, весьма ограниченное количество первоклассных гонщиков, остальные водят машину как умеют. Так и с красотой – есть ограниченный контингент «символов красоты», вот пусть они и отдуваются за всех. Пущай символизируют. А мы нацепим с утра что схватили в шкафу и пойдем пиво пить. И стесняться некого – кругом такие же. И плакать об утраченной красоте не придется – ее и не было никогда.
Толпа любит красоту, но стремится исключительно к удобству. Быть некрасивым – удобно. Эта позиция не способствует, конечно, эстетической привлекательности цивилизованного человечества, но ей не откажешь в хитроумии. В идеале, для счастья масс, все чрезвычайные качества (ум, героизм, любовь к истине, сила) должны стать привилегией избранных людей-символов, которым щедро оплатят их исключительное мученичество.
А остальные?
Остальные будут просто и мило отдыхать.
Ты один
Книга хорошая, фильм плохой. Это уже фатальная закономерность. Даже, можно сказать, железное правило: буквально все современные фильмы, снятые по мотивам/с использованием каких-либо современных книг, значительно хуже, глупее, гаже этих книг.
Стойкость словесности удивительна – если музыку и живопись Сатана давно разгромил, и их в целом не существует, то литература сохранилась, притом в сугубо архаической форме. Если от живописцев и композиторов никто ничего не ждет, то от писателей по-прежнему требуют неслыханного – чтобы их книги были сплошь заполнены буквами, и эти буквы притом складывались в тысячи понятных фраз. Но на эту каторжную, бессмысленную работу до сих пор находятся мастера – и, надо заметить, именно низкие, популярные жанры литературы у нас в последнее время изрядно развились, притом в лучшую сторону.
Бравый полковник из Ростова Данил Корецкий пишет сочно, грубо, конкретно, с огромным количеством реалистических деталей, умеет протягивать внятный сюжет на изрядном протяжении художественного времени. Как из такого качественного материала сшить такую залепуху, как «Антикиллер» режиссера Егора Кончаловского, где невнятно всё, даже главная сюжетная линия, я не знаю. «Дозоры» Сергея Лукьяненко раз в сто интереснее, умнее, понятнее одноименных фильмов. Кинематограф испортил лучшую книжку Александра Бушкова – «Охота на пиранью», отгламурил Александру Маринину и стер скромное обаяние с ее добросовестных, рассудительных почти по-лютерански романов про Каменскую. Что же происходит и почему?
Ответ на этот вопрос уведет нас от проблем искусства к вещам более существенным. К состоянию мира и человека в их русском измерении.
Нетрудно заметить, скажем, что на сегодняшний день успехи русских в индивидуальных видах спорта куда серьезнее подвигов коллективных. Одинокий человек может далеко пойти – но чуть в дело замешиваются многие, всё сразу запутывается, усложняется, теряет силу. Русские с трудом понимают друг друга, едва находят общие точки объединения усилий, плохо примиряются с необходимостью жертвовать чем-то личным ради общего.
Один – в поле воин. А чуть добавляется в дело другой – начинаются толчея, сумятица и злобные разборки.
Поэтому сейчас так мощно и далеко вперед от прочих искусств вырвалась литература, дочь одиночества. Наши писатели всех разрядов и видов работают хорошо, даже очень. Сидит себе ночью человек, сосредотачивается, подключается к вечным источникам питания, один на один с Богом, природой, опытом истории, собственным талантом. Тихо. Идет время. Никто не мешает. И человек спокойно осуществляет свои замыслы – пишет книгу.
Но вот одинокий разум сделал свою работу и книга написана. Начинается дурной сон. Появляются сценаристы, продюсеры, директора каналов, режиссеры, и все они якобы знают, что надо массовому зрителю, у всех свои заморочки, предрассудки, требования, а также филии и фобии. Поэтому, всем миром навалившись, они портят хорошую вещь, кладут деньги в карман и бегут дальше в поисках другого материала, который можно испортить. Фильм же попадает в массы, и массы молча его проглатывают и забывают (массы не помнят ничего никогда), а в разных там форумах и блогах некоторое время продолжается грязный карнавал, и лица, скрывшиеся за анонимными масками, шипят и плюются на создателей картины. Чистота – дело одинокое. Грязь – дело коллективное…
Когда-то очень давно «мир» (сообщество людей) держал меру нравственности и справедливого суда – хотя бы в идеале, в своих редких вершинах. Карикатура на такое положение вещей была предъявлена в советское время так называемой «общественностью». Вообще соотнесение себя с каким-то главным множеством (религией, государством, товарищами по партии, интеллигенцией, дружеским кружком) веками было обязательным для человека. Но сегодня человек, желающий сохранить свою личность и сделать что-нибудь путное, должен, если возможно, решительно отдалиться от всего – от любого сообщества.
И напрасно добрый Юрий Юлианович Шевчук поет добрую песню «Ты не один», утешая шофера на опасной ночной дороге. Ты один! Помни об этом, человек. Ты будешь держать ответ только за свою жизнь, за свою совесть, за свой дар и ты предъявишь Господу то, что сделаешь сам. Никакие шайки не помогут, никакие друзья не заступятся, и даже слово любящего тебя человека будет бессильно. Ты – один, и если сделаешь что-нибудь славное – это будет твое славное, которое может пригодиться многим, а если вместе со всеми слепишь пирожок из дерьма – ну что ж, это будет ваш общий, один на всех, пирожок из дерьма.
Часть 2 На первое – суп и сто грамм
Ничего себе Россия!
Наше отечество с точки зрения современного кино
Часть 1
Если вы подзабыли школьный курс географии, то прогноз погоды напомнит вам, из чего, из каких таких частей состоит наше могучее Отечество. По-прежнему много в нем лесов, полей и рек, и два главных города – Москва и Петербург, и Север, и Северо-Запад, и Поволжье, и Урал, и Сибирь с Дальним Востоком. А еще Камчатка и Чукотка, Алтай и Краснодарский край, и Центральная Россия существует, не забудьте… Конечно, шансы увидеть все это своими глазами невелики, но обширность русского имущества как-то приятно греет душу и у нас, неказистых и промотавшихся наследников.
А вот из чего состоит Россия с точки зрения кино последних лет? Какой предстает Россия на экране? Тема не маленькая – но сделаем хотя бы эскиз этой загадочной и фантастической киностраны, населенной призраками реальности.
Москва. Вот, значит, дело-то какое – по кино получается, что такого земного города и нет. Прошли те времена, когда в столице встречались влюбленные с разных концов света, шагали по Москве ребята, мечтая о будущем, гремела музыка в парках, и люди ходили на работу в таинственные, непонятно чем занятые учреждения, где, однако, всегда можно было завести служебный роман. Последние отсветы Москвы как человеческого города были, пожалуй, в «Стране глухих» В. Тодоровского, где столица, показанная с точки зрения двух потерянных девушек, представала злым и враждебным к маленькому человеку пространством, не лишенным, однако, своеобразной красоты. С тех пор самый убедительный и масштабный образ Москвы предстал перед зрителем в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». Прямо скажем, в этом городе нормальная жизнь невозможна.
Москва «Дозоров» населена демонами, вампирами и потусторонними бандитскими группировками, которые поверх голов населения выясняют, кто круче. Коли ты не хвостатый, не летучий и не кусачий, из дома лучше во время их разборок не выходить. Кровь из гражданина могут выпить внезапно, на выходе из метро, или пришлепнуть, как муху, если тот случайно забрел в цитадель демонов, гостиницу «Космос». В кино-Москве давно уже никто нигде не работает, а все как-то тревожно мечутся туда-сюда. А если в триллере (например, в «Побеге» Егора Кончаловского) по сюжету герой живет в Москве, то зритель будет внезапно, хищными рывками перемещаться по пространству, попадая вместе с героем из офиса в квартиру и обратно – за окнами же не будет ничего вообще, никакой жилой городской среды.
Демонизация Москвы началась не сегодня – и об этом убедительно напомнил зрителю телесериал «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова, точно указав время начала выселения людишек из города: 1935 год Компания Воланда улетела, вы говорите? Ха-ха – очередная шутка Бегемота. Никто никуда не улетал, а, наоборот, дали команду подтягиваться все новым и новым безобразникам. И вот, на 2006 год, такое впечатление, что нечеловеческие существа напрочь выселили обычных людей из бывшей столицы бывшей России. А вдруг кинематограф что-то такое верное чувствует о настоящих делах в Отечестве? Ужас какой! Одно утешение – приедешь в настоящую Москву, вроде как при свете дня демонов не видать. Люди ходят по улицам, жуют пирожки. Жилым духом отовсюду тянет…
Север и Северо-Запад. К Северу нас приучил за последние десять лет режиссер Александр Рогожкин, отправляя своих мужичков на дальние кордоны за рыбой и дичью. Мир «Особенностей национальной охоты/рыбалки» – это бывшая Суоми, родившая эпос «Калевала», богатырский север, где луна всегда полная и русалки хохочут в камышах, сказочное пространство, где человек, вместо того, чтобы убивать животных, начинает с ними разговаривать и находит под звездой Алкоголь свою собственную душу. Потом добавилась еще более северная «Кукушка», с оленями, туманами, настоящей женщиной народности саами, умеющей возвращать умерших к жизни. В «Кукушке» создана иллюзия прекрасной жизни, полной природы и любви, для троих людей, укрывшихся на хуторе во время свирепой мировой войны. Север, таким образом, стал в кино чистой сказкой, раем, мечтой о Золотом веке, где чудно жили человеки.
Но другой Север мы находим в знаменитом фильме Андрея Звягинцева «Возвращение» («Золотой лев» Венецианского фестиваля, 2003 год). Отец и двое сыновей едут на Север через абсолютно пустые пространства, где никто не живет. Прекрасная северная природа, как роковая женщина, смотрит на героев дивными злыми очами и подстерегает, чтобы наказать за своеволие. Это тоже сказка, но не милая, а страшная. Таким образом, русский кино-Север, практически лишенный людей – сюда являются, приходят, а не живут постоянно, – что-то таит в себе, какой-то ресурс загадки и сказки. Герой может отправиться туда за испытанием себя и обрести жизнь или смерть. Но о существовании реальных мест вроде Архангельска и Вологды, Мурманска и Новгорода надо забыть – из нашего кинематографа не узнаем о них ничего.
Центральная Россия. Образ Центральной России в кино последних лет достаточно стабилен. Это деревня, где живет старуха. Старух может быть много, и они могут быть душевными, славными и покорно тянуть воз бытия, как в картине «Старухи» Геннадия Сидорова (главный приз «Кинотавра» 2003 года). Старухи могут быть кровожадно-демоническими, как в опусе Ильи Хржановского «4». Есть еще вариация – старуха прикосновенна к тайнам врачевания и несет древнее знание о мире и земле, как это происходит в «Бумере» Петра Буслова. Когда притворяющиеся героями мерзкие твари из черного «бумера» приволокут в избу своего раненого подельника, их встретит статная старуха (Людмила Полякова), которая умеет спать мертвым сном и оживлять травами. В русской кино-деревне еще есть непременно: веселый спившийся старичок, девушка-красавица и пара дураков с ружьями. Этот набор кочует из фильма в фильм – но, не буду спорить, у него есть реальные корни. Сельхозработ нет. Скотины нет. Никто не сеет, не пашет, не доит коров – кроме, конечно, как у Рогожкина. Да, сильно изменилась деревня со времен советских богатырских эпосов вроде «Тени исчезают в полдень»! Даже со времен «Калины красной» изменилась заметно. Видно, Василий Шукшин, уходя из жизни, увел с собой и образ русского мужика, крутого, хитрого, умного, бесконечно обаятельного. Одни старухи, сплошные старухи! И летящая мимо них на ворованных машинах паскудная, дебильная молодежь с повадками горилл и ублюдочным жаргоном вместо русской речи…
Часть 2
Итак, из чего состоит Россия, если внимательно смотреть отечественное кино? Мы уже выяснили, что Москва с 1935 года, с визита Воланда в «Мастере и Маргарите», оккупирована какими-то демонами, русский Север – это сказочное место, где не живут, а испытывают себя, что касается русской глубинки в центре державы, то это стабильно: деревня, где либо дед помирает, либо старуха лютует.
А русский провинциальный городок? Со времен «Ревизора» Гоголя русскому городку везет на сатириков и не везет на лириков. Герметичная, застывшая жизнь провинции у динамичных кинематографистов, видимо, вызывает отторжение. Разве что Николай Досталь в картине «Коля-перекати поле» (2005), продолжающей трагикомедию «Облако-рай», нашел, что за тринадцать лет в русской провинции не изменилось ничего, и, значит, это и есть подобие рая на земле. Все эти «Промтовары» и «Продтовары», ржавые сараи и бараки, населенные душевными и лукавыми обитателями, таят в себе что-то непостижимое, притягательное. Никаких примет «новой жизни» вообще! Вот это сопротивление, вот это силища инерции – а может, так и надо? Нахлебались мы в России уже обновлений, не пора ли отдохнуть? Довольно забавный образ провинции мы находим и в фильме талантливой Ларисы Садиловой «С любовью, Лиля!». Ее героиня в исполнении превосходной актрисы Марины Зубановой работает на птицеферме и всеми силами желает вырваться из мира мертвых куриц к миру живых мужчин. И у нее, после разных мытарств, все получается: в стареньком провинциальном мире, среди притихшей природы и поношенных вещей и людей, все-таки есть счастье – такое же старенькое и притихшее, но счастье!
Поволжье. Из всего Поволжья мы пока имеем только Нижний Новгород – место, где происходит действие фильма Алексея Балабанова «Жмурки». Среди крутых разборок нескольких банд уродов, мелькнет церковь, но Волги как-то незаметно, не до Волги тут – рассекая на убитых тачках по разбитым улицам, уроды куражатся в лихорадке своей мнимой жизни, показанной с очевидной насмешкой. Что до остальных волжских городов, то Кострома традиционно участвует в картинах по пьесам Островского, любят кинематографисты, снимающие «из прошлой жизни», и дивное Щелыково, имение драматурга – вот там и будет вам и природа, и любовь, и человекоразмерная жизнь. Если отойти от действительности на сто пятьдесят лет назад.
Самый залюбленный в кино город – это, разумеется, Петербург. То есть его исторический центр. В этом городе как будто нет никаких социальных проблем. Ни один герой фильма не будет жить на Гражданке, в Купчине или Автове – но исключительно с видом на Неву или Фонтанку, в мансарде, откуда открывается вид на чудные крыши, а не то станет и на собственном катере подъезжать к Львиному мостику, как в картине «Поцелуй бабочки». Со времен «Прогулки» Алексея Учителя в показе Петербурга образовалась целая «прогулочная эстетика», доведенная до предела, скажем, в картине «Питер FM». Сложнейшее, многосоставное пространство города здесь превратилось в уютные декорации, стильные картинки приятного дизайна, по которому бегает одноклеточная молодежь, маниакально держась за свои мобилы. Мобильники – главные действующие лица в картине, а что молодые люди в Питере много думают о жизни и имеют резко оригинальные индивидуальности, так это Ф. М. Достоевский всё придумал, попивая крепкий чай белыми ночами. Ничего такого нет и в помине – головы юношей и девушек пусты, в руках пиво, в душе смутная тоска. Любви хочется, настоящей, из русской классики – да откуда она тут возьмется, любовь, в мире хорошеньких куколок вместо людей?
Балабанов отдал немало сил мифу бывшей столицы – вспомните инфернальный жуткий город, ненавидящий людей, в фильме «Про уродов и людей» или нищий и прекрасный город-убийцу в «Брате». В новой картине, «Мне не больно», сделана попытка создания тонкой, поэтичной и печальной атмосферы жизни среди смерти, когда чистая юная энергия как бы разливается в сумрачном воздухе старого мира, и любовь и нежность сочетаются с умиранием. Балабанов – режиссер, а не дизайнер, и потому не эксплуатирует поднадоевшие «виды» Петербурга, а творит свой мир. Но совсем удивительно поступил Иван Дыховичный в недавнем фильме «Вдох-выдох». Из Петербурга и окрестностей он мощным стилизаторским ножом выкроил нечто вроде кино-Европы времен Антониони и Бергмана. Такую модель отчужденного мира, где мужчина и женщина выясняют отношения загробными голосами, где плещет холодное море, пустые дома отражаются в водах потусторонних рек, а злые деревья вздыбливаются на собственных корнях из прибрежного песка. Так странно, так не похоже на повседневность, что даже интересно…
Юг. Про Краснодарский край и город Сочи, где темные ночи, мы как зрители забыли давно. Юг – это Кавказ, это война, Чечня и прочее. Еще в «Кавказском пленнике» Сергея Бодрова-старшего, снятого покойным Павлом Лебешевым, Кавказ представал архаичным, но по-своему прекрасным миром. Нынче на фильм с «чеченской темой» идешь, трижды перекрестившись: все одно и то же. И описывать не буду – что, сами не знаете? Юг – это кровь и ужас, это смерть без покаяния, это борьба чахлого белого Иванушки с многоглавым чернобородым драконом. Но федеральные вертолеты всегда прилетают – правда, с опозданием.
Сибирь и Дальний Восток. Как замерла Свердловская киностудия, так и обмелела кинематографическая «Угрюм-река»! Только в последнее время в Екатеринбурге возрождается творческая жизнь на киностудии, а стало быть, я надеюсь, начнется освоение подзабытого кинематографом региона. А ведь был, был великий Ярополк Лапшин («Угрюм-река», «Демидовы» и многое другое), была целая «уральско-сибирская», самоцветная, самобытная эстетика. Конечно, фактура Сибири и ДВ используется и сейчас. Например, в этом году вышли два боевика – «Побег» и «Охота на пиранью», где леса, реки и озера лихо участвуют в ураганном действии. В лесах прячутся маньяки и беглые каторжники, в болотах тонут слабаки, в озера прыгают герои, чтобы непременно выплыть и отомстить. В «лесных боевиках» есть свой кайф, поскольку глаз сильно освежается разнообразной красотой природы, но, конечно, условность жанра деформирует реальность до абсурда. В «Охоте на пиранью» герой Владимира Машкова (кстати, отлично играет актер, получше даже многих в Голливуде, потому что в нем, кроме нормативных свойств героя боевика, есть еще и внутренний юмор) попадает в город Шантарск. Это просто-таки какой-то город дьявола – угрюмые вооруженные мужики, дома, как после бомбежки, даже телефона нет. Что за Шантарск такой? С кого писан? Не попасть бы туда случайно!
Так что же Россия в кино? Как выглядит? Ну… ничего себе Россия! Живем. Даже вот – кино родное смотрим. А это не каждое белковое тело выдержит.
Всех жалко
На НТВ продолжается показ телевизионного художественного фильма «Доктор Живаго» – возможно, лучшей исторической картины за двадцать лет
Купила диск, начала смотреть – и было не оторваться все одиннадцать серий, пятьсот минут. Наверное, после «Жизни Клима Самгина» Титова (1987), «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина – это самый серьезный и глубокий телефильм из русской истории начала ХХ века. Добросовестный и простодушный Прошкин («Михайло Ломоносов», «Николай Вавилов», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Русский бунт») удивительным образом лишен всяких надуманных и нетворческих претензий. Ему и выпало собрать еще оставшихся в нашем кино профессионалов, чтобы сделать картину высокого звучания, начисто лишенную дешевой конъюнктуры, пошлого заигрывания со зрителем.
Доктор Арабова
«Доктор Живаго» Бориса Пастернака – знаменитый роман, который тяжело читать: великий поэт не владел повествовательной техникой. Удивительные по красоте лирические описания и сильно воздействующий на душу нравственный пафос романа соседствуют с множеством засыхающих сюжетных линий и ненужных персонажей. Один из лучших наших сценаристов Юрий Арабов (он пишет в основном для уникального кинематографа А. Сокурова) проделал замечательную по уму и деликатности работу. Он взял героев и мотивы Пастернака, но развил их, наполнил конкретной жизнью, сочинил выразительные диалоги, завязал и развязал сюжетные нити. В конце концов, у Арабова и Пастернака много общего – они христиане, поэты и порядочные люди, служащие своему Отечеству. За что выпали России такие ужасные исторические муки и что делать хорошим и честным людям в безжалостном водовороте войн и революций – это главный вопрос и самого романа, и его экранизации.
Крестный ход истории
Историческое время действия фильма – с 1905 по 1929 год. За это время сметен с лица русской земли целый пласт людей: воспитанных, образованных, создавших ту Россию, которую теперь называют «царской». Если в начале фильма мы видим чинный, порядочный обед при свечах в доме либерального добряка и умницы Громеко (Владимир Ильин), то в конце, в той же самой квартире, будет нажираться лукавый дворник Маркел (Андрей Краско) под вопли совсем уже опростившегося народа. Какая-то ужасная беда стряслась над землей и людьми. Над прекрасной землей и прекрасными людьми, вот в чем дело! Целая потрясающая вереница их пройдет перед нашими глазами. Отец и сын Антиповы (Сергей Гармаш, Сергей Горобченко), от страстной нетерпимости пошедшие в революцию и истребившие сами себя. Эксцентрическая дурочка, несчастная баба-кривляка Шура Шлезингер (Инга Стрелкова-Оболдина), закончившая жизнь, однако, как античный герой трагедии. Важный, импозантный учитель Живаго – Фадей Казимирович (Алексей Петренко), которого тяготы войн и революций надломят, и станет обидно и больно, что мелочится такой величественный человек. Комиссар Временного правительства Гинце, нелепый мальчик, возомнивший себя героем и погибающий от пули пьяного солдата (Андрей Кузичев). Чистая девочка из хорошей семьи – Тоня, жена Живаго, – принужденная спасать семью от гибели и безнадежно любящая своего мужа (Варвара Андреева). Атеист и циник Комаровский (Олег Янковский, браво!), сожженный смертельной страстью к чувственной, нервной, немного вульгарной золотоволосой жар-птице Ларе (Чулпан Хаматова)… Все артисты играют превосходно. Но при всем том фильм был бы немыслим без главного героя.
Меньшикова надо портить
Поторопились некоторые «похоронить» Олега Меньшикова после неудачи «Золотого теленка». Он создал выдающийся образ «доктора жизни» – возможно, даже воплотил нравственный идеал. Это огромная, итоговая работа, вобравшая в себя многое из того, что артист уже играл, но есть и такое, чего он еще не играл. В «Докторе Живаго» он сыграл не только внешние события бурной жизни своего героя, не только его профессиональную честь (именно в ролях врачей актер отчего-то особо убедителен). Меньшиков – может быть, единственный в своем поколении – умеет выражать редкое: красоту и сложность внутреннего мира человека. Весь фильм он слушает себя, пропускает все через себя, умеет смотреть внутрь себя. Веришь, что он талант, поэт, что с ним говорит мировая душа. Последние серии, когда старый, седой, но с прямой спиной и вечной гордостью, Живаго работает уборщиком в той больнице, где блистал когда-то молодым, – это что-то необыкновенное по художественной силе, а смерть Живаго – шедевр актерского искусства… Я подметила забавное обстоятельство. Мы знаем, что Олег Меньшиков фантастически красивый человек. Но когда эта красота вдобавок отгламурена, завернута в белые шарфы, припомажена, когда на лоб спущена прядка от стилиста Шевчука, то все делается приторным и фальшивым. А вот когда Меньшикова «портят», когда он старый, больной, бородатый, окровавленный, страдающий, побитый – то светящаяся из-под порчи красота делается неотразимой. Вот что значит грамотный режиссер, всё у него артист играет отлично – и любовные сцены, и запредельную жизнь в партизанском отряде. Надо задания точные давать, а иначе зачем режиссура?
Русские надорвались
Без предрассудков, без идеологических шор, с любовью и печалью посмотрели создатели фильма на русскую жизнь начала ХХ века. Они воспользовались «глазами Пастернака», глазами прекраснодушного интеллигента. И оказалось, что всех жалко. Как будто русские из-за своей дикой, избыточной страстности слишком многое взвалили на себя, чересчур рванули – и сломали хребет лошадке-Родине, надорвались. Но от них, чудаков и оригиналов, остался некий звук – чистый, прекрасный и печальный. «Доктор Живаго» напоминает нам об этом звуке.
Бога звали Пастернак
В нашей культуре явно усиливается «тема Пастернака» – весной показали телефильм по мотивам романа «Доктор Живаго», летом книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак» (серия ЖЗЛ) получила премию «Национальный бестселлер». Сочинение Быкова попало и в список номинаций на премию «Большая книга», да и без всяких премий и номинаций его читали: интересно, и весьма. Сам автор считает – внимание к его книге предопределено тем, что растерянный современный читатель ищет в рассказе о жизни великого поэта какие-то рецепты для себя. То есть, обдумывая, «делать жизнь с кого», можно прикинуть на себя и Пастернака. Попробовать пойти его путем. Что же это за путь?
Это путь в восемьсот девяносто три страницы, но изрядная толщина новой биографии Бориса Пастернака не имеет болезненного характера – она объясняется тем, что в ней совмещены и чередуются две книги: в одной описывается жизнь поэта, в другой дается подробный филологический и философский анализ его творчества. И то и другое – приличного, а иногда и очень хорошего качества.
В любом случае трудолюбивый автор заслуживает всяческих наград и уж точно всяческого внимания заслуживает его удивительная искренность.
Перед нами, собственно, лирическое кредо либеральной интеллигенции, для которой Пастернак – идеал, кумир, икона. Сформулировать заветные чаяния своей родовой группы – такое удается не каждому, а Дмитрию Быкову удалось.
Автору положено любить своего героя, но Быков Пастернака не просто любит – обожает. Это обожание по принципу разницы, а не сходства, поскольку у Быкова, как кажется, нет с Пастернаком ни одной общей личностной черты. (Невозможно себе представить, чтобы Борис Пастернак выпускал книгу политических фельетонов или делал по телевизору актуальный комментарий!) Любить Пастернака есть за что: великий поэт без спора. А вот обожать его личность, по-моему, крайность. Это обожание в какой-то момент и начинает смущать, как всё чрезмерное. Автор начинает высказывать некие суждения о Промысле, о личности Творца и о том, насколько и почему Борис Пастернак был угоден Создателю. Угоден он был потому, что вручал себя Творцу в качестве глины для слепка и старался не принимать никакого волевого участия в собственной судьбе. Богу это нравилось, Он его хранил. Богу вообще нравился Пастернак, и не без взаимности. Была тут какая-то связь, может, даже и родственная… Дописывается автор книги до того, что Пастернак «олицетворял христианство». И тут уже лично у меня включается стоп-сигнал.
Россия ХХ века знает множество мучеников за веру. Бывали такие люди, которые не «христианство» олицетворяли на советской даче, а попросту умирали за Христа. Наверное, судьба патриарха Тихона или отца Павла Флоренского больше похожа на подвиг веры, чем довольно благополучная жизнь советского писателя с членским билетом за подписью Горького, лишь в финале омраченная историей с травлей за «Доктора Живаго». Без всякого сомнения, то был порядочный, гораздо лучше многих своих коллег, человек и в высшей степени одаренный мастер слова. Но никакого христианства он, сын своего века и «трудное дитя жизни», не олицетворял, и делать из него икону даже несколько опасно.
Тут у Быкова, понимаете ли, мечта такая дивная воплощена, интеллигентская мечта о заветной кривой козе, на которой можно объехать неудобства исторического времени. Совместить относительное личное благополучие и духовную свободу. Брать «у них», у земных правителей, дачи и пайки – а в душе быть преданным только Создателю (и роман печатать за границей). Это двоемыслие и двоеверие скрыто, утоплено в блеске индивидуальности Бориса Пастернака – известно, что поэт был обворожителен, чаровал людей, в него влюблялись и любили долго, страстно, мучительно. Но если из личностного этого блеска, из чар вычленить «рецепт жизни», этим рецептом окажется артистический конформизм, красивое приспособление к обстоятельствам. Дмитрий Быков, исследуя судьбу Пастернака, выясняет, как приладиться к отвратной жизни и не потерять при этом лица, – и читатель найдет, в самом деле, массу хороших готовых способов. Что-то вроде «метода Пастернака». Это захватывающе интересно, только вот Христос тут вроде бы ни при чем.
Чрезмерная любовь к герою подвела автора, а то бы он без труда заметил в личности Пастернака то, что Томас Манн называл «двойным благословением», благословением и неба и бездны. Есть, бывают на свете такие любимчики – и Богу свечка, и черту кочерга. Они красиво, артистически проживают свою жизнь, они ослепительно ярки, захватывающе талантливы, они становятся кумирами поколений, всё так. Да только одна старая и очень большая книга учила нас земных кумиров не творить и всему блескучему и слишком артистическому доверять не вполне. Но автор так любит своего героя, что и мысли об этом не допускает.
«Христианство Пастернака, – пишет Быков, – его щедрый и свободный творческий дар, его душевное здоровье раздражают мелких бесов современной культуры, как прежде раздражали мастодонтов советских времен». Круто: не любишь Пастернака – значит, ты или советский мастодонт, или мелкий бес. Эдакий террор любви! Какое это все-таки вредное чувство, сколько же бед от него…
Не думаю, что какому бы то ни было человеку, тем более россиянину ХХ века, возможно было воплотить в себе нравственный идеал христианства. Томик Пастернака навсегда останется со всеми читателями поэзии, и актуализация его присутствия в современной культуре – хороший знак, знак явной тоски по утраченной духовной высоте искусства, но обожествлять его личность, мне кажется, напрасная затея.
Костюм есть, тела пока нет
Веселому и добродушному нраву императрицы Елизаветы мы обязаны появлением на свет Русского государственного театра – 30 августа 1756 года «кроткия Елисавет» подписала соответствующий указ. Через двести пятьдесят лет в этот день старейший театр России, бывший императорский Александринский театр Санкт-Петербурга, принимал гостей после великолепной реконструкции. У старейшего театра начинается новая жизнь.
Чертог сиял! И на лица главных режиссеров других петербургских театров, приглашенных на открытие Александринки, ложились тени смешанных чувств, среди которых мелькала и явная ревность. Их нетрудно понять: такой красотищей никто похвастаться не может. Отсутствующую в театральном Петербурге волю к жизни и пробивную силу нынешний художественный руководитель Александринки, москвич Валерий Фокин воплотил в поистине императорских масштабах. Здание, спроектированное самим Карлом Росси, одно из главных достопримечательностей города, ныне оборудовано по последнему слову техники и возрождено во всем имперском блеске. Сделали с умом и вкусом: новодел не бросается в глаза, бархат и позолота не вопиют, но сдержанно мерцают, а «Музей русской драмы», расположенный в анфиладе третьего яруса, способен поразить любого скептика. В запасниках Александринки оказались сотни костюмов и аксессуаров из прошлого, так что зритель, поднявшись на двухстороннем лифте, вмещающем полторы тонны живого веса, может полюбоваться на подлинные сценические платья Х1Х века и порыдать над крошечными шелковыми туфельками знаменитых примадонн: увы! ни таких ножек, ни таких актрис больше не предвидится!
Представление, которым открылась возрожденная Александринка, не успело надоесть очаровательным абсурдом в постановке режиссера-экспериментатора Андрея Могучего: длилось около сорока минут. Главной задачей тут было продемонстрировать возможности обновленной сцены, и они были явлены – мягко опускались и поднимались многоразличные задники и кулисы и оркестровая антресоль, на проекционных экранах мерцали изображения легендарных артистов, даже как бы оживленно подмигивающих зрителю (компьютерная обработка дает и такие возможности)… На воздушных петлях взмывали вверх, тревожно помахивая пуантами, танцовщицы в белых юбочках и обтягивающих белых шапочках, что придавало им какой-то больничный вид. Из глубины сцены, тяжело покачиваясь, приблизился некто в цилиндре и сюртуке, отливавших металлическим блеском, – то был бархатный бас Александринки, народный артист России Николай Мартон. Он изображал нечто вроде соборной души театра, а потому бредил афоризмами из классических пьес. Потом явились загадочные персонажи в красных длинных платьях, с осветительными приборами, установленными прямо над головой. Потом люди в белых фраках пронесли вдоль сцены справа налево силуэты розовых фламинго. Потом из волшебного черного ящика появился первый поздравляющий – директор Большого театра Анатолий Иксанов, как всегда всем довольный и не имеющий на лице ревнивых теней. По простой причине, которую он сам и объявил обновленной Александринке: «Вы старше, но мы-то дороже!» Всё это время пианист Алексей Гориболь на левом краю сцены невозмутимо, но с чувством играл музыку Леонида Десятникова.
Все бывшие императорские театры приветствовали старейшего собрата: Валерий Гергиев (Мариинский театр) прислал видеописьмо, а Малый театр счел нужным прибыть лично: Элина Быстрицкая, Ирина Муравьева и Юрий Соломин прочли поздравительную оду и подарили театру изящную фигурку благодетельницы – императрицы Елизаветы…
Итак, на сегодняшний день старейший государственный театр страны представляет собой чистую, ослепительно прекрасную форму, в которой пока нет никакого содержания. Что будут играть на этой замечательно оснащенной сцене? Что останется от старого репертуара и каков таков будет новый?
Вообще-то пока что по творческим вопросам московский Малый театр значительно превосходит старшего императорского брата, как это и было не раз в истории русского театра – не зная резких перемен, избегнув диктата идеологической и стилистической моды, Малый имеет и обширный репертуар, и богатую индивидуальностями труппу, и добротную, а иногда и превосходную режиссуру. Видите ли, ремонт для театра вещь хорошая, но не главная. Великие спектакли возникали, бывало, в подвалах и чердаках, на маленьких пространствах и в случайных залах, потому что театр – дело живое и заводится от духа творчества, а не от сметы. Поэтому нынешний праздник Александринки – праздник по форме, а не по существу.
Валерий Фокин, конечно, незаурядный режиссер, но за годы руководства Александринкой поставил только один интересный, яркий спектакль – «Ревизор» Гоголя. Другое увлекало его, иное вдохновляло – явный победитель пространств, он привык завоевывать все новые и новые. Сможет ли Фокин остановиться и углубиться в творчество? Вот уже он публично заявляет о необходимости «малой сцены» для Александринского театра, и это тогда, когда на основной-то сцене нечего играть. И вспоминаешь, что руководимый им Центр имени Всеволода Мейерхольда, огромное здание в Москве, тоже блещет техническими возможностями, но что-то не спешит познакомить зрителя с выдающимися театральными экспериментами.
Просматриваются тревожные симптомы. Театральной общественности явно следует внимательно приглядывать за Валерием Фокиным, на всякий случай держа в руках смирительную рубашку, и когда/если режиссер потребует ради очередной «малой», «новой», «другой» сцены снести в Петербурге квартал, эту рубашку применить по назначению. С Валерием Гергиевым такой операции не проделали, а жаль.
Сказанное не отменяет выдающихся заслуг Валерия Фокина в деле реконструкции театра: они очевидны, и новая Александринка по праву нравится решительно всем. Правда, обычно живое тело, руководимое разумом, шьет себе платье по карману, а здесь наоборот: блистательный костюм будет подбирать себе подходящее живое тело. Фантасмагория во вкусе Гоголя! Проказы имперского духа!
И скажу вам уж совсем прямо: сделать ремонт театра, имея толковых специалистов, государственную поддержку и приличные деньги, дело трудное, хлопотное, но реальное.
А вот как сделать ремонт таланта?
Счастливый театр донны Беллы
Фильм о поэте Белле Ахмадулиной был показан на канале «Культура» в день ее юбилея. То был своего рода парадный портрет на фоне друзей-шестидесятников, говорящих дежурные комплименты. Ни одного острого или оригинального слова так и не прозвучало, а зря: уж кто-кто, а Белла Ахмадулина – явление, достойное всяческого изумления.
14 апреля 2007 года у входа в Александринский театр (Санкт-Петербург) впервые за сорок лет спрашивали лишний билетик. Юбилейный вечер Беллы Ахмадулиной заставил вылезти изо всех щелей буквально всю старорежимную интеллигенцию Петербурга и заодно всю умеющую читать молодежь. Небольшого роста пожилая женщина, декламирующая стихи, собрала невиданную аудиторию – даже на трех ярусах раззолоченного императорского театра яблоку было негде упасть.
Публика немного испугалась, когда Борис Мессерер, муж поэта, вывел Ахмадулину на сцену. Она шла с видимым усилием. Но дальше было чудо. Сцепив за спиной руки в тяжелых серебряных кольцах и слегка откинув голову, Ахмадулина два часа стояла у микрофона и читала – наизусть! – свои стихи, многие из которых насчитывали десятки строф. Без всяких дивертисментов и пауз – инициатор вечера замечательный пианист Алексей Гориболь, назвав имя поэта, тут же деликатно стушевался.
И кто такое может? Да никто. Ни один современный литератор не соберет столько публики и не удержит внимания так долго. Это чистая победа. Флейта переспорила трубы и барабаны, нежность поборола агрессию, «слабый» женский голос одолел толщу времен!
Ахмадулина всегда жила словно бы в собственном времени и пространстве. Она не откликалась на «актуальные» события, а обживала свой мир. В этом мире было место для теней великих поэтов прошлого, для природы, культуры, личных чувств и воспоминаний, для любимых книг. Иногда Ахмадулина видела и современников – особенно в стихах, написанных после пребывания в больнице. Современники вызывали чувство мучительной и горькой жалости. Но личный мир поэта столь богат, изящен, так прекрасно выстроен и отделан, что и горькая печаль о сущем отлично размещается в нем, как украшающая деталь:
Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты. Сочинитель пустот, в коридоре гляжу на сограждан. Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси. В день рожденья Его дай молиться и плакать о каждом! «Елка в больничном коридоре»Кокетливо и чуть лукаво извиняясь за некоторую «замысловатость» своих сочинений, помолодев за время чтения лет на сорок, Ахмадулина легко и вдохновенно творила на сцене Александринского театра свой особенный, счастливый театр. В этом театре она воспевала огромную ценность частной жизни обыкновенного человека, у которого есть память и любовь к русскому слову. Этого достаточно для тихого счастья среди книг, цветов, друзей, милосердной природы и дивных городов. Всей остальной мороки можно просто не замечать.
Из жизни и творчества этой необыкновенно умной и, разумеется, необыкновенно сильной женщины, можно вынести, по крайней мере, два урока.
Первый – не надо, как Анна Ахматова и Марина Цветаева, грубить мужчинам. Их можно разве что тонко укорять и печалиться о несбывшемся. Тогда мужчины окружат, поддержат, принесут дары и вообще будут всячески хлопотать, в тайной надежде, что за них потом замолвят слово в Вечности.
Второй – не надо в своем творчестве идти навстречу пожеланиям трудящихся. Полвека Ахмадулина выслушивала разные укоризны насчет сложности и вычурности своих стихотворений, а сегодня галерка декламирует их хором, зная назубок. Поздравляя Беллу Ахатовну с юбилеем, в конце вечера режиссер Алексей Герман с удивлением оглядел зрительный зал и сказал: «Так мы живы!!» – и зал одобрительно загудел.
Некоторые исторические неприятности, случившиеся на русской дороге между Пушкиным и Ахмадулиной, в этот вечер совершенно померкли – перед величием и красотой Русского Слова.
Маскарад каменной девки
Премия «Русский Букер» за 2006 год присуждена писательнице Ольге Славниковой за роман «2017». Выступая по этому поводу, председатель жюри писатель Александр Кабаков заявил, что и вообще «русская литература в прекрасном состоянии, а жанр романа процветает».
Не хотелось бы, однако, вносить в разговоры о литературе тон пустого бахвальства, более уместный в шоу-бизнесе. Современная русская литература находится не в прекрасном, а в приличном состоянии – по сравнению с современным театром или, не к ночи будь помянута, с современной живописью. Пациент жив, принимает посетителей и даже с любопытством смотрит в больничное окно. Однако на улицу пока не выходит… Процветает же, на мой взгляд, не жанр романа, а сочинение толстых книг с надписью «роман». Именно эта надпись всемерно поощряется и критиками и премиями – а какой цветок поливают, тот и вырастает. Для сочинителей рассказов сегодня никаких радостей не припасено, и Чехов с Платоновым в нынешней ситуации остались бы решительно без всяких пирогов и пряников, как остается без пирогов и пряников выдающаяся писательница Людмила Петрушевская, органически не способная производить толстые книги.
Премия же «Русский Букер» в этом году присуждена абсолютно справедливо. Роман Ольги Славниковой «2017» – это настоящая, густая, высококалорийная литература, созданная без всякой оглядки на мыслительные возможности читателя.
С первых же страниц, где герой на вокзале встречает странную, притягательную женщину, изменившую ход его судьбы, на нас обрушится вихрь ослепительно ярких деталей и подробностей жизни. Изобразительная сила Славниковой уникальна, и бытующая в литературных кругах шутка о том, что Славниковой руководит дух покойного классика Владимира Набокова, не случайна. Действительно, и для Набокова, и для Славниковой зрение – главное и основное свойство писателя. О «женской прозе» в случае Славниковой надо забыть – если бы писательница взяла мужской псевдоним, никто бы не догадался о подвохе. Подобно женщинам-летчицам, Славникова, принимая на себя груз профессиональных обязательств, не делает для себя никаких поправок и скидок на природный пол.
События романа разворачиваются летом и осенью 2017 года, накануне рокового для страны празднования столетия Октябрьской революции, на Урале, откуда родом Славникова (в романе Урал называется Рифейской землей). Герой романа Иван Крылов – «хитник», самодеятельный старатель, волк из стаи одиноких волков, промышляющих незаконной добычей и обработкой самоцветов. Провожая старого авантюриста, профессора Анфилогова, в опасную экспедицию за рубинами, Крылов страстно привязывается к незнакомой женщине и начинает под ее влиянием безумную игру. Каждый день герои встречаются в новом месте, предаются любви и назначают на завтра новое свидание в другом месте, не зная о координатах друг друга. Если хоть один из них хоть в какой-то день не придет – связь будет прервана. Таким способом герои хотят вырваться из окружающего их неподлинного, маскарадного, фальшивого мира.
Действительность 2017 года не шибко отличается от действительности образца 2006 года. Прекрасная и отравленная Рифейская земля грозно замерла, тая в себе ужасную месть. И социальные верхи, и социальные низы одинаково отвратительны. Давно есть способы накормить всех голодных и вылечить всех больных, но никому не выгодно их применять. Мир застыл в бездарной клоунаде, и ее полномочная представительница – бывшая жена Крылова, бизнес-леди Тамара. Красивая акула, одинокая и несчастная притом, Тамара задумывает реформировать похоронный бизнес на новый гламурный лад. В ее планах – создание целого похоронно-развлекательного комплекса, с кафе и детскими площадками, с особыми ячейками захоронения, где бренные останки постепенно мумифицируются, с призовыми лотереями для родственников усопших и прочей дрянью.
Между тем всеобщая ненависть людей друг к другу дает неожиданный прорыв. Во время празднеств в честь столетия Октября, переодевшиеся в красноармейцев начинают палить в переодевшихся белогвардейцами. Нет ни идей, ни вождей, но остались костюмы – и костюмы оказываются способны творить призрак Истории, запускать вирус Истории. По всей стране народ расхватывает либо ту, либо другую форму и с застарелой страстью берется за оружие…
Но социальные корчи – это ерунда в сравнении с тем, что задумала уральская Природа, сильно изменившаяся благодаря человеку со времен сказочника Бажова. Славникова напускает в свой роман рой волшебных духов из дивной «Малахитовой шкатулки», но они у нее лишены всякой нарядной красочности и игривой снисходительности к человеку. Хозяйка Медной горы становится чудищем, Каменной Девкой, которая вселяется в земных женщин и губит своих избранников. И герой романа попадается на этот маскарад и отчаянно и бесплодно влюбляется в такого оборотня… Изображение страшной красоты природы, смертельно напряженной в ненависти к человеку, – наверное, лучшие страницы романа.
Тем не менее на Рифейской земле еще остаются свободные, смелые люди – хотя бы наши «хитники», чуждые и властям, и застывшему в своем свинстве обывателю. И они всегда готовы отправиться в поход за мечтой, чем бы это ни грозило.
Роман Славниковой отличает некая, вообще характерная для уральской интеллигенции, меланхолия, доходящая временами до каменной угрюмости. Книга эта, как кристалл, – великолепна, прозрачна и безжалостна. В ней нет даже обязательного для русского писателя сочувствия социальным низам. Никаких волн тепленькой «душевности». В романе есть замечательное сравнение настоящего искусства с огромным темным замком, у подножия которого расположился балаган с каруселями. Этот замок излучает темные волны, «делающие многие приятные вещи просто несуществующими». Такое впечатление, что и книга Славниковой испускает «темные волны», и навеяны они той самой «Каменной Девкой» – то есть духом Природы, оскорбленной человеком. Природа испокон веков считается безмолвной – но, может статься, она уже научилась, вселяясь в своих избранниц, писать книги? Ну, тогда нам не поздоровится!
Воскрешение героя
После двенадцатисерийного фильма режиссера Николая Досталя «Завещание Ленина» не возникает желания спросить: для чего это сделано. К людям вернулся художественными средствами воскрешенный герой. Без всякого преувеличения, писатель Варлам Тихонович Шаламов – святой мученик Советской России. Если такие люди и такие книги, как «Колымские рассказы», не остаются с нами навсегда, то ни в чем нет никакого смысла.
1 июля (18 июня по старому стилю) писателю Варламу Шаламову исполняется сто лет. С 4 по 9 июня зритель канала «Россия» мог познакомиться с основными вехами его жизни. Детство в семье священника, недолгая учеба в университете, арест за связь с юными троцкистами, распространявшими письмо Ленина к съезду (так называемое «завещание Ленина»), первый срок, первый лагерь на Урале. Москва, женитьба на актрисе, рождение дочери, первые успехи на поприще литературы, второй арест в 1937 году. Колыма. Каторжные работы. Из лагеря Шаламов выходит только в 1951-м. В семью он вернуться уже не может – все стало чужим. Одинокий волк, нищенствуя по привычке, пишет свои гениальные рассказы о путешествии в ад, которые при его жизни опубликованы не были. В 1982 году умирает в интернате для психохроников. Вот такая развеселая русская судьба.
«Завещание Ленина» – старый добрый историко-биографический фильм, сделанный тщательно, с умом, с явной воспитательной целью. Это идеальная продукция для телевидения, желающего просвещать, а не развращать людей. Я давно симпатизирую творчеству Николая Досталя (напомню вам его замечательные картины: «Облако-рай», «Мелкий бес», «Коля – перекати поле», «Штрафбат»). Его пристальному любовному вниманию к провинциальной России, его умению настраивать актеров на верный тон, его человеческой и профессиональной добросовестности. И радуюсь, что судьба отпустила ему возможности и силы создать, наверное, главную картину его жизни.
В «Завещании Ленина» нет раскрученных «медийных лиц», нет эффектных монтажных склеек, нет известных исторических персонажей – все это было бы даже неприлично в рассказе о немыслимой судьбе Варлама Шаламова. Ведь картина повествует о мучениках, жертвах, «терпилах» истории – о народе. Поэтому все артисты подобраны по принципу типажной достоверности. В их игре нет никакого модного разврата, самовлюбленности, показных фокусов. Они буквально жертвуют собой ради точного образа. Это и есть высокая задача актерского искусства, о которой мы начинаем забывать. Но посмотрите на семью вологодского священника. Отец Варлама Шаламова – норовистый, упрямый, строгий радетель родной земли Тихон (Александр Трофимов) и его тихая, светлая, вкусная, как сдобное тесто, вечно-хлопотливая, сотканная из милосердия матушка (Ирина Муравьева). Эти образы сшиты будто платья настоящих мастеров – с множеством отлично сделанных мелких деталей, с идеальной подгонкой по фигуре. Вот так надо работать, себе в удовольствие и людям на пользу, а не кривляться, воображая себя «звездой», господа артисты!
Ритмы рассказа, построенного сценаристами Юрием Арабовым и Олегом Сироткиным, несмотря ни на какие ужасы происходящего, спокойны. Каждый эпизод для чего-то нужен, он характеризует героя, содержит информацию о жизни и присущие мастеру Арабову размышления о природе человека и замысле Бога. Но обманчиво спокойны ведь и ритмы рассказов самого Шаламова. «Это было так». Отчаяние, ненависть, злоба, тоска, гнев – все словно бушует огнем под слоем камня. Лицо Владимира Капустина (он играет молодого и зрелого Шаламова; удивительно похожий на писателя внешне Игорь Класс – старого) не искажается гримасами – оно трагически бесстрастно. Только глаза и жесткие складки возле губ выдают невероятную силу сопротивления человека бесчеловечным обстоятельствам и его подлинное отношение к окружающим. Это настоящий герой, крутой характер, уникальная сила духа. Таких больше нет. Герои возвращаются в наше безгеройное время из прошлого, и, примеряя их на себя, измеряя ими себя, невозможно не признать: нет, не тот калибр. Нынешним только палец прищеми – они орут на всю вселенную. Такой кристалл духа, как у Шаламова, выращивался в жарких исторических топках, ковался стальными молотами. Ему случалось лукавить, обманывая лагерное начальство, но он никого не предал за кусок хлеба, как это сплошь и рядом делали отчаявшиеся люди. Честный, прямой по натуре Шаламов наращивает на себе, как насекомое, твердый хитиновый покров: затаиться, выжить, сберечь свой талант. И выживает в аду… «Завещание Ленина» убедительно показывает чудовищную, страстную, изощренную, отвратительную жестокость многих наших людей «при должности». Почему-то допрашивать подследственного они могут только с ором, с унижением, конвоировать заключенного – с дикой злобой, с битьем, командовать на работах – с руганью и рукоприкладством. Ни тени сострадания, ни искры уважения к человеку. Неужели только два слова – «враги народа» – способны были напрочь выбить из человека любые шевеления сочувствия к себе подобному? Или этих шевелений вообще нет в человеческой природе, и она элементарно эгоистична и варварски жестока вообще, всегда, везде? И творцы советской империи на костях просто раскрепостили эту страстную жестокость, дали ей пищу, развязали руки?
В картине звучат прекрасные стихи Шаламова, где он, сын священника, часто говорит о Боге с горечью и тайным гневом. Что ж, не нам его судить. Человек имеет право рассуждать о законности и благодетельности только своих страданий. Только своих. А не страданий другого. Со своим Богом святой мученик Варлам разберется сам. По закону Колымы, который именно он принес в литературу. «Не верь, не бойся, не проси». А мы почтим его память и поблагодарим всех создателей фильма «Завещание Ленина», напомнивших нам, что и от кино, и от телевидения, оказывается, большая может произрасти польза.
Заяц оказался хорошим и грустным
Судя по всему, Слава Росс, автор сценария и режиссер фильма «Тупой жирный заяц», который только вышел в прокат, решил сделать маленькую революцию с помощью названия своей картины. До сих пор считалось, что название картины должно быть по возможности кратким, эффектным и привлекательным. Словосочетание же «тупой жирный заяц» способно отпугнуть многих зрителей. Что же скрывается за этим жутким названием?
К разочарованию молодых «приколистов», которые решили было, что «Тупой жирный заяц» – это какое-то крутое остромодное шоковое кино, фильм оказался совершенно обыкновенной лирической комедией позднесоветского типа.
Будни провинциального детского театра, где идут дурацкие утренники с зайчиками и грибочками, показаны с мерой юмора и сентиментальности, свойственной, допустим, позднему Рязанову. То есть сентиментальность явно преобладает здесь над редкими комическими трюками. Герой в исполнении Алексея Маклакова – немолодой артист без ролей, в нелепом желтом костюме зайца, с нарисованными усами и тоскливыми глазами пьяницы поневоле. Он вполне в духе персонажей Чехова размышляет, на что ушла жизнь. От отчаяния «заяц» начинает прямо на сцене декламировать Шекспира, смеша детей и приводя в ужас дирекцию.
В мечтах ему является шикарное привидение по имени Никита Сергеевич и укоряет его за преждевременную сдачу жизненных позиций. Известно, что сняться у Никиты Сергеевича – горячечная греза всех провинциальных артистов, а потому нельзя не одобрить жест Н. С. Михалкова, который не поленился, надел белый костюм Паратова и снялся как человек-мечта в эпизоде «Тупого жирного зайца» лично. В виде легкой пародии на самого себя.
Все в этой картине довольно обычно для фильмов данного вида – и гастроли по селу, где пьяные вдрабадан артисты падают на землю, а гонорар берут куриными яйцами, и маленький диктатор-директор, и молодая душевная актриса, полюбившая нашего «зайца» за муки, и склочная аморальная его жена. Забавен новый спонсор театра – колбасный торговец (Александр Баширов), который, являясь, конечно, переодетым чертом, желает самолично поставить пьесу о вампирах и дает нашему «зайцу» главную роль. Артисты покорно оставляют костюмы белочек и поросяток и переодеваются в летучих мышей, страшно раскрашивая свои пожухлые бедные лица. На свадьбе брата спонсора, которую с угарным размахом играют в театре, наш «заяц» не выдерживает окружающей пошлости и кусает спонсора-черта за нос. Наконец, за безобразия его увольняют из театра, он решает броситься с крыши, но по иронии судьбы падает на фургон с куриными яйцами, которые в страданиях заработали товарищи-актеры…
Вполне нормальный средний фильм, можно спокойно показывать по ТВ. Маклаков не Евгений Леонов (идеальный был бы исполнитель этой роли), но артист довольно приятный, небанальной внешности, с хорошей провинциальной добросовестностью игры. Не было никаких причин называть эту картину «Тупой жирный заяц», якобы привлекая публику дополнительным шок-эффектом. Скорее, своего зрителя режиссер отпугнул. А тридцатилетние любители вокала Максима Покровского (он звучит в фильме) не найдут там ничего искомого, никаких оригинальных приколов.
Однако случай с этим названием симптоматичен. Видимо, нас вскоре ожидает острый кризис названий в кино. Драгоценные плодоносящие слова («смерть», «любовь», «золото», «жизнь», «отец», «мать», «русский», «преступление», «мертвец») и производные от них уже употреблены, кажется, во всех сочетаниях. Тут и классики подгадили, застолбили главную дорогу – уже не назовешь свое кино, если это не экранизация, ни «Воскресение», ни «Идиот», ни «Лес», ни «Буря»… И неутомимый Голливуд истребляет в год десятки хороших названий. И телесериалы не дремлют, вытаптывая свои поляны. Идти по гордому пути классической музыки, где фигурируют «Симфонии №…» и вообще никак не называть свои произведения, кино, как рыночный товар, не может. Хотя Сокуров или Герман и могли бы назвать свои картины «Фильм № 6», «Опус № 21» – их все равно будут смотреть любители авторского кино. Что же делать?
Можно идти по второму кругу, конечно. Есть же у нас «Свадьба», фильм Исидора Анненского по Чехову, с Гариным и Раневской – и фильм П. Лунгина с тем же названием. Есть «Дорога» Феллини и «Дорога» режиссера Н. Петровой. Можно пойти путем А. Н. Островского, который часто использовал в названиях пьес русские пословицы и поговорки – «Не в свои сани не садись», «Без вины виноватые», «На всякого мудреца довольно простоты»… Этим путем, кстати, пошли создатели сериала «Не родись красивой» – и какой успех! Но это годится только для тех произведений, где есть четкая мораль. А с этим у нас проблемы.
Однако, честно говоря, несмотря на перепроизводство искусства, в хорошем-то фильме все хорошо – и название в том числе. Назвал же Михалков свою картину «Родня», Панфилов – «Тема», Рязанов – «Гараж», Муратова – «Настройщик», Сокуров – «Телец», Балабанов – «Брат», и преотлично получилось. Получилось потому, что название было связано со смыслом и центральным образом фильма.
А когда со смыслом невнятно или он неоригинален, тогда приходится мудрить. Иногда получается интересно и занимательно. Иногда – совсем мимо содержания фильма. Как в случае с тупым жирным зайцем, который оказался просто-напросто традиционным, бедным, маленьким и грустным зайчиком из старых советских комедий.
Война и поросенок
Чукотка – уже интересно. 1943 год – значит, Великая Отечественная в полном разгаре. Военный аэродром – хорошая фактура. А еще и старые мудрые чукчи, и поросенок Тарасик, и сумасшедший комендант, и американские летчицы, и хоровое пение «Интернационала», и ссыльный повар, и мертвое тело, и следователь по имени Яков, и… чего только не навертел в своем новом фильме «Перегон» Александр Рогожкин! И все от любви к жизни – подозреваю, что не слишком взаимной…
Александр Рогожкин хоть и настоящий герой авторского кино, но изъясняется на внятном, общеупотребительном киноязыке и говорит о простых и ясных вещах. «Караул», «Особенности национальной охоты», «Блокпост», первые серии «Улицы разбитых фонарей», «Кукушка» – ясное кино, своего рода столбовая дорога, по которой должны идти, на самом деле, толпы режиссеров. Но они сейчас валом валят в жанровый дизайн и на столбовой дороге что-то пустовато.
Рассказывать понятные, человекоразмерные истории про то, что случается-бывает с человеком в жизни, на хорошем русском, в естественных ритмах никто особенно не рвется. Вот лепить красивые и жуткие картинки, меняя планы каждую секунду, под забойную музыку – это интересно.
Там, где когда-то проходила столбовая дорога, – вообще почти что никого нет, кроме храбрых дедушек вроде Масленникова и Тодоровского. Да еще Балабанов с Месхиевым. Да Михалков – разумеется, но он теперь нас не балует своим творчеством, взял паузу в восемь лет. Так что Рогожкину никого не надо отталкивать, чтоб пробиться со своим кино к зрителю.
Зритель настроен к автору «Особенностей» исключительно доброжелательно. Однако тут есть и своя опасность – от известного режиссера зритель хочет, как правило, повтора, узнавания знакомого, подтверждения репутации. А всякий режиссер, тем более режиссер авторского кино – живое существо, и должен развиваться не навстречу пожеланиям, а по своей, заложенной в него программе. Так, как это, к счастью, делают деревья, свободные от давления человеческой воли.
Говорю к тому, что кое-что привычное, «рогожкинское» (например, юмор) зритель в картине найдет, а кое-чего не найдет. Так вот, негодовать не стоит – может, так и надо?
Например, зритель не найдет в этом фильме сюжета как строгой, единой истории, которая объединяла бы всех героев. Их объединяет только место действия, аэродром. Но у Рогожкина так бывало – и в «Блокпосте», и в «Особенностях». Это такие вот приметы русского, мужского эпоса в его комедийном варианте.
Сначала может показаться, что обещан боевик про то, как союзники пригнали самолеты, а нашим летчикам теперь надо их перегнать на фронт. Но нет – за пределы аэродрома мы не выйдем, и надежда на боевик растает, как маленькая грозовая туча. Потом может показаться, что будто бы собирается мелодрама и намечаются контуры любовного треугольника между бывшей женой коменданта (Анастасия Немоляева) и командиром (Даниил Страхов). Нет, и мелодрама растворяется в воздухе. Может быть, главное в «Перегоне» не условности жанра, а ход обыденности, тыловые будни?
Здесь не История правит, та, что с большой буквы, и даже не та, что с маленькой, здесь правит анекдот. Правда, анекдот – вещь короткая и быстрая, а картина идет больше двух часов. Так это такая особенность национального кинематографа, поскольку Россия, как нам давно объяснил Рогожкин, вообще вся сплошь состоит из особенностей…
Рогожкин сам пишет сценарии своих картин, он литературно одаренный человек, и написал в «Перегоне» много выразительных лиц.
Это и сильно пьющий, жестокий и несчастный припадочный комендант (Алексей Серебряков), и милейший политрук с непременной верной собачкой, трусящей за ним (Юрий Ицков), и умный, проницательный и страшный следователь (Кирилл Ульянов), и ссыльный авиаконструктор, ныне повар (Юрий Орлов), и многие другие. Настоящих конфликтов между ними нет, разве что ледяные глаза следователя нагнали страху на мирный аэродром, но следователь как приехал, так и уехал. Нет конфликтов, потому что все они – прекрасные люди. Прекрасные русские люди.
Но и команда американских летчиц и летчиков – тоже хорошие люди. Доброжелательные, веселые, отлично исполняющие профессиональный долг. А чукчи какие чудесные люди! Они очень умные, чукчи, умные и простодушные. Из них выходят настоящие герои, даже если они немного хитроваты и подловаты, как мальчик Попов, который писал доносы в НКВД. Однако потом, как мы узнаем в эпилоге, он пошел на войну и героически погиб. Постепенно в более-менее реалистическом повествовании все сильнее звучат сказочные ноты. Режиссер, как бог, воинственно охраняет созданный им мирок от всякого зла. Прочь, демоны! Здесь живут хорошие люди в промышленных количествах, повар-ссыльный невероятно вкусно готовит, врач выращивает в оранжереях цветы и плоды, не обращая внимания на тревожный рев самолетов, женщины женственны, мужчины мужественны. В чудодейственном воздухе картины оживают даже засохшие розы, а поросенок Тарасик, переданный в дар американцам, отъелся на Аляске в огроменную свинью…
Короче говоря, Александр Рогожкин совершенно созрел для сказки. На реалистические картинки из военной жизни «Перегон» похож только по формальным признакам. На самом деле вся эта картина пропитана любовью к хорошей, чистой, правильной, простой жизни, где все люди братья, а водка всегда холодная и подают ее в стаканах крутобедрые и полногрудые бабы. Где женщина сообщает мужчине о своей беременности в таких выражениях – «Василий Иванович, я от вас тяжелая», а тот одобрительно гладит ее по животику. Где машины и механизмы – такая же живая живность, как собака или поросенок, и требует ласки и заботы…
«Перегон» – бытовая сказка, обаятельная и несуразная. Но пора, я считаю, нашему народному режиссеру браться и за волшебные сказки. У него может великолепно получиться.
Мы кушаем, так и нас кушают
Не успели читатели разобраться со «Священной книгой оборотня», как вышел новый роман Виктора Пелевина «Ампир В», играющий в другую популярную тему массовой культуры – вампирскую.
Виктор Пелевин – прежде всего идеолог, а потом уже писатель. Он хочет объяснить людям простыми словами смысл жизни. Он выполняет работу, которую раньше имитировал целый отдел ЦК партии. Пишет он все хуже, что немудрено, и становится все популярнее, что естественно: ничто так не притягивает людей, как объяснение простыми словами смысла жизни. Роман прочитывается за пару часов, поскольку соблюдены главные принципы массового чтения – не больше десяти-пятнадцати слов в одной фразе, не больше шести-семи фраз в одном абзаце и так далее.
Герой романа «Ампир В», глупый мальчик Рома, случайно попадает в настоящую элиту земной цивилизации. Это элита «вампиров», питающихся за счет излучения людей. Вдруг, в день летнего солнцестояния, у них открылось одно вакантное местечко, и они куснули Рому, превратив его навеки в Раму Второго. В обычной жизни у него никаких перспектив не было. Как мило заметил вампир Митра, «единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране – это работать клоуном у пидарасов».
Итак, покончено с жалкой работой грузчика в универсаме и психованной мамой. Рома-Рама получает высшее вампирское образование. Почти весь текст романа состоит из бесед Рамы с наставниками-старшими по званию, где Рама постоянно задает наводящие вопросы, а старшие назидательно и подробно отвечают. Картина открывается ужасающая.
Никакой самостоятельной ценностью мы, людишки, не обладаем. Нас вывели как коров – для питания: все остальное, что мы придумали, это побочный продукт. Питаются нами твари, которые условно называются «вампирами», и потребляют они не кровь (кровь нужна, чтобы считывать информацию о данной личности, и только), а священный напиток «баблос».
Эта драгоценная жидкость вырабатывается из человека в момент мечтаний о деньгах и надежд на лучшую жизнь. Ее собирает и синтезирует богиня-чудище по имени Великая Мышь, с телом огромной летучей мыши и головой женщины, и зовут ее Иштар Борисовна. Если добавить, что эту богиню автор именует еще и Примадонной, легко понять, чье именно лицо на курьей ножке появится перед мысленным взором читателя. Надо заметить, эта монстрюга – единственный более-менее живой и даже чем-то симпатичный персонаж романа. Пелевину вообще катастрофически не удаются женские образы, и все его резиновые девушки говорят и выглядят совершенно одинаково. А Иштар Борисовна хотя бы запоминается своим забавным пьянством, искренностью и трагической обреченностью.
Иштар Борисовну сослали на землю в наказание за преступление, но в чем оно заключалось, кто сослал, каким образом возник этот мир и что теперь делать, богиня забыла. Поэтому она создала «вампиров», чтобы они помогли ей это вспомнить. Но ничего не вышло, и «вампиры» стали думать, как бы поприятней устроиться на этом свете, пусть он и является помесью тюрьмы и сумасшедшего дома. Так были выведены люди (натурально, из обезьян) и получен драгоценный баблос. К людям приставлены «халдеи», редкие суки в человеческом обличье, которым вампиры поручают рулить в самых важных сферах – в политике, на телевидении, в бизнесе, в культуре. Так и стоит вся эта пищевая пирамида, где люди могут утешиться разве что поеданием еще более слабых и несчастных, чем они, существ.
Честно говоря, мне кажется, здесь что-то верное уловил писатель. Точно – нами кто-то питается. Это, конечно, не «вампиры», черт их знает, как они называются. Но далеко не все люди доступны этим тварям в пищу – нравственная, душевная, духовная работа личности может создать защитную оболочку. Об этом Пелевин, к сожалению, не пишет, у него все люди равны, как бараны.
Идейный мрак романа слегка освещают редкие, но приятные искры знаменитого пелевинского юмора. «Протяженность человеческой жизни была рассчитана таким образом, чтобы люди не успевали сделать серьезных выводов из происходящего». Это хорошо.
А наш герой, став сверхчеловеком, то есть нелюдью, и попробовав «баблос», уже никогда от него не оторвется. Тем временем приятельница героя стала новой головой Великой Мыши, и баблоса теперь у нашей парочки будет – завались. Вера в химическую природу всякой человеческой истины и всякого земного счастья у Пелевина велика и неистребима.
Что ж поделаешь. Писатель ведет замкнутый образ жизни, на работу не ходит, семьи вроде бы не имеет, круг общения узкий. Судя по текстам, очень много смотрит голливудских фильмов, сидит за компьютером, читает иногда газеты. Вот и приходят в голову идеи, как бы выделить из этой жизни смысл, наподобие того, как из земных продуктов ловкие люди выделяют всякие приятные, хоть и дико вредные вещества. Но возможно ли это сделать, не имея в руках исходного продукта, то есть самой жизни?
На страницах 338 и 363 я нашла опечатки и удивилась, неужели «Эксмо» экономит на корректорах? Оказалось, «в книге сохранены авторские орфография и пунктуация». «Авторская орфография» – это круто. Ждать ли нам вскорости и авторской арифметики?
Перемирие
Неужели в душе Алексея Балабанова закончилась война? Оказалось, что в душе он хранит недюжинные стратегические запасы чистой нежности, что позволило ему снять легкую, умную, печальную картину «Мне не больно» – картину о повседневной жизни обычных людей.
В этой истории нет ничего искусственно раздутого, раскрашенного, агрессивно заявляющего о себе. Всё это есть или могло быть, так случается, так бывает. Режиссер не смотрит на современную жизнь высокомерным или отрешенным взглядом – да нет, он парень свой, он тут прописан, живет со всеми в общей каше, пьет из горла дешевый алкоголь, ныряет в метро, знакомится на улице с девчонками, болеет, дерется, нуждается в деньгах и любви. И эта естественность живого дыхания живого человека составляет одну из главных прелестей фильма.
Действие происходит сегодня в Петербурге, снятом, в основном, с любимой точки зрения Балабанова – с точки зрения воды. Но на этот раз нет в изображении Питера ни мрачной, имперской, инфернальной красоты, ни коммунальной эстетики помоек и заброшенных углов. Город показан молодыми, свежими, чистыми глазами, которые слишком увлечены жизнью, чтоб замечать, в каких декорациях она происходит. Ракурсы выбраны оригинальные, а осточертевшего в последнее время приторного любования Петербургом – нету (оператор Сергей Астахов).
Миша и Олег дали объявление в газеты – дескать, сделаем быстро, качественно и недорого ремонт, дизайн, перепланировку и что угодно (только бы заплатили хоть немножко). Они не обманщики, так, преувеличивают малость, но у них в маленькой фирме есть настоящий архитектор по имени Аля (пять с плюсом Инге Стрелковой-Оболдиной за эту великолепно отделанную рольку!). Девушка она дикая, мужиковатая, косолапая, сердитая, одевается, как бомжиха, говорить на русском языке не умеет, и вообще видно, как сильно задубела эта человеческая особь в боях за место под солнцем. Но талант! Сняли «два друга и подруга» квартирку по случаю и пошли по заказчикам. Так герой, забавный веселый паренек в очках (Александр Яценко), и повстречался с героиней Литвиновой, живущей на содержании у «папика».
То, что у нашего Миши поплыла голова от лунной девы с бледными губами и бесстрастным голосом, неудивительно. Нетрудно поверить и в то, что она не на шутку вцепилась в него как в образ милой, теплой и навсегда уходящей от нее жизни. Однако главная тема картины не в этом вполне убедительно снятом и сыгранном притяжении.
Главная тема абсолютно простодушно заявлена уже в самом названии фильма. «Мне не больно» – так говорят люди из гордости или из страха показаться слабыми, когда скрывают свою боль. Ведь на самом деле жить – очень больно. И самая мучительная боль на земле – это боль душевная.
От душевной боли могут корчиться и рыдать крупные, агрессивные мужчины, когда их никто не видит. Ужас потери близких, личного несчастья, отвержения, обиды непонимания ничем не лечится. Нет врачей, нет лекарств! Разве что напиться в компании друзей или уткнуться в грудь другого живого человека и всласть поплакать. Люди храбрятся, держатся, стараются не выдавать себя – и вдруг точно судорога пройдет по лицу: больно! И звероватый, огромный парень (симпатичнейший теленок – Дмитрий Дюжев) станет рассказывать про мерзавца, который убил его друзей, а расхристанная шалава в поезде завоет, как ей погано, – полгода жила с человеком, а он оказался таким гадом… Живое болит и просит тепла на душу, забывая, что от тепла-то еще хуже, ведь боль глушит только холод.
Удивительно трогательный образ нарисовал в эпизоде и Никита Михалков (видно, как томится человек по актерской работе!). Он играет мощного, крутого, властного снаружи человека, который весь изранен и беззащитен внутри. Купить-то можно только квартиру, а больше – ничего. Ни любовь, ни здоровье близких, ни даже спокойный сон за деньги не купишь. Михалков плачет прямо в кадре (такого еще не было) и стоит отметить, что на этот раз, в отличие от «Статского советника», ему сделали хороший грим.
Рената Литвинова продолжает удивлять разнообразием своих артистических проявлений – эта роль не похожа на предыдущие. Конечно, любая роль Литвиновой – это цепь ракурсов и картинок, но нанизанная на общую мелодию актрисы. Здесь эта музыка – радостная и обреченная любовь к свободе женщины-беглянки. Выбор мальчика в герои-любовники – это ее личное, собственное «Против всех». Не хочу того, что выгодно и правильно, а хочу самостоятельного хотения…
На мой взгляд, в сценарии Валерия Мнацаканова есть серьезный недостаток – болезнь героини заявлена как данность, что плохо для художественного произведения. Герои художественных произведений, в отличие от людей, просто так не болеют – болезнь всегда для чего-то нужна, имеет свои причины. Как правило, болезнь является за любовью, не наоборот. И тем не менее свою вариацию «Дамы с камелиями» Литвинова сыграла со вкусом – роскошная, нежная, искристо-ледяная, бедная и вольная пленница судьбы. Надеюсь, литвиновская обреченность в этой картине примирила сердитых зрительниц с ее по-прежнему феноменальной фотогеничностью.
Молодая энергия растворяется в воздухе умирания, в мертвом городе полно живых людей, и жизнь находит некое мелодраматическое перемирие со смертью, как то и положено в итальянской опере. Больно и хорошо. Или, как пела Снегурочка – люблю и таю…
Смысл? Он давно сформулирован, и не нами, а поэтом по фамилии Блок: «Радость-страданье – сердцу закон непреложный». К счастью, по мелодраматической канве сюжета рассыпаны маленькие салюты беззлобного юмора. Хороша и актерская игра – без жирных подчеркиваний и нажимов, естественная и разумная. Так что «радость-страданье» смотрится на сей раз привлекательно и легко. Алексей Балабанов сделал неожиданную картину, а, позвольте напомнить, неожиданность – это хоть и не главный, но непременный признак таланта. А война в его внутреннем мире, конечно, не закончилась. Но надо же и отдыхать иногда. Смотреть на воду, на старые камни, на милых обреченных женщин. Перемирие, перекур, отпуск по ранению…
Балабановские корчи
Новая картина знаменитого режиссера Алексея Балабанова («Про уродов и людей», «Брат», «Война», «Мне не больно») – «Груз 200» – включена в конкурс фестиваля «Кинотавр» и показывается сейчас в специальных местах вроде Дома кино. Широкий прокат ей не светит. Желающие могут купить диск. Это может показаться странным только тому, кто фильм не видел. А кто видел – лишь вздыхает и заводит мученические глаза к небу: ну Балабанов! Ну и «жесть» он выдал!
А что вы хотите – художник свободен. Ни тебе идеологического отдела ЦК, ни злобных буржуев-продюсеров. Иди, значит, «дорогою свободной, куда ведет тебя свободный ум». И этот ум от нежной, трогательной, печальной мелодрамы «Мне не больно» заводит Алексея Балабанова в мрачную эпоху 1984 года, в провинциальную Россию – а там правит бал милиционер-маньяк, садист, импотент и убийца. Девушку, случайно забредшую на хутор, где живет дикий, полубезумный хозяин (Алексей Серебряков), торгующий самогоном, этот садист насилует пустой бутылкой – и это только начало нашего знакомства с персонажем…
Балабанова понять можно. Он хотел высказаться о цене человека на просторах родины. О том, что эта цена была и есть ноль целых, ноль десятых. О том, что погибшие воины здесь фигурируют в закрытых гробах как «груз 200», а жизнь обывателя в любой момент может оборваться – сойди случайно с привычной тропинки, и тут же полезут «русские ужасы»: сумасшедшие мужики, одуревшие от водки, менты-оборотни, старухи-ведьмы. И надеяться не на что. Изуродованная варварской индустриализацией земля обезбожена полностью и окончательно. Недаром один из героев фильма «Груз 200», тихий запыленный чудачок (Леонид Громов) – преподаватель научного атеизма. Это ж умом можно двинуться – многомиллионный народ сделал отсутствие Бога научной дисциплиной! И вот, неспешно, с жуткой неотвратимостью, под развеселые эстрадные песенки, накачанное мутным самогоном и упоенное беспределом, нарастает зло. Зло в мундире стража порядка, в погонах, с отсохшими половыми органами и адской ухмылкой, коллекционирует трупы. Привозит несчастной девушке, прикованной в голом виде к кровати, тело ее жениха, погибшего в Афгане, и кладет рядом с ней. Заставляет бомжа насиловать эту девушку и сладострастно смотрит на это. События теряют всякое правдоподобие, но в художественной ловушке, подстроенной хронически талантливым режиссером, не теряют художественной убедительности. «Ничего подобного быть не могло!» – пытается утешить себя зритель и не утешается: ну как, не могло – вот же оно, на экране.
Прокатчиков, «бортанувших» эту картину, тоже понять нетрудно. Зритель, купивший билет и затем проведший полтора часа в состоянии стресса, может впасть в состояние мотивированной агрессии. И по милой русской привычке убить кого-нибудь, совсем невиноватого.
Так что все правы по-своему. Прав Балабанов, художник предельно искренний и откровенный, из своего нутра выдирающий именно то, что сегодня болит, человек на диво русский, органически вырастающий из почвы. Его корчи – это в некоторой степени и корчи самой нашей страдальческой земли, отсутствие в нем меры и вкуса – это и отсутствие меры и вкуса в самой нашей истории. Где в ней мера, скажите на милость? Но правы и те, кто считает, что «Груз 200» – перебор, излишество, чрезмерность. В том, что снял Балабанов, есть своя правда – правда умной, злой, страшной, отвратительной сказки (отметим мотив уединенного хутора, который превращается в разбойничий постоялый двор, гнездо нечисти, мотив, известный еще с гоголевского «Вия»). Но и то правда, что это далеко не вся правда.
Жизнь людей куда сложнее, богаче, хитросплетенней, разнообразней. И в 1984 году люди любили, рожали детей, мечтали, думали, изобретали, писали хорошие книги, искали истину, боролись с ложью и несправедливостью. И в этой цветущей сложности жизни – залог ее продолжения и вечного обновления. И Алексей Балабанов, «трудное дитя жизни», сам это знает прекрасно. Куда его теперь занесет? Какие свои нравственные и эстетические корчи он воплотит в следующий раз? На это мы с удовольствием посмотрим всей страной.
Это же наш, родной человек, весь из порывов и противоречий. Не на элитарном облаке живет, а ходит рядом, прислушивается, думает что-то там себе неугомонной башкой, бурчит что-то под нос, за Россию переживает. Это ж брат наш.
Галя Соколова штурмует небо
На экраны вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Глянец» – о приключениях простой русской девушки в «гламурной» Москве Тридцатилетняя швея из Ростова-на-Дону, дочь вчистую спившихся крестьян, напористая, смышленая, «отвязанная» и прелестно-вульгарная Галя Соколова (Юлия Высоцкая) однажды увидела свое эротическое фото в популярной газете – фотограф тайком отослал. Перемена участи! Галя решает рвануть в Москву, в пекло дорогих бутиков и модельных агентств – чем она хуже какой-нибудь Литвиновой, у которой, как считает Галя, «ни кожи ни рожи»? Хотя как раз у Литвиновой-то с кожей и рожей все в порядке, в отличие от Гали – хорошенькую Высоцкую гримеры поначалу нарочно дико опошлили для верности типажу.
Галя занимает пару тысчонок условных единиц у своего бывшего дружка, бандитского бычка (сделанного в игривом стиле «Жмурок» Балабанова) и отправляется штурмовать небо. Полвека назад с ее энергией она могла бы стать директором швейной фабрики и даже членом правительства – сегодня же упрямая девушка хочет стать моделью, то есть никем, и обрести в этой жизни главное, то есть деньги.
В «гламурной» Москве нет, в общем, никаких ужасов и обитают здесь совсем не чудища. Все люди, все человеки. Главный редактор модного журнала (Ирина Розанова), стареющая стильная дама, вырастила красотку-дочь, злобную завистливую гадину (Татьяна Арнтгольц). Оплывший модный дизайнер (Ефим Шифрин) панически боится выпасть из коньюнктуры. У владельца элитного борделя, замаскированного под модельное агентство, вообще рак почки, и он, естественно, начинает двигаться умом в сторону смысла жизни. А главная вожделенная цель всех провинциальных девушек, мини-олигарх, потасканный красавец (Александр Домогаров), самодур и алкоголик, опивается до белой горячки и режет вены, чтобы доказать Господу свою полную свободу воли.
В этой среде, набитой несчастными и страшно занятыми старателями, добывающими деньги из пустоты, Галя Соколова и пытается поймать свой судьбоносный шанс. Но этот сказочный шанс приходит, как ему и положено, внезапно и не с той стороны. Мини-олигарх хочет себе жену в стиле кинозвезды Грейс Келли, а Галя, трудясь домработницей у модельного бордельеро, попадется на глаза всезнающему и всеведущему имиджмейкеру (Алексей Серебряков). Наметанный взор хитрого колдуна (ценой в десять процентов от любой сделки) сразу примечает скрыто-благородную лепку Галиного лица.
Раз-два! Галю перекрашивают в блондинку, обряжают в шелка и жемчуга и отправляют к олигарху. Показывая в постели весь пыл настоящей казачки, Галя покоряет олигарха, и тот готов жениться. Вроде бы счастье – богач с внешностью Домогарова! А на самом деле – беспробудный кошмар.
Домогаров сыграл на удивление хорошо. Его актерский диапазон обычно сужен слишком красивой, «конфетной» внешностью. Но в «Глянце» она не мешает созданию образа. Олигарх Домогарова лишен всякого романтизма, который приписан этим существам, скажем, в картине Лунгина «Олигарх», но и не разоблачен сатирическим способом. У него мерзкие, злые и холодные глаза, он упоен собой и своими возможностями – и при этом прикидывается бедным обиженным ребенком. Ребяческое, мальчишеское в нем действительно есть, только этот мальчишка – испорченный, развратный, самовлюбленный, и жизнь с ним будет непрерывной каторгой.
Наша Галя, став из каштанки – блондинкой, мигом теряет провинциальный акцент, но душу свою, простую горячую казацкую душеньку, потерять просто так не может. Остановив машину олигарха посреди леса, Галя идет, пошатываясь, к болотному озерцу и садится на бережку, как бедная потерянная Аленушка. А дальше – думай что хочешь. То ли пристрелил ее из ревности бывший дружок-бандит, то ли вернулась девушка к своему омерзительному «принцу» и – честным пирком да за свадебку. В любом случае ничего хорошего.
Фильм сделан энергично (солидный возраст режиссера никак не чувствуется), со здоровым холодком, с оглядкой на голливудские стандарты, но и с учетом советского опыта картин о судьбе простых женщин «по пути наверх». В нем нет персонажа, который бы внушал зрителю «правильную» мораль, отличающуюся от «неправильной» морали персонажей. Но здесь удивляться нечего, потому что соавтором сценария у Кончаловского был не А. Н. Островский, а Дуня Смирнова. Ей, видимо, принадлежит большинство диалогов картины – иногда забавных, иногда грубоватых, но с неизменным привкусом легкой пошлятины. В «Глянце» много сюжетных линий, не расцветших, а засохших и оборванных, неясен и жанр фильма – не комедия, не мелодрама, а нечто вроде лирической сатиры. Впрочем, лукавлю я – понятен мне жанр фильма. Это давно известный в искусстве жанр – «подарок жене».
Кончаловский снял, разумеется, бенефис Юлии Высоцкой и показал все ее актерские возможности. Действительно, приятная актриса. Не в масштабах Катрин Денев или Одри Хепберн, но уж посильнее туземных звездочек, вроде Бабенко или Толстогановой. Есть в ней какое-то славное «сияние», напоминающее звезд прежних времен, сочетание свежести, душевности и чистоты с глубинной эротичностью и чувственной подвижностью. Правда, она пользуется слишком резкими, на мой вкус, актерскими «красками» и, к сожалению, не поет. А именно оригинальная музыка и пение, а не какое-то закадровое бормотание Димы Билана, могли бы дать «Глянцу» настоящую судьбу.
Вообще из фильма понятно, что русские мужчины Кончаловского не интересуют ни в какой мере, а вот русские женщины, душою «напоминающие прежних», но сбитые с толку новыми временами, вызывают у него восхищение и жалость. «Это правильный ответ» – как говаривала некогда прелестная ведущая телепрограммы «Слабое звено».
Снова горе от ума
Известное московское издательство, чья специальность – массовая беллетристика, выпустило в 2007 году целых три романа видной журналистки Юлии Латыниной – «Ниязбек», «Инсайдер» и «Дело о лазоревом письме». Неужели в жизнь запущен проект превращения острого и смелого публициста в производителя легкого чтения? Что-то одолевают сомнения в успехе этого предприятия.
У Юлии Латыниной есть области углубленного знания – она неплохо разбирается в экономике постсоветской России и в проблемах Кавказа. Это выгодно отличает ее от многих журналистов, не разбирающихся решительно ни в чем, но, прямо скажем, для беллетриста эти знания не особо нужны. Пишущие массовую литературу обычно сосредотачиваются на частной жизни людей. Это как раз Латынину не интересует нисколько. Ее специализация – исключительно жизнь государства. Проблемы государства. Люди государства. Судьба государства.
Действие романа «Ниязбек» происходит в «республике Северная Авария-Дарго» (собирательный образ, имеющий черты многих кавказских пространств). Сюда, к варварам, живущим грабежом и разбоем, приезжает питомец закона и цивилизации – полномочный представитель Президента РФ В. Панков. В ад, где полностью коррумпированные верхи – еще не самое страшное, а самое страшное – люди, которые сначала стреляют, а потом думают, куда они стреляли и зачем, Панков пытается внести первичные представления о долге, справедливости и порядке.
Это сильный, четко сделанный образ. В сравнении с воинственными горцами Панков – слабак, потеющий закомплексованный очкарик. Но он – настоящая сила, потому что на его стороне разум, история цивилизации и вдобавок личная человеческая порядочность. В образе Панкова нет никакого либерального вздора, он – единственная надежда государства, и, прочтя роман Латыниной, я было даже поразилась: неужели московские девушки перестали тащиться от дикарей с автоматами? Неужели в оценках кавказских проблем даже у оппозиционных журналистов наступила вменяемость?
Во всяком случае, читать «Ниязбека» весьма интересно – особенно в части яркого сатирического живописания нравов продажных верхов «республики Северная Авария-Дарго» со «столицей Торби-кала». «Мэр Торби-калы сидел на подоконнике и недовольно подергивал ртом. Его представления о прекрасном никогда не простирались дальше трехсот семидесяти миллионов долларов на пассажирский терминал, а дело, увы, обстояло так, что пассажирские терминалы существуют только при марионеточном правительстве». Густо и круто написаны и кавказские разбойники, Ниязбек и прочие, так что грозное сражение варварства и цивилизации происходит на равных, придавая роману нешуточную энергию.
Но, читая остальные романы Юлии Латыниной – «Дело о лазоревом письме» и «Инсайдер», – я как-то быстро скисла. Там речь идет уже не о современной России, а о вымышленной планете Вея, где расположена выдуманная Страна Высокого Света – дряхлая «китаизированная» империя, в которую пришли деловые люди со звезд и устанавливают свой порядок. Аллегория понятна, но аллегориями в литературе сыт не будешь. Битвы вымышленных персонажей и символических кланов, за которыми едва-едва угадываются земные прототипы, уже не волнуют. Написано довольно гладко, но языком несколько стерильным, как у Акунина, и все про дела государственные. Про любовь и дружбу у Латыниной ничего нет.
И постепенно я поняла: Латынина пишет романы по той же самой причине, что и Н. Г. Чернышевский, автор «Что делать?». Как и Чернышевский, это человек государственного масштаба, не нашедший себе места на государственной работе.
Юлия Латынина принадлежит к редкому типажу женщин, который можно назвать условно «Жанна д'Арк». Это женщины, сражающиеся на равных с мужчинами за национальные интересы, а то и превосходящие их силой духа и жаром воли. С ее острым аналитическим умом, недюжинной образованностью, темпераментом, властным характером и очевидным трудолюбием она могла бы занять видное место на поприще государственной службы. Словом, Юлия Латынина – это наша Кондолиза Райс! Только несостоявшаяся. Недосмотрели властные структуры, и зазря вырастили себе критика, когда это мог бы быть выдающийся защитник национальных интересов и наш настоящий, симметричный ответ Америке.
Ведь Латынина не потому критикует власти, что ей приказала мировая закулиса или она эти власти не переносит в принципе. Латынина критикует власти, потому что знает: она могла бы принять другое, более верное решение, она могла бы послужить государству умнее, сильнее, хитрее, ответственнее. И, наверное, это так и есть. Я даже думаю, наша Юлия была бы покруче их Кондолизы. Она куда более красноречива, да и собой получше. Но не рискнул никто принять правильное решение, и проводит Латынина свои дни в сочинении романов о несуществующей империи. Или ругает в радиоэфире безответственные власти.
И вот опять завыла извечная русская шарманка, опять «горе от ума», опять новый Чацкий затевает обличения и произносит грозные монологи, а все танцуют на балу и слушать его не хотят.
Жаль, очень жаль! Тратит человек великие силы непонятно на что, а мог бы целым департаментом управлять.
Другая Алла
К юбилею Аллы Демидовой
Создатели фильма «Ожидание императрицы» (РТР, показ 23 сентября) сделали наилучший выбор на роль рассказчика величественной и трагической жизни императрицы Марии Федоровны:
Алла Демидова. Пожалуй, больше никто из актерской братии и не справился бы с задачей достойно вести повествование о царской фамилии, не выпячивая себя, но и не растворяясь в потоке событий.
Сдержанно и вместе с тем эмоционально разнообразно, строго и вместе с тем с огромным сочувствием к участи царской семьи, Демидова властной рукой вела рассказ, не издав ни одной фальшивой ноты, ни одного неверного звука.
Да, достоинство и хороший вкус – это неотъемлемые качества Аллы Демидовой, и в этом смысле ее можно назвать «другой Аллой», олицетворяющей «высокую культуру». Ту, что идет не от пожеланий и запросов масс, а от знаний, ума и таланта отдельных личностей.
И массовая культура, и высокая культура хороши тогда, когда находятся на своем месте и не мешают друг другу. Но с массовой культурой у нас нынче все в порядке – в дефиците как раз крупные таланты, заметные индивидуальности, не хватает ума и знаний. И здесь глаз отдыхает, завидев красивую, гордую осанку Аллы Демидовой. Какая достойная жизнь!
И в театре, и в кинематографе, и на эстраде Демидова занимает свое собственное, никому не принадлежащее, ею самой созданное место, которое невозможно кому бы то ни было передать, потому что никого похожего на Демидову нет. По одной простой причине. Хотите – обижайтесь на меня, девушки, сколько вам угодно, но только понятие о человеческом достоинстве подавляющему большинству современных женщин (в том числе и женщин-актрис) неведомо, неизвестно и не нужно.
А Демидовой – известно, ведомо и нужно. Отсюда и идет кристаллическая чистота и ее актерской судьбы, и стиля ее жизни – все совершается строго и точно, в свое время, без заискивания и унижений.
Отдав три десятка лет самому знаменитому театру своего времени – Театру на Таганке – Демидова покинула его спокойно и просто, когда пробил такой час. Играла в антрепризных спектаклях античных героинь, Федру и Медею, а затем и вовсе осталась наедине с залом как чтец-проводник любимых стихов. И никакой нервозности, никакой паники, никакого желания немедленного быстрого успеха (и никаких следов отвратительных пластических операций на лице, заметим мы кстати!). Жизнь Демидовой течет величественно и гордо, как большая равнинная река.
Воды этой реки холодны, что тоже непривычно для отечественной культуры. Наши лучшие актрисы, как правило, горячи даже до чрезмерности. Демидова же принесла на сцену и экран почти английскую щегольскую легкость, умный расчет, искусную постройку образа. Сила характера так живо чувствуется в ней и так необычна, что Демидовой часто поручали роли всяких военно-революционных маньячек, вроде эсерки Спиридоновой («Шестое июля»), кошмарной фашистки Ангелики («Щит и меч») или комиссарши («Служили два товарища»). Но Демидова на самом деле – искуснейшая актриса, владеющая в совершенстве своими средствами и способная держать тон в любом жанре. Вспомните хотя бы, как блистательно смешно, точно, умно, с каким пониманием стиля она сыграла герцогиню Мальборо в водевиле «Стакан воды». А совсем недавно прекрасно сыграла беспомощную, одинокую даму «хорошего общества» в картине Киры Муратовой «Настройщик». Так что амплуа Аллы Демидовой одним словом не определишь: актриса не в шутку разнообразна.
Да, как говаривал один персонаж русской комедии, «ум, ум, всюду нужен ум». Вопреки распространенному мнению, нужен он и в актерском деле. Все знатоки театра читали написанные прекрасным, ясным слогом книги Аллы Демидовой, а любители поэзии, шарахаясь от жирного «актерского» чтения стихов, признают за Демидовой право на ее корректное, умное исполнение.
И, как в каждом большом актере, в ней есть свое «послание», своя «весть современникам». И, наверное, это послание – о человеческом достоинстве перед лицом превратностей судьбы и воли рока, достоинстве, который каждый обязан хранить вне зависимости от пола и возраста. Не делать губки бантиком и не сюсюкать – ой, я же дамочка, мне можно унижаться, врать, болтать глупости, бездельничать. А идти, не склоняя головы, спокойно и достойно, никуда не торопясь и ни под кого не подлаживаясь, гордо и просто – навстречу Божьему Суду.
Наша сестра
К юбилею Татьяны Догилевой
Она не как-то там бочком, незаметно, потихоньку проникла в искусство – Татьяна Догилева предъявила себя всю и сразу, с удалью, ширью и размахом, и запомнилась всем с первого предъявления. И в этой очевидности, неоспоримости самого существования актрисы ее суть, зерно, «точка сборки». Татьяна Догилева и живая, земная, простая, горячая жизнь – конечно, сестры. Ничего общего не имеет актриса с призрачными, лунными красавицами-дивами экрана, которые тоже по-своему хороши, вот только все норовят растаять при свете солнца…
Догилева и сама не растает, и товарищам не даст потечь. Ясно же: тут у нас что-то настоящее, как земля под ногами и морковь на огороде. Что-то яркое, вкусное, полезное. И упрямое: задушит и сорняки, хоть и культурное растение. Сила жизни! Или даже, можно сказать, силища. И – полная искренность, «полная гибель всерьез». Никогда Догилева не спасалась в маленьких дамских уловочках, не щадила себя, принимая все, что сваливалось на голову от жизни, а оттого и самые вредные и хищные ее героини все-таки всегда ужасно простодушны. Что думают, то и лепят, куда хотят, туда и несутся. Яблочки падают недалеко от яблоньки, и в догилевских девчонках и тетках всегда есть что-то от ее личного бесстрашия, жажды быть, прямолинейности, четкости и огромной любви к жизни.
Родное лицо, как родная природа – не удачным сочетанием черт манит, не красивыми изгибами и ярким блеском, а западает в душу знакомой, неяркой, но бесконечно притягательной милотой, искренним светом души. В Догилевой опознавали и опознают себя сотни тысяч женщин, она для них своя, родная, дочь трудового народа, и не в имениях и дворцах проводила свое детское лето – а, ясное дело, в пионерлагере. И тем не менее она – оригинальная, ни на кого не похожая артистка и мастерица. В равной мере способная на драму и на комедию, что – редкость вообще-то.
На сцене я впервые увидела Догилеву, когда театр «Ленком» гастролировал в Ленинграде. Шел спектакль Марка Захарова по пьесе Алексея Арбузова «Жестокие игры». Догилева выступала в главной роли, играла современную (для той поры, для конца 70-х) девчонку, приехавшую из провинции в столицу. Какая она была! Что-то среднее между солнечным зайчиком и шаровой молнией. Какое-то энергетическое косолапое чудо ходило по сцене, искрилось радостью, смехом, злостью, любовью, слезами, восторгом. Простецкие манеры, грубоватый голос, хохот, который можно передать междометием «гы-ы-ы!» – удивительным образом это было очаровательно, прелестно в ней. Никакой вульгарности, грязи, пошлятины – живая, дикая, чудесная девчонка явилась на сцену от имени жизни показать всем, до чего она, зараза-жизнь, хороша, несмотря ни на что!
Такой же Догилева предстала и широкому зрителю в кино, начиная со знаменитых «Покровских ворот» Михаила Козакова. Про ее героинь того времени никак не скажешь: она пролепетала, она прошелестела, – скорее: она хмыкнула, она крякнула. Но не влюбиться в этих румяных, абсолютно душевно здоровых девчонок было невозможно.
Между тем душевное здоровье Догилевой несколько припозднилось – в кинематографе 50-60-х годов ей с ним было бы попривольнее. Нашла бы она тогда, в том времени, и свой театр – может, «Современник», может, Малый театр. В своем времени она своего родного театра не нашла. Да и роли пошли куда более драматичные, с надрывом, с несчастной любовью. «Про любовь» Догилева играла великолепно, если вспомнить хотя бы ее образы в «Забытой мелодии для флейты» Рязанова и «Афганском изломе» Бортко. И комедии ей давались прекрасно – чего стоит одна лишь «Блондинка за углом»! – только вскоре как-то опошлились и выродились и наши комедии, и «сестра наша жизнь». Догилева прекрасно освоила типаж, который потребовался в грубом площадном кино – жадную, вороватую тетку, способную на все, если злостный житейский аппетит того потребует. Но Догилева может решать и не только «арифметические», простые задачи в искусстве. Она умеет делать сложно и красиво. Лучший пример – ее соседка из картины Режи Варнье «Восток-Запад», просто маленький шедевр. Ведь эта коммунальная гадюка-стукачка – тоже человек, женщина, ведь она любит и страдает, она отвратительна, смешна, но вдруг ее становится немного жаль, а как только становится жаль – человеческое убожество и подлость этой твари выплывают во всей красе. Варнье не зря хвалил актрису в своей книге – мастерство ее очевидно. В глаза бросается, можно сказать! Как мне жаль, что Догилева ни разу не встретилась с драматургией А. Н. Островского – какое ей было бы там раздолье. Хотя список сожалений можно было бы продолжить – разве один Островский был бы ей по плечу? А Гоголь, а Володин? Случился один Радзинский, в пьесах которого Догилева, было время, игрывала славно. Впрочем, и крупных кинорежиссеров в биографии актрисы было не так много. Наверное, мешали штампы восприятия – ну, Догилева, это так, лимиту, девушек-маляров играть. Неправда! Возможности актрисы далеко не исчерпаны. Ее еще не только не съели, но даже и не откусили как следует.
В Татьяне Догилевой есть что-то от пловчихи Светки из «Покровских ворот», для которой главное – доплыть. Упрямица наша всегда – доплывает, то есть добивается своего, попадает в цель, выигрывает. В тоске по театру поставила спектакль «Лунный свет, медовый месяц» как режиссер – и пьеса Ноэля Кауарда была так себе, и актерский состав менялся не раз, да только спектакль жив десять лет и до сих пор идет. Доплыла! Пошли косяком телевизионные сериалы – Догилева и тут взяла свое, снявшись в довольно успешном фильме «Люба, дети и завод». Конечно, это мыло. Но мыло среднеприличного качества, и к тому же – учтена актерская индивидуальность актрисы. В то, что она – Люба, и у нее есть дети и завод, зритель поверит моментально. Попала в десятку! Загромыхали телевизионные ледовые «проэкты» – мы видим нашу боевую девчонку на коньках, в лихом кураже танцующую и от волнения плачущую со всей страной. Выиграла! Если не первое место, то пущую славу и сочувствие бабушек и тетушек… Татьяна – это вам не Инесса или Регина какая-нибудь, Татьяна – имя, данное Пушкиным национальной Психее, русской душе. Наша Татьяна – человек роя, строя, долга, общего пульса, общего дыхания. Вот так дышит страна – и она будет дышать вот так. В такт. Факт! Простодушная и бесстрашная, она не задумается так прямо и рассказать, что сделала пластическую операцию или брякнуть что-либо о своей личной жизни. Она бы, может, и не прочь схитрить – но никак. Нечем!
Пошла мода на ток-шоу ни о чем? И с этим она справится, без труда освоив новые правила игры. Ей ли, умеющей все и еще немножко, не разучить этот собачий вальс. Опять доплыла!
Куда ты, Татьяна, сестрица? Куда плывешь? Не дает ответа – а может, его не расслышать в шуме житейских волн, в криках болельщиков? Мелькают в волнах ловкие руки, поворачивается, согласно правилам, сообразительная, крепкая голова. Татьяна Догилева. Советский Союз. «Трудовые резервы»!
Жестокий театр судьбы
«Спасайся, кто может!» – как будто звенит над театральной Россией, и кто может – спасается, стараясь обвести вокруг себя заколдованный круг. Некоторые выращивают свои «цветы» вообще не из чего, в углах и щелях, на какой-то таинственной гидропонике: пусть за окнами метет мусорный ветер, огорожено и надышано маленькое пространство, где можно жить театральному человеку.
Но Малый драматический театр, театр Льва Додина, таким кругом обведен давно. Он никогда не отвечал на «запросы времени», которые обычно формулируют ловкачи-проходимцы, уверенно заявляющие: «Сегодня театр должен… В наше время театр обязан…» Поэтому Додин обращается к творчеству Людмилы Петрушевской, когда сиюминутная мода на нее прошла, или инсценирует роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», когда менее всего в таком решении можно заподозрить конъюнктуру.
Зритель приходит в «монастырь» МДТ отнюдь не со своим уставом. Его сегодняшние, поверхностные запросы не принимаются в расчет. Его психический настрой и способность к восприятию не учитываются. В идеале, на манер японцев, зритель МДТ должен был бы оставлять уличную обувь перед входом в зал или надевать какие-то специальные шапочки для подготовки к просмотру. Канон русского психологического театра, который начинался в Художественном, Додин не только сохранил, но и укрепил значительно: «четвертая стена» МДТ – это крепостная, оборонительная стена. И эта оборонительная крепость чувствуется в любом спектакле МДТ. В полной мере она есть и в «Жизни и судьбе».
Военная четкость и дисциплинарная строгость ощущаются даже в самой разметке эпизодов спектакля: они примерно одной длительности и выдержаны в одном темпе. Ни одна сцена не провисает оттого, что кто-то из артистов нагрузил ее дополнительным материалом игры – нет, партитура расчислена посекундно и выполнена строго. Форма спектакля находится в несомненной связи с его темой. Это русские интеллигенты или дворяне могли обстоятельно спорить на свежем воздухе о смысле жизни, и ритмы их существования могли быть прихотливыми, причудливыми. В «Жизни и судьбе» речь идет о массовом уничтожении человека, об утрате власти над собственной жизнью, о неумолимой судьбе всякой индивидуальности в эпоху тотального террора. Потому стук метронома мог бы быть наилучшим аккомпанементом этого спектакля.
Поначалу, как известно, «Жизнь и судьба» была задумана как дипломная работа студентов мастерской Льва Додина, которые трудились над постижением непостижимой истории три года, в русле традиций «натуральной школы» посещая непосредственно места, о которых шла речь в романе – сталинские и немецкие концлагеря. Незадолго до выпуска спектакля Додин, оставив нескольких студентов, ввел в него и своих «взрослых» актеров, и репертуар МДТ обогатился новым серьезным произведением.
А театр Додина вообще предельно серьезен, поразительно серьезен, серьезен сверхъестественно. Здесь нет места юмору, легкокрылым актерским шалостям, иронии и насмешке. Здесь сам воздух жесток и труден и действие выстроено властной рукой тотальной режиссуры. Жестокость судьбы героев романа Гроссмана и жестокость самой режиссуры Додина находятся, собственно, в странном, отдаленном, но несомненном родстве.
Как все советские эпопеи, книга Василия Гроссмана вышла из «Войны и мира» Льва Толстого – советские прозаики всерьез хотели справиться с ужасами ХХ века с помощью добротных приемов письма века ХIХ. Личные впечатления подгонялись под известные толстовские схемы, отчего выходил явный диссонанс: возможно ли рассказывать о беспределе Отечественной войны 41–45 годов с такой же рассудительной обстоятельностью, с какой Толстой повествует о добропорядочной, даже местами благородной войне 1812 года? Возможно ли изобразить теми же художественными средствами русское дворянство и гвардейцев Наполеона – и бестий Гитлера вкупе со сталинской элитой? Право, не знаю. Многие советские произведения об эпохе тоталитаризма кажутся мне сильно стилизованными. Тюрьмы и лагеря выглядят в них чем-то вроде закрытого литературно-философского кружка, где расщепленный на множество лиц и переодетый автор спорит сам с собой о судьбах мира. Впрочем, такая победа литературы над жизнью понятна и заключает в себе нечто героическое, как «А это вы можете описать? – Могу» Анны Ахматовой…
«Жизнь и судьба» в МДТ начинается словно бы с середины, как будто уже было первое действие, и мы сразу смотрим второе, где у каждого героя за плечами большой кусок прожитой личной истории. Спектакль к тому же не заканчивается четким, специально обустроенным финалом, а точно обрывается, замирая в воздухе, как прерванная мелодия. У того, о чем рассказывает театр, и не может быть ни начала, ни конца в их традиционно-театральном смысле.
Герои выходят и снимают устилающие всю декорацию А. Порай-Кошица старые пожелтевшие газеты – Виктор Штрум (Сергей Курышев) с женой и дочерью вернулся в свою московскую квартиру. Обнаруживается пожилой серый буфет с фотографиями родственников на стеклах, железная кровать, волейбольная по форме и металлическая по существу сетка, пересекающая сцену по диагонали, и облезлая ванна с душем в глубине. Это не место для семейной жизни, любви, общения людей, хотя люди вынуждены здесь жить, любить и общаться. Лишенное быта и уюта, тусклое и угрожающее, это пространство ужасной судьбы, круг ада. Герои, которые находятся на условной «свободе» и герои, находящиеся в лагере, владеют этим пространством в равной мере. Воля и тюрьма взаимопроникают друг в друга, что закреплено в блестящем режиссерском изобретении Додина – сцены постоянно идут «внахлест», одни герои еще не ушли со сцены, а другие уже появились. Зэки берут баланду в жестяных мисках, а молодые влюбленные еще продолжают тут же, среди лагерного кошмара, застывать в красиво вылепленных объятиях. Виктор Штрум еще ликует от звонка самого товарища Сталина, а вереница серых теней, одной из которых он может в любую минуту стать, уже кружится в ироническом контрапункте к наивной восторженности героя. Таким образом появляется плотное общее «тело спектакля», его истинный герой – общая человеческая судьба народов в ХХ веке, во Вторую Мировую.
Это судьба жертв истории – палачей мы, собственно, и не увидим. Самый «нехороший» персонаж, начальник Штрума, бюрократ Ковченко (Игорь Черневич), уговаривающий ученого подписать провокационное, лживое письмо, тоже скорее жертва. При всей начальственной важности и фальшивости человека, находящегося не на своем месте (Ковченко в исполнении Черневича явный выскочка, выдвиженец), он пропитан ужасом и обязан творить свою черную миссию – иначе сам станет лагерной пылью. Нет, на вопрос, кто виноват, ответить невозможно. Кто-то натужно орет на разумного командира Новикова (Данила Козловский), чтобы тот двигал в бой войска, а он ждет, когда закончится артподготовка, дабы спасти людей от бессмысленной смерти. Но кто орет – мы и не узнаем. Какое-то анонимное войсковое начальство, на которое в свою очередь, наверное, кто-то орет. Результат работы тьмы очевиден – а самой тьмы, олицетворенной в ком-то, и нет.
Не увидим мы и тех, кто уничтожает маленькую женщину, Анну Сергеевну Штрум, глазного врача (Татьяна Шестакова). Она оказывается в фашистской оккупации, лишается жилья и работы, идет в гетто и все события своей чудовищной судьбы излагает в воображаемом длинном письме к сыну. Тихая, кроткая, в скромном платье с кружевным воротничком, она время от времени появляется на сцене со своими монологами, которые Шестакова читает с единой интонацией сдержанного рыдания и деликатного страдания. У народной артистки Шестаковой даже не русская, а старорежимно-русская внешность земской учительницы из-под Вологды, не вызывающая никаких ассоциаций с образами трагедии еврейского народа. Они и не нужны: главное тут – чудовищный контраст между чистой, самоотверженной жизнью маленькой порядочной женщины и ее ужасной судьбой. Так и у всех персонажей. За редким исключением, это прекрасные люди с ужасной судьбой. И объяснений этому нет – таков исторический рок. Фатум.
Эпическая интонация спектакля – «так было» – не дополнена никакой публицистической агрессией («так было и вот кто виноват»). Где искать виноватых, кого осуждать? Вот одна из ключевых фигур спектакля, Виктор Штрум – выдающийся ученый-физик. Он ведет нешуточную борьбу за науку с местной бюрократией. Этот сильный, привлекательный мужчина, несомненно, и очень хороший человек – но логика судьбы требует от него стать каким-то небывалым героем, пойти наперекор целой адской системе. А он не может, он сам уже заражен адом, и после дружественного звонка товарища Сталина впадает в бурный экстаз, хватает в объятия свою погасшую жену, почувствовав, что высочайшей волей к нему возвращается не только работа, но даже и мужская сила!
Что ж, это так – все попадались на эту удочку, самые лучшие – и Булгаков, и Пастернак. Корить ли хорошего человека тем, что он не титан, не исполин? А кто исполин – мы нынешние, что ли?
Во время действия я не раз думала об этом. Люди, о которых ведется рассказ в «Жизни и судьбе» превышают сегодняшних людей на несколько человеческих порядков. Виктор Штрум подписал подлое письмо, ужасаясь и страдая, но на карте была вся его жизнь и жизнь семьи. А наши современники подписывают мерзости, когда на карте жирный грант от правительства или ужасный вопрос – быть или не быть новой джакузи на даче! Испытывая страшное давление, рискуя всем, командарм Новиков задерживает наступление, а в наше время подлые, корыстные командиры, бывало, нарочно бросали безоружных солдат под пули горцев. Женщина, у которой нелюбимый муж в тюрьме (Женя – Елизавета Боярская), считает своим долгом остаться с ним и сделать все возможное для его освобождения, а в наши дни бросить несчастного, да еще и плюнуть ему вслед – это просто норма поведения. И это тоже – рок, которому нет никакого объяснения. Люди были лучше и жили ужасно. Потом люди стали значительно хуже – и зажили очень даже неплохо (по их меркам)…
Два мира – воли и тюрьмы – в спектакле сливаются в единый серый кошмар. Граница миров зыбка – сегодня ты ученый, завтра лагерная пыль, там, за решеткой, могут быть мужья, братья, любимые. В немецком лагере зэки запевают «Серенаду» Шуберта на языке Гете, в советском – на языке Пушкина, вся разница. И евреем человека называют только для того, чтобы его проще было истребить… В аду нет русских, немцев и евреев, и нет никакой связи между достоинствами человека и его судьбой. Это и есть – полное расчеловечивание жизни.
Места для вольной игры у актеров немного, они строго отрабатывают заданный рисунок роли, и так и должно быть, так условлено и положено. Видно, что дисциплинированная труппа очень хороша. У всех артистов МДТ великолепная дикция и отлично поставленная сценическая речь (это просто оазис какой-то на фоне всеобщего безобразия со сценречью!), об этом печется уже много лет специальный профессор Валерий Галендеев. Спектакль по своему общему стилю несколько напоминает эмоциональное «иглоукалывание» Юрия Любимова, хорошие времена Таганки. В семидесятых годах был бы сенсацией. Сегодня – добротный и в высшей степени серьезный театр.
Студенты же мастерской Додина, лишившиеся дипломных работ пока что, но зато попавшие на большую сцену, в финале спектакля «Жизнь и судьба» выстраиваются за решеткой к зрителю спинами, медленно снимают лагерные робы и в мерцающем свете играют на духовых инструментах, в основном, на трубах. Как говорится, судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Крестьянский Фауст
Премьерой спектакля «Фауст» по сочинению Гете в постановке Эймунтаса Някрошюса (театр «MENO FORTAS», Вильнюс) открылся в Петербурге международный театральный фестиваль «Балтийский дом»
И навряд ли на фестивале покажут что-либо более монументальное и характерное, чем «Фауст» Някрошюса: вот уже много лет как имя литовского режиссера стало символом современного, тотального режиссерского театра. Някрошюсу подражает или, во всяком случае, на него ориентируется большинство отечественных режиссеров. У всемирно известного постановщика – настоящая, ужасная, нависающая над судьбой огромная слава. В каждый его сценический текст впиваются глаза сотен театроведов и критиков. Някрошюс обречен на пристальное внимание, и абсолютная, а не относительная, ценность его спектаклей уже невычислима. Что бы он ни поставил сегодня – полный зал и кипа рецензий обеспечены автоматически.
Но у тайного советника Гете слава побольше и попрочнее, а он в данном случае – главное лицо. Поэмка-то – его сочинения, и вот уже двести лет как входит в самый главный список основных шедевров мировой литературы. Каков же таков нынешний литовский вариант великого немецкого произведения?
Перечитывание первой части поэмы, которая и легла в основу спектакля, заняло у меня два часа, просмотр спектакля – четыре с половиной. Дополнительное время получилось оттого, что Эймунтас Някрошюс, какое произведение бы ни ставил, упорно остается верен главным ритмам своего рассказа. А это ритмы неспешной трудовой жизни литовского хутора. Собственно говоря, там, на хуторе, и происходит действие нынешнего «Фауста».
На сцене, затянутой в черное сукно, по углам стоят срезанные металлические конусы, напоминающие ведра, в центре – деревянный брус на опоре, напоминающий качели; еще будут задействованы толстые веревки, деревянные прялки, разнообразные палки и муляж огромной белой косточки, видимо, символизирующей участь человека в лапах черта.
Подобно трудолюбивым литовским крестьянам, не сидят без дела и актеры в театре Някрошюса – они постоянно носят палочки, крутят веревочки, носятся по сцене во всех направлениях, а в крайнем случае, прыгают на одной ноге, как здоровая, высокая крестьянская девица Маргарита. Здесь и сам Господь с натугой вращает брус, как жернов, а могучий, коренастый, с широкой спиной Мефистофель тоже явно вчерашний крестьянин, наверное, подавшийся в ад на заработки.
Место Фауста в этом мире совершенно понятно – это потомственный сельский врач, доктор в прямом смысле слова. Этот доктор, как говорят в деревне, «зачитался», уморился от умственной работы. И черт, воспользовавшись ослабленным состоянием доктора, подбил его соблазнить девицу Маргариту. Вообще-то нелегко поверить в то, что эта разбитная, сама лезущая на доктора энергичная деваха есть символ чистоты и вечной женственности. И в то, что судьба благообразного, чуть утомленного сельского доктора так уж заинтересовала самого Бога и его оппонента. И уж совсем трудно признать, что Гёте написал литовский роман из крестьянской жизни. Но в тотальном режиссерском театре следует жить по тем правилам, которые установил диктатор-режиссер. Автор здесь – лицо страдательное и никаких прав не имеет.
Да, и лучшая из змей все-таки змея! Някрошюс талантливее, самобытнее, умнее, изобретательнее, может быть, всех современных режиссеров-диктаторов, которые самоутверждаются на костях автора. Но сам этот путь – тупиковый. Всего за сто лет самовыражающиеся диктаторы замучили интерпретациями классические тексты и завели театр на обочину культуры, в глухой угол, забитый каким-то бессмысленным кривлянием. Что в результате мы имеем вместо божественно легкой и остроумной поэмы Гете? Игры с веревочками и палочками. Иногда весьма эффектные, классно придуманные. Но это всего лишь приемы, трюки, фокусы. Они висят отдельно от гениальных фантазий, воплощенных в тексте. Так ли уж ценны все эти фокусы самовыражающихся режиссеров? Они должны были быть посредниками между автором и актерами, а стали самодовлеющими – и все подавляющими – тиранами. И вырождение такого типа театра наступило в рекордно быстрые сроки. Театр Автора царил тысячи лет, режиссерский выдохся за один век! Режиссеры-тираны ставят одни и те же пьесы. Бесконечно повторяются. Перехватывают одни и те же приемы друг у друга. Они перестали понимать и чтить автора, они используют актеров, не помогая им расти и развиваться. Вот и иссяк для них источник божественного вдохновения – того, что помог когда-то Иоганну Вольфгангу Гете сочинить бессмертную поэму о трагической прелести человека, идущего путем познания.
А счастье было так возможно!
Громкий скандал вокруг новой постановки «Евгения Онегина» П. И. Чайковского в Большом театре уже создал атмосферу предубеждения: спектакль ругают заочно, как в свое время «Доктора Живаго» Пастернака. Не видел, но скажу! Пришлось самолично посмотреть, что такое натворил режиссер, он же художник спектакля, Дмитрий Черняков?
Впервые я увидела «Евгения Онегина» лет тридцать пять тому назад. В рутинной, мхом покрытой постановке Кировского театра. Там было все как положено: расписной задник, хор девушек, пожилая Татьяна и совершенно сразившая меня Ольга. Она была не пожилая, а откровенно старая, толстая, как бочка, в синем полосатом платье, с желтыми локонами, ужасно напоминавшими стружку. Эта Ольга слегка подпрыгнула и запела: «Я добродушна… И шаловлива… Меня ребенком все зовут…»
После этого я в опере не была лет двадцать. При слове «опера» я сразу вспоминала шаловливую Ольгу в синюю полосочку и вздрагивала. Так может ушибить впечатлительного человека оперная рутина. Однако авангардное обращение с классикой тоже не вызывает во мне никакого интереса. При такой степени предубежденности, представьте себе мое изумление, когда я обнаружила, что новый «Онегин» сначала заинтересовал, потом увлек, а потом и явно задел меня за живое!
Могу успокоить ревнителей старины: в сравнении с тем, что вытворяют с классикой «культовые» режиссеры на драматической сцене, маленькие шалости Чернякова – это детский лепет. Он не исказил музыкальный текст оперы, не переменил сюжет. (Онегин не влюблен в Ленского, Татьяна не живет с Ольгой, а всякое бывало в авангарде, товарищи!) Всё на месте – и письмо Татьяны, и полонез, и «Куда, куда вы удалились…» и «О жалкий жребий мой…». Единственная крупная новация – куплеты мсье Трике на именинах Татьяны отданы Ленскому (Эндрю Гудвин). Он, пародируя галантное пение, нацепив клоунский колпак, пытается шутовством развеять мрак в душе и повеселить гостей Лариных. Спорно, но, в общем, невинно.
Режиссер перенес действие оперы Чайковского в эпоху «безвременья», в атмосферу пьес и рассказов А. П. Чехова, в среду мещанства, разночинной интеллигенции и опустившихся дворян. Туда, где уже нет горделивой «господской» красоты, где царят косность и привычка, где все нервны, умны, несчастны, где нелепо стреляются лишние люди, а любовь обречена на муку. Что ж, композитор и писатель были хорошо знакомы, жили в одно время и, как известно, именно Чайковскому Чехов посвятил свой сборник рассказов «Хмурые люди».
И благодаря этому режиссерскому ходу, опера перестала быть набором «хитов». Новый «Евгений Онегин», прежде всего, звучит – звучит сильно, чисто, свежо и ужасно трогательно. Возвышенная сентиментальность Чайковского лишена всякой слащавости, всякого дурного пафоса. Приведу такой пример: обычно арию Гремина «Любви все возрасты покорны» поют знаменитые или воображающие себя таковыми басы, выпятив грудь на авансцене. А Черняков усаживает своего Гремина (Александр Науменко), спокойного, рассудительного мужчину в очках, рядом с Онегиным, и Гремин ему, как другу в интимной беседе, проникновенно рассказывает о своей поздней любви.
Первые пять картин идут в одной простой декорации – налево две двери, направо два окна, а посередине огромный стол и двадцать стульев. Обеденный стол создает образ привычки, пошлости будней, обыкновенности быта, откуда никому не дано вырваться. Этот мир привычки воплощают гости Лариных и веселая, разбитная хозяйка-мать (Ирина Рубцова, иногда эту партию исполняет и сама Маквала Касрашвили). Кого-то может и покоробить, что она наливает себе из графинчика (один только раз, кстати!) и с удовольствием хлопает рюмочку, мне показалось, ничего кощунственного в этом нет, а ролька оживилась.
Только два героя приподняты над обыденным – Ленский и Татьяна. Это оригинальные люди, страдальцы и поэты, несчастные романтики. Ленский, смешной, нелепый мальчик, вечно при блокноте, куда он пишет наивные стихи, любит недалекую злобную мещанку-Ольгу (Маргарита Мамсирова). Прав Онегин: уж лучше бы он выбрал другую! Но родственные души проходят мимо друг друга… Татьяна (Татьяна Моногарова) – дикая девушка с мрачно горящими глазами, порывистая, углубленная в себя. Из таких натур при других обстоятельствах получаются писательницы, революционерки, но сейчас перед нами трагедия напрасной любви человека незаурядного к человеку гораздо меньшего калибра.
Да, Онегин (Владислав Сулимский) мелковат, и сам это знает. В нем нет прочной человеческой основы, он не состоялся по-настоящему, и когда во втором действии этот Онегин попадает в малиново-белое царство «большого света», где и люстра в десять раз больше, чем в провинции у Лариных, и стол огромней, то является «лишним человеком» наглядно. Ему никак не найти местечка в плотных рядах сытых разряженных людей, его все прогоняют, и бедняга приносит себе креслице сам, жалкий, но все-таки и своеобразно привлекательный своей искренностью человек. «А счастье было так возможно» Татьяны и Онегина в финале оперы звучит как трогательная, бедная иллюзия несчастных людей – никакого счастья у них не могло быть никогда.
Счастье – это верить, что счастье возможно, жизнь – чертовски грустная штука, а в опере, оказывается, может быть смысл…
Музыкальный руководитель и дирижер постановки Александр Ведерников во многом преуспел, хотя бы по части стирания штампов с музыки Чайковского, однако не могу не отметить, что хоры не звучат. Не разобрать буквально ни одного слова – не то из-за скверной акустики Новой сцены, не то из-за просчетов хормейстера. А в опере должно быть всё видно, всё слышно и всё понятно. Это закон такой.
Как жаль, что у несомненно одаренного Чернякова не хватило такта в некоторых местах попридержать себя – убрать плебейские звуки (падающие стулья, стаканы и т. д.) и слишком вульгарную жестикуляцию некоторых персонажей, решить по-настоящему сцену дуэли (сейчас идет какая-то невнятная путаница с охотничьим ружьем, вызывающая смех в зале). Остановись он вовремя, избавься от безвкусных крайностей (их немного) – и у спектакля было бы куда больше поклонников. Ничего зазорного нет в том, чтобы умерить свой произвол и уважить «господскую» культуру, ключевые образы национальной мифологии, к которым, несомненно, принадлежит скамья в саду, где сидели Татьяна с Онегиным, или дуэль Онегина и Ленского.
Между замшелой оперной рутиной и крайностями авангардных трактовок должен отыскаться какой-то третий, самый плодотворный путь – если талантливые режиссеры признают, что главное – не их выдумки, а та опера, которую они ставят.
Чего ради?
Вы и представить себе не можете, как, например, трудно снять даже самый плохонький фильм.
Начнем с того, что десятки ученых сотни лет ломали свои небольшие головы над всякими открытиями. Затем инженеры внедряли их открытия в конкретные формы кинотехники, и на это ушла прорва лет, ума и жизней. Кроме того, массу людей надо выучить разнообразным профессиям, задействованным в кинематографе, да еще выделить средства на кино, а для всего этого требуется работа высокоцивилизованного государства, да еще постоянная и многолетняя! Наконец, сошелся пасьянс из тысячи колод, и не менее года жизни съемочной группы отдано некоему продукту по имени «фильм».
Вот тут-то, обозрев эту гору трудов, мы и задаем свой кошмарный вопрос.
Ради чего?
Этот вопрос дико мучал Льва Толстого. Он в свое время, видя развитие техники, все спрашивал: а радио – чтобы передавать что? А телефоны – чтобы говорить о чем? А граммофоны – чтоб записывать что? Повышенной въедливости был человек. И если бы мы сказали ему, допустим, что такой-то фильм снят просто так, чтоб нам, зрителям, развлечься, он бы сурово сдвинул кустистые брови и рыкнул: а чего ради вам развлекаться-то? Вы что, все дела человеческие уже переделали, страну обустроили, себя усовершенствовали – настолько, что пора отдыхать и развлекаться?
Нет, лучше задвинуть подальше тень грозного Льва. Не выдержать нам его пронизывающего взгляда. И все-таки проклятый вопрос приходит, и самые радостные мгновения в жизни критика – это мгновения, когда на него можно ответить.
В 2006 году на международном фестивале неигрового кино «Послание к человеку», главный приз получила картина Виктора Косаковского «Свято». Косаковский (автор таких известных картин как «Среда», «Тише!») снял получасовой фильм о самопознании человека. Человек – это его двухлетний сын, который впервые увидел себя в зеркале и понял, что это он. Художественный эксперимент проводился в квартире режиссера, установившего в игровой комнатке малыша большое зеркало – и камеру.
И вот мы подсматриваем заветное, тайное, по-настоящему занимательное – душевную и умственную жизнь крошечного человеческого существа. Энергичный малыш, страшно занятый своими игрушками, не сразу замечает странного незнакомца в глубине комнаты. Вот удивительно! У незнакомца те же игрушки, он тоже машет хлопушкой, и так же прыгает, и приветственно делает ручкой на прощание. Кто это? Малыш озабочен. Туда, к незнакомцу, никак не проникнуть! Ребенок начинает свою «серию экспериментов», чтобы выяснить непонятное явление… Мы видим всю огромную гамму чувств маленького человечка – и восхищение, и удивление, и гнев, и злость, и отчаяние. И наконец, он начинает понимать, но не доверяет своему открытию, требуется подтверждение авторитета. И вот папа говорит ему: это ты. Это прелестный момент – дитя улыбается счастливо: «Это я? Это я!» – и… внимательно глядя на себя, поправляет, приглаживает светлые волосы на голове. Потом чмокает свое изображение в тверди зеркала, а потом и всезнающего папу.
И зачем снят этот светлый, ясный, забавный и глубокий одновременно фильм, совершенно понятно. Косаковский стремится к чистой сущности жизни, к истокам развития человека, где еще можно увидеть своими глазами то, что свято. И несомненно, что эта картина заслуживает внимания самого широкого зрителя.
Игровой фильм драматурга и театрального режиссера Ивана Вырыпаева «Эйфория», отмеченный призом за дебют на Венецианском фестивале, другого рода – он посвящен земным и грешным людским страстям. Но и в нем чувствуется сильное дыхание человека, знающего, о чем и зачем он говорит. Зритель «Эйфории» покидает скучные города, где ослаблено до неразличимости чувство жизни, а влечение опошлено и заболтано. Мы перемещаемся в первобытное, первородное пространство – степь между Волгой и Доном, чтобы прожить краткое трагическое блаженство настоящих страстей.
В этой степи, изрытой оврагами, где бегут пыльные белые дороги – «эх, дороги», еще не принимали христианства, а коммунизма так и просто не заметили. Из орудий цивилизации здесь присутствуют только древнее ружье и старенькие автомобили. Здесь не читают газет и не смотрят кино, говорят скупо и мало, твердыми корявыми словами, живут, растворившись в природе, и оттого вся сила жизни концентрируется для этих первозданных людей в любовном чувстве, неотвратимом, как гроза, и ослепительном, как солнце. Зритель фильма летает над степью, как вольный ангел (оператор воздушных съемок – мастер Сергей Астахов), и в ушах его гремит томительная, страстная музыка (композитор Айдар Гайнуллин, особо запоминается грозящее стать знаменитым соло аккордеона). О любви здесь не болтают – за нее попросту убивают и умирают…
Об «Эйфории» можно сказать словами персонажа Льва Толстого: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля!» Точнее, это мечта о воле городского культурного человека, истомившегося среди пошлых и слабых импульсов цивилизованной среды. Природа здесь не добренькая мама, а непостижимый грозный бог, и, вызывая в людях страстное, блаженное влечение друг к другу, ничуть не заботится об их судьбах или, еще чего доброго, об их нравственности. Здесь даже собака-друг человека откусила палец маленькой дочке героини, а тихая жена всаживает вилку прямо в грудь сопернице. Вот он где живет, «основной инстинкт», не на виллах богатеньких буржуев, а в выжженной солнцем степи, среди широких медленных рек, в неказистых домах заброшенного хутора, среди тех, кто не пишет книг и не анализирует своих чувств. Слово «любовь» в картине не звучит ни разу.
И никаких тебе модных нарядов, красивых изысканных поз, дизайнерских квартир, где в нашем кино любят снимать эротические сцены. Вроде все грамотно и затейливо, да только мертво – не добывается эротика с помощью дизайна, и все тут. А здесь, в степи, где герои рассекают пространство на разбитых машинах и самодельных лодочках, где одеваются бедно, а говорят скупо и грубо – всё предельно эротично, заразительно, маняще! И в результате, несмотря на трагические коллизии фильма, он явно будоражит аппетит к жизни.
Потому, что источником искусства, извините за банальность, является человеческий талант, а все технические средства и профессиональные умения – это только средства воплощения цели. Того самого, «ради чего», о котором так заботился Лев Толстой. Потеряв этот вопрос, мы потеряем смысл культуры.
Проказы святого духа
Если у канала «Россия», который продюсировал фильм, и накопились перед зрителем кое-какие грехи – за «Остров» Лунгина ему простится многое.
По глубине и содержательности художественных задач, по уровню актерской игры, по оригинальности сюжета фильм «Остров» стоит совершенно особняком в современном кинопроцессе. На Павла Лунгина, режиссера вполне «мирского», светского, как правило, не допускавшего в своих картинах никакой мистики, явно что-то, как говорится, «нашло». Хотя в главном режиссер остался верен себе: ведь почти во всех его картинах есть стремление выстроить действие вокруг одного выдающегося, исключительного героя, превосходящего силой своей личности окружающую мелкую действительность. Но только один раз это удалось вполне – с Петром Мамоновым в картине «Такси-блюз». Теперь это удалось второй раз – и опять с Петром Мамоновым. Не иначе, что-то исключительное и необыкновенное есть в самой личности этого артиста. Как только он появился в «Острове», закопченный, как черт, в старой рясе, со своим фантастическим лицом какой-то космической птицы, зритель сразу стал улыбаться от удовольствия. Да, публика – она когда дура, а когда и нет, и, частенько восторгаясь муляжами и чучелами, в то же время отличную актерскую работу распознает моментально, глубинным зрительским чутьем.
Мамонов прожил, пронзил собою, оправдал все сверхъестественные обстоятельства бытия своего странного героя – отца Анатолия, и сверхъестественное стало естественным…
Маленькая обитель в северном море, на крошечном острове. На свете стоит какой-то безнадежно советский год – кажется, 1976-й. Но на острове царит, как положено, православная вечность – в однообразных, тягостных, печальных трудах и радостях истинной веры. Обителью правит благолепный, душевный отец Филарет (дивная работа Виктора Сухорукова), хозяйством заведует глуповатый и ограниченный, но добросердечный отец Иов (неожиданно прекрасный Дмитрий Дюжев), но не им суждено вызывать трепет и восхищение паломников, не из-за них тянутся люди из окрестных селений и далеких городов! На острове этом завелось именно то, чего бедные русские жаждут всей душой, то, от чего они не откажутся никогда, то, во что они всегда обречены верить.
На острове завелось чудо.
Чудо работает истопником в кочегарке обители, по виду неказисто, держится от всего и всех особняком, шалит и насмешничает, не признает над собой никакой власти, кроме власти Бога, чудо является большим грешником (в войну убил человека) и зовется отец Анатолий. Но – дух дышит, где хочет, а Господь, как известно, «утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам». Именно на этом загадочном человеке почиет благодать, он исцеляет молитвой и провидит будущее.
Почему он – юродивый, проказник, насмешник, человек острый, заверченный, напрочь лишенный умильной сладости – отмечен страшной силы даром? Ответа нет, или это будет очень русский ответ, который мы чувствуем, но четко сформулировать не можем.
Точно сама земля рождает таких странных людей – нелепых, корявых, частенько неграмотных, абсолютно бескорыстных, неистово верующих, не укладывающихся ни в какие официальные рамки – на которых вдруг падает несколько игривый луч высшего света. О таких писали и Достоевский, и Лев Толстой, и Лесков.
И эта игривость, прихотливость духовного света сказывается на всем поведении отца Анатолия, который говорит причудливыми загадками и прибаутками, невинно, но обидно разыгрывает своих собратьев – прямо какой-то Божий скоморох. Но за всем этим – огромная вера и огромные муки. «Господи, помоги нашему страданию!» – взывает он к Богу, и именно его вопль, его мольба перепачканного сажей шута, доходит. Глубоко посаженные темно-зеленые глаза Мамонова-Анатолия горят в эти мгновения испепеляющим огнем, и вспоминаешь, что престол света – это грозный престол. И, в отличие от лукавых измышлений современных умов, он никогда и ни о чем с тьмой не договаривался!
Святой дух и сам оказывается несколько проказником – открыв отцу Анатолию прошлое и будущее других людей, его собственное прошлое скрыл и утаил, так что герой только в конце картины узнает, что убитый им человек выжил. А как же иначе – знай он всю правду, не дошел бы до такой глубины раскаяния и мучений. С людьми тоже надо терпеливо и долго работать, водя их по жестоким земным дорогам, подвергая тяжким испытаниям, чтоб они не думали, будто Бог – это легко и просто, это когда грошовые свечки зажигаешь среди сушеных розочек и сладких запахов…
Чистота и сила рассказанной истории (сценарист-дебютант Дмитрий Соболев) подкреплена замечательной работой оператора Андрея Жегалова – северная симфония света, воды, снега и клочков суровой земли восхитительна в своем суровом аскетизме и настоящей, трудной красоте. Никаких натужных метафор и символов, ничего невнятного и «потустороннего». Лунгина интересуют только люди и их отношения, он не занят никакой специальной религиозной проблематикой. Сосредоточившись на людях и избегнув лишнего пафоса, режиссер выиграл, сделав фильм, который сильно и живо задевает душу. К тому же ему удалось во всей красе показать отличную, не уничтоженную еще русскую актерскую школу (Сухоруков, Дюжев, Юрий Кузнецов, Нина Усатова) – и необъятный, чудный, оригинальный дар Петра Мамонова.
Русские люди в «Острове» представлены не как тупые и примитивные животные, жаждущие только материальных благ и готовые ради этого на все, даже на взаимное истребление, но как духовные существа. Способные на веру, на подвиг, на самоотречение, даже на чудо. Думаю, зритель не сможет не отозваться на такой импульс, и количество странников и бродяг, ищущих в дебрях современного Вавилона чистый и трудный «остров» своей души, картина Павла Лунгина мощно увеличит.
Групповой портрет с тремя правдами
Фильм «12» Никиты Михалкова
Двенадцать российских мужчин среднего и старшего возраста, разной национальности, непростой судьбы заперты в спортзале обычной школы, соседствующей с судом. Сейчас и здесь, среди атрибутов физкультуры, под школьные звонки и гам детских голосов, мужчины обязаны стать выше личных пристрастий и национальных предрассудков. Они – высший закон. Они – присяжные заседатели, и от их вердикта зависит судьба человека.
Дело поначалу кажется простым и очевидным.
Один русский офицер, служивший на Кавказе, усыновил осиротевшего чеченского мальчика Умара, найденного при зачистке территории. Он привез мальчика в Москву и занялся его воспитанием. В один непрекрасный день офицера нашли зарезанным, его воинская пенсия была похищена, объявились и свидетели – старичок снизу и соседка напротив показали, что мальчик (ставший юношей подсудного возраста) угрожал приемному отцу, а старичок еще и якобы видел его сбегающим по лестнице в час убийства. Улик достаточно. Подсудимому грозит пожизненное заключение – осталось только вынести вердикт.
Такова завязка новой картины Никиты Михалкова «12». В ее глубокой основе лежит известная, дважды экранизировавшаяся американская пьеса «Двенадцать разгневанных мужчин», русифицированная Михалковым, а также В. Моисеенко и А. Новотоцким (толковые парни, сценаристы картины Звягинцева «Возвращение», которая получила «Золотого льва» в 2003 году). В сценарии явно сказался страдальческий опыт самого Михалкова в качестве Председателя союза кинематографистов России: он вдоволь насмотрелся, что такое «русское собрание», с его патологической страстностью, непредсказуемостью, анархией, переменчивостью мнений, изматывающей нервы энергетикой раздора. И эта «эстетика русского собрания» воплощена в картине блистательно.
Тема фильма – как найти конкретную истину о конкретном человеке сквозь тяжкую огромную толщу расовых и национальных предрассудков и антипатий, личных пристрастий, амбиций и обид. Как вырастить небесно-общечеловеческое из земного – национального и личного.
Тема крупная, да и фильм не мелкий. О нем будет много споров-разговоров после премьеры в отечестве, я лишь постараюсь изложить самые первые впечатления о картине, увиденной мною только что на Венецианском кинофестивале. Для более солидного анализа надо будет посмотреть фильм еще раз (и мысль об этом вызывает интерес и удовольствие – лента не одноразовая) и подкрепить рассуждения освежением в памяти американского первоисточника. Так что уж извините – пишу по горячему следу и, на всякий случай, для нетерпеливых читателей сообщаю вкратце: да, новое творение Михалкова мне понравилось, чрезвычайно понравилось, но с некоторой шероховатостью, «зацепкой» какого-то смутного несогласия, которое вот тут же, на ваших глазах, в процессе сочинения текста я и постараюсь выговорить для читателей терпеливых.
На 64-й Венецианский кинофестиваль Никита Михалков прибыл в финале, когда американские звезды и акулы глобального кинобизнеса отправились по своему графику на фестиваль в Довиле вместе с мощной свитой из журналистов, дистрибьюторов и пиар-агентов. Опустели террасы отеля «Des Bains», осиротели кафе и траттории. Гуд бай, Америка – здравствуй, Россия. «12» показали международной общественности 6 и 7 сентября – под закрытие, на котором Михалков получил специального «Золотого льва». Лев же не специальный, а обычный, достался Энгу Ли за картину «Вожделение», что, учитывая национальность председателя жюри Чжана Имоу и общую «чайнизацию» мира, понятно. Не знаю, насколько этот специальный лев утолит честолюбие Никиты Михалкова, но уж реакция публики должна была осчастливить и обнадежить режиссера вполне: фильм приняли с восторгом. Два с половиной часа «русского мужского балета» в поисках истины, снятые на пределе возможного в кинематографе мастерства, удержали внимание пестрого интернационального зрителя абсолютно.
Никита Сергеевич появился в Венеции с женой и обеими дочерьми, сильно похудевший, чрезвычайно напряженный и взволнованный, в оригинальном «дизайне» комдива Котова на войне (щетина на лице, высветленные волосы) – прямо «из окопов», то есть со съемок «Утомленных солнцем-2». Волнение его не удивительно. Между «Сибирским цирюльником» и «12» пролегла творческая пауза длиной в девять лет.
Уровень предъявленного в картине мастерства свидетельствует о том, что это безобразие. Он мог бы делать вообще по фильму в год, да еще, подобно живописцам прошлого, держать мастерскую, где ученики работали бы в его манере и выпускали «картины школы Михалкова». О кино он знает почти все, и по части работы с экранным пространством и временем ему равных мало. Схватить намертво зрителя камерной историей, происходящей в замкнутом пространстве, без секса, без насилия, без спецэффектов, без террора мелькающими красивостями, на одной игре актеров и фейерверке режиссуры – это надо уметь, и он это умеет.
Дело тут не только в прирожденном таланте. Никита Михалков – это мощная, динамичная, развивающаяся творческая система, способная к постоянному обучению. Его композиционное мастерство (особенно расстановка фигур) и понимание роли света в пространстве основано на пристальном многолетнем изучении живописи (отсылаю желающих к уникальному проекту Михалкова – многосерийному авторскому фильму «Музыка русской живописи»). Его умение чередовать атмосферы и настроения исходит из недюжинного чувства (и знания) музыки. Он, как никто, может выжать из артиста, полностью его растормошив и раскрепостив, все лучшие силы. Наконец, Михалков полностью усвоил уроки новейшего кинематографа с его «кинематическим дизайном» – и благополучно перетащил к себе кое-какие его достижения вроде жестких монтажных стыков и эффектных статичных планов, длящихся не более секунды (такого раньше у него не было). Но перетащил лишь в качестве легкой приправы к основному блюду, изготовлением которого и славен – традиционному психологическому кино с живым внутренним пространством.
Как «Пять вечеров» или «Без свидетелей», которые тоже были созданы на литературной основе пьес, новый фильм Михалкова – не эпический, а театрально-драматический. Его переполняет энергия исповеди, энергия раздора, энергия человеческих страстей и столкновений. Но это не сама жизнь (какая жизнь без женщин?) – это спор о жизни. Спор, который ведут двенадцать современных мужчин-россиян разной национальности.
Зачинщик спора – интеллигент, ученый-изобретатель в исполнении Сергея Маковецкого. Это тот единственный, который проголосовал против обвинения и спутал все карты, тот, кто рискнул попытаться переубедить коллег, а заодно рассказал всю свою жизнь за десять минут на общем плане (и глаз не оторвать). Он начинает партию совсем тихо, даже будто испуганно, прикидываясь дурачком, недоуменно округляя свои таинственные непроницаемые глаза – какой-то странный вестник нравственного закона, забредший в российские дебри. Что ж так быстро и так единодушно вынесли вердикт? Ведь в руках присяжных судьба человека. А что, если он невиновен? Маковецкому разъяренно возразит герой Сергея Гармаша – таксист, человек толпы, человек сегодняшних настроений, который в выражениях не стесняется.
Это крик больной, озлобленной, униженной «русской улицы», давно готовой к нацизму, невозможному в современной России только лишь по причине энергетической ослабленности. На фашизм большие силы нужны, а у нас их, слава Богу, нет. Таксист кричит о чеченских ублюдках, для которых русские – это добыча, о заполонивших город приезжих, кричит о своем ужасе пред ними, о неизбывных исторических обидах, обращаясь за поддержкой к «земляку», Алексею Петренко (видимо, прораб-метростроевец из обрусевших украинцев). Но медведеобразный прораб с узкими хитрыми глазами – себе на уме и тоже начинает свою линию гнуть. А тут и пожилой лукавый еврей (очевидно, из юристов) – Валентин Гафт – встает на сторону подсудимого: очень уж скучное лицо было у адвоката, не защищал он как следует нищего «чеченёнка». Слетает восточная дрема и с хирурга кавказского происхождения (Сергей Газаров) – очень уж больные, зацепляющие каждого пошли разговоры… И только жалкий, напыщенный, под «общечеловека» отлакированный телепродюсер, сын мамы-владелицы телеканала (Юрий Стоянов) никакой правдой интересоваться просто не в состоянии, поскольку на этот счет в Гарварде, где он обучался, им не получено решительно никаких инструкций.
Присяжные начинают собственное расследование – потребовав материалы дела и в порядке игры реконструировав событие и место преступления.
А мог ли, собственно говоря, свидетель, старик, больной артритом, так быстро дойти до двери и увидеть подсудимого? Тут происходящим начинает живо интересоваться артист эстрады (Михаил Ефремов), до этого лихо нюхнувший кокаина в досаде, что опоздал на поезд (гастроли). Перевоплотившись в свидетеля, он убеждается, что дело нечисто – старичок дойти так быстро до двери не мог. Да и «человек толпы», присяжный Гармаша, артисту противен как образ вечно ржущего, ненавистного, тупого зрителя. Итак, доводы обвинения рушатся один за другим, по всему выходит, что «чечененок», видимо, невиновен, и все большее число присяжных встает на его сторону…
Все актеры играют «с искрой», просто одни образы сценарно разработаны более, другие менее, как у Виктора Вержбицкого, Сергея Арцыбашева и Романа Мадянова, которые остаются несколько в тени. Игра со светом (общий свет отрубают, потом используют свечи, потом включают только отдельные лампы – масса выдумки и разнообразия) и сменой планов потрясающая по изобретательности, хороши кавказские «наплывы» – особенно сцена отдыха боевиков в мирном селе, и, как всегда у режиссера, замечательны переливы эмоций на лице артистов. Надо заметить, Михалков, потерявший за последние годы, к сожалению, обоих своих прекрасных операторов – Павла Лебешева и Вилена Калюту – нашел убедительного союзника в лице человека другого поколения, Владислава Опельянца. Но мастерство мастерством, а мы ж еще не на небе, чтоб часами обсуждать детали художественной огранки. Что там «внутри», какое послание, о чем речь?
На мой взгляд, в картине «12» сталкиваются три «правды». Первая – личная правда, исходящая из собственной жизненной истории, в которой каждый играет по своим законам, имеет свои убеждения и пристрастия. Скажем, директор кладбища (Алексей Горбунов), знает о гадких махинациях своих могильщиков, и спокойно пользуется доходами с богопротивных делишек, но на вырученные могильные деньги он широко благотворительствует и совестью не мается. Русский человек по закону жить никогда не будет, декларирует он – русскому противно все внеличное. Да и каждый из присяжных что-то такое придумал для себя, какие-то законы и закончики для своего пользования. Вторая правда – национальная. В ней человек отождествляет себя с общностью и противопоставляет себя общности. И здесь трибун национального унижения (герой Гармаша), как бы требующий консолидироваться без раздумий перед лицом опасности национального уничтожения, сталкивается с героем Гафта (евреем), героем Газарова (кавказцем) и героем Стоянова (космополитом). Выиграв с помощью яркой художественной агрессии борьбу с космополитом (Гармаш в лицах заставляет бедолагу пережить воображаемое нападение кавказских разбойников на его семью), остальные битвы человек толпы проигрывает. Еврей ведет себя умнее и достойнее, а кавказец, столь обманчиво мирный и простодушный, в ролевой игре с кинжалом, когда присяжные хотят понять, мог или не мог нанести подсудимый удар сверху, выказывает столько силы, ловкости, удали и великолепно-артистического (но и грозного!) щегольства, что становится понятно: агрессия униженной русской толпы – это детский лепет. Голые, больные эмоции. Сталкиваясь с настоящей силой – силой ума или силой искусства воевать – они мигом распыляются в ничто. Сам же таксист, как оказалось, забил собственного сына, так что тот чуть не повесился – какая уж тут правда?
Запекшийся на губах «человека толпы» злой ужас национального унижения – это не шутка. Это каждодневная действительность. Но над этой «русской правдой ненависти» расположена третья, последняя и главная правда. Правда закона. Вина вот этого, данного, конкретного человека должна быть доказана без всякой связи с его национальной принадлежностью и личным характером. Как ни относись к «лицам кавказской национальности», если вот этот конкретный чеченец никакого преступления не совершал – он должен быть отпущен на свободу. Иначе – кровавый кошмар, анархия и бойня. Если русские хотят выбраться из ямы национального унижения, они обязаны стать оплотом закона, порядка, справедливости, взрастить в себе более высокую нравственность, показать миру более привлекательные способы жизни, более красивые стандарты поведения, чем их враги, оппоненты, критики и недоброжелатели. Словом, надо самим себя вытащить за волосы из болота, как барон Мюнхгаузен!
Трудно что-нибудь возразить против этой светозарной утопии. Для ее реализации Никита Михалков поступил старым, испытанным способом. В качестве примера такого элитного русского типа он предложил самого себя. В роли одного из присяжных, председателя собрания, бывшего офицера, а ныне художника.
У него необычный грим – длинные седые волосы и бородка делают его похожим на Санта-Клауса, да и имя он носит соответствующее – Николай (у остальных имен нет). Он всю картину помалкивает. Его выход – финальный. Когда выясняется (несколько загадочным и явно искусственным образом), что убийство подстроили таинственные бизнесовые люди, чтоб освободить квартиры в доме, где произошло преступление, и расширить таким образом территорию будущего элитного жилья, Санта-Клаус предлагает совершенно удивительный выход из положения. Проголосовать за то, что парень виновен, спрятать его в тюрьме, чтобы бизнесовые его не убили, а тем временем нанять нужных людей и завершить расследование. На это ни сил, ни времени ни у кого нет. Приходится Санта-Клаусу предложить отпущенному на свободу парню пожить пока у него.
Зима, падает мягкий крупный снег. Присяжный Маковецкого возвращается в спортзал, чтобы забрать забытую иконку Божьей Матери – спрятал в углу тишком, чтобы помогла в трудном деле. На глаза ему попадается ушлый неугомонный воробей, весь фильм на правах полноценного персонажа рассекавший пространство спортзала. Герой открывает окно – хочешь, лети, хочешь, оставайся, придется тебе решать самому – и вежливо приподнимает перед воробышком шляпу. Так это была сказка?
Чтобы снять рождественский привкус, Михалков дает еще один финал (и я вспоминаю уникальные фильмы студии Довженко семидесятых годов, где было по пять-шесть концовок): картина ужаса войны с какой-то жуткой собакой Баскервилей, несущей в зубах оторванную человеческую руку.
Что-то тут «не тае», как говаривал Аким у Льва Толстого во «Власти тьмы». Перебор какой-то. Портят ли эти финалы картину? Да в общем нет, на зрительском возбуждении от ее могучей энергетики и виртуозной актерской игры, проходит и это. И все-таки осадок остается. Фальшинка концовки, при дальнейшем анализе, вытягивает некоторые несовершенства и в ходе фильма: искусственные, неоправданные сюжетные ходы, явную сконструированость иных монологов, излишнюю жирную театральность при внутреннем холоде в некоторые моменты актерской игры. Я бы сказала, что в этом роскошном ковре ручной работы из натуральных материалов есть одна неважная синтетическая ниточка – она не портит ковер, но слишком заметна, и критики не преминут этим воспользоваться. Публика же ничего, думаю, и не заметит.
Для меня же главное достоинство картины – в том, насколько интересным, захватывающе разным, привлекательным, увлекательным и завлекательным может быть на экране человеческое лицо. Чтобы с такой любовью показать человека, надо его искренне любить. Влюбленность Михалкова и в человека вообще, и в своих актеров, и в придуманных им персонажей и приводит режиссера к постоянной авантюре: самому переодеться в действующее лицо, вмешаться в пространство экрана, научить, наставить, навести порядок, помочь, спасти!
И что тут возразишь? Когда создатель сам заявляется в созданный им мир, кто же ему судья, интересно?
Безоговорочный зрительский успех картины Никита Михалков полностью заработал – а что касается нравственной революции в России, о которой, видимо, все-таки мечтает режиссер, ее не может совершить даже самый распрекрасный фильм.
Он много знал о русском человеке
Такие лица, как у Виктора Павлова, я часто встречала на старых русских фотографиях, где почтенные отцы семейств, мещане, купцы, крестьяне или рабочие, с чинными строгими лицами и волосами, обстриженными «в кружок», в нарядных поддевках или кафтанах, стоят рядом с такими же почтенными, строгими женами. Россия… Не знаю, какими ветрами заносит людей, подобных Виктору Павлову, на актерскую дорогу: они ничего общего не имеют с кривляньем, шумихой и вообще ни с чем размалевано-фасадным в этой профессии. Такие актеры – прежде всего настоящие, профессиональные «человековидцы», знатоки человеческого сердца. Знают много о человеке.
Павлов сыграл Мирона Осадчего в «Адъютанте его превосходительства» так, что многие его фразы стали пословицами: хитрый мужичок-братоубийца был неподдельно страшен своей дикой и могучей страстью к красавице Оксане, братниной жене. «Ты… фитилек-то прикрути… коптит», – говорил Павлов-Мирон, глядя жуткими круглыми глазами на свою зазнобу, и было ясно, что он способен на все. Убьет, предаст, с мертвого сапоги стащит и, будет надо, живого съест. В мужичке этом жила пугающая корявая сила, та сила, из-за которой мир всегда боялся русских: края, удержу они себе не знают…
Рисунок роли у Павлова всегда был прост, без излишеств и мимических хлопот: он находил точное, единственно верное художественное решение. Попробуйте представить другого Левченко («Место встречи изменить нельзя») – и ничего не получится даже в качестве предположения. Как только Левченко-Павлов повернул голову и мы увидели эти огромные, скорбные, умные глаза, было понятно: на лице у этого человека роковая печать, он обречен. Как он добивался такого – не знаю.
Жаль, что кино девяностых годов вышло у нас таким пустым и ничтожным, абсолютно не по росту прекрасной гвардии первостатейных актеров. От большинства картин остались только претенциозные названия. Все-таки Павлов сыграл в экранизации классической пьесы Найденова «Дети Ванюшина». Да, классика ему была бы к лицу – Островский, Чехов, Горький – и кое-что на театре Павлов сыграл.
Я его видела в последний раз в маленькой роли Загорецкого («Горе от ума» Грибоедова, Малый театр) – знаете, что-то исключительное. Он ведь имел право выйти гордо, на аплодисменты, публика его знала, но в нем как будто не существовало никакого самомнения и самолюбия. Удивительная скромность, даже самоумаление. Дескать, я работаю, и ни до чего остального мне дела нет. Павлов сработал очень интересный образ этого самого Загорецкого. По пьесе, это карикатурный плутишка, светский жулик, который то тут подольстится, то там в карты перекинется или билет в театр дамам достанет. Павлов же сыграл плута несчастного, усталого, который прикрывает житейской суетой свою тоску о промотанной зря жизни. На крошечном материале целый характер слепил!
Темперамент у Павлова был редкостный – просто как бурлящим кипятком налит человек, про таких говорят: «бешеный». Но эта страстность была подземной, скрытой, вырываясь изредка, в кульминационных мгновениях роли. Считается, что скрытая чрезмерная страстность и несколько «подпольная» психология присущи многим русским людям, но по этой части, глядя на Павлова, сомнений не возникало: уж не испанец перед тобой, а наш родной мужичок, который, как нам Некрасов еще объяснил, «до смерти работает, до полусмерти пьет». Хотя лицо Виктора Павлова было особое, совсем не простое, может, и византийского письма, и на лик смахивало. Судя по всему, и человек он был преоригинальный…
Привыкаешь к своим «народным артистам», как к кровным родственникам, и до того обидно и жалко их терять! Ведь таких лиц уже не будет – может, будут и красивее артисты, и ярче, и звонче, но таких родных уже не будет никогда.
Маршал искусства
Умер Михаил Ульянов. Отлетел наш орел, наш председатель, наш маршал, воплотивший в себе, наверное, лучшие черты Красной России. На восьмидесятом году жизни – полгода не дотянул до юбилея… А впрочем, говорят, юбилей – репетиция похорон, так что Михаил Александрович обошелся, можно сказать, без лишних репетиций. Жизнь состоялась. Достойная, красивая, ясная жизнь выдающегося артиста. Убавить от нее нечего – а прибавить наши новые времена вряд ли что могли.
Он был создан для славы и любви – и он получил их сполна, и как мы смели бы не полюбить этот взрывной, бешеный темперамент, это чистое, открытое лицо с вздернутой иронически бровью, пронзительные светлые глаза, неповторимый, вмиг узнающийся голос! Энергия пульсировала в нем не в обыкновенно-человеческих объемах и ритмах – так мчатся кометы, так бьют водопады. Силища! Что ж тут попишешь, когда человек родом из Сибири. Ульянов лет тридцать жил на сцене и экране точно лихой кавалерист, на полном скаку. Недаром ему так часто поручали играть «хороших начальников», настоящих, не бумажных руководителей – воплощать народную мечту о настоящей власти. Он и воплотил. Без малейшей фальши. Потому что не на реальных председателей и полководцев оглядывался, а просто и смело создавал их из самого себя. Разве его Георгий Жуков – это Жуков? Нет, подобно Петру Первому Николая Симонова, который был мечтой о народном царе, сыгранный во множестве картин Жуков Ульянова – это народная мечта о народном воине. Но при таких способностях к величественной и красивой идеализации Ульянов мог и многое другое. Плоть от плоти Красной России, как он сыграл белого генерала Чарноту в фильме Алова и Наумова «Бег», по Булгакову! Сколько остроумия, бурлеска, ярости, тоски, какой живой и незабываемый получился образ. Поистине «русского размера»…
Впрочем, он все умел, и не только в русском репертуаре – я отчетливо помню его в «Антонии и Клеопатре» Шекспира, был такой спектакль в театре имени Вахтангова, осталась телезапись – осталась ли? ау, телевизионные люди, вы хоть храните сокровища или все уже на распыл пустили? – он играл Антония. Так это ж был Антоний! Как он, посреди оргии в Риме, взревел от боли и тоски по оставленной возлюбленной – «В Египет захотелось!!» Э, вы, нынешние, ну-тка – да не сможете, слабо.
Михаил Ульянов многое мог сыграть, но мелкого, слабого, ничтожного человека сыграть был просто не в состоянии. Распоследний мерзавец, сыгранный им у Никиты Михалкова в картине «Без свидетелей», был масштабен, огромен, страшен как символ морального человечьего распада вообще. И его горе-драматург в чудесной картине Глеба Панфилова «Тема» был скверен, но и в падении своем сохранял следы таланта и величия. А умел Ульянов и чистую комедию играть – полюбуйтесь на его лихого забияку-инвалида в забавной ленте Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо». Мастер, умелец, широкой и звонкой судьбы артист, настоящий «маршал искусства», он и в последние годы сохранял форму и дар, блестяще сыграв хитроумного деда-мстителя в «Ворошиловском стрелке» Станислава Говорухина и мило пошутив в «Антикиллере» Егора Кончаловского. Прискорбно, что мы так и не увидели его Понтия Пилата – «Мастер и Маргарита» Юрия Кары до сих пор под замком.
Драконы сторожат. Неужели уход Михаила Александровича не сподвигнет ни один канал на подвиг – почтить память артиста и показать Пилата-воина, каким, несомненно, сыграл его Ульянов?
Ульянова часто выбирали руководить, именно выбирали, по доверию сердца – он был и секретарем Союза кинематографистов, и председателем Союза театральных деятелей, двадцать лет руководил родным театром имени Вахтангова. Никогда не доводилось слышать ни одного недоброго, темного слова о нем как о начальнике. Видимо, ясный свет сиял в этом человеке, не отбрасывая тени. Так бывает. Редко, но бывает.
Жаль, что актеров не принято хоронить с воинскими почестями – уж кто-то, а Михаил Ульянов это заслужил. Спасибо за труды, за честно и славно отработанный дар, прощайте, дорогой «председатель», теперь уж встретимся в Небесной России, где таким, как вы, самое место.
Брат Андрей
Памяти Андрея Краско
Так и слышалось, как при известии о внезапной смерти Андрея Краско с горечью и досадой крякнула Россия: «Эх, да что ж такое!» – и дальше непечатно. Краско полюбили не за роли, а как-то всего целиком – с его светлыми умными глазами, насмешливой и притом мягкой речью, феноменальной естественностью, повадкой простого-непростого мужичка. Он не запоминался, а прямо-таки врезался в память с любого своего появления на экране: узнавание было мгновенным. Резко очерченный национальный тип, натуральный народный артист и форменный «русак» – наш человек во всем.
Наивному глазу частенько кажется, что такие артисты и «не играют ничего» – в заблуждение вводит полное отсутствие наигрыша и совершенное владение своими средствами. Но возьмите две роли Краско – бравого командира подлодки в фильме «72 метра» и хитрого дворника Маркела в сериале «Доктор Живаго». Что между ними общего, похожего? Командир – чистый, ясный кристалл: такой никогда не подведет, не обманет, и погибнет с улыбкой на губах, как и жил. С отчаянной и грозной веселостью, в сцене, как бы пригрезившейся во сне, он приказывает: «Оркестр! “Прощание славянки”!» И подводники, бодро и красиво чеканя шаг, уходят в море. И очевидно, что именно такие люди, как этот командир, когда-то не сдали «Варяг», да и вообще ничего и никого не сдали. Погибали при исполнении – такая должность. А Маркел – совсем другое дело: хитрющий, затаённый, крепкий задним умом. Такой и обмануть, и предать может за милую душу, несмотря на искреннюю привязанность к господам. Тут иная русская перспектива открывается – на людей, закрученных многовековым рабством в тугой узел, на лукавую дворню, всегда готовую наступить своим барам на пышный хвост. Но, став полным хозяином в квартире господ, у которых когда-то исправно служил дворником, Маркел хоть и куражится, а тоскует, всей неказистой душой ощущая неправедность, неладность новых времен. Так что работа артиста, столь обманчивая в своей натуральности, на самом деле представляет высшую степень сложности, пик художественного обобщения.
Андрей Краско был серьезный, глубокий артист с хорошей школой – он учился в ЛГИТМиКе, у Льва Додина, в те поры, когда было чему поучиться и было с кем соревноваться. Помню его в учебном спектакле «Бесплодные усилия любви» по Шекспиру, где он играл комическую роль простолюдина в блестящей компании Скляра, Бехтерева, Акимовой и прочих додинских питомцев. Но от этой плеяды он отбился, хотя, конечно, постоянная практика в театре дисциплинировала бы его размашистую натуру, гармонизировала личность. Но кое-что он бы и потерял на этом пути, это без сомнения. Скажем, свободу.
А он любил свободу. Любил той надрывной, страстной любовью, которая живет полнозвучно, может быть, только в русском сердце. Свободу как личный полет сквозь «метры и рубли». Я его заприметила с «Блокпоста» Рогожкина, где Краско играл своего первого командира. Странный был командир, голова перевязана хипповским платком, глаза полубезумные, на губах рассеянная лукавая улыбка. «На Московском государстве без лукавинки не проживешь!» (Н. Лесков). Но в дурдоме русского военного раздолбайства он был как островок чего-то сохранного. Не то совести, не то долга. Он это не выговаривал, а так – жило в нем, посверкивало.
Сыграл он и много, и мало. По объему – изрядно, а по существу – недостаточно: так сложились обстоятельства. По ряду причин кинематограф, и сам по себе жесткий к актерам, забывающий их внезапно, часто выкидывающий за ненадобностью, в России девяностых годов вообще стал мало чувствителен к ценности актерского творчества. И как раз ярчайшим национальным типам в кино места было не много: ну, что, спрашивается, сыграл Алексей Петренко? Чуть больше повезло Юрию Кузнецову, а вот Виктору Проскурину – совсем нет. А Владимир Гостюхин, Петр Зайченко, Владимир Ильин, Дмитрий Назаров, Юрий Степанов? Только сериалы и спасли как-то. Да что там, когда Никита Михалков девять лет ничего не играл (с «Ревизора» до «Статского советника»)! Сериалами и Андрей Краско спасался. Ничего предосудительного, разумеется, в этом нет, но не стоит забывать, что только в художественном кино происходит концентрация мысли, времени, образов – сериал их неминуемо разжижает. Если сравнить силу творчества с градусом алкоголя, то подлинное кино – это водка крепостью в сорок градусов, а в сериале вещество искусства сравнимо с крепостью кефира…
Однажды, в самом начале нулевых годов, Краско сыграл на сцене то, что было ему на роду написано, – героя «Москва-Петушки» Венички Ерофеева, в спектакле-призраке, который чуть-чуть покочевал по маленьким сценам. Очевидцы говорят – идеально. Еще бы!
Диапазон Андрея Краско был отменно велик. Разумеется, комедия – хотя в чистых комедиях он, пожалуй что, и не играл. Но, например, напарник «агента национальной безопасности», неуклюжий, «тормозной» Иванушка был сыгран блистательно смешно. Контраст между ловким, удачливым красавцем-победителем Лёхой и его нелепым, вечно не догоняющим смысл приказов, но ужасно милым и добродушным другом получился воистину сказочный. Но Краско владел и сатирическими интонациями – так он воплотил тупого самодовольного обывателя в «Копейке» Ивана Дыховичного. Хотя и тут ядовитые краски смягчались светлой и теплой волной чудесного, мягкого обаяния Краско. Это уж искусству не поддается – это дар. Любой забулдыга и ханурик в исполнении артиста становился озорным, веселым, забавным. Прелестно говорят в наших сказках: «русским духом пахнет». Глядя на Краско, казалось, что этот «русский дух», в хорошую минуту играя с жизнью, как солнце играет с водами быстрой реки, сверкает, искрится, резвится, потеряв всю свою дикую мрачную страстность… Но была у артиста и другая тема, чрезвычайно сейчас важная – тема спокойного и гордого человеческого достоинства. Следователь из «Олигарха» Павла Лунгина, провинциальный недотепа, превращался в неумолимого и строгого судью не только отдельного богача – всех зарвавшихся, съехавших с катушек времен. Он судил эти времена по закону, прописанному в душе – отчетливо, методично, как имеющий полное право. Точно это сама провинциальная Россия явилась судить обезумевшую столицу – по закону совести.
В последнее время актер, после длительного периода безработицы, буквально обрушился в непривычную для себя ситуацию избытка предложений. Распоряжаться ею не успел научиться – так, с размаху, по-русски, и полетел с горы. Всё мечи, что ни есть в печи! Уже был на грани дикой, лихорадочной растраты индивидуальности, за которой – превращение в медийную куклу, выход в полный тираж. Нет. Не перешагнул. Стоп-кадр. Снято.
Проблемы большие, Александринские и Мариинские
Что происходит с «императорскими» театрами?
В начале октября на Новой сцене Большого театра состоялись торжественные похороны оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». Все действующие лица, от героев до статистов, были одеты в черные костюмы и платья. Сцену загромождали двенадцать угрожающих черных колонн, напоминающих трубы крематория, рассеченные посередине прогулочным мостиком с чугунной решеткой. Таким образом, сцена была как бы расчерчена на шесть квадратов, и все действие сосредотачивалось в верхнем центральном квадратике, изредка спускаясь вниз.
Постановщик «Пиковой дамы», именитый режиссер Валерий Фокин, в предпремьерных декларациях много говорил об особенной «петербургской мистике», но никакой такой мистики в его постановке не ощущалось. Черная скука, царящая в опечаленном зрительном зале, была вызвана не страстями, кипящими в опере Чайковского, а тем грустным фактом, что Фокин, видимо, утратил способность сочинять режиссерскую партитуру спектакля.
Не решен ни один образ, не придумана ни одна запоминающаяся, выразительная мизансцена. С помощью нехитрых дизайнерских ухищрений, создатели спектакля постарались хоть как-то прикрыть факт полного отсутствия сценического «текста», но это факт такого сорта, который скрыть невозможно. Как невозможно скрыть – какого размера трубы ни сооружай на сцене – качество пения, недопустимо низкое для Большого театра.
В виде призрака когда-то грозной и величественной Большой сцены появилась Елена Образцова – Графиня, немного развеяв тоску своей победительной поступью и филигранной отделкой каждой интонации и каждого жеста. Но то был отдельный концертный номер.
Между тем рядом с Новой сценой кипит – как мы все надеемся – реконструкция сцены главной. Мы очень ждем, что она когда-нибудь откроется и слухи о том, что вместо реконструкции Большого театра идет активная добыча золота из подземных вод, неосновательны. Но когда и если Большой будет восстановлен в полном блеске архитектуры – чем заполнится его сцена? И в каком состоянии к тому времени будет его труппа, оперная и балетная?
Перед глазами – свежий драматический пример. В прошлом году произошло торжественное открытие реконструированного Александринского театра в Петербурге. К реконструкции претензий нет – сделали качественно и со вкусом. Прошло более года, и смотреть на этой красивой сцене, в общем, нечего. Руководитель Александринского театра Валерий Фокин (возглавляющий также Центр имени Мейерхольда в Москве, обширное, по последнему слову техники оборудованное здание, где изредка идут гастрольные спектакли, и более ничего) поставил только один спектакль – «Живой труп» Л. Толстого. Зрелище оригинальное, поскольку оттуда выкинута напрочь цыганская тема, а действие крутится вокруг шахты лифта в подъезде. Кроме того, в труппе нет актера, способного сыграть Федю Протасова, главного героя толстовской пьесы. Труппа Александринки вообще ужасно разбалансирована, не выстроена толком, в ней не хватает многих амплуа и совсем провал с молодыми героями, а без них какой театр-то может быть? «Живой труп» собрал на премьере знатоков, у которых еще теплится кое-какое любопытство, дальше в театр пошел рядовой зритель – а для него на императорской сцене ничего не припасено. Итак, Александринка сегодня – идеальная площадка для гастролей. Собственного творческого содержания почти не имеет. Тем не менее Валерий Фокин вот выбрал время и похоронил еще и «Пиковую даму» в Большом театре.
В чем же дело? Разве Валерий Фокин – такое уж пустое место? Конечно, нет. Это был один из интереснейших режиссеров страны когда-то. Он ставил отличные спектакли в «Современнике», ставил в театре имени Ермоловой, он понимал и чувствовал актеров. Но, выражаясь нынешним языком, менеджмент – это одно, а креатив – другое. Фокин стал первоклассным менеджером – но та часть разума, что рождала творческие идеи, осталась, видимо, в лихорадке освоения пространств и бюджетов, без питания. Потому что творческая часть разума требует другой пищи. И другого стиля жизни. Нельзя одновременно считать возможную прибыль и придумывать, как решить сцену карточной игры у Чайковского. Поэтому сцена не решена никак – люди в черном вяло хлопают в ладоши (якобы карты мечут), а Герман, почему-то в нижнем белье, поет (вернее, пытается спеть) «Вся наша жизнь – игра…»
Незаурядные менеджерские таланты проявляет и руководитель Мариинского театра, выдающийся дирижер Валерий Гергиев. Он тоже стремится осваивать пространство как можно активнее. Выстроена Третья сцена (ужасающая по дурновкусию, но это уже – в духе всего нового строительства в Питере, где дурной вкус принят за стиль). Вторую сцену Мариинки, ради которой снесли целый квартал на Крюковом канале, построить так и не могут. Говорят, при попытке забить сваи, бунтуют подземные воды (геологов в Питере традиционно «забывают» спросить, что там с почвой). Ну хорошо, пусть все эти сцены будут выстроены – и Вторая, и еще один проект Гергиева – Дворец фестивалей в Новой Голландии, ради которого сейчас на острове снесены все сооружения «не имеющие исторической ценности». Допустим, что эти бесконечные сцены Мариинского театра такую ценность будут иметь. Но что там показывать-то? Неужели Валерий Гергиев, подобно демону, размножившись по числу сцен, станет дирижировать одновременно в четырех-пяти местах? Ведь тот репертуар, что имеет сейчас Первая, главная, Мариинка, далеко не превосходен.
В Мариинском театре есть сильные артисты – и в оперной, и в балетной труппе. Неизменно на высоте оркестр. Это еще есть, и это – главное сокровище театра. Но в формировании репертуара не видно никакой особой «мысли», направления, строгости, главного русла. Многие оперные постановки выживают один сезон. На всем печать какого-то легкомыслия, скоропалительности, неосновательности. Нужно ли в такой ситуации гнаться за лишним пространством? Ради чего?
Что вообще происходит с бывшими «императорскими» театрами? Они защищены государством, они без труда находят себе покровителей, они не стеснены в средствах. Что мешает им углубленно заняться творчеством и оправдать и большой отпущенный им кредит государственного и зрительского доверия, и немалые денежные средства?
Деньги – это хорошо, и ремонт – это прекрасно, и новые сцены – превосходно. А когда будем думать о творчестве, товарищи мастера искусств? Когда будем поднимать из руин оперную режиссуру, когда решительно поставим заслон перед дилетантами и откровенными жуликами, пытающимися прорваться на главные сцены? Когда будем сознательно выстраивать труппу, ценить таланты, искать их, а найдя, холить и лелеять?
Из всех бывших «императорских» театров, более всего думает о творчестве Малый театр, под руководством Юрия Соломина. Так у него и ремонт поскромнее, чем у всех, и «наверху» его не видать не слыхать, и прикормленные критики не вопят про большие победы, наоборот, смеют замахиваться даже на А. Н. Островского, гениальную пьесу которого «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» недавно поставили в Малом…
Вот такой грустный выбор – или «имперские амбиции», воинственный захват денег и пространств, или серьезная, достойная творческая жизнь.
А чтобы все вместе – этого, наверное, на Руси быть не может.
Часть 3 Второе блюдо и еще сто, пожалуйста
После бала
Пятидесятилетний юбилей театра «Современник» миновал. Розданы высокие награды, сказаны красивые слова. Те, кто считает, что театр сегодня процветает полностью и абсолютно, летя от победы к победе – высказались. Нельзя ли теперь и тем, кто считает иначе, молвить словечко?
Череду юбилейных спектаклей «Современника» открыла премьера под загадочным названием «Америка. Часть вторая». Пьеса Биляны Срблянович, режиссер Нина Чусова. Я побывала там, и два коротких действия показались мне адской пыткой.
Спектакль хорошо оснащен в техническом отношении, видно, как зажиточно живет нынче театр. Шутка ли – стоит задник из двадцати семи мониторов. Мигают огоньки реклам, изображается жизнь то элитного дома, то бара, то подземки. Герои поминутно пляшут, подпрыгивают, дергаются, никакого тебе скучного бытовизма. Вроде как шоу. Но о чем это?
А ни о чем. Удивительным образом техническая оснащенность этого спектакля сочетается с поразительным сущностным убожеством. Невозможно найти хоть какие-то следы умственной жизни человека. Весь человеческий «верх» (разум, душа) словно срезан – остался только «низ». Персонажи охотно вращают бедрами, опрокидывают стаканчики в баре, нюхают кокаин. Все женщины двигаются, как дешевые шлюхи, все мужчины что-то говорят с тупым выражением лица, точно кретины. Герои часто посещают уборную, что режиссер специально подчеркивает определенными звуками. Ни психологии, ни общения. Так плохо не играют ни в русской провинции, ни в Петербурге. То есть и там, бывает, играют плохо – но без этой нахальной, самодовольной развязности, когда человек без всякого права на то держит и подает себя, словно суперзвезда. Это вот что-то сугубо столичное. В персонажах «Америки», в этих человекообразных кривляках, нет ничего привлекательного. Такое впечатление, что режиссер вообще смотрит на людей и жизнь с насмешливой брезгливостью, так ей скучно. Зачем же заниматься театром-то, в таком печальном случае? Нет, я, наверное, ошибаюсь, и спектакль столь низкого качества возник в афише прославленного театра по каким-то идейным соображениям. Может, это сатира такая на американский образ жизни?
Известно, что «Современник» имел в этой пошлой и бездуховной стране большой успех. Ну, вот теперь и поблагодарил Америку, так сказать, в русском стиле…
Для того чтобы высмеять американский образ жизни, надо, однако, иметь на это хотя бы художественное право – в виде таланта. Есть ли он у драматурга Срблянович, не знаю, в режиссуре Чусовой непонятен даже сюжет пьесы. А вот на вопрос, есть ли талант у режиссера Чусовой, могу дать свой личный ответ. Нету никакого.
Назначенный модным режиссер не владеет главными профессиональными умениями. Она не умеет анализировать пьесу, и любая пьеса в трактовке Чусовой, будь то Мольер, Гоголь, Островский или Срблянович – это галиматья. Галиматья без начала и конца. Этот загадочный режиссер не обладает искусством мизансценирования – расположения фигур в пространстве. Персонажи «Америки» беспомощно толкутся на авансцене, не зная, куда девать руки и ноги. Чусова, наконец, не умеет работать с актерами, втискивая любую индивидуальность в один и тот же разболтанный, карикатурный рисунок. Почему столь мало умеющий человек получил такой большой объем внимания к своей деятельности? На каком основании его поделками интересуются серьезные театры, с историей, с репутацией?
Руководитель «Современника» Галина Борисовна Волчек и сама талантливый человек, и выросла среди талантливых людей, и общалась с талантливыми людьми. Но время идет, меняется. Как быть по-настоящему современным, никому не известно. Ведь современники того, прежнего «Современника», в большинстве своем давно перестали ходить в театр, потому что на сцене больше не говорят на понятном им языке. И вот Нина Чусова для Галины Волчек явилась, как живое олицетворение современности. Как проводник обновления театрального дела. Там, где кому-то видится лишь бездарность, нахальство, невежество и дурновкусие – Волчек видит настойчивость, оригинальность и свежесть. По-русски это называется «отвести глаза»…
Все внешние признаки успеха налицо – о театре пишут, в театр ходит зритель. Даже такой зритель ходит, о котором другие и мечтать не смеют. Президент РФ Владимир Путин побывал на «Грозе» Островского в постановке Чусовой. Что-то вежливое сказал потом – дескать, очень интересный пример современного театра. «Грозу» эту самую недавно показали по каналу «Культура», и мне пришлось отвечать на звонки разъяренных зрителей, как такая мерзость могла случиться на экране и в жизни. Я при чем, спрашивается! Говорят, мама Чусовой – одноклассница президента. Страшно подумать, сколько у президента одноклассников и что с нами будет, ежели все их отпрыски двинут в режиссуру?
Галина Волчек неординарный человек. Она чувствует – в театр хлынул какой-то другой зритель, которому нужно, как она считает, чусовское кривлянье, бессмысленные шоу, где есть только человеческий «низ», а «верха» нет вовсе. Нужны спектакли, во время которых можно спокойно разговаривать по мобильному телефону. А нет ли в этом потакании худшему в людях – презрения к людям? Гражданский пафос, верность правде жизни, высокие критерии требовательности к драматургии и актеру, атмосфера напряженного творчества – все, что отличало «Современник» эпохи Олега Ефремова – свойства, почти утраченные современным «Современником». Но верный ли это путь? Странное дело – когда появляется на сцене что-нибудь ценное, умное, тщательно сделанное, вдруг умнеет и зритель. И вместо придурков с мобилами в зале оказываются беспокойные, думающие, понимающие люди. Откуда же они взялись? Их создал театр. Театр создает своего зрителя, а не наоборот.
Сначала глупеет и опошляется театр – а потом уже, вслед за ним, глупеет и опошляется зритель.
Изображая кинорежиссера
Каким-то чудом, обманув бдительность русских прокатчиков, которые раньше такое кино чуяли за версту и заворачивали без разговоров, в прокат вышел фильм «Изображая жертву» режиссера Кирилла Серебренникова. Пытаясь заманить зрителя на картину, реклама утверждала, что это самый скандальный театральный режиссер всех времен и народов, а пьеса братьев Пресняковых, по которой снят фильм – шедевр абсурда. Не помогло. Хитрый зритель просек ловушку и схоронился, как зверь в соседних залах – где без всякого абсурда бились со злом «люди Икс». Я изображала зрителя этой картины в компании всего четырех человек.
Изделиями знаменитого ростовчанина Кирилла Серебренникова заполнены сцены многих московских театров. Но беспокойная звезда Серебренникова гонит его стяжать еще и звание кинорежиссера. Зачем?
Есть отрасли человеческой деятельности, которые не терпят дилетантизма: например, хирургия или космонавтика. Тут без специальных знаний и длительной подготовки не обойтись – риск велик. Есть другие области, где все не так строго, – скажем, искусство.
Иногда театральные режиссеры пробуют свои силы и в кино. «В четверг и больше никогда» – единственная картина классика Анатолия Эфроса – очень достойная работа мастера. «На всю оставшуюся жизнь» – многосерийный телефильм Петра Фоменко – заставляет горько пожалеть, что Петра Наумовича нельзя клонировать и отправить трудиться в разные сферы искусства. А вот картина «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, наоборот, вызывает сомнения и в театральных способностях ее автора. Призов-то у него в изобилии, а что за душой? Судя по фильму, немногое.
Львиную долю фильма составляет стилизация под техническую съемку во время следственного эксперимента. Главный герой, отдаленно напоминающий «Гошу» Куценко, но помоложе и с волосами (Юрий Чурсин), изображает условную жертву. А все дела, в которых этот странный дерганый парень участвует, связаны с мужской агрессией в отношении женщин. В первом деле мужик пытался расчленить бабу в биотуалете. Во втором – то ли выкинул жену из окна, то ли она сама упала. В третьем – агрессор утопил любовницу в бассейне. Сам герой в конце картины травит свою маму, невесту и заодно маминого мужа с помощью прихваченной из японского ресторана рыбы фугу. Просто так.
В этом адском пространстве нет ни детей, ни животных, ни природы, ни солнца, ни любви, ни даже простой радости жизни, известной каждому человеку. Все кислые, тоскливые, ноют, рыдают, злобствуют. Даже красотку Елену Морозову (невеста) режиссер превратил в какое-то неаппетитное чудище, и не вызывает удивления, что герой не в состоянии вступать с ней в половые отношения, а просит его придушить слегка в сексуальных целях. Это холодный, нечеловеческий мир – ужасно скучный живому человеку. Чтобы оживить свою мертвечину, режиссер прибегает к сильнодействующим средствам. Их немного. Скажем, если громко произнести нелитературный синоним слова «задница» (четыре буквы, первая «ж», последняя «а»), зритель рефлекторно засмеется. Первый раз. Потом смеяться перестанет. Если показать определенную часть мужского тела в обнаженном виде, он тоже вздрогнет. Один раз. Потом тоже вздрагивать перестанет. И если произнести энергичный монолог на чистом мате (он звучит около трех минут в картине), это ненадолго взбодрит. Но эти электрические удары применяются к зрителю, чтобы как-то отвлечь его от осознания бессодержательности действия. Застывшие лица актеров ничего не выражают, и жаль бедную Лию Ахеджакову, которая попала в этот мертвый и бездарный мир (она играет в эпизоде, актрису в японском ресторане). Правда, защита припасена недурная: вы скажете про бессмысленность, а вам в ответ – так это абсурд! художественный прием!
Может быть, в театре, за счет живой энергии, приемы абсурда работают и не так противны. Не знаю. Мне сама пьеса «Изображая жертву» кажется абсолютной дилетантской пустышкой, зря использующей мотивы «Гамлета». И уж совершенно непонятно, с какой целью этой картине оказана государственная поддержка. На вопрос, кинорежиссер ли Кирилл Серебренников, я лично отвечаю твердым «нет». Имитатор. И фильм его – имитация кино, популяризирующая достижения «новой драмы».
А «новая драма» в основном пропагандирует поганую, извращенную жизнь, лишенную всякого движения души и ума. С какой стати нам, тихим божьим налогоплательщикам, это поддерживать? Пусть сатана сам кормит своих слуг, изображающих драматургов, режиссеров, певцов, писателей и тому подобное.
Тайна Кирилла Серебренникова
На днях пришло известие, что картина Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», чей герой, тридцатилетний оболтус, изображающий жертву во время следственных экспериментов, в финале убивает от скуки маму и отчима, получила Гран-при Римского кинофестиваля. Спешим поздравить нашего соотечественника с очередной большой победой, в которой, конечно, нет ничего случайного.
Кирилл Серебренников и успех – две вещи нераздельные. Если бы вдруг успех отвернулся хоть на минутку от знаменитого театрального режиссера, недавно дебютировавшего и в кинематографе, он бы, наверное, тут же растаял в воздухе, как привидение, не расслышавшее крик петуха. Но такого кошмара с ним пока что не приключилось, а даже наоборот: все мощнее и мощнее Серебренников шагает по планете. Снял всего-то один фильм – а уже получил и главный приз отечественного «Кинотавра», и гран-при Римского кинофестиваля. А приз из недр вечного города – это вам не сочинская дохлая розочка изготовления ювелира Ананова, это двести тысяч евро!
Да и вообще всяких призов, ценных вещей и премий у Серебренникова в изобилии. Почему-то, при виде Серебренникова, всякий, облеченный соответствующими полномочиями, хочет дать ему денег. В лице у него, что ли, что-то такое есть… Или фамилия у нашего режиссера для князя мира сего, в чьем ведении находятся финансы, очень притягательная… Не знаю! Какая-то тут заключена животрепещущая тайна!
Во всяком случае, недоброжелатели режиссера посрамлены. Шутка ли, Римский кинофестиваль! Хотя он проводится в первый раз и не имеет пока никакой репутации, а также регламента, само слово «Рим» убивает наповал. В Риме, в вечном городе, признали – значит, признала сама вечность, не правда ли?
Разумеется, злые языки тут чего только не наплели. Дескать, фестиваль сделан на скорую руку, чтоб досадить старушке-Венеции, жюри профессионального не было, пятьдесят человек зрителей разного возраста, выносившие вердикт, отбирались неизвестно по каким признакам… а совсем уже отвязанные злые языки итальянского происхождения добавили, что известно, по каким. Не намекая, а прямым текстом указывая на сексуальную ориентацию председателя жюри Этторе Скола… Интересный у них там, в Италии, уровень ведения дискуссий – мы не будем до него опускаться! Нам важен только факт присуждения европейского приза нашему отечественному режиссеру.
Для тех, кто при словах «Европа», «европейский» сразу падает на колени и молится, наверное, это факт отрадный. Хорошо им живется среди мифов и фантомов. Куда лучше, чем тем, кто понимает грустную правду – нечему там молиться. Мусорным и затхлым ветром давно несет и от европейского театра, и от европейского кинематографа. Где неподражаемый кинематограф Франции, Италии, Германии? Куда делся самобытнейший театр Польши, Венгрии? Руины, помойка! Точно так же, как и у нас, ушли или уходят великие, и точно так же, как у нас, на авансцену выдвигаются ловкие модные конъюнктурщики, якобы эпатирующие публику новой правдой искусства. И точно так же, как и в отечестве, есть у больших европейских городов хорошие бюджеты на культуру, и есть кому их осваивать, бодро докладывая по начальству о совершенной необходимости прекрасных новых театральных и кинофестивалей. И не молиться надо на эту выродившуюся и деградировавшую культуру, не подражать ее модным охвостьям, а – противостоять. Но за это, конечно, никаких премий не будет…
Кирилл Серебренников, видимо, неплохо совпадает с дегенерацией европейского театра и кинематографа. Маленький замкнутый мирок, отсутствие всяких идей, театрализованное кривляние, повышенное внимание к физиологическим отправлениям человека при полном отсутствии человеческого «верха» (разума, чувств), социальное безразличие, вульгарное шутовство – всё это близко и понятно европейскому мещанству. Которое обожествило само себя и уже принялось от тоски и скуки само себя пожирать, как тот парень из Германии, что искал по Интернету, кто бы его убил и съел, и без труда нашел. Прекрасный сюжет для нового фильма Кирилла Серебренникова!
Видимо, для правильного восприятия картины «Изображая жертву» нужен особый контекст. Если русскоязычный россиянин забежал после работы в кино посмотреть этот фильм, то он в лучшем случае пожмет плечами. Развлечься ему не удастся (нет ни захватывающего сюжета, ни красивых женщин, ни пейзажей, ни трюков), воспарить духом и задуматься о смысле жизни тоже не получится (в картине ни мыслей о жизни, ни правды быта нет). А вот если смотреть «Изображая жертву», как смотрело жюри «Кинотавра» – после убедительного завтрака, под плеск Черного моря, или, подобно анонимному жюри Римского фестиваля, попивая винцо под сенью Вечного города, то, очевидно, наступает некий резонанс. Видимо, на сытую душу, в обстановке покоя и безделья, всё происходящее в картине веселит и забавляет. Ну, бесятся, корчатся и матерятся некоторое недолгое время на экране какие-то уроды – еще глупее, гаже и бессмысленнее, чем ты сам. Приятно посмотреть!
Так ли это? Или нет? В следующей статье мы продолжим разгадывать «тайну Кирилла Серебренникова»…
Тайна г-на Серебренникова раскрыта
В течение октября на сцене театра «Современник» шли премьерные спектакли под названием «Антоний amp; Клеопатра. Версия» – новый шедевр режиссера К. Серебренникова. Посмотрев его, я убедилась: тайна г-на Серебренникова раскрыта.
«Антоний amp; Клеопатра», как сообщено на афише – это пьеса О. Богаева и К. Серебренникова по мотивам У. Шекспира. Согласиться с этим трудно. Насколько можно было понять из дурного балагана, мельтешившего на сцене, перед зрителем предстает дайджест именно пьесы У. Шекспира (в переводе то М. Донского, то О. Сороки), с основным составом тех же действующих лиц, с тем же сюжетом и массивом шекспировских белых стихов, которые извергаются из уст актеров, как плохо переваренная пища.
Правда, иногда в пьесу вставлены кусочки какой-то отсебятины, с использованием вульгарной лексики («шлюха», «член» и тому подобное) – это, видимо, и есть плоды трудов Богаева и Серебренникова. Новая версия шекспировской трагедии состоит в том, что предельно ясная, великолепно сделанная пьеса, от сокращений и бессмысленных вставок кажется каким-то бредом непонятно о чем.
Пытаясь постигнуть этот бред, критики нагрузили спектакль собственными домыслами, приписав ему антиисламский пафос и античеченские настроения. Ничего подобного режиссер, разумеется, не имел в виду. Если враг Цезаря, Секст Помпей, появляется у него на экране, стилизованный под чеченского полевого командира, с автоматом, в камуфляже и с характерным акцентом, то это происходит оттого лишь, что Серебренников не знает и знать не хочет, кто такой Секст Помпей, почему он воюет с Римом, и вообще что происходит в пьесе Шекспира. Ему нужно хоть как-то оформить происходящее на сцене, вот он и берет самую расхожую, всем знакомую картинку: террорист в камуфляже. Если нужно представить образ государства, берется такая же современная картинка: люди в пиджаках, и среди них «Цезарь» (Иван Стебунов) – маленький механический человечек, чья манера речи слегка, чуть-чуть пародирует путинскую. Это зрителю известно, понятно. А что такое Рим и Египет – надо объяснять, искать образы, соображать. А соображать нынче в театре особо никому не охота – ни творцам, ни зрителям.
В начале спектакля появляется персонаж по имени Предсказатель. Он есть у Шекспира, но здесь это очень противная фигура: лысый, гундосящий и воющий, на костылях, со сдвинутыми коленками и вдобавок – между ног у него огромная сарделька, перевязанная веревочкой и подвешенная к шее. Зритель, конечно, хихикает. После того, как трюк сделан, сарделька убирается в штаны, и Предсказатель два действия ковыляет, вихляясь, просто так, без слов, для увеличения общего количества омерзительности. Таков и общий стиль постановки – небольшое количество трюков, паузы между которыми заполнены какими-то бессмысленными корчами.
Рим, Египет, исторический колорит, прекрасная, всегда имевшая успех пьеса – казалось бы, вот отличная материя, которой можно прикрыть профессиональные огрехи. Но режиссер ничем не желает прикрываться. Он бесстрашен!
Антоний (Сергей Шакуров) и Клеопатра (Чулпан Хаматова) вроде как изображают страсть, извиваясь в объятиях, а на голой спине Антония даже, для убедительности, прочерчены три красные полоски (вот как любит царица в пылу страсти), которые потом слуга заклеивает пластырем. Но герои не видят, не слышат, не чувствуют друг друга, между ними ничего не происходит. В бодром механическом темпе молотят белые стихи, иногда переодеваясь. (Наиболее удачен «египетский прикид» Хаматовой, когда на ней классический парик с черной челкой и шальвары.) У них нет характеров, всю роль актеры проводят на одной краске – Шакуров на привычном мужественном хрипе, Хаматова на кокетливом самолюбовании. Но если героев и любви их нет, с какой целью поставлена пьеса, где герои и любовь их есть?
В том-то и разгадка тайны г-на Серебренникова. Он создан как терминатор, чтобы уничтожить классические мифы театра. Он ставит самые легендарные пьесы – скажем, «Лес» Островского, «Мещан» Горького, «Сладкоголосую птичку юности» Уильямса – чтобы их, этих мифов и легенд о каком-то театре высокого профессионализма, где водились мысли и чувства, больше не было. На его месте образуется черная дыра, заполненная дурным неаппетитным месивом – очередным спектаклем Серебренникова. Но так и должно быть – мы же не требуем от улитки, поедающей листочек, чтоб она оставляла при этом прекрасные выделения. У человека такая миссия, что поделаешь!
И поэтому странно примерять к нему профессиональные критерии. Если считать режиссуру профессией, Серебренников не умеет ничего или почти ничего. Не владеет анализом пьесы, и авторский мир для него – ничто. Не справляется с пространством – мизансцены «Антония amp; Клеопатры» неизобретательны, беспомощны, не использованы ни высота, ни глубина пространства. Поразительно глух он и к музыке спектакля. Не раскрывает актеров и не умеет слаживать ансамбля… И так далее. И дело не в том даже, что у него нет диплома о высшем режиссерском образовании, мало ли беспомощных режиссеров с таким дипломом. А в том, что терминатор умеет только уничтожать, остальное вне его компетенции…
Неудивительно, что наша сцена, к таким явлениям непривычная, растерялась под напором личной энергии режиссера – единственного профессионального качества, которое у него есть, причем в избытке. Но постоянно писать о каждом опусе Серебренникова теперь, когда его тайна раскрыта, совершенно излишне. На каждый чих не наздравствуешься. Пусть терминаторы делают свое дело, а рабочие пчелки культуры – свое. Посмотрим, чья возьмет.
Нашли чем удивлять!
«Чем удивлять будем?» – так в старину говаривали знаменитые театральные режиссеры. Надо заметить, это вообще хороший вопрос для всей культуры в целом. Кто и чем «удивил нас» в 2006 году?
Глубокий и постоянный источник удивления – Федеральное агентство по культуре и кинематографии – даже не удивил, а прямо-таки поразил общественность распоряжением назначить артиста Евгения Миронова художественным руководителем Театра Наций.
До сих пор Миронов был замечен только в хорошем исполнении разнообразных ролей на театре и в кино. Он не ставил спектаклей. Никогда ничем не руководил. Для чего популярному артисту возглавлять Театр Наций, то есть пустое в творческом отношении место, занимающее, правда, отличное помещение с давней историей (это бывший театр Корша)? Но удивление ваше развеется быстро, если вы вспомните, что Евгений Миронов в творческом союзе с режиссером Кириллом Серебренниковым в этом году организовывал фестиваль «Территория». На этот фестиваль привезли невероятно авангардные постановки из стран Европы, так что зритель мог созерцать процессы мочеиспускания на сцене не только русского, но и, к примеру, венгерского образца. До сих пор черная болезнь «авангардизма» ползала по всему театральному организму, но теперь она, видимо, обретет строгую прописку в Театре Наций, где Евгений Миронов будет очаровательной вывеской, под которой режиссеру С. будет где развернуться.
И это замечательно! Я, как ретроград, страшно не люблю невкусных смешений. Не надо соединять монастырь с кабаком – пусть все будет на своем, четко очерченном месте. По крайней мере, людям будет известно, в какие места заглядывать, а какие обегать за версту.
Отвоевала же «новая драма» целую поляну – театр «Практика». И теперь зритель сам в состоянии сообразить, нужен ли ему, скажем, спектакль «Июль» – монолог людоеда, пожирающего всех на своем нелегком пути. Этот монолог написал Иван Вырыпаев, а играет его милейшая актриса Полина Агуреева, оного Вырыпаева жена. Тоже, нашли чем удивлять – монологом людоеда. Вот если бы вдруг мне стало известно, что кто-то из деятелей «новой драмы» написал пьесу в четырех действиях о жизни нормальной российской семьи, вот тут у меня от удивления глаза бы на лоб полезли. А то, подумаешь, монолог людоеда. Это, извините, дешевка. Это начирикать можно за два дня. Старые-то драматурги над пьесами по году сидели, выстраивая жизнь персонажей…
Приятно удивило в конце года правительство России, присудив свою премию в области культуры спектаклю Малого театра «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А. Н. Островского. Дело в том, что я чуть не единственный критик, который обратил пристальное внимание на этот добротнейший спектакль как на убедительную победу эстетического консерватизма. Пять перемен декораций! Причем учитывающих то обстоятельство, что в кабинете генерала стоит совсем не та мебель, что в комнате бедного молодого человека. Подробнейшие психологические характеристики всех героев! Полный текст автора без купюр и искажений! И при этом – смешно, реально смешно, но не из-за фарсовых режиссерских приемов, а по существу.
Это и вообще важная проблема – адекватность автору пьесы. Дело в том, что наши театры постоянно вводят потребителя в заблуждение. На афише и в программке у них написано имя автора, как бы гарантирующее качество продукта – Шекспир, Чехов, Островский. А в спектакле может оказаться до сорока-пятидесяти процентов искажений, купюр и отсебятины. А по какому праву, собственно говоря? Почему я прихожу в Филармонию на Моцарта, Шостаковича и т. д. и слышу именно то, что хочу, без малейших изменений, а драматический театр использует классику как прикрытие режиссерских фокусов? Я требую в таких случаях снимать имя автора с афишы и ставить имя режиссера! Пусть будет, например: «Н. Чусова. “Гроза”. Композиция по мотивам драмы Островского». Или: «Ю. Бутусов. “Гамлет”. Нечто по Шекспиру». Это будет правильно и честно, а то, что происходит сейчас, неправильно и нечестно.
Чуть не каждый день удивляют меня газеты и журналы, в которых подробно и обстоятельно рецензируются американские фильмы. Зачем пишущие бедолаги вкладывают свой интеллект в чужую культуру, о котором эта чужая культура никогда не узнает, понять невозможно. Все американские картины сняты для наипростейших зрителей, анализировать в них абсолютно нечего, остается вдохновенно пересказывать сюжет. Какова цель этих трагических и бесплодных умственных упражнений, установить не удалось.
Лучше бы мы все-таки сосредоточились на своем родном, как сосредоточился на нем Павел Лунгин, сняв «Остров» – конечно, самую примечательную картину года. С «Островом» произошло редкое, чудесное совпадение – грамотная и сильная реклама соединилась с качественным продуктом. Уже месяц фильм держится в прокате, бередя душу россиян великолепной работой Петра Мамонова. Хорошо, что этот чудик взял и поднял профессиональную актерскую планку на такую высоту. Надо время от времени напоминать, что в актерском деле возможны чудеса, а не только эксплуатация личного обаяния!
Но и вообще в этом году было что посмотреть в русском кино – картин семь-восемь приличных набралось, а нужно ли человеку больше? То же и с книгами – порядочных и занимательных с десяток будет, а кто ж больше-то за год читает, кроме тех мучеников, что зарабатывают на жизнь литературной критикой, то есть плохим пересказом сюжетов? Так что культура в этом году более-менее обеспечила потребителя пищей. Другое дело, что тональность ее в целом не назовешь мажорной.
В литературе преобладали антиутопии – мрачные сатирические картины будущего России. В кино – драмы и черные комедии.
Так что главный приз за удивление получил бы от меня тот, кто снял, поставил бы или написал умную комедию о современности, после которой не приходила бы в голову идея «а не удавиться ли мне?» Но этот приз еще ждет своего героя.
Криминальная Россия в локонах и корсете
Многосерийный фильм «Сонька Золотая ручка» (РТР) назвали «исторической мелодрамой», что вряд ли справедливо. Для мелодрамы в этом произведении явно недостает мелодраматизма – то есть чувств, судеб и страстей, завернутых в особый, «слезный», мелодраматический переплет. Героиней мелодрамы никак не может быть хищная, ловкая преступница былых времен, бестрепетно обчищающая ювелирные магазины солидных бородатых ювелиров былых времен. Скорее можно назвать эту картину «ретро-криминалом». «Ретро-криминал» – относительно новый жанр, успешно и бодро развивающийся в нашем искусстве.
Действительно, это при старом режиме героями сериалов становились Михайло Ломоносов, Николай Вавилов и Софья Ковалевская – по нынешней терминологии, «ботаники». Это когда-то давно зритель интересовался, как жили-поживали в старину знаменитые ученые, писатели и композиторы. А теперь они заснут на первой же серии, потому что, обкормленные щекочущим нервы криминалом, уже ждут знакомого лакомства – преступления. Можно даже и без наказания. И вот на наших глазах пишется задним числом новая история – история криминальной России. Под новые времена подводится историческая «база». «Воровки» и «леди бомж» могут посмотреть на свою предшественницу из позапрошлого века, в локонах, кружевах и корсете.
И правильно: нечего корить современников каким-то якобы светлым прошлым, где действовали царь-батюшка, профессор Менделеев и художник Репин. Одновременно с этим в светлом прошлом жила еще и Сонька Золотая ручка, Ленька Пантелеев и другие выдающиеся исторические деятели. И мы должны знать, откуда есть-пошла великая криминальная Русь и как жили-были ее богатыри.
Автор сценария и режиссер «Соньки» – известнейший сценарист Виктор Мережко. Он и сам присутствует внутри картины в эпизодической роли воровского авторитета Мамая.
И произносит без запинки следующий текст: «Приветствуем знаменитую чувайку, блистательную марвихершу, проверенный честняк – Соньку Золотую ручку!» Представляю, какое удовольствие прославленный исследователь советского быта и автор многочисленных историй о трудной судьбе советских женщин получил от этого текста. Не знаю, смотрят ли телевизор на зоне, но те, кто на время из нее вышел, наверное, застонали от удовольствия – «Вот, дескать, и в старину люди жили по понятиям и ботали по фене! Не нами заведено, не нами и кончится!» Собственно говоря, ради такой реакции и работает «ретро-криминал».
Формально придраться совершенно не к чему – никто и не говорит, что Сонька поступает хорошо и правильно. Она сама признается, что ее влечет порок, а не добродетель. Но это все слова, слова, слова. А кино – это картинка. А на картинке красивая, изящная, привлекательная дама засовывает в сумочку толстые пачки ворованных денег и крупные бриллианты, живет на курортах с интересными брюнетами, родившихся невзначай детей сдает на руки подругам и родственникам, и вообще всячески демонстрирует, что быть воровкой – это класс. Надо просто быть выдающейся, великой воровкой – тогда и при жизни погуляешь, и после смерти тебя не забудут, глядишь, и фильм снимут в твою честь. Очень нужная картина для провинциальных девочек, «обдумывающих житье – делать жизнь с кого». Понятно, с кого – уж не с Софьи Ковалевской, у которой каторга какая-то, а не жизнь, годы ученья, сплошная жуткая математика. Вот с кого надо делать жизнь – Сонька Золотая ручка! Весело, красиво, ловко. Ну, задумаешься иногда, вздохнешь: «Ах, куда это несет меня? Что же это я делаю? Ах, я сама себя не понимаю!» Так криминальной героине и положено по ее женскому статусу немножко вздыхать! Виктор Мережко, разрабатывая этот характер, проявил настоящую, старорежимную закалку советского сценариста, и упрекнуть его не в чем: он на изображениях женщин давно собаку съел. Был заказ на честных трудовых – давал честных трудовых. Пошел заказ на «блистательных марвихерш» – и тут маху не дал.
А если бы к власти вдруг пришли инопланетяне – наши люди и тут бы не растерялись: в момент были бы готовы картины из прошлого и настоящего правильных ребят-инопланетян. Я вообще предлагаю учредить специальный киноприз – «Золотая ручка» – и вручать его кинематографистам, наиболее отличившимся в современной конъюнктуре.
Только, боюсь, слишком много наберется претендентов – давка будет.
Эрми-кола уже в продаже
Государственный музей «Эрмитаж» заключил соглашение с компанией «Кока-кола». В продажу поступят банки с надписью «Культурное наследие», украшенные картинами Ван Гога, Сезанна, Гогена и Руссо, а Эрмитаж разумно употребит чек на три миллиона девятьсот тысяч рублей, полученный от всемирного спрута. Деньги пойдут на организацию музея современного искусства в здании Главного штаба.
В общем, на этом месте полагается петь и плясать, славя Великую Коку, поддерживающую несчастный, последний огурец без соли доедающий государственный музей. И его мудрых начальников, придумавших столь изящный выход из положения. Действительно, совершенно непонятно, как это петербуржцы вообще до сих пор живут без музея современного искусства, то есть без тряпочек, веревочек, обрывков и огрызков, снабженных глубокомысленными подписями.
А что вам не нравится? – спросит читатель. Трудный вопрос. Дело в том, что мне в этой истории не нравится ничего. Начнем с того, что нелегко сыскать вещь, более вредную для желудка, чем сладкие газированные напитки. Кока-кола – дико переслащенное питье, не приносящее никакой пользы человеку. Могучий всемирный бренд, ставший универсальным мифом, уже не нуждается в рекламе, утоляя всемирное тайное «желание быть американцем» – хотя бы на пять минут, на время употребления коричневой жижи. Я лично это пить не буду никогда – ни с надписью «Культурное наследие», ни без оной. Следуя завету великого гоголевского помещика Собакевича, говаривавшего: «А мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее в рот не возьму!» Но люди, конечно, имеют право на выбор. Хотят мучить желудок – пусть мучают.
Однако при чем здесь Эрмитаж? Неужели так плохи дела Ван Гога с Гогеном, что их уже пора рекламировать на боках глобалистских банок? Вроде бы нет, дела Ван Гога с Гогеном идут превосходно, это по-прежнему самые дорогостоящие художники мира. В чем заключена такая уж острая необходимость опошления понятия «культурное наследие» и неявный, но очевидный привкус унижения государственного музея? Неужели деньги на музей современного искусства нельзя добыть иначе? Не связываясь с символом пластмассовой поп-культуры, не получая от нее чеков, не пожимая рук «лимонадных Джо» с непонятным каким-то восторгом?
Несколько эксклюзивных баночек директор Эрмитажа Михаил Пиотровский надписал лично – для музея кока-колы в Атланте (США). Любопытно: поверх Гогена с Сезанном или все-таки где-то в сторонке? Хотя какая там сторонка. Одно перечисление ароматизаторов, стабилизаторов и красителей, которые кладут в сей напиток, занимает полбанки. А тут еще картинка. Нет, наверное, так и нацарапал, поперек Гогена: М. Пиотровский…
Вещи, которые не имеют между собой ничего общего, и не должны иметь между собой ничего общего. Эрмитаж и кока-кола – несовместны. Собранная русскими царями коллекция высочайших мировых творческих ценностей и дешевая газировка из чужой страны не имеют, на мой взгляд, никаких точек пересечения. Что-то не слышно, чтобы Лувр, Прадо или галерея Уфицци заключали какие-то соглашения с глобалистскими брендами. Как-то обходятся страны Европы без этого. Так мы Европа или все-таки не Европа? В состоянии государство содержать свои главные музеи или нет?
Я понимаю, что Михаил Швыдкой вряд ли имеет время подумать об этом на досуге. На досуге этот неутомимый человек ведет, помимо трех или уже четырех телешоу, еще и концерты в честь Дня независимости России, к примеру.
И вот что интересно: входит ли в понятие «независимость России» независимость государственных музеев от рекламных трюков кока-колы?
Сказочка для убогих
Говорят, что бизнес-проект «Хоттабыч» оказался успешным: не только «интернет-комедию» с этим названием удалось впарить массовому молодежному потребителю, но и выпустить одноименную компьютерную игру, открыть сайт, продать кое-какие вещички из фильма и так далее. Как известно, в русском бизнесе авторских прав не уважают принципиально и делиться не любят, а потому имя автора сказки «Старик Хоттабыч» (1938) – звали его Лазарь Лагин – не упомянуто в титрах вовсе, хотя именно Лагин придумал главный образ, озорного джинна по имени Хоттабыч. Выражаясь современнее – свистнули топовый бренд и глазом не моргнули. И свистнули, что грустнее всего, на редкость бездарно.
Повесть Лагина насквозь пропитана советской идеологией, но написана она блистательно: если читали, то навек запомнили всю веселую вереницу событий. И как в московский дворик, покачиваясь, вошли верблюды с золотом, и как Хоттабыч сделал из цельного мрамора телефон, как он съел ящик эскимо, погубил футбольный матч, выкинув на поле двадцать два мяча, и как Волька пытался с помощью джинна сдать экзамен по географии… словом, это отлично сделанная и очень смешная вещь.
В фильме режиссера Петра Точилина, снятого по мотивам другой, современной версии «Хоттабыча», никакой идеологии вроде бы нет вообще, но при этом нет ни смысла, ни юмора, ни композиции, ни характеров. Вместо отважного пионера Вольки мы увидим бесцветного хакера Гену (Мариус Ямпольскис), который в самом начале картины исполняет священную мечту этого сорта убогих и Богом обиженных: взламывает сервер Майкрософта. Если Волька доказывал джинну преимущества советского образа жизни, то единственное, что может наш современный Гена, – предложить бородатому волшебнику (в этой роли печально присутствует хороший актер Владимир Толоконников) навек поселиться в возлюбленной Паутине, где, как убеждена эта человеческая моль, всё есть. Хакер Гена – по советским понятиям, вор, бездельник и паразит – прежде всего просит у джинна «миллион-триллион-хрен-знает-скольколион-долларов». Просит денег вероятного противника! Вы представляете себе голливудский фильм, где положительный герой попросил бы у чародея кучу русских рублей? Разумеется, потом этот Гена влюбляется в придурковатую американскую девчонку-шпионку. Уж тут все одно к одному у этой вражины… Скукотища ужасная: фильм еле-еле ковыляет от сцены к сцене и заканчивается раз восемь. Художественная беспомощность нового Хоттабыча проистекает прежде всего от полного отсутствия идей в голове сценариста и режиссера. Сказать им было решительно нечего, а выполнять заказ было надобно.
Какой заказ? А вот какой. Современные отечественные молодежные комедии бывают двух видов: один сорт изготавливается по инициативе продавцов мобильных услуг (скажем, фильм «Питер FM»), другой обслуживает интересы провайдеров Интернета (наш «Хоттабыч»). Они, «мобильники» и «интернетчики», пока конкурируют, и не сговорились еще, как нас окончательно ограбить. Соперничают, значит, за бедные закомпостированные мозги нашей молодежи. И если пред вами картина «мобильников», то там уже общение будет только по сотовому и никакой тебе Паутины. А в фильме, сделанном по заказу «интернетчиков», не мелькнет и тени мобилы: все общение исключительно через компьютер!
Беспокойство сетевых провайдеров понятно: число больных людей, проводящих свои дни у компьютера, стабилизировалось и даже пошло на снижение. У здоровых людей Интернет вообще – лишь часть делового технического процесса. Общаться люди предпочитают скорее по телефону, и sms-сообщения по популярности превосходят электронную почту: они гораздо удобнее. Вот и появляются такие, с позволения сказать, «интернет-комедии», где герой-вредитель предается безудержному воспеванию Всесильной паутины. Сказочки для убогих!
«Читатели-писатели»: давайте поиграем
С 6 по 11 сентября (2006) на ВВЦ гудела ХIХ Московская Международная книжная ярмарка
Московская книжная ярмарка организована в девятнадцатый раз, и организована традиционно плохо. Начнем с того, что от ворот ВДНХ до павильонов ярмарки простирается расстояние в два километра, но никакого специального транспорта для посетителей – среди которых, разумеется, немало стариков, инвалидов, людей с детьми – не предусмотрено. Так и чешет бедный народ вдоль фонтанов, чего, как вы сами понимаете, ни в одной стране Европы быть не может. Кондиционеров в павильонах нет, жара невыносимая, толчея лютая. Чуть не половины мероприятий, заявленных в программе, так и не произошло. Но русских плохой организацией не удивишь – и великое море людей плескалось в душных и тесных павильонах, включившись в реалити-шоу «Читатели-писатели».
Среди спокойных, вальяжно расхаживающих читателей то и дело попадались беспокойные, странные люди особого поведения – то были писатели. При личной встрече эти две категории граждан смотрели друг на друга с бесплодным любопытством: понять, почему один пишет то, что пишет, а другой читает то, что читает, все равно не удавалось…
Болезненные скопления писателей в одном месте мне удалось обнаружить дважды. Сначала попались участники шорт-листа премии «Большая книга», и в их числе Александр Кабаков, Михаил Шишкин, Андрей Волос, Юрий Волков и еще женщина с непроизносимой фамилией и черными волосами, которая прочла крикливым голосом отрывок из своей книги, проповедующей толерантность к исламу. Писатели порядком сомлели, отвечая на загадочные вопросы типа «что вы читали в детстве» и «а что бы вы выбрали – хорошую критику или большие тиражи». Все, не колеблясь, выбрали тиражи, а Шишкин заметил, что и выбирать-то не из чего, потому что критики в России нет – одно хамство. Следующее скопление писателей произошло во время представления книги «Беспокойники города Питера» – это неплохие очерки о ярких людях чумовой культуры восьмидесятых (певцы Виктор Цой и Майк Науменко, поэт Олег Григорьев, композитор Сергей Курехин и многие другие) которые, хоть и умерли, но в число покойников не попали: беспокоят собой живых, не уходят в забвение. В отличие от участников шорт-листа премии «Большая книга», которым грозит жуткая сумма денег в случае победы, что сильно придавливало им психику, питерцы Павел Крусанов, Сергей Коровин и Наль Подольский, которым не грозило ничего, были беспечны и веселы, как птички. Аудиторию у них оттянул внезапно прибывший на ярмарку политик и «отставной козы барабанщик» Дмитрий Рогозин, но писатели не унывали, поскольку готовились осуществить чудесный проект: распить бутылку водки на колесе обозрения, что неспешно крутилось у входа.
Увы! осуществить этот проект оказалось так же не реально, как вручить населению России обещанную когда-то Рогозиным «природную ренту»: у претендующих на колесо уже при входе отбирается все, что можно и чем можно. Как, собственно, и у населения России, но не будем длить опасную аналогию, а просто почтим кратким молчанием гибель мечты.
Кроме Рогозина, из политических артистов на ярмарке был и Григорий Явлинский. Он с грустным и надменным лицом надписывал желающим книжку «Я выбрал свободу». Глядя на него, свободу выбирать не очень хотелось… Невдалеке от Явлинского журналист Александр Никонов пытался хоть кого-нибудь заинтересовать огромным количеством своих актуальных книг, в том числе трактатом «Конец феминизма», убедительно доказывающим неполноценность женщины как человека. Но тогда какой любви хочет Никонов от неполноценных? Они и не проявляли к нему ни малейшего интереса, выстроившись в дикую очередь к французу, беллетристу Бернару Веберу. Тот, посверкивая лысинкой, весело надписывал свои сочинения, в которых он дам не обижает и сочинениями всяких глупостей про феминизм не занимается… Из жалости к одинокому мужскому шовинисту пришлось взять у него автограф.
Характерной чертой нынешнего сезона является тотальная экспансия Рублевки в искусство. Не осталось в стороне и книгоиздательство: роскошная, с иллюстрациями замечательного художника Владимира Любарова, книга Марии Тимофеевой-Рисовской «Заморочки по-рублевски» может немало повеселить вдумчивого читателя. Рублевка, попершая в «духовку» – это еще смешнее, чем медведь на велосипеде. О существовании предыдущей, до-рублевской человеческой культуры, здесь не имеют никакого представления. И вот загадочная «писательница» с двойной фамилией (на Рублевке, видимо, решили, что двойная фамилия круче одинарной) пишет рассказы о том, как некая Даша не могла уснуть, потому что ей мешали крики павлинов. Лучше бы рублевские куклы подслушали, о чем треплются их благоверные, и записали для потомства – все-таки хоть какая-то польза была бы от их усохших мозгов.
Но самое неизгладимое впечатление на меня произвел журналист Владимир Шахиджанян, одно время промышлявший сексуальным просвещением народа («1001 вопрос про ЭТО», «СПИД-инфо»). Он, представляя новую книгу «Учимся говорить публично», публично демонстрировал преимущества своей методики, а потому говорил в динамик на весь павильон № 20 около полутора часов без перерыва. Говорил громко, ясно, складно, не останавливаясь, вызывая страстное желание его задушить, – но говорил! А поскольку «маньяки всегда побеждают» (обыкновенные люди не могут им противостоять), то книга Шахиджаняна расхватывалась, как горячие пирожки в зимний день.
А если серьезно, то книг издается так много, что среди них есть и хорошие. К сожалению, в книжном оформлении стала преобладать ядовитая пошлятина, бесстыдное кислотное раскрашивание, зачастую абсолютно не соответствующее содержанию книги. Книги, как женщины, – теряют скромность, достоинство, сдержанность, становятся наглыми, вульгарными, распущенными. Общий вид многих стендов неприятен – как будто идешь по улице красных фонарей, да еще по самому дешевому сегменту.
Ведь изобилие само по себе – еще не ценность. Изобилие может быть, например, дурным и бессмысленным. Но это отдельный разговор.
Жалко Пушкина. И Бондарчук тоже
В это уже трудно поверить, но на свете жил когда-то один молодой и очень талантливый человек, Сергей Бондарчук. Спустя полвека мы находим, что под сенью его громкого имени помещается уже целый род – с детьми, внуками и племянниками, с традициями и претензиями. Ну что ж, так всегда: кто-то начинает род, кто-то продолжает. Все дети Сергея Бондарчука имеют приятную внешность, они энергичны, толковы и артистичны. Имеют даже некоторые способности к кинорежиссуре.
Но настоящего таланта кинорежиссера ни у кого из них нет, потому что этот талант не передается ни по наследству, ни половым путем, ни воздушнокапельным. Талант кинорежиссера, загадочнейшая вещь на свете, появляется каждый раз в неожиданном месте и абсолютно неизвестно, где его, как чертовы трубы отопления, вдруг прорвет. Вот дикий человек Алексей Балабанов, не имеющий никаких светских манер, странный, корявый и на первый взгляд малоприятный – он режиссер, и точка. А милейшая, почтеннейшая, добропорядочная Наталья Бондарчук, замечательная, судя по всему, жена и мать – нет, не режиссер. И это видно по ее картине «Пушкин. Последняя дуэль».
На этой картине критики уже оттоптались в прошлом году после пресс-просмотров, к вящему изумлению зрителей, которые фильма не видели и понять, почему злобные люди опять ругаются в газетах, не могли. Теперь картину показали в день смерти поэта по государственному телевидению.
Положение в искусстве дочери Сергея Бондарчука, Натальи Бондарчук, осложнилось появлением в ее судьбе Андрея Тарковского. У него она сыграла изумительно, великолепно – в гениальном фильме «Солярис». Надо заметить, многие актеры из числа работавших у Тарковского, ушли затем в попытку режиссуры – например, Бурляев, Кайдановский. Такова была сила «поцелуя демона», сила обаяния Тарковского, который заражал людей какой-то творческой тоской, стремлением к какому-то полету. Но что делать дальше, без Тарковского, самим, они не знали по-настоящему. А одна только творческая тоска, без творческих возможностей, бессильна. Это, конечно, серьезная и при этом романтическая драма. Ведь люди, тоскующие по творчеству – неплохие люди, тянущиеся ввысь. Но до звезд им никогда не достать, поэтому их тоска – навечно. Печальное зрелище!
Однако сегодня кругом уже кишат другие гомункулусы, у которых никакой тоски по творчеству нет и в помине, а любимый жанр – сумма прописью. На их фоне наивное полотно Натальи Бондарчук кажется чем-то вроде искренней и трогательной индивидуальной поделки инвалида посреди бесстыжих массовых плакатов – интересный поворот событий…
В сценарии, который написала сама Н. Бондарчук, трудно найти оригинальные художественные ходы. Все здесь сделано просто, прямо, в лоб, ясными словами. Все думают, что говорят, и говорят, что думают, без сложностей и подтекстов. Так же прямолинейно и играют, то есть играют очень плохо. Сергею Безрукову (Пушкин) сделали неплохой портретный грим, и он старается на свой лад – скрежещет зубами в припадке ярости, глядит скорбными глазами, терзаемый ревностью, ужасно кричит от предсмертных болей и вообще ищет средств выражать каждое чувство на лице и притом с такой очевидностью, чтоб даже полуслепому было ясно, что это за чувство. Анна Снаткина (Натали) экономно распоряжается двумя выражениями лица своей героини – счастливым и несчастным. Но это еще много. У остальных персонажей вообще одно выражение – и у Дубельта (Б. Плотников), и у Галахова (В. Сухоруков), и у Николая I (Ю. Макаров), и у других. Какое-то туманно-задумчиво-недовольное. Выделяется плотным станом и упитанным лицом не слишком юный Лермонтов (Евгений Стычкин), и сцена, когда он бежит за санями Дантеса, уезжающего из России, видимо, собираясь оного Дантеса догнать и съесть живым, впечатляет. Нет, такого еще не было… Вообще знакомая с детства история дуэли и смерти Пушкина сильно изменилась в новые времена. Раньше царь был виноват. А теперь он ни в чем не виноват, он лучший друг поэта и любимец всего народа, который (народ) в зипунах и платках прилежно глядит на своего царя во все гляделки. Сам же поэт – это какое-то чудо мещанской добродетели: прилежный семьянин, муж, отец и слуга царю. А погиб поэт по известной русской причине: невозможности противостоять козням иностранцев. У них, у гадов, вечно все получается!
Движущиеся картинки, иллюстрирующие историю дуэли и смерти Пушкина, настолько примитивны, что для них излишне было использовать живых артистов. Вот в чем дело! Подобно «Капитанской дочке», анимационному кукольному фильму, который показали недавно по ТВ, «Пушкина» лучше было бы сделать с помощью хороших кукол, на которые куда интереснее глядеть, чем на наших беспомощных артистов. Мера условности в анимации другая, и великий поэт, превращенный в героя мещанских добродетелей, был бы там не так ужасен. Да и вреда от тоскливой попытки заняться режиссурой без очевидных способностей к режиссуре, было бы поменьше. Вред здесь причинен не столько зрителю, который съел такое количество помоев, что его уже ничем не проймешь, – он уже только мигает, как бегемот, да разевает пасть, – сколько одаренной, яркой женщине Наталье Бондарчук. Любительнице и защитнице Пушкина, но – не режиссеру.
Гриша-подлец
Новый шестисерийный телевизионный фильм «Печорин» («Герой нашего времени»), сделанный по роману М. Ю. Лермонтова, Первый канал разместил в совершенно правильное время: школьники сдают экзамены. Может, они и соизволят взглянуть на экран и врубиться наконец, кто там кому княжна Мери…
Самой удачной экранизацией романа Лермонтова до сих пор был телеспектакль Анатолия Эфроса «Дневник Печорина» с Олегом Далем, Андреем Мироновым и Ольгой Яковлевой. Да, в общем, не только был, но и остался. Фильм режиссера Александра Котта по уровню актерской игры и режиссерской мысли приблизиться к тому спектаклю не может. Это современное, конъюнктурное произведение, учитывающее прежде всего интересы развращенного занимательностью телезрителя. Крупных творческих задач (к примеру, войти в творческий мир Лермонтова) оно и не ставит. А нам еще товарищ Сталин объяснял, что «только вэликая цель рождает вэликую энергию». Здесь же «вэликих целей» явно никаких не было.
Канва событий воспроизведена без преступных искажений. Как известно, роман Лермонтова состоит из пяти повестей. Начинается фильм с повести «Княжна Мери», куда вставлены лирическими отступлениями «Фаталист» и «Тамань». Потом следует «Бэла» и неуклюже приписанный к ней «Максим Максимыч». Но текст автора порезан, деформирован и плавает драгоценными фрагментами в море пресной болтовни, сочиненной сценаристом Ираклием Квирикадзе. Он же, видимо, отвечает за «местный кавказский колорит» в виде восточного базара, верблюдов, лукавых аборигенов и прочего безобидного вздора, наполняющего экранное время. Квирикадзе, очевидно, принадлежит и некоторое моральное раскрепощение героев Лермонтова – вроде совместного купания Печорина и Веры ночью в нарзанном источнике. Лучшая сцена фильма – дуэль Печорина и Грушницкого – в отличие от вяловатого течения картины, сделана энергично, с хорошими драматическими ритмами. Сделана точно по автору, без дешевки сценариста. Итак, «буква» Лермонтова сильно не пострадала.
«Духа» же его в картине нет совсем.
«Воздух чист и свеж» – пишет телевизионный Печорин в своем дневнике настоящим гусиным пером, с растрепанным белым хвостом. (Господа кинорежиссеры! «Гусиным пером» в ХIХ веке назывались не перья, непосредственно выдернутые из гуся, а письменные принадлежности, сделанные из ствола птичьих перьев, без всяких ненужных волосков. Это были просто полые трубочки, заостренные с одного конца. Когда сгинут эти мифические мохнатые перья из наших экранизаций?) Но у Лермонтова Печорин пишет: «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка». Вместо констатации факта – благоухающее, незабываемое поэтическое сравнение. Но оно авторам картины не нужно по очень простой причине: у них нет поэтического слуха, чувства поэзии. Оттого и весь фильм так непоэтичен, лишен упругих ритмов, романтичности, внутренней музыки. Забытовлен, приземлен.
Молодой красивый актер Игорь Петренко (Печорин) интересно сдвигает красивые прямые брови. Часто округляет красивые серо-синие глаза. Время от времени ослепительно улыбается, обнажая красивые белоснежные зубы. Он полновесно хорош собой, этот избалованный бабами мальчишка – и это, пожалуй, все, что можно сказать о новом Печорине. Этот Григорий Александрович Печорин не «русский демон», а всего лишь типичный нехороший красавчик, от скуки балующийся играми с людьми. Эдакий Гриша-подлец.
В природе Игоря Петренко нет ничего рокового, чарующего, «демонического», странного, никакой «трещинки», сложности, рефлексии. Цельный, очень здоровый, внутренне спокойный актер, Петренко и играет цельного, здорового, спокойного гада, которому подавай удовольствий побольше. Но и подлость своего персонажа Петренко играет неубедительно, потому что от него так и пышет простецким нравственным здоровьем парня без комплексов. Удивительный пример абсолютно загадочного назначения на роль. Вспомнишь Олега Даля с его жуткими притягательными глазищами и слабой, страшной улыбочкой и вздохнешь: исчезли из кино «роковые мужчины»! Хоть из-за границы их выписывай, но и там сейчас сплошные Бреды Питты, смазливые пустышки, которых массы в каком-то своем кошмарном сне считают «секс-символами»…
Хорошо сыгранных ролей в «Печорине» не много. Свеж и обаятелен Юрий Колокольников (Грушницкий), который полностью оправдывает своего героя, славного юношу с небольшими недостатками, юности присущими. Точен и убедителен, как всегда, Сергей Никоненко (Максим Максимыч). И совершенно великолепен мрачный бородатый разбойник Казбич (Арслан Мурзабеков)! В пяти минутах его жизни на экране было больше энергии, остроты и романтики, чем во всем Петренко за всю картину.
Но женщины из рук вон плохи. Бэла (Наталья Горбенко) – как хорошенькая кукла, ни жизни, ни огня. Мери (Евгения Лоза) однообразна и скучна, а Вера еще и вульгарна. В сцене первой встречи с Печориным в гроте, актриса Эльвира Болгова не сыграла совсем ничего, никаких душевных движений. Вообще-то талант актрисы и оценивается по способности передавать настроения, состояния, перемены, то есть движения души, и все большие актрисы словно переливаются-волнуются, как неспокойное море. А здесь – мертвая зыбь…
Картина сделана профессионально гладко, за исключением четырех-пяти ляпов. (В «Тамани» показывают висящую над морем луну убывающую, с ущербом справа, а через минуту – ту же луну, но в фазе роста, с ущербом слева, и т. п.) Но для экранизации Лермонтова одних только профессиональных приличий недостаточно. Нужна личностная зрелость и понимание поэтического слова. А главное, в новой экранизации «Героя нашего времени» нет решительно никакой руководящей мысли! Вот для чего это снято? Да, конечно, Кавказ показан красиво, но вы попробуйте снять некрасивый Кавказ, тогда, может, еще кого-то и удивите. Может, школьники на свою троечку из фильма знаний и наскребут – но тут же забудут эту тягомотную лабуду про какого-то Гришу-подлеца.
Какое нам до него дело? Своих, что ли, оболтусов мало?
Веселое надувательство
Целый март (2006) в Москве прошумит Вторая Московская биеннале современного искусства, занимая собою массу площадок – ЦВЗ Манеж, «Винзавод», ЦУМ, башня «Федерация»… Рискнуть, что ли, проверить, появилось ли что-нибудь новенькое в грандиозной афере, именующей себя «современным искусством»? А рискнем!
Основной массив биеннале расположен на трех этажах строящейся башни «Федерация» в Деловом центре, и эту идею нельзя не признать остроумной. Лихорадочная энергетика скоропалительного московского строительства сама по себе превращает жизнь в «современное искусство». Пробираясь сквозь стройматериалы и стаи разнонациональных рабочих к скоростному лифту, бродя по 19–21 этажам среди неоштукатуренных стен и оглядывая сверху панорамы столицы, посетители то и дело принимали остатки строительства (деревянные ящики, доски, провода, металлические конструкции) за объекты выставки. И только разобравшись, что возле объекта нет таблички с фамилией художника и названием его творения (что и делает любую вещь «современным искусством»), понимали ошибку. Ведь если в комнате с черным потолком такой таблички нет, то это одно. А если написано «Барнаби Хоскинг (Великобритания). Черный потолок» – совсем другое. Надо уважительно постоять в этой комнате и подумать, что если парень из Великобритании поперся в Рашу с идеей соорудить эту комнату, у него было много мыслей о жизни в голове!
Подписи читать надо обязательно – ведь это мадонну с младенцем старинные художники могли преспокойно и не подписывать, благо на картине с тупой тщательностью так и была изображена мадонна с младенцем. «Современное искусство», потеряв по дороге времени эпитет «изобразительное», обязано объяснять письменно, что оно произвело. Бывает, однако, что и это не помогает: обнаружив в углу большой пень, выкрашенный серебряной краской, висящий на ниточках, я долго гадала, что это – «Аутоксилопироциклоборос» Саймона Стерлинга, как было написано на табличке слева, или «Культурно-канцелярский объект “Лапуту”» Михаила Косолапова, как было написано справа? И так хорошо, и эдак ничего…
Если вы видели одну выставку «современного искусства», то вы, считай, видели их все. Принцип неизменен. На любой такой выставке вы найдете и каракули, нарисованные маркером на бумаге или стекле, светящиеся трубки, предметы быта, поставленные, как экспонаты музея, за стекло, какую-нибудь вещичку, висящую одиноко на веревочке, с глубокомысленной подписью (в нашем случае висел колокольчик с тряпочкой, под названием «Вопль». Фузун Опур, Турция). Это так везде, на всех континентах. Объект «Мемориальная “Кола”» – две бутылки в стеклянном кубе. Йон Кормелинг, Голландия – вы могли бы преспокойно увидеть тридцать лет назад на любой европейской или американской выставке. За это время добавились только «видеоинсталляции», то есть мониторы с лабудой, тоже подписанные исключительно глубокомысленно (в ЦУМе, на четвертом этаже, целый холл отдан американским «видеоинсталляциям» немилосердного идиотизма). Создать «видеоинсталляцию» проще пареной репы – включает, к примеру, человек себе «Сталкера» Тарковского, одновременно рисует в блокноте закорючки, все это снимается на видео, именуется «После “Сталкера”. Саркис (Турция)» и отправляется на любую выставку «современного искусства» за милую душу как оригинальный художественный жест или еще что-нибудь. Уж кураторы знают, что написать, поверьте. Там у них, в «современном искусстве», все строго продумано. Фабрика сбоев не дает!
В этой бодрой атмосфере веселого надувательства милая молодая публика двигалась с двумя выражениями лица: одни простодушно пытались что-то понять, другие, продвинутые, понимали, что понимать ничего и не надо. Лежит прямоугольник, на нем приклеены к черному фону клочки старой картины, все это освещено лампой, написано «Айдан Салахова. Инсталляция». Рукой неведомого ангела-куратора разъяснено: «Художественный лаконизм новой работы А. Салаховой таит в себе множество смыслов». Ну и что вам еще? Вам бы, пожалуй, по старинке, нужно не множество смыслов, а хотя бы один-единственный? Вот странный вы человек, вам же объяснили – лаконизм Салаховой ТАИТ множество смыслов. Смыслы Салаховой – это великая тайна Салаховой, и она вот так просто даром, за сто рублей (стоимость билета в башню «Федерация»), вам их не отдаст. У них там, в «современном искусстве», фигурируют суммы другого порядка. Одно только Министерство культуры подпитало биеннале двумя миллионами условных единиц.
Вот что бывает, когда производители искусства договариваются с экспертами (критиками)! Пока что мы имеем только одну область, где это произошло – и вы гляньте, какие результаты. Вопросы смысла, ценности и мастерства упразднены, и легкие как воздух, свободные от всего «художники» имеют только одну задачу: удачно присоединиться к хорошей распилке каких-нибудь бюджетов. Представляю, как убивается какой-нибудь Кирилл Серебренников, которому, для того, чтобы считаться театральным режиссером, надо по старинке читать классические пьесы, воя от скуки, придумывать плохонькие, но мизансцены и т. д. А вот тут же, рядом, резвятся люди, которым давно ничего такого не надо совсем! Берешь двух человек, сажаешь в клетку, пишешь «Брокеры» (Джанни Мотти, Италия), и вот тебе оригинальный арт-жест. Или приклеиваешь рядом три кино-хлопушки – и вот тебе триптих «Съемки фильма» (Вадим Захаров, Россия). Чисто, хорошо. Когда с критиками договорятся и писатели, и театральные деятели, подобная божественная легкость наступит в искусстве повсеместно, я вас уверяю!
На все три этажа выставки – одна только работа мне понравилась, «Отражение в воде». Десятиметровый в длину белый керамический рельеф, воспроизводящий очертания какого-то призрачного, фантасмагорического города из рыбьих хвостов и силуэтов кораллов, отбрасывал вниз причудливую тень и делал честь изобретательности и чувству красоты художника. Конечно, это был китаец, Лю Дзяньхуа! В русской тоске я опять подумала, что китайцы победят. Даже среди кривляния «современного искусства» они отличились терпеливым мастерством и фантазией… А так – удивительное однообразие. Все те же произвольные пятна и клочки, неаккуратно приделанные к холстам. Та же игра со знаками общества потребления (рекламой и т. д.). Скучно до головной боли – и кстати, многие посетители выставки жаловались на утомление, выходя. «Веселое надувательство» веселило только самих участников.
Если бы всю эту «современную» чушь выбрасывали или раздаривали желающим после окончания выставки, то и ладно бы. Но куда там – ее сволакивают в «музеи современного искусства» (только в Москве их штук пять!), пишут о ней книги, осваивают под нее огромные деньги. И потому «современное искусство» остается неизменным сорок лет. По существу, нет ничего более старомодного и обветшавшего, чем оно. И эти произвольные корчи на что-то претендующих эгоцентристов-«художников» уже находятся в вопиющем противоречии с развитием цивилизации.
Скажем, в таких местах, как башня «Федерация», символизирующих запоздалый, и оттого еще более яростный русский урбанистический раж, совершенно не место «современному искусству». Здесь место искусству высоких технологий – голографии, светописи, компьютерной графике и т. п. – которым бы занимались настоящие мастера.
А ничего не умеющих аферистов пора выметать из пафосных мест. Им нечем занять внимание зрителя – а внимание современного зрителя нынче дороже золота, его мало, и добывается оно из глубин утомленного мозга с трудом.
Птичка Боря и ее звуки
Удивительным тиражом в пять тысяч экземпляров издана книга «Птичка. Живой звук», и удивителен этот тираж потому, что таким тиражом издают обычно интеллектуальную некоммерческую литературу. А перед нами нечто вроде автобиографии личности, которую трудно заподозрить как в гипертрофии интеллекта, так и в отсутствии коммерческой жилки. Уж из смутных новых времен эта личность извлекла максимум пользы для себя… Короче говоря, «Птичка» – это книга о Борисе Моисееве.
Проходит ли Борис Моисеев вообще по моему «ведомству», то есть относится ли его деятельность к области культуры – это, конечно, вопрос. Хотя в разделе «массовая культура», в рубрике «казусы» ему вполне может найтись место. Но перед нами не шоу, не эстрада – перед нами книга, с прологом и эпилогом, в триста девятнадцать страниц, и главный герой ее – заслуженный артист России. Почему ж это вдруг и не культура? Она самая, родная до боли.
Книга состоит из двух неравнозначных частей. В одной описывается, как некий литератор получил задание написать книгу про Бориса Моисеева и едет в Крым знакомиться со своим героем. Побывав на аншлаговых концертах, увидев, как певца обожает публика, и поговорив с ним по душам, литератор меняет свое изначально предвзятое отношение к артисту и проникается к нему сочувствием, нежностью и подобием уважения. Это написано безобразно. Однако текст «негра» прерывается роскошными вставками – монологами Бориса Моисеева. И вот это – нечто изумительное.
Вот вам на пробу – о Сергее Звереве: «Считал и считаю его очень талантливым парикмахером. Но вдруг ему кажется, что всё – он стал героем! А помнишь, когда ты стоял возле кресла, сам нечесаный, немытый, непобритый, «не сделанный»? Это сейчас ты надул губы, побрился и играешь в большую поп-диву… Все это – пшик! Не забывай, что жизнь – бумеранг! Но самое страшное, что это еще не конец его гибели. Это начало. Он этого не понимает. Потому что слабо выражены мозги. Вот та серая масса, которая у него в голове, слабо реагирует на движения людей…»
Согласитесь, это неплохо: и темпераментно, и остроумно. Таких живых местечек в книге немало. Собственно говоря, все монологи Моисеева производят впечатление большой живости, реактивности автора. Конечно, речь его по-уличному вульгарна, но крайне характерна и образна. Перед нами «сам-себя-сделавший человек», выбившийся из социальных низов, из города Могилева, из коммуналки. «Я лазил по кастрюлям и воровал жратву. Тогда я научился есть все! Вареный лук. Вареную морковь. Кусок курицы. Любой кусок. Мне было по хрен!.. Оттуда, как из жуткой трясины, не было выхода. Как я вырвался?!»
Стремительному движению активного советского мальчика-танцора, через Минск, Харьков и Каунас добравшегося до Москвы, а в Москве – до самой Аллы Пугачевой, трудно не сочувствовать. Герой, чтоб пользоваться сочувствием, должен двигаться – закон жанра. Единственная проблема подстерегает читателя этой книги – она как бы автобиографическая, а потому то и дело вызывает некоторые крупные сомнения насчет достоверности фактов.
Моисеев говорит, что мама его была еврейская красавица («Я весь в нее!»), работавшая на кожевенном заводе. Однажды мама спасала его, маленького, случайно попавшего в барабан, и ей перерубило пальцы. Но в дальнейшем пальцы вроде как отрастают. К тому же в книге помещена фотография мамы, и если так выглядят еврейские красавицы, то Моисеев – Элвис Пресли. Потом оказывается, что маму убили глухонемые, которые ошиблись квартирой…
Потом Моисеев настойчиво утверждает, что он не гей и никогда им не был. Потом сообщает ряд фактов, из которых следует, что под словом «гей» наша «птичка» подразумевает явно не то, что мы. «Я пытался создать с мужчиной семью. Были попытки. Но они заканчивались трагедией». «Да, я, так скажем, встречаюсь с молодым человеком. Уже много лет встречаюсь. Он женат, у него дети. Но мы встречаемся. Нет! Просто нет грязи в этой любви. Здесь другое – здесь нужда!» На этом месте читатель понимает, что он решительно запутался. А когда он знакомится с историей о том, как Моисееву в Америке, прямо на улице, предложили играть П. И. Чайковского, но он, прибыв в Голливуд, подумал-подумал и отказался – наступает некоторое прозрение…
В книге много смешного – заслуженный шут России опять сумел позабавить свою публику. Но правда жизни тут ни при чем. У Моисеева есть хорошее чутье на работу с мифами, на провокацию, на пиар. Его образ – это пошлость, доведенная своей космической концентрацией уже чуть ли не до искусства, это фантастический комический мираж. Когда я вижу любой клип Моисеева, мне всегда кажется, что этого не может быть. Таких нарядов не может быть, таких текстов не может быть. Это нам снится все. И книга «Птичка. Живой звук» – фрагмент этого сна. Отчасти кошмарного, отчасти забавного, но созданного из особого вещества. Так какой достоверности, прости Господи, ждать от этого сочинения?
Оно тоже часть сна, сна о нашей стране, о нашей культуре, о нашей эстраде. Сна о наших популярных певцах – исключительно живых и неугомонных птичках. А они, долетев из провинциальных коммуналок до шикарных столичных гнездышек, обычно – на радостях – издают разными своими отверстиями исключительно живые, понятные массам звуки.
Позитивная Таня
Записки известных людей о своей жизни всегда имеют читателей, вот и книга Татьяны Булановой «Территория женщины» их наверняка отыщет.
Ведь Буланова не только известная певица, но и фигурантка поп-культуры. Вся история ее блестящего брака с капитаном «Зенита» футболистом Владиславом Радимовым и рождения сына запечатлена на газетно-журнальных скрижалях. Многим будет интересно, каков же внутренний мир женщины, очаровавшей самого настоящего капитана?
Судя по всему, «Территория женщины» прилежно записана со слов Татьяны Булановой, во всяком случае мы постоянно слышим ее искренний, вежливый, аккуратно подбирающий немудреные слова голос. Никаких пикантных деталей и сенсационных подробностей личной жизни здесь нет. Читатель входит в уютный, камерный, чисто прибранный мир порядочной русской женщины. Она много и старательно работает, рожает детей от собственных мужей, которых всего двое, не гонится за большими деньгами и не ищет популярности любой ценой. У нее есть твердые жизненные правила.
«Я всегда интуитивно чувствовала, что от женатых лучше держаться подальше». Трудно не позавидовать такой оригинальной и здравомыслящей интуиции! «Если верить в то, что хороших людей больше, добро победит зло, а любовь – равнодушие, жизнь непременно наладится». Как откроешь злобную пасть, чтоб возразить, так тут же и захлопнешь: возразить решительно нечего. «Если мне надо похудеть или удержать вес, я не ем после пяти вечера. А если по вечерам еще и танцевать и пить минеральную воду, через полгода можно достичь идеального результата». Да кто бы сомневался-то! Полгодика не поешь после пяти – вестимо, результат будет идеальным. «Вообще, наверное, ко всему следует относиться философски». Вообще – наверное!
Книга Булановой состоит из небольших главок, удобных для чтения. Мы узнаем о счастливом детстве певицы, о первых шагах в искусстве, о поклонниках и маньяках, о гастролях и альбомах, о рождении деток, о разводе и браке, о заботах насчет внешности. Но узнаем обо всем этом что-то маленькое, кондитерски-сладкое, поданное на тарелочке как легкий необременительный десерт. Образ певицы получается приятным и… безнадежно банальным.
Иным он и не мог получиться – ведь книга вышла в «Издательстве Оксаны Робски». Оксана Робски, текстовой завод, выпускающий по три романа в год о жизни богатых женских организмов, обзавелась уже, оказывается, собственным издательством. Естественно, что это издательство способно производить только массовую дамскую пошлятину и более ничего. Вот и Таню Буланову «отформатировали» по своим канонам, представив ее как милую, очень позитивную, недалекую птичку, чирикающую свои благоглупости.
Но ничего банального ни в таланте, ни в судьбе Татьяны Булановой нет! Когда она появилась в самом начале девяностых годов, скованная в движениях, в простеньких платьях, со своим детским раскрашенным личиком и завопила-заплакала чистым, нутряным, чуть надтреснутым голосом о русской женской доле, с нею заплакала вся страна. Это был ураганный, сверхъестественный успех. Буланова была последней русской советской певицей традиционного типа, может быть – вообще последней русской певицей. Может быть, это сама Россия завопила тогда нам на прощание! После Булановой на эстраду Новых Времен явились полки шлюх, одетых в нижнее белье, и стали раскрывать свои хищные клювы, изображая пение и заколачивая слово «любовь» в гроб… А потом Таня Буланова успешно-неуспешно стала «вписываться» в формат нашего шоу-бизнеса, но так и не вписалась толком. Может, кто-то об этом и позаботился, такой, знаете, таинственный кто-то, которому всегда удается подсечь любую певицу, набирающую силу, прямо на взлете. И живет сейчас Буланова как-то на особицу.
С личной жизнью у нее все в порядке, и это радует. Хотя бы тут она «сделала» шоу-бизнес, где принято сходиться между собой или отлавливать богатых жирных карасей, но никаких настоящих мужчин, тем более знаменитых спортсменов, там не предвидится. Ибо никакими силами спортсмена не заставишь жениться на том, что у нас сейчас называется «певица». А Радимов действительно полюбил Буланову, и при мысли о том, как корчились при этом от зависти все обитательницы нашего «острова любви», вдруг трагически осознав, что не все можно купить, становится весело.
Но что у Булановой с творчеством – право, не знаю. Выйдет ли она еще раз на авансцену зрительского внимания с новыми песнями? Пронзит ли снова русское сердце этот неповторимый, душещипательный звук? Хотелось бы. Книгу о Тане Булановой очень даже можно было бы написать – но не самой Тане Булановой, и не издательству Оксаны Робски этим надо было бы заниматься. Читать, как настоящий талант с непростой творческой судьбой вписывают в мир чирикающего пошлости позитива – досадно и противно.
Улыбка эльфа
На экраны вышел фильм «Поцелуй бабочки». В главной роли – самый любимый (по итогам социологического опроса весной этого года) артист всех россиян, Сергей Безруков. Что ж, у нас есть отличный повод поговорить об актерском творчестве.
Самая необходимая и самая опасная вещь для артиста – обаяние. Без него никуда: кого бы ни играл актер, он должен нравиться, привлекать внимание. Но обворожительное излучение, о происхождении которого науке ничего не известно, может заслонить и масштаб таланта, и сущность личности артиста. Разве так не бывает? А вы подумайте хорошенько, нет ли живых примеров перед глазами…
Ровно десять лет тому назад я попала на спектакль «Бумбараш» в студию Табакова, в «Табакерку» (тогда знаменитую). Спектакль меня не увлек, но я обратила внимание на забавного юношу, с насмешливой улыбкой и синими тенями под лукавыми глазками. Он так увлеченно кривлялся в массовке и с таким удовольствием валял на сцене дурака, что не заметить его было невозможно. Фамилия его тогда писалась в общем списке, через запятую – «в спектакле заняты…» – я даже не поняла, как зовут молодого артиста. Лицо запомнила.
Да и трудно это лицо не запомнить – женщины такого не пропускают. Полностью воплощенный рецепт соблазна, но соблазна легкого, летучего. Какая-то красивая испорченность, насмешливая самоуверенность, огромное, неугасимое желание нравиться всем, обманчивый блеск, постоянная игра между трепетом ресниц и уголками губ… Великий писатель Томас Манн называл подобное обаяние – эльфическим, имея в виду нравы сказочных эльфов. Эти прекрасные и злые существа с удовольствием морочат и обольщают людей – простодушные и корявые жители равнин не могут противиться чарующему дурману, исходящему от фантастической природы эльфа.
То ли эльфы помогли своему собрату, затесавшемуся в люди, то ли симпатичный юноша из массовки «Табакерки» оказался везунчиком, но всего-то через десять лет из анонимных статистов он, прямо скажем, далеко шагнул. Теперь имя Сергея Безрукова – главная приманка для публики. Вот и для «Поцелуя бабочки» Безруков оказался основной, так сказать, пыльцой.
В самом начале, в титрах этой картины красуется гордое: «Фильм Антона Сиверса». Какие, однако, нахальные перцы пошли нынче в режиссеры. Обыкновенные ремесленные поделки для массового зрителя подаются как ручная работа мастеров. «Фильм Антона Сиверса»! Можно подумать, новый Тарковский явился. А на самом деле, даже для своего немудреного жанра, «Поцелуй бабочки» слаб, неважно придуман.
Главный герой фильма, программист Орланов, однажды просыпается в постели с незнакомкой, которую подцепил вчера в ресторане. Это изящная китайская девушка Ли. У нее есть два главных женских достоинства – она охотно и с аппетитом занимается любовью, но наутро исчезает и никогда не звонит. Это мужской идеал вообще. В сценарии Аркадия Тигая явно видны следы глубокой мужской тоски по девушкам, которые исчезают наутро и их надо разыскивать, тем самым придавая хоть какую-то ценность обесценившемуся от всеобщей инфляции сексу.
Когда Ли исчезла, программист Орланов поехал на работу – а он передвигается на личном катере, который каким-то образом паркует возле своего дома в центре Петербурга. Внезапно молодой программист понимает, что любит китаянку и жить без нее не может. Небывалая любовь Орланова заставила его нанять частного детектива и узнать, что возлюбленная – член китайской мафии. Ну и так далее. Пара мордобойчиков, гонка на катерах по каналам, легкий пиф-паф и глупый хеппи-энд.
Ведь то, что Безруков влюбился в китаянку (у нас что на Руси – женщины перевелись?), могла искупить только медленная и мучительная смерть героини. Но в финале герои отправляются куда-то в русские просторы лелеять свою «лубофф». Поверить же в эту «лубофф» невозможно.
Безруков не характерный актер, он не создает некоего отдельного от себя человека. Он, за редким исключением, не меняет своей внешности, не варьирует голос. Поэтому вся нагрузка ложится на истинность и силу переживания. Герой должен «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья». Актер пытается показать силу чувств тем, что несколько раз отчаянно кричит: «Я люблю ее!» Но когда он не кричит, а двигается по сюжету, у него все та же насмешливая улыбка, те же томные глаза, те же манеры вечного любимчика. И видно, что слегка скучающий эльф опять валяет дурака и по привычке морочит людишек.
Обаяние его не покинуло, так когда оно его покидало? И лидера преступного сообщества Сашу Белого из «Бригады», и булгаковского Иешуа из «Мастера и Маргариты», и Сергея Есенина, и Бриллинга из «Азазели», и мошенника из «Китайского сервиза» – он сыграл «на чистом обаянии», как повара в богатых домах жарят «на чистом сливочном масле». Улыбка сияет и точно плавает в воздухе, глаза излучают синие туманы, звучит насмешливая колдовская музыка, начинается карнавал, комедия масок, где не разобрать – кто это, Арлекин или Коломбина… А начнешь думать, вникать – что же, собственно, сыграл актер? И не знаешь, что и сказать.
Как раз всяких мошенников и авантюристов в жанровых картинах Безруков играет замечательно – легко, со вкусом и юмором. Но эльфическое обаяние его оказалось неуместным, например, для роли Иешуа. Картинные волнистые пряди падали на хорошо загримированное лицо, актер старался говорить медленно и значительно, и все-таки насмешливый и самовлюбленный эльф то и дело проглядывал сквозь все сознательные усилия. И когда Пилат на лунной дорожке спрашивал: «Но скажи, ведь казни не было?» – этот Иешуа улыбался так лукаво, так многозначительно и недобро, что в обманчивом лунном свете казался опасным и коварным самозванцем, надменным соблазнителем, а уж никак не сыном Божьим.
А роли идут валом, множатся – вот и Есенин сыгран, да и сам Александр Сергеевич Пушкин оприходован… Неужто вся русская культура спешит принять на себя облик Сергея Безрукова, улыбнувшись нам на прощание злой улыбкой равнодушного к людям, насмешливого эльфа?
Голые и злые
Популярный шоумен, блистательный фарсовый телекомик Дмитрий Нагиев никак не хочет забывать о своей первой профессии, записанной в его дипломе так: актер драматического театра. Свидетельством тому явилась премьера нового спектакля «Территория» с участием артиста. Вот упрямый человек!
«Территория» – это уже четвертый антрепризный спектакль, сделанный «под Нагиева». На этот раз вместо немудреной развлекательности какой-нибудь «Кыси» или «Милашки» (так назывались предыдущие спектакли с Нагиевым), перед несколько обескураженным зрителем появился «серьезный» Нагиев в драматической роли загадочного чеченца, бегущего из тюрьмы вместе с русским Ваней (Игорь Лифанов). Посмеяться не удалось (хотя один милый сюрприз авторы спектакля зрителю все-таки приготовили, о чем еще будет рассказ).
В начале представления что-то зарокотало и загрохотало, луч лазера начертал в воздухе название спектакля, а по бокам авансцены двое мужчин в камуфляже начали дико орать какие-то объяснения будущей ситуации: почему некий чечен Юсуп и русский опер из Ставрополья кому-то навредили и их надо ликвидировать. Ничего понять не удалось.
Затем на подмостках появились очень сердитые Нагиев и Лифанов, причем правая рука Нагиева была прикована к левой руке Лифанова полутораметровой цепью. Они стали бросаться друг на друга с рычанием, видимо, олицетворяя национальную рознь народов бывшего СССР.
Поскольку никаких таких цепей в тюрьмах РФ не существует, я стала размышлять, чем же руководствовалось воображение драматурга Марины Гавриловой, и вспомнила знаменитый фильм Стэнли Крамера «Не склонившие головы» («Скованные одной цепью», 1958). Там черный и белый арестанты как раз и бежали из тюрьмы, постепенно переплавляя расовый антагонизм в крепкую мужскую дружбу. Но американская картина была предельно ясной и эффектной, чего не скажешь об этом русском спектакле: он предельно невнятен. История не имеет ни четкого начала, ни финала, диалоги вялы, действие движется случайными, внешними толчками, характеры не выписаны и не развиваются. Так что остается просто смотреть на «живого Нагиева» и не менее живого Лифанова – милейшего и явно добродушнейшего артиста, который по злой иронии судьбы вечно играет в сериалах каких-то хрипящих отморозков.
Театральный антрепренер в пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники» дает такое определение таланту актера: «Делает сборы – значит, талант». С этим все в порядке – Нагиев собирает полный зал всегда, в любой день и любую погоду. Однако педагоги артиста, если бы они решились посетить своего ученика, были бы расстроены: к сожалению, Дмитрий Нагиев находился на сцене в состоянии ужасного «зажима», то есть мышечной несвободы. От зажатости много и некрасиво кричал, как это обычно бывает в таких случаях. А кричать на сцене можно очень редко, очень осторожно и по строгому «рецепту» врача-режиссера. Привыкший скрываться за яркой маской фарсовых персонажей, Нагиев оказался несколько «голым» в роли без комикования, без переодеваний, без разных юмористических приспособлений. Этому горю мог бы помочь квалифицированный режиссер, умеющий работать именно с драматическими актерами, но Лев Рахлин, постановщик всех нагиевских представлений, специализируется на мюзик-холле, так что горю не помог никто.
Но голым Нагиев оказался не только в переносном, но и в прямом смысле. Пометавшись по сцене, разнообразно попинав и покусав друг дружку, Юсуп и Ваня решают идти куда-то в обход, через горы. В горах, по их утверждениям, начинается дождь. Чтобы сохранить сухую одежду, беглецы решают ее снять и прижаться друг к другу телами, чтоб не замерзнуть.
Я это видела, граждане! Картина была такая. Нагиев и Лифанов стали медленно раздеваться догола, причем Нагиев стоял передом, а Лифанов рядом с ним, но задом. Не заслоняя того места, которое вызывает некоторое любопытство у поклонниц Дмитрия. По крайней мере, на это хватило мизансценического искусства Льва Рахлина! Правда, честно говоря, на этом месте у Нагиева примерно то же самое, что у трех миллиардов мужчин земли. А вот тыл Лифанова – это вещица более эксклюзивная. Там имеются ямочки! Когда Лифанов положил руку на плечо Нагиева и голые злые парни застыли в роскошной, почти античной позе, зал стал тихо веселиться. Так надо понимать, что горы, куда ушли наши герои, видимо, оказались горбатыми, и национальная рознь была преодолена старым казачьим способом…
Не знаю, какова прокатная судьба этого беспомощного безобразия. Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов – одаренные люди, и это видно даже из спектакля «Территория». Но не может сбыться театральная судьба драматического актера без работы в полноценном театре с равными партнерами, без настоящей режиссуры, без качественного драматургического материала, без постоянного труда над собой. Как бы ни был упрям Нагиев, логика жизни еще упрямее. Раньше зритель шел посмотреть на «живого Нагиева». Теперь пойдет смотреть на «голого Нагиева». А дальше что? Чем торговать будем? Внутренностями?
Как всякая звезда, Нагиев горд, самодостаточен и предпочитает оставаться в знакомом кругу приятелей, обслуживающих его творческие запросы: куда легче общаться с покладистым другом-постановщиком, чем отдавать себя в руки неизвестного, пусть в тысячу раз более талантливого режиссера. На этой «территории самомнения» уже сгорели бесследно десятки звезд и звездочек, решивших, что талант им дан лично и навечно, и каждое их шевеление есть факт искусства.
Увы! Талант не только дают, но и отбирают. За плохое поведение, за несоблюдение условий правильного хранения, за неверную эксплуатацию. Так что Дмитрию Нагиеву стоило бы подумать о многом. Впрочем, не ему одному.
Мура-2007
Мы уже привыкли к тому, что реклама не имеет никакого отношения к качеству продукта. А потому понять, идти или не идти сегодня в кино на отечественный фильм и что это за фильм – абсолютно невозможно. Любая картина, выходящая в прокат, обставлена примерно одинаковыми почестями: на афише, как правило, красуются гордое «Фильм Ивана Пупкина “Лажа”» и лицо Гоши Куценко, а замогильный голос в рекламных роликах по телевизору обещает вроде бы что-то заманчивое. Не верьте!
Фильм «Параграф 78» тоже имеет титул «фильма Михаила Хлебородова». Между тем такого режиссера в кинематографе до сих пор не было – был так себе клипмейкер. Но в клипах имена изготовителей не указываются – а ведь так хочется человеку полновесной славы. Вот и написал Хлебородов свое имя. Крупными буквами. Помните, как лягушка-путешественница в сказке Гаршина закричала: «Это я! Я! Я!» – и свалилась вниз? Примерно такая история. Потому что хуже фильма, чем «Параграф 78», я не видела давно. Это чудовищная мура, не имеющая никакого отношения ни к жизни, ни к искусству.
Завели, значит, манеру: ничего не объяснять. Первые двадцать минут фильма сидишь и пытаешься понять хоть какие-то правила игры – где и когда происходит действие, кто герои, каковы нравственные устои этого мира. В «Волкодаве», который тоже мура, но более приличного качества, по крайней мере, через час после начала стали появляться какие-то признаки внятного рассказа. В «Параграфе 78» они так и не появились вообще! С трудом понимаешь, что действие происходит в отдаленном будущем, в России, которая напрочь отгламурилась в стиле хай-тек и не имеет уже ничего живого и своеобразного: стекло, металл, серебристые стены, какие-то высотки за окнами Генерального штаба. Сюда вызывают бывшего капитана некоей таинственной команды (Гоша Куценко), чтобы он собрал ее снова после большой ссоры (из-за чего они поссорились, понять невозможно) и направил на проверку экспериментальной базы, на которой, видимо, что-то не в порядке.
Собирается команда по всем голливудским рецептам политкорректности: один черный, один желтый, одна женщина, один гомосексуалист плюс приятный актер Владимир Вдовиченков для оформления любовного напряжения между капитаном и его женой. Женщина (Анастасия Сланевская) весьма хороша собой, с правильной скульптурой лица, но весь стиль облика слизан с Деми Мур в картине «Солдат Джейн». Вообще в этой картине нет ни одной вещи, ни одной детали, не скопированной с голливудского оригинала, и это сильно тревожит. Ведь подражание, копирование – это стадия подросткового творчества, она проходит у взрослых людей. Михаилу же Хлебородову уже сильно за сорок. Неужели человек всю жизнь жил с мечтой – сделать второсортное американское кино? Ведь этот русский фильм, на русском языке, с русскими актерами – старательная копия самого плохого и самого дешевого американского киновздора. Такие фильмы продюсеры дециметровых каналов покупают по сто долларов пачка, чтобы показывать после часа ночи, когда у экранов остаются страдающие бессонницей пенсионеры и телекритик Ирина Петровская… И на производство этой ерунды тратить огромные деньги, время, жизнь? Не понимаю!
Между тем команда «Параграфа 78» прибыла на заколдованную базу, обмениваясь репликами, которые по содержательности равняются диалогам крабов или тараканов (нет, я думаю даже эти животные общаются между собой интересней), и нашла там несколько загадочных трупов и взбесившегося человека. Убедившись, что горю уже ничем не помочь (вирус?), команда выбирается из бункера и ждет вертолета. Но вертолет, покружив, улетает обратно! В чем дело? И тут зрителя подстерегает чудесное: Гоша Куценко объясняет содержание заветного «параграфа 78» – если в группе возникает угроза для планеты, группа самоликвидируется. «Кто из героев останется в живых? – трубно вещает голос неведомого архангела чепухи. – Смотрите второй фильм 29 марта!» И все, песня спета. То есть нам скормили дико растянутую завязку картины за якобы «первый фильм». И теперь изволь тащиться через месяц доедать эту баланду, чтоб узнать, «кто из героев останется в живых».
Да не хочу я знать, кто там останется в живых, по мне хоть бы их всех растерли в порошок. Там и живых-то не было, а были неодушевленные схемы, двигающиеся рисунки, рабски скопированные с чужих образцов.
Еще несколько лет назад многие плакали об ужасной судьбе отечественного кино, утверждая, что его надо поддерживать всеми государственными силами, вплоть до квот на импорт американского кино и выдачи привилегий отечественному производителю. Тогда наше кино казалось бедной нежной девочкой, которую хотелось оберечь и защитить. Сегодня наше кино – далеко не девочка. Это наглый, хамоватый, набитый деньжищами парень, который уверенно, крепкими и цопкими ручищами лепит контрафакт, копируя американское кино один в один. Получается дикая мура, потому что изобретенные в Америке штампы и клише для нас чужие абсолютно. Для чего эту наглую фабрику поддерживать? Чтоб на «ихнего» Брюса Виллиса мы ответили нашим Гошей Куценко? Может быть, Куценко хороший артист, может, плохой, вернее всего, что посредственный, только я на него больше смотреть не могу. И на эту жалкую беспомощную «русскую Америку» тоже. Америка прекрасно справляется сама с производством муры – для чего нам-то ее умножать? Надо свою, родную, оригинальную муру делать!
Между тем, пока зрители дожидались «Параграфа 78», шли рекламные ролики, обещающие в следующем месяце еще больше муры – «Любовь-морковь», «Одна на миллион», «Я остаюсь»… Даже по нарезкам было видно, что все свистнуто, украдено, скопировано с голливудских картин, притом не нынешнего сезона, а где-то пятилетней давности. Казалось бы, если так тянет копировать и подражать – подражайте Альфреду Хичкоку, Орсону Уэллсу, на худой конец – Мартину Скорсезе, что ж вы подражаете безвестным ремесленникам, надуваете и умножаете заведомую пустоту?
А между тем мы живем, может, не в самой благоустроенной, но в чрезвычайно оригинальной стране, с бурным прошлым и драматическим настоящим. Сколько лиц, сколько событий! Но кинематографисты, как заколдованные, идут мимо – туда, где сияет мишурным блеском чужая фабрика грез, чтобы хоть как-то приткнуться к ней со своими убогими и никому не нужными подражалками!
Нет, не буду я личным трудовым рублем поддерживать такого отечественного производителя. Родную худенькую курочку куплю – а муру киношную не куплю, пока не научатся делать свое, а не вдохновенно тырить чужое.
Скучный волшебник
Вышла книга известного кинодраматурга Эдуарда Володарского «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». Книга посвящена истории загадочного прорицателя Мессинга, еврейского мальчика из польского местечка, сделавшего головокружительную карьеру и ставшего собеседником миллионеров и диктаторов ХХ века. Им он прорицал исключительно одни неприятности – неудивительно, что судьба волшебника сложилась как-то кривовато.
По жанру книга Володарского более всего напоминает сценарий приключенческого телесериала: максимум движения, минимум психологии. Читатель мечется вслед за Вольфом Мессингом сначала по Европе, потом по Латинской Америке, потом перебирается подальше от фашистов – в Советский Союз, и мечется уже в пределах Союза. Конвульсии его судьбы определяются тем, что сильные мира сего сначала дико им заинтересованы, а потом всерьез напуганы и раздражены. Мессинг действительно видит сквозь время, но ничего хорошего он сквозь время не видит. Ни Гитлеру, ни Сталину, ни Хрущеву такой предсказатель не нужен. Нужен ли он вообще кому-то – вот вопрос.
Странный дар мальчика, в юном возрасте сбежавшего из местечка в Варшаву, приспосабливают на продажу ловкие импресарио. Он тут же, в какие-то рекордные сроки овладевает всеми языками мира и, попадая в любую страну, лихо, без переводчика, общается с публикой. Мессинг выступает с программой «психологических опытов» – мелких предсказаний, отыскивания спрятанных вещиц, угадывания мысленных приказов. Имеет постоянный успех, описания которого занимают в книге много места и несколько утомляют своим однообразием. Да и все течение книги способно заморить читателя, несмотря на вроде бы эффектную фигуру героя.
Дело в том, что как личность Вольф Мессинг не представляет ровным счетом никакого интереса. Его дар привешен к нему, как бородавка. Он видит будущее, он может гипнотизировать людей и проходить, как человек-невидимка, сквозь любые заграды. Ну и что? Раз угадал, два загипнотизировал, три прошел… а в книге пятьсот пятьдесят шесть страниц. У этого скучного волшебника нет никакой жизненной позиции, никаких убеждений, никакой серьезной цели и развитой внутренней жизни. Как сомнамбула, он движется без причины и смысла, к тому же – не мастак ни в борьбе, ни в любви. Знай себе выступает на сцене. Даже материальные ценности ему безразличны. Что это за герой?
Видимо, почувствовав неладное, Эдуард Володарский начинает вбрасывать в повествование исторический материал – варшавское гетто, фашистскую Германию, сталинскую Россию, хрущевскую оттепель. Но вбрасывает он факты до того известные и всеми искусствами обглоданные до тощих косточек, что градус интереса не поднимается ни на одну черточку. Возможно, если бы по этой книге был снят телесериал, а в нем Мессинга сыграл великий актер, этот материал можно было бы спасти. Но как литературный факт, он только озадачивает. Герой не запоминается, не увлекает – сделав очередное предсказание, Мессинг в страдальческом изнеможении закрывает глаза и видит какие-нибудь кошмары. «Зачем мне мой дар?» – думает он с тоской не один десяток раз. Описать такую утомленную и тоскливую марионетку, наверное, мог бы в каком-нибудь рассказе маститый немецкий писатель калибра Томаса Манна. Но героя действия из него не выходит никак.
Кстати, могу поделиться своим читательским опытом: возраст и состояние здоровья автора-мужчины всегда можно определить по тому, чего в его текстах больше и что описано смачнее – еда или секс. В книге «Вольф Мессинг» еда описывается неукоснительно и подробно, никогда не будет просто отмечено, что, вот, дескать, сели и поели. Нет, автор всегда напишет, что именно было на столе и в каком количестве. По контрасту с призрачной и бессмысленной жизнью Мессинга, от прорицаний коего никому не было ни малейшей пользы, это, может быть, и правильно сделано. Предсказания будущего – это нечто призрачное и для людей абсолютно ненужное, а картошка с селедкой под водочку – вещь приятная даже в словесном упоминании.
Осенний смертоносец
«Главный фильм осени» – так реклама величает новую картину Филиппа Янковского «Меченосец». Даже не уточняется, что это главный фильм нынешней, конкретной осени. Получается, что «Меченосец» – главный фильм всякой, любой осени, осени вообще. Как настанет осень, беги на «Меченосец». Круто! И не каждый выдержит, между прочим!
Он появляется внезапно и неотвратимо, как то и подобает ангелу-истребителю. «Его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге» (Цветаева), худые звериные плечи прикрывает, как это положено романтическому герою, черное пальто, глаза сияют острой неземной тоской, а ладони замотаны грязными бинтами. Отсюда, из ладоней, всегда, когда герою угрожает чужая агрессия или даже он эту агрессию просто видит, мгновенно вырастают инфернально острые мечи, рассекающие столетние сосны, как травинки. (Что делают эти мечи с человеческими телами, мы уточнять не будем – пусть желающие смотрят сами.)
Безымянный герой (Артем Ткаченко) обнаружил свои меченосные способности в младшем школьном возрасте, когда невзначай чиркнул сумасшедшего, приставшего к девочке, а потом и собственного отчима, избивавшего мать. Труп отчима, как выясняется из отрывочных воспоминаний, удалось спихнуть ночью в реку с помощью любящей мамочки.
Что делал герой потом и как ему удалось уцелеть с такими рискованными способностями, мы не знаем, равно как и того, зачем он появился, с ходу ввязавшись в драку с летальным исходом своих противников. Возможно, в сценарии какие-то мотивировки и были, но режиссеру они не понадобились. Действия героя не подлежат скучным прописям рассудка, и сука-логика может удалиться со своими несносными аналитическими инструментами восвояси. Раз – и герой появился. Два – убил случайных парней. Три – метнулся зачем-то к родному папаше, злостному неплательщику алиментов, которого никогда не видел, и его убил невзначай. Так же внезапно из пейзажа осеннего севера герой переместился в пустынный дизайнерский Петербург, где молча посидел на крыше с белыми голубями, а потом отправился в подъезд и привалился к батарее отопления, меланхолически занявшись своим главным делом – бинтовать преступные руки.
Здесь-то его и застала прелестная девушка в роскошных кудрях и с бисерными фенечками на пальчиках (Чулпан Хаматова), которой смертоносец мешал пройти в ее жилище. Девушка задела героя бедром, тот схватил ее за точеную ножку и… в следующем кадре наши герои уже сладостно стонут среди художественного беспорядка мансарды. Ну вот какие молодцы, а мы-то мучаемся – встречи, разговоры… Но недолго длилась безмятежная художественная гимнастика прекрасной пары. Вернувшийся из командировки сожитель девушки стал размахивать пистолетом. Однако инфернальные мечи тут у героя как-то затормозили, и парочка ограничилась тем, что примотала сожителя скотчем к столбику и рванула на его черной крутой тачке куда-то и зачем-то.
Дальнейшее представляет собой погоню за героем и его девушкой разнообразных мстителей, включая и усатого интеллигентного следователя (Леонид Громов). Здесь выясняется, что помимо мечей, герой обладает и другими сверхъестественными способностями: так, он может мгновенно узнать, где живет или находится его враг, и переместиться туда без подручных средств. Он перерезает телефонные провода в квартире следователя, а также перерезает пополам одного наиболее настырного преследователя (Алексей Горбунов), причем мы видим, как одна половина тела ползет по полу тихого кафе на берегу залива, а другая корячится на расстоянии.
Приказано открыть огонь на поражение, и пуля настигает девушку, как выяснилось в конце – Катю. Катя умирает долго и разнообразно (под патетическую музыку Игоря Вдовина, которая становится в какой-то момент невыносимой, как заевшая шарманка) – изогнувшись на мотоцикле, затем упав в реку, затем среди покрытых мхом валунов, затем на берегу холодного моря. Герой – как выяснилось, Саша – страшно воет и рыдает, круша все вокруг. Тут мы получаем неожиданный привет от «Сибирского цирюльника» Михалкова: осенний смешанный лес сверху, на бреющем полете, потом – падающие деревья. Но падают они в этот раз не от американской машины, а от руки отечественного смертоносца. (Цены бы этому человеку не было на лесоповале!) Вертолет следователя обрушивается в море, следователь с пистолетом идет на героя, рыдающего возле мертвой Кати, но… увидев его глаза, слуга закона понимает, что убить это фантастическое существо он не в силах. Панорамой двух слившихся в последнем объятии молодых тел фильм заканчивается, несколько озадачив, надо думать, зрителя. Кстати, не вполне ясно, какова аудитория картины – он переполнен насилием (более десяти убийств на глазах зрителя), ни семьям, ни женщинам, ни подросткам смотреть его я бы не рекомендовала.
Филипп Янковский, насколько можно судить по его предыдущим работам, картинам «В движении» и «Статскому советнику» – одаренный человек. И одаренность его связана с особым «чувством кино», с тем, что называется киногеничностью. Он замечательно выбрал героя, напоминающего, кстати, особенно верхней частью лица, молодого Олега Янковского. Ткаченко удивительно киногеничный артист, камера любит его, буквально впивается в его лицо, считывает все мимические движения. Сам центральный образ, молчаливого, несчастного и прекрасного избранника судьбы, получился – но получился только пластически, зрительно, как центральный прием дизайна.
Потому, что с областью смыслов и эмоций у режиссера как раз проблемы. Фильм начисто лишен логических связей внутри сюжета, но и на поэтические связи не тянет, так что его подоплека – мечта слабого человека о необычайной, исключительной силе – лишь витает в воздухе, не вмешиваясь в набор то красивых, то отвратительных галлюцинаций-картинок. Наверное, трезвое сознание не годится для восприятия «Меченосца» – тут требуются какие-то измененные состояния. Но в измененных состояниях сознания в кино ходить излишне. Можно и самому чего-нибудь такого навоображать, что «Меченосец» отдыхать будет!
Бедная принцесса
На экраны вышел фильм «Любовь-морковь» режиссера Александра Стриженова, с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях. Честно скажу: шла, как на каторгу, и только из-за Орбакайте, потому что давно убеждена в ее исключительном актерском таланте. Картина подтвердила талант главной принцессы страны и вновь заставила задуматься о грустной судьбе Кристины в искусстве.
«Любовь-морковь» – комедия с фантастическим элементом: молодые, потерявшие взаимопонимание супруги, искусствовед Марина и адвокат Андрей, из-за колдовства нехорошо ухмыляющегося доктора Когана, то есть Михаила Козакова, меняются телами. Возможно, зритель уже подзабыл американскую ленту «Кара небесная», где проделывался подобный фокус, но совсем недавно тот же трюк использовался в «Дневном дозоре» и исполнялся актрисой Тюниной. В общем, художественная новизна «Любови-моркови», понятно, даже не второй, а третьей свежести. И ладно: мы, зрители, люди привычные, не будет хлеба, станем и жмых есть. Несмотря на банальность всех сюжетных ходов и полную безвкусицу в исполнении ролей второго плана (тут отличился ужасно несмешной и отчего-то играющий комические роли Евгений Стычкин), смотреть можно.
Правда, от перепада давления актерского мастерства в этом фильме начинается своеобразная «кессонная болезнь».
Гоша Куценко, который должен играть вселившуюся в него Кристину Орбакайте, со своей задачей не справляется и справиться не может в принципе. Он играет дурное представление мужского обывателя о том, как выглядит и ведет себя какая-то усредненная «дамочка вообще» – сюсюкает, жеманится, хлопает глазками, поводит плечиками, и получается не женское «я» в мужском теле, а, извините, то, что на русской зоне зовут «дунька».
Кристина Орбакайте же, будучи великолепной актрисой, поступает как мастер и профессионал. Она, видимо, изучила мимику и пластику именно Гоши Куценко и играет именно его «я», вселившееся в женское тело. Играет точно, остроумно, весело, не перебарщивая, и в некоторых сценах даже оторопь берет – кажется, и впрямь Куценко проглядывает сквозь артистическую плоть Орбакайте.
И вы представьте, что выходит: в кадре перед нами сам Гоша Куценко, в виде лагерной дуньки, плюс Гоша Куценко в виртуозном изображении Орбакайте! Двойной Куценко! Нет, воистину у нас на Руси если полюбят – то все, насмерть. При умеренном употреблении Куценко вполне возможен на экране – но тотальная «куценкизация» экрана становится невыносимой. Тем более, в этой картине скромные возможности артиста очевидны.
Как же горько, что наши режиссеры, рвущие на части популярные физиономии, не замечают выдающегося дарования Кристины Орбакайте, и ее судьба в кино полновесно так и не сложилась. Спасибо режиссеру Стриженову, что хоть напомнил о ней.
Конечно, у Орбакайте есть некоторая судьба в поп-культуре, но тоже какая-то недосложившаяся и фрагментарная. Споет интересно песенку своим небольшим голосом – и опять туман, непонятка, нет целенаправленного строительства репертуара, образа, нет, в сущности, той могучей воли к победе, которая отличает ее маму Аллу Борисовну. Печальной недопроявленностью веет от изящно отшлифованного облика принцессы Кристины… Как-то невесела и та информация о ее личной жизни, что доходит до зрителя: разводы, драки, скучная бытовуха – и где же тот мир, что, как утверждала Кристина в одной песенке, «красив и светел»?
Иногда Орбакайте выступает в антрепризных спектаклях, кое-что я видела и убедилась: это, прежде всего, драматический талант. Настоящий, какой являет себя сильно и сразу, который ни с чем не спутаешь.
Открыл актрису Ролан Быков, поручив ей главную роль в картине «Чучело». Кристине было двенадцать лет, и сыграла она девочку, затравленную озверевшим коллективом – сыграла гениально. Удивительна была сила переживания, огромный запас души в столь юном существе, с таким знатным происхождением и такой выигрышной внешностью. Хотя впоследствии Кристина что-то намудрила с носом (у нее был прелестный, чуть заостренный нос, который она «исправила»: ну что с женщинами поделаешь!), лицу это не повредило: оно красиво и вместе с тем оригинально, передает малейшие оттенки чувств, отмечено печатью страдания. Она фантастически женственна, но не как пошлая Барби, у нее хороший вкус, чутье, прекрасная мимика, выразительные телодвижения. Она изящна, как сказочная принцесса, и при всем том накопила огромный опыт страдания, как женщина с сердцем, с настоящими чувствами. Наконец, у актрисы отличный актерский «аппарат», и она умеет привлекательно и ярко воплощать то, что задумала сыграть…
И что же? Никаких ролей, достойных ее дара, Орбакайте не получила за почти что четверть века. Приятели, «золотые юноши», играя в свой кукольный кинематограф, проходили мимо принцессы Кристины. Зубры же советского кино, видимо, шарахались от попсовой славы Орбакайте. Только Светлана Дружинина, почувствовав это чудесное, редкое дарование, поручила ей роль принцессы Фике (то есть будущей императрицы Екатерины) в сериале про гардемаринов. Так ведь глаз от нее не оторвать – до того разнообразно, красиво живет это одухотворенное лицо в картине.
Жаль, что вытаскивая на свет божий каких-то мимолетных, едва приспособленных к актерскому труду кукол, кинематографисты забывают настоящий, врожденный большой талант Кристины Орбакайте. Толпа, которая травила Доченьку в «Чучеле», не стала в реальности губить ее прямой агрессией. Нет, стали изводить тихо, затаскивая в свои пошлые игры, она ведь такая миленькая, так неподражаемо строит глазки, похожа на маму, не похожа на маму, и вот уже беленькая пушистая принцесса рекламирует жевательную резинку и бальзам для интимных мест… Она, которая могла когда-то встать в одиночку против толпы!
Но тогда у нее был настоящий союзник и повелитель – Ролан Быков. Теперь она, похоже, никому особенно не нужна.
Что ж, нам, знатокам русского пейзажа, эта картина неудивительна. Кто у нас кому и когда был нужен? А все-таки вот грустит душа, глядя на бедную принцессу. Потому что не грустить она не может – когда-то об этом знала и рассказывала гениальная девочка Кристина. И я надеюсь, еще расскажет.
Судьба артиста внушает тревогу
Итак, герой этого рассказа: украденный портфель. Содержание портфеля: русский и заграничный паспорта, пятьдесят тысяч евро, ювелирное изделие на сумму триста тысяч евро, музыкальный материал для альбома и ладанка с мощами Николая Чудотворца. Хороший набор, правда, если бы мне доверили формировать этот портфель, я бы добавила еще письмо от английской королевы.
Даже если каким-то чудом вы не знаете, кто владелец портфеля, с чьих слов мы, собственно, и узнали о его содержимом, нетрудно догадаться, чем зарабатывает на хлеб подсудимый, то есть – извините! – потерпевший. Ключевое слово тут: музыкальный материал для нового альбома. Поскольку именно в преддверии выхода новых альбомов жителей одного чудесного острова, в информационном поле отечества возникают загадочные информационные облака. Формы этих облаков удивительно похожи.
На прошлой неделе это облако испустил певец Николай Басков, объявив о феноменально удачном нападении на своего водителя с целью отъема вышеизложенного портфеля – и судьба артиста стала решительно внушать тревогу.
Николай Басков – законный обитатель чудесного острова поп-культуры, чье население занято давним промыслом: это извлечение денег из людей с помощью личного художественного образа. Для того чтобы этот образ жил в информационном поле, нужны информационные поводы. Поводы строго расчислены, их набор не меняется, и у каждого промысловика поп-культуры есть на руках определенное количество, так сказать, карт, которые он может вбросить в игру.
Эти игровые карты таковы: вступление в брак, развод, рождение ребенка, юбилей, судебный процесс, выход книги, пластическая операция, похудение, ограбление, и, наконец, козырной туз – телесные повреждения вследствие избиения или несчастного случая. Если поп-культурник стравливает какую-то карту, она уже не восстанавливается или восстанавливается после длительного периода времени, но не наверняка.
Приведу пример: история с похудением Надежды Бабкиной. Стравив, и очень удачно, игровую карту похудения, Бабкина, полностью утратив личную индивидуальность, но сильно нарастив информационные мускулы, через некоторый промежуток времени попробовала было снова вбросить эту карту в игру. Но – увы! – сообщение о том, что певица похудела на тридцать восемь килограммов (подозреваю, что ее вес уже исчисляется отрицательной величиной) глухо проползло по сети и скрылось в тумане, где уже много лет скрывается от нас и пение певицы. Да, мелковат калибр! Никакого сравнения с великой Аллой Борисовной, чьи пластические операции и фантомные романы прокормили уже целую армию тружеников пера! Но Алла Борисовна ведь феномен вселенского масштаба и даже иногда действительно что-то поет, хотя решительно никакой нужды в этом нет.
Есть поп-артисты, которые вроде бы отказались от игровых карт, но им, вот что интересно, подыгрывает сама судьба – так случилось с Николаем Расторгуевым, на чей концерт внезапно явилось Первое лицо. С такой божественной подмогой Расторгуеву, конечно, нет нужды в ограблениях, а посему артист спокойно справляет законный юбилей, благополучно сохраняя всю колоду на руках.
Исключительно удачно сработала карта телесных повреждений в знаменитой истории с певицей Жасмин. Мало того, что она эффектно легла сама по себе, она открыла долгосрочные перспективы – ведь певице теперь придется делать пластические операции, восстанавливая повреждения, а также разводиться с мужем-агрессором и выходить замуж вновь… Мы, кстати, не поднимаем здесь вопрос о том, какие события в жизни поп-звезд реальны, а какие сомнительны. Возможно, какие-то происшествия были на самом деле, а какие-то инсценированы. Это никакого значения не имеет. В мире поп-культуры нет такого понятия, как действительность.
А вот положение Николая Баскова тревожно. Артисту всего тридцать с маленьким хвостиком, а он уже растратил почти всю колоду! (Колода у него была, между прочим, немаленькая, и включала такой эксклюзивчик, как уход из Большого театра.) Басков похудел, женился, у него родился ребенок, он справил юбилей – а следующего ого-го сколько ждать! – и подвергся ограблению. У него осталась на руках только пластическая операция (но зачем она молодому красивому человеку? Люди подумают, что он просто дурак или псих) и… телесные повреждения. Но на эту, самую рискованную игру, артист, с его космически нежным отношением к самому себе, вряд ли решится. И что же ему остается? Игра практически сыграна.
Пожалуй, кто-нибудь скучный и вредный станет вякать, что артист должен привлекать внимание прежде всего своим творчеством и трудом. Но, господа – музыкальный-то материал для нового альбома похищен! Стало быть, народ в тревоге и тоске еще какое-то время будет метаться, забегать в магазины и пламенно восклицать: «Где новый альбом Николая Баскова! Когда прекратится геноцид русского таланта!» И только и останется несчастным поклонникам, что сидеть у телевизоров и поджидать, когда наш русский ангел появится с чашечкой в руке и запоет божественным своим голосом, который только недоумки считают противным и приторным: «Золотая чаша, золотая! Наполняет ароматом чая!»
Ужасно! Самое время обратиться Николаю Баскову за помощью к Николаю Чудотворцу. Он, естественно, бросит все дела, чтобы помочь своему любимчику. Если, конечно, не разгневается за то, что его святые мощи трутся бок о бок с пачками инвалюты. Но это Чудотворец сделал бы зря – артист ведь явно не унизить его хотел таким соседством, а возвысить.
Самое дорогое – к самому дорогому.
Часть 4 Десерт. Чай, кофе
Однажды в Петербурге, или хроника пикирующей демократии
Рассказ очевидца
Нет! Этого не может быть… Неужели то была я? Я, мирный обыватель культуры, участвовала в организации протестного голосования? Я подписывала письма и сочиняла листовки? Ужасный сон! И снился он мне так недавно…
Впрочем, давайте-ка по порядку.
Всего лишь четыре года тому назад, в год своего трехсотлетия, город Санкт-Петербург представлял собой просто какой-то Брокен вольнодумства и либеральный шабаш. Дело в том, что в Питере царило неформальное и всем известное двоевластие: на Петровской набережной надзирал за Невскими берегами полномочный представитель президента Виктор Черкесов, в Смольном же не менее полномочно заседал выбранный чисто демократическим путем губернатор Владимир Яковлев.
Оба государевых человека, мужчины видные, волевые, имели какие-то таинственные расхождения между собой, а потому сильно жаловали средства массовой информации, причем в употреблении был не кнут, но исключительно пряник – стало быть, вы можете себе представить, какая пошла для журналистов малина. В горячую пору хорошая журналистская голова котировалась высоко; впрочем, лично меня ось напряжения «Смольный – Петровская набережная» не касалась. Я сидела тематически почти исключительно на «культур-мультур», вела соответствующую передачу на канале «РТР-Петербург» и писала в загадочные журналы, типа «Сеанса», которые и в библиотеках не часто встретишь. Единственное исключение представляли собой мои ежемесячные колонки в газете «Пульс» – они, да, носили вредный и ехидный публицистический характер. Хотя решительно никто в тогдашней политической жизни страны не вызывал у меня никакой симпатии, считалось, что я все-таки ближе к кругам полномочного представителя, поскольку «РТР-Петербург» располагалось в сфере влияния Петровской набережной, равно как и газета «Петербургский Час пик», где я печаталась. Газету основала и возглавляла журналист Наталья Чаплина, полномочного представителя законная жена.
В апреле 2003 года равновесная ситуация накренилась – и только в одну сторону. В Петербург как новый полномочный представитель президента прибывает Валентина Ивановна Матвиенко. Прибывает не одна, а в сопровождении вереницы слухов о том, что именно ей поручено баллотироваться в губернаторы города.
А надо сказать, что в 2000 году Валентина Ивановна уже выдвигалась в губернаторы, но шансы были так малы, что главнокомандующий, выдвинувший эту фигуру, затем задвинул ее обратно. Тогда еще было не время. Тогда еще административный ресурс только начал тренировать слабые, едва заметные мускулы. Теперь же, в 2003 году, мускулы значительно окрепли.
Не успела Валентина Ивановна поправить шарфик, сходя с трапа самолета, как социологи уже сообщили, что шестьдесят процентов населения города хотели бы видеть на посту губернатора женщину. В общем, пошел русский народный праздник «холуин». На эту тему я и написала две колонки в «Пульсе» – «Святая Валентина» и «Кто хочет женщину». (Кто ж знал, куда оно все повернет! Мы ж разболтались за время демократии, хоть пожарной трубой заливай. Ну, и залили…)
Ничего оскорбительного в моих заметках не было, поскольку я не испытываю решительно никакой личной неприязни к Валентине Ивановне. Я выражала, однако, глубокое сомнение в эффективности какого-то мифического «женского» правления, с одной стороны, и в перспективах губернаторства В. И. Матвиенко – с другой. Вообще вольнодумные мысли стали в эту пору высказывать многие питерские журналисты, поскольку очень уж резко начал меняться в отечестве температурный режим. И давление подскочило! Теперь мы бы, конечно, и ухом не повели. А тогда чувствительность еще не отбило. Мы были теплые, румяные, возомнившие о себе – эдакие пирожки из переходного периода. А переход-то заканчивался!
После выхода моих статей и статей моего напарника по передаче «Спешите видеть» на «РТР-Петербург», журналиста Дмитрия Циликина, нам стало известно о закрытии нашей передачи. Мы обнаружили политическую неблагонадежность – а отныне даже в сфере культуры должны были существовать исключительно благонадежные лица. Не забудьте: на свете 2003 год. Губернаторов, страшно сказать, ВЫБИРАЮТ. Графа «Против всех» сияет, как луч солнца на штыке. Противников можно понять: они территорию зачищают, впереди нешуточный бой. Увертюра между тем закончена: сразу после празднования трехсотлетия Петербурга, дороже и гаже которого вряд ли что было в истории, Владимир Яковлев, «не долюбив, не докурив последней папиросы» (до законного завершения его срока оставалось еще значительное время, около года) – переведен на другую работу.
Сама Матвиенко очень уж резкого отторжения не вызывает. Напрягают клубящиеся вокруг нее лица, страдающие, как правило, распространенным недугом – умственной недостаточностью. В союзе с непреклонностью фельдфебеля этим недугом, поговаривают, страдает и главное лицо, отвечающее за обновление городского телевидения – выпускница института имени Лесгафта (конькобежный спорт) Марина Фокина.
Второй трагической ошибкой штаба Валентины Ивановны становится выдавливание с «Пятого канала» (он считался губернаторским) журналистов Даниила Коцюбинского и Петра Годлевского. Историк и публицист Коцюбинский, кудрявый молодой человек, автор книги о Распутине, злостного темперамента личность, собрал в редакции журнала «Город» всех недовольных и несогласных отщепенцев-журналистов второй столицы. Несогласные высказались о будущих выборах грубо и мрачно. Москвина и Циликин объявили, что потеряли работу по политическим мотивам. В сокращенном виде тексты недовольных были напечатаны в журнале «Город» и прозвучали в телепрограмме Дани Коцюбинского – в его последней программе, разумеется.
Было наше собрание 5 июня 2003 года, в четверг. Солнце сияло. Родилась «Петербургская линия».
Даниил Коцюбинский, Сергей Балуев, Петр Годлевский, Самуил Лурье, Виктор Топоров, Алексей Разоренов, Николай Донсков, Дмитрий Циликин, Татьяна Москвина. Были еще люди. Был один человек, иуда, не хочу называть его имени – выгодно он продал потом свое местечко в знаменитой оппозиции. Да, знаменитой, потому что сверкнула и для нас молния славы – наш любимый кандидат, парагвайская певица КОНТРА ОМНЕС (так звучит по латыни – «против всех») вскоре заняла на губернаторских выборах почетное третье место! Четырнадцать процентов срубила – рекорд. Не было такого и уже не будет никогда… Как же это случилось?
А так, ничего, понемножку.
Сначала сочинилось письмецо от общественности. Дескать, тревожат нас методы, которые применяются на выборах в Петербурге. Может быть, Валентина Ивановна и замечательный кандидат, может, нет. Мы не знаем. Мы видим, что ее усиленно навязывают, что из СМИ выдавливаются все несогласные и неблагонадежные, и нам это не нравится. Хорошее письмо, я сама сочиняла, потом редактировали скопом. Каждый что-то вписывал и убирал. Довели до совершенства. Оно сейчас где-то в чьих-то сайтах подвешено – кажется, «Яблоко» подтибрило, ну правильно, чего добру пропадать. Сочинилось письмецо – осталось найти общественность, а она взяла и нашлась! Сокуров, кинорежиссер, подписал, Десятников, композитор, подписал, Борис Стругацкий подписал, Крусанов, писатель, подписал, Роман Смирнов, режиссер, подписал – в общем, шестнадцать человек, и все орлы, орлы!
И запузыриваем это на все ленточки и точечки. И бабахает письмецо от «Известий» до «Новой газеты». Тут же дружественное НТВ-Петербург (где и до сих пор есть что-то вроде новостей) подкатило с расспросами – как, мол, и что.
Дальше – больше: назвались «Петербургская линия», зарегистрировались даже официально – на имя Самуила Ароновича Лурье, он из нас самый почтенный литератор, еще с Бродским и Довлатовым дружил, пенсионер. Нашлись люди, нарыли деньги на газету – и мы издали целых пять номеров.
Все наши резвые шалости группировались вокруг стержневой идеи: фотографии приятной девушки с кошкой, той самой парагвайской певицы КОНТРА ОМНЕС (проект Самуила Лурье и Дмитрия Циликина), с агитацией в ее адрес. Дескать, хотите женщину – вот вам и женщина, притом какая. Фельетоны писали, грубили, приходилось искажать фамилии, чтоб не подпасть под строгие выборные законы – в наших текстах, к примеру, фигурировала некая Алевтина Москвиенко. Врагов нажили немерено. Друзей тоже…
Было интересно. Был как бы сочувствующий «Петербургской линии» депутат от ЛДПР, с лицом настолько хитропопым и лукавым, что черт его было не разобрать вовсе. Было одно высокопоставленное лицо, которое пригласило меня на беседу, и я сидела в пустынном зале и думала – будут ли угрожать или подкупать? – а лицо, чем-то во мне сбитое с толку, вдруг стало рассказывать, что оно само не чуждо литературе и пишет приключенческие романы под псевдонимом. Были загадочные, нежно улыбающиеся девушки, которые рьяно старались координировать действия «Петербургской линии» и после выборов почему-то уехали в Германию на ПМЖ… Была даже встреча в «Росбалте» (информагентство Чаплиной) «Петербургской линии» с Валентиной Матвиенко, куда внезапно пришла сценарист Дуня Смирнова, и, вместо того, чтобы укорять Валентину Ивановну издержками предвыборной агитации, как это пытались сделать мы, смело предложила ей создать другой, более прогрессивный штаб – видимо, с собой в главной роли. Бодро так выступила и пропала – питерские дела Дуне до дупы, ясное дело.
Был известный критик Слава К., работавший на славу Валентины Ивановны и пробовавший было прикупить каких-то интеллигентских душ, из числа пьющих водку в местной богемной галерее «Борей». Тут случился обломчик, поскольку тон в галерее задавали питерские фундаменталисты (Секацкий, Крусанов, Носов, Подольский и другие мои приятели), которые, как известно, с 1991 года ждут воплощения императора Небесной России для управления Россией земной, и гневно отрицают всякие попытки слуг и служанок стать господами. Славе К. удалось смутить только вернувшуюся из Америки бедную девушку Юлию Б., которая сочинила песню на музыку Никитина («Александра, Александра, этот город наш с тобою…»), изящно изменив слова на «Валентина, Валентина, этот город наш с тобою…» На этом талант Юлии Б. не остановился, а сочинил еще и статью в газете «Петербургский Час пик», где она утверждала, что между Валентиной Ивановной и ею есть глубокое сходство – «нас обеих зачем-то обидела жестокий критик Москвина».
На вырученные от песни «Валентина, Валентина…» средства Юлия Б. несколько дней гуляла, и, встретившись со мной в «Борее», стала кричать, что она искренне любит Валентину Ивановну и вообще – проституткой быть не зазорно, на что я кротко заметила: «Юля, в “Борее” только пять столиков», намекая на то, что ей скоро не к кому будет подсаживаться – Ленинград, как заметил еще Володин, город маленький… Было скоропалительное, истерическое собрание «деятелей культуры» советской формации в Малом оперном театре, где они выразили твердую надежду на Валентину Ивановну и подписали соответствующий текст, на что мы в нашей газете немедленно среагировали…
Да, было неплохо! Как-то полетно, да еще с товарищами. Победа была не в победе, а в упрямстве, с которым мы твердили свое старообрядческое «не приемлем». Как-то с первых, еще предвыборных шагов новой власти, было ясно, что она – не для людей. Что не только мнение просвещенного меньшинства, но и вообще никакого мнения она не будет брать в расчет. Стиль уже чувствовался, тон, поступь слоновьих ног и тяжесть медвежьей лапы.
Тогда ведь глаза еще не замылились, и Питер, сплошь увешанный плакатами, где красовались президент и Валентина Ивановна, что-то весело и бурно обсуждавшие, ужасал своим легким превращением в пошлую декорацию. А мы, как маньяки, все пробовали было объяснить этим людям, что они ошиблись городом, и с нами так нельзя.
С нами так было можно, но хочется ведь, как в известном анекдоте – «ну ты пасапратывляйся, да?». Наконец наступил этот день – 21 сентября. Выборы. Когда не было большего удовольствия, чем смотреть на их медленно каменеющие лица…
Валентина Ивановна тогда, несмотря на карманное телевидение, которое кормило ею каждый день суповой ложкой, несмотря на все плакаты и фанфары, большинства голосов не набрала. А наша девушка с кошкой вышла на третье место. Следовал второй тур.
Второй тур уже был, в сущности, безразличен – так или иначе результат ясен, но в штабах какая-то паника наступила. Ничем иным невозможно объяснить листовку «ПРОТИВ ВСЕХ – ПРОТИВ ПЕТЕРБУРГА», красно-черного цвета, которую в промежутке между первым и вторым туром немедленно расклеили почему-то во всех лифтах города. Там декларировалось, что голосование «против всех» – это «замороженный город, нищета, криминал, безработица». Надо было еще что-нибудь добавить из кошмаров – импотенцию там или сифилис. Не догадались. В моем лифте на улице Вс. Вишневского (автора пьесы «Оптимистическая трагедия») эта листовка висит до сих пор, поскольку Петербург как не убирали, так и не убирают. Четыре года. (За это время новый губернатор не наладил даже работу дворников, что уж говорить об ином-прочем, изложенном в книжечке предвыборных обещаний приятного голубого цвета с надписью «Мы живем в Петербурге», где обещалось покончить с бедностью и отменить уплотнительную застройку…)
«Ты говорила шепотом – а что потом, а что потом…» А что потом? Девушка с кошкой опять вышла на третье место, Валентина Ивановна стала губернатором, мы пошли писать свои бредни в разные сохранившиеся местечки, информационное поле Петербурга за четыре года было уничтожено, вплоть до того, что о наводнении приходится узнавать по Первому или по НТВ – «местное время» безмолвствует.
Выборы губернаторов и графа «против всех» упразднены – уж не нашими ли трудами?
Из всех участников «Петербургской линии» продался только один, ставший активным участником зачистки телевидения и вскоре получивший там две передачи в награду. Беспредел строительных кампаний достиг такого уровня, что падают дома на Невском, на улице Восстания и на Литейном. Ничего не построено – только разрушено. Закрыты магазинчики и кафе с исторической судьбой, на месте «Букиниста» – «Адидас». Ни одной приличной, авторитетной газеты. Ни одна социальная проблема не то что не решена – она даже не поставлена.
Но наша бывшая армия «Контра омнес», армия тех, кто не поленился прийти в воскресный день на избирательный участок и вставить пропеллер политической элите России, – жива. Она шипит изо всех углов, шипит на сайтах, в кружках и объединениях, в летучих товариществах, в рекламных журнальчиках. Петербург напоминает повара из рассказа Щедрина, которому барыня приказала съесть щи с тараканом. «Повар, – пишет Щедрин, – таракана, конечно, съел, но по лицу было видно, что он – ропщет».
Мелочь, конечно, а ведь из-за таких ропщущих поваров сгинуло когда-то крепостное право. Не роптали бы, так и ели бы до сих пор щи с тараканами!
«Петербургскую линию» – вспоминать приятно. Ведь, как говорил Зощенко, «писатель с перепуганной душой – это потеря квалификации». Так что, если демократию мы не уберегли, так хоть квалификацию сохранили.
А это, как говорил Ленин, – «вовсе не мелочь, или такая мелочь, которая может иметь решающее значение».
Как Новая Россия снесла Новую Голландию
А как Новая Россия снесла Новую Голландию?
Да так. Взяла и снесла. Была Новая Голландия – и нет Новой Голландии.
Вы о чем?
Я о Петербурге.
Сносят Петербург. Вы разве не знаете?
Тот самый старинный Петербург, с пустынными площадями, заброшенными поэтическими уголками и разными живописными руинами. Его сносят. Эстетическим консерваторам не договориться ни о чем с пришедшими к власти циничными прагматиками, да никто и не собирается договариваться: площади будут застроены, уголки – расчищены, руины – оборудованы по последнему слову техники. Холодными, ни о чем не помнящими руками все будет потрогано, проверено «на зубок» насчет прибыли. Все будет крутиться и сиять евростандартом.
Это называется «реконструкция», «развитие». «Петербург должен развиваться» – говорят административные люди и моргают. Петербург им задолжал, понимаете. А получат они свой должок на пластические операции да на спокойную старость – и поминай потом, как звали.
Да помянем, можете не беспокоиться, зловеще цедят эстетические консерваторы: всех и каждого помянем, и тех, кто «проэктировал», и тех, кто разрешил сносить, и тех, кто за рычагами бульдозера сидел, и тех, кто это заказывал. Список преступлений будет составлен. Игривая идея посетила одного: он предложил на территории Новой Голландии оставить Морскую тюрьму – переоборудовав ее для тех, кто участвовал в уничтожении Петербурга. Но это уж им не по чину вообще-то. В Адмиралтейском-то районе сидеть! Саблинской зоны хватит – заметили на это другие.
На одном из городских форумов, среди подобных ленивых и зубоскальных реплик питерских аборигенов, вдруг раздался вопль некоего «Алексея из Екатеринбурга»: да вы что, ребята, петербуржцы, опомнитесь! Я был в городе, видел этот чудный таинственный остров, как вы позволили его уничтожить, вы от фашистов город отстояли, а теперь что делаете!
Никто ему не ответил.
Что отвечать-то? От фашистов отстояли, так они враги. Они город бомбили, и от этого зияли пустоты. А лорд Фостер и г-н Шалва Чигиринский (совладелец компании «СТ Новая Голландия», проводящей «реконструкцию») – это разве враги? Действительно, и от их деятельности и деятельности им подобных в городе зияют пустоты и вроде даже их больше, чем от фашистских бомбежек, так разве можно сравнивать! Это же совсем другое дело. Это «развитие».
Лорд Фостер ведь два месяца не спал, создавая свой проект «Новой Голландии» – так пишет пресса. Мы ж понимаем, что человек два месяца не спит, если только он принимает определенные препараты, так как мы можем сражаться с галлюцинациями лорда? Мы их будем воплощать в жизнь…
Итак: с ХVIII века стоял искусственный, руками человеков сделанный остров, военно-морской порт, окруженный Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами, со зданиями из красного кирпича по преимуществу, с величественной, бесконечно прекрасной аркой Валлен-Деламота. Исстари этим островом распоряжались военные. Что там внутри, за краснокирпичными стенами, – видели и знали немногие, что, конечно, сильно облегчило впоследствии зачистку острова. Тебе говорят, что такие-то здания «не имеют исторической ценности» – ну, и верь на слово. Хотя вот все дома, построенные в последние годы в Петербурге по проектам г-на Митюрева (воплощающим в жизнь проект Фостера), тоже не имеют никакой исторической ценности, да и вообще никакой не имеют – чего ж это их не сносят? Археологи кричат: подождите! Не сносите! Там культурный слой, там искать-копать надо, там то, там се! Кому интересно?
Геологов и геодезистов, которые сильно сомневаются, что в принципе возможны в этом районе, насквозь пронизанном грунтовыми водами, огромная подземная парковка и тоннель, кажется, никто и не спрашивал вообще ни о чем. Не успели.
Запарка была. Надо было как можно скорее запустить бульдозер – а там разберемся. Разобрались же со снесенным кварталом на углу Крюкова и Мойки, где погибли Дворец Первой пятилетки, фрагмент Литовского рынка Кваренги, школа и жилой дом. Сначала снесли – потом заговорили о недостаточном техобеспечении проекта «Второй сцены Мариинского театра». Ничего страшного: переделаем проект на живую нитку по ходу дела. Главное – пустить бульдозер, чтоб назад дороги не было.
У питерских архитекторов, наверное, от хищной радости все время сердце стучит. Кто б мог подумать, что это станет возможно! Еще пять лет назад они получали от общественности таких дроздов в печенку за скромный какой-нибудь домик, тихо и хронически бездарно стилизованный и вписанный в историческую застройку. Архитектор Марк Рейнберг, помню, жаловался – у нас руки скованы, мы ничего не можем, мы, как вечные ученики, должны преклоняться перед своими грозными учителями.
Все, закончился ученический кошмар, вечная робость троечников перед отличниками. Более наши парни ни перед кем гордой головы не клонят – отдыхайте, Чевакинский, Росси, Тома де Томон и Валлен-Деламот. Идут настоящие гении – Митюрев, Рейнберг, Явейн и прочие. Их имен-то пять лет назад никто не знал – теперь пришлось выучить. Заставили! Сносят они нынче кварталами, приписывают свою похабщину в классический роман-город бестрепетно. Руки уже не скованы. Ничем. А теперь, когда снесли Новую Голландию, табу никаких не осталось вообще. Если можно это – значит, можно все.
Совесть?
Да у нас в Петербурге это слово никто не произносит. Ни один человек из администрации города. Ни один архитектор. «Петербург должен развиваться». Где тут место для совести, спрашивается? И триста сорок миллионов долларов на «реконструкцию» «Новой Голландии» должны дружными рядами отправляться на работу.
Деревья на острове вырубят. Они не имеют ценности.
Здания снесут, оставив только то, что совсем уж запрещено сносить, но они будут кардинально переоборудованы. Арку Валлен-Деламота, конечно, оставят. Она же известна всей России по заставке фильма «Бандитский Петербург». Прагматизм прагматизмом, но святое-то («Бандитский Петербург») святым.
Сейчас уже снесено все, что выходило на Адмиралтейский канал. Не имеющее ценности.
Вы вряд ли поверите мне, если я стану описывать, как впервые, этим летом, увидела сие жуткое зрелище – снос Новой Голландии – и как, несмотря на все свое титаническое жизнелюбие, подумала: как жаль, что я до этого дожила, чтоб стоять теперь и плакать в бессильной ярости. Ничего не спасти. Ничему не помочь. Стоять в родном городе, который будто в самом деле захватили враги. В родном городе, исчезающем на глазах. Поэтому я и описывать это не буду.
Да и что тут напишешь? Вдруг – открывается пустота. Там, где гулял десятки лет и видел таинственный остров, поросший деревьями, мрачно-романтический, дивный, сказочный, – открытая всем ветрам пустота. Огромный пролом зияет и со стороны Крюкова канала. Остров беззащитно обнажен, открыт. Никаких больше тайн. Деньги – товар – деньги. «Петербург должен…»
В проекте Нормана Фостера предусмотрено восемь мостов, так что проломы будут еще и еще, да, в тех самых, в заветных, в священных кирпичных стенах. Потому что мост же не может упираться в стенку, он ведь куда-то обязан вести.
Проект Фостера, к вящей радости администрации, получил первую премию на выставке в Каннах. Это и неудивительно: сам по себе, без городского контекста, как картинка на бумаге или макет, он, подкрепленный авторитетным именем архитектора, вполне может обрадовать любителей современного дизайна на слете «буржуазных холуев, прикидывающих, как им ловчее помочь буржуазии сожрать мир», как выразился один юный экстремал. Простим горячке юных лет.
Кстати, а что будет на острове? Главное здание, центр проекта – Дворец фестивалей, Четвертая сцена Мариинского театра. Фантастические цифры, описывающие количество зрителей, которое сможет вместить этот Дворец, я приводить не буду. Если все эти зрители припрутся реально, Новая Голландия, в которой уже ничего «голландского» не будет, а будет современная общебуржуазная пошлятина, тихо уйдет под воду.
Да, Мариинский театр определяет в Адмиралтейском районе все или почти все. Его сценами район прорастает, как березовый пень – опятами. Валерий Гергиев остановиться не может. После четвертой сцены, очевидно, будет и пятая, и шестая, и седьмая. Таков великолепный по хитроумию черный замысел – ликвидировать историческую застройку руками… деятелей культуры, чтоб не придраться было. Да, будут офисы, гостиницы, торговые площадки, но главное же – Дворец. Там будет вечный марш культуры, там, размножившись по числу сцен, что не проблема для крупных демонов, пламенный, небритый маэстро с воспаленным взглядом выдаст вам всех ваших Риголетт и Травиат, без которых вы якобы жить не можете…
Общественность Петербурга, бросившая все силы на протест против башни Газпрома, по поводу Новой Голландии уже только устало машет рукой. Фигуры общезначимого авторитета – какой был академик Д. С. Лихачев – сейчас нет, и закошмарить администрацию просто некому. Кинематографисты, скажем – народ лукавый, постоянно нуждающийся в деньгах на фильмы, потому они с властями ссориться не станут никогда. Потому-то и Алексей Герман, и Владимир Бортко внезапно вспоминают Эйфелеву башню и в мечтах предполагают, что наша башня, может, еще и понажористей будет. А писатели – те, что старой закалки, – остатки вяловатого гражданского темперамента стравили еще в перестройку, так что на современность уже ничего не осталось.
Так что немногочисленным эстетическим консерваторам, убежденным в ценности старого Петербурга и умоляющим об осторожности в обращении с ним, остается грустно писать в маленькие журналы свои слезные сердитые письма. Вот типичная позиция: реконструкция уничтожит сложившийся облик и образ острова Новая Голландия.
«Образ сурово-романтический, красивый своей пустынностью, отчасти таинственный, неприступный, чему способствовала многолетняя закрытость территории. Сочетание старинных кирпичных стен с деревьями и поросшими травой берегами двух каналов и реки Мойки создало неповторимый феномен. Это не просто набор из одиннадцати памятников архитектуры, а уникальный целостный архитектурно-ландшафтный ансамбль в самом центре “старого Петербурга”. Вот его-то и надо было сохранять как достопримечательность Петербурга.
Вместо этого предлагается создать многофункциональный комплекс, в буквальном смысле торжище, под завязку забитое зданиями и территориями общественного назначения. Определенно хотят, чтобы получилось нечто вроде нынешней Сенной площади, которая изуродована эклектикой, доведенной до полного беспредела, и забита постройками с предельной плотностью. Но именно эта Сенная начальству и нравится, и ее хочется размножать по всему Петербургу. Так будет и в “Новой Голландии”: исторические памятники, плотно обложенные новоделами, заново покрашенные, густо покрытые вывесками фирм, отелей, магазинов и ресторанов, изукрашенные фонарями и гирляндами лампочек, просто перестанут существовать… Понять же, что решать могут не только деньги, но и идея сохранения красоты и старины, – это городскому руководству не позволяет уровень культуры» (М. Золотоносов).
Эстетический консерватизм выражает мнение нескольких тысяч образованных петербуржцев, понимающих и чувствующих ценность старины, памяти, камней, накапливающих время, атмосферы и прочих невесомых прелестей. Мнения миллионов он – не выражает. Эстетический консерватизм – позиция культурного меньшинства. Он слегка тормозит современные процессы, осложняя скорость проведения «развития» всякими ритуальными жестами (вроде общественных слушаний по проектам, о которых мало кто и знает из-за разрушенного информационного поля Санкт-Петербурга). Он несколько облегчает совесть этого самого меньшинства: мы писали, протестовали, когда и если нас спросят: а где вы были, когда уничтожали Петербург, мы скажем – мы были против, вот, у нас и справки есть. Но определять стратегию обращения с культурным наследием города эстетический консерватизм не может, ибо это – свойство старых мудрых народов с сильно развитой «бюргерской» закваской. А мы народ молодой и по происхождению крестьянский, всего-то сто пятьдесят лет как из-под крепостного права. Для того чтобы прочувствовать и оценить «сурово-романтический облик» старой Новой Голландии, надо иметь инстинкт красоты, развитое чувство гармонии. Откуда бы все это взялось в нынешней лихорадке будней у средних менеджеров, рулящих сейчас городом?
Так что вместо чего-то сказочно-таинственного, поросшего травой и деревьями, вместо всего этого поэтического романтизма, абсолютно непонятного нормальному менеджеру, будет ясно и понятно что: многофункциональный бизнес-центр с досугово-развлекательной доминантой. У колонии нефтяных паразитов, каковой постепенно становится Россия, будет ведь очень много досуга.
На подходе очередной глобальный проект: выселение зоопарка. Еще неясно куда, но ясно, что от Петропавловской крепости подальше. А что там будет?
Вам действительно непонятно, что там будет?
Подбираются к самому сердцу города…
Шерсть вся дыбом, осклабились, от азарта взмокли, зубы навострили. См. сказку «Щелкунчик» писателя Гофмана. Только Щелкунчика нет.
Пока еще ничего не построено. Все только снесено. Зияют пустоты. Но через два, три, четыре года… Да вы приезжайте! Да вы не узнаете ваш старый жалкий немодный Петербург!
Вместо живописных руин вы увидите настоящее царство мышиного короля, еще и покруче того, что рисовал Шемякин.
Потому что мужа любила
Несколько почтительных слов земных о делах небесных
На краю света, в Санкт-Петербурге… Постойте! – сразу нахмурится просвещенный читатель. – В Петербурге, насколько мне известно, существует, по крайней мере, двенадцать краев света! Какой вы имеете в виду?
А я имею в виду Смоленский край света, расположенный в конце Семнадцатой-Шестнадцатой линий Васильевского острова, там, где по одну сторону не одетых камнем берегов речки Смоленки простирается Православное кладбище, а по другую – Лютеранское и Армянское.
Я здесь родилась и жила до семи лет – на углу Семнадцатой и Смоленки, в «поповском доме», скромном модерновом сооружении, украшенном всего лишь небольшими эркерами. Дом семьдесят, квартира двадцать девять, второй этаж. Во дворе дома, куда выходит окно нашей бывшей коммунальной кухни, еще растет, накренившись, моя липа. А Смоленское кладбище – просто-таки моя детская площадка. О присутствии неба я безошибочно узнаю по светлому, ничем не омраченному чувству покоя в душе, и ехать за этим мне недалеко. Может быть, здесь мне и надо было бы жить. Но тогда некуда было бы ездить!
Смоленское православное кладбище, как все старинные петербургские погосты, более всего напоминает добротный парк в английском стиле, с могучими деревьями и живописными руинами склепов. О нем явно есть постоянное попечение: даже на могилках тех усопших, чьи даты жизни не предполагают живых родственников, всегда торчит какой-нибудь трогательный рукодельный цветочек. Чисто, благолепно и многолюдно: слева от храма виднеется часовня, где народ особенно густ и словно бы чего-то взыскует, переминаясь у стен.
Это часовня Ксении Блаженной, единственной женщины-святой ХVIII столетия. Вклад Петербурга в творчество веры. Изрядный, заметим, вклад! Ибо Святая Ксения избрана народом для помощи в делах, о которых до нее не знали, кому и молиться.
Сведения о ее земной жизни поэтически скупы.
Ксения Григорьевна вышла замуж в двадцать два года за придворного певчего в чине полковника по имени Андрей Федорович Петров. Муж скончался, когда ей было двадцать шесть лет. Надев его полковничий мундир и объявив, что Андрей Федорович жив, а умерла как раз Ксения Григорьевна, раздав все свое имение и состояние, вдова начинает «странствие в миру», скитаясь по столице и нигде не ища приюта. Когда мундир истлевает, Ксения надевает красную кофту и зеленую юбку – или, по другим сведениям, зеленую кофту и красную юбку, – продолжая бродить, молиться, пророчествовать и, как постепенно замечают обыватели, приносить удачу своим расположением.
Помощь ее и при жизни, и в посмертии строго целенаправленна: она помогает в делах семейных, супружеских. Сводит вместе будущих счастливых супругов и расстраивает заведомо несчастные браки. Отводит беду от детей и шлет им удачу в полезной честной деятельности. Вдовы и незамужние девицы – ее паства: им она благоволит, с небесной прямолинейностью устраивая их судьбы в браке. Иди туда – и встретишь его; а этого гони – он злодей. Лавочники стали примечать благодатное воздействие посещений Ксении: вообще приметливый народец эти лавочники. Куда зайдет – там налаживается торговля, а заходит только к честным, порядочным, так что нарочно зазывали, чтоб пошла добрая слава. Сама кирпичи таскала на строительстве церкви, пророчествовала. Земной ее жизни было около семидесяти лет, когда умерла, неизвестно – где-то в начале ХIХ века.
Когда умерла, неизвестно, а где похоронена, известно? Как это?
Так. Примем на веру, что это именно Ксения, ее останки покоятся в часовне на Смоленском кладбище. В делах веры доказательства не нужны.
Вдумываясь в сведения о жизни Ксении Петербуржской, я поразилась простой и очевидной мысли: Святой и Блаженной стала женщина, которая сошла с ума от любви. От любви к мужу.
Сошла с ума в житейском, обычном, земном смысле слова. В небесном она была полна разума. Но мы ведь не на небе. Женщина, бродящая днем и ночью по городу в одежде покойного мужа и утверждающая, что она и есть Андрей Федорович, по меркам обыденности безумна. И сокрушила ее земной разум потеря любимого мужа. Все померкло, потеряло цену, утратило смысл. Андрей Федорович жив! Зовите меня Андрей Федорович, потому что его не может не быть, он не может умереть, пусть лучше я умру, а не любимый.
Любовь к мужу. Такое обыкновенное дело. Растет в быту, как крапива, повсеместно. Косой коси и пруд пруди.
Да-а?
Прекрасно; тогда быстренько приведите мне яркий убедительный примерчик – да хоть из великой русской литературы. Раз косой коси и пруд пруди.
(После паузы) – Ну… Татьяна Ларина.
Татьяна Ларина, отшивая некстати загоревшегося Онегина, сообщает, что другому отдана и будет век ему верна. Любит же она Онегина – «к чему лукавить»? Но есть супружеский долг, есть уважение к чувствам другого человека, и поэтому благородство натуры пересиливает фантомную возможность личного счастья. О любви к мужу речи нет.
(Пауза затягивается) – Да, в общем… Толстой, Достоевский – мимо… Хотя, впрочем, княжна Марья… но, конечно, Анна Каренина всех забивает. А может, Островский?
Островский вообще самый солнечный русский писатель. Его мир – наилучший русский мир, это наша надежда на существование русского счастья. Но, как писал Зощенко, «что пардон, то пардон». В лучших пьесах самого солнечного писателя мы не найдем любви жены к мужу. «Банкрот», «Гроза», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые»… У него в финалах некоторых пьес бывает надежда на счастливый брак, когда девушка только собирается выходить за избранника. Есть любовь мужа к жене («Грех да беда на кого не живет», «Бешеные деньги»). Но любовь жены к мужу – страшная редкость. Мелькнет она только разве в исторической пьесе из быта ХVII столетия «Воевода».
(Пауза длится долго) – Это я вспомнил Чехова там, Булгакова… Да… В поэзии как-то тоже не очень. «Мне муж палач, а дом его – тюрьма». «Из логова змиева я взял не жену, а колдунью». «Скучала за стеной и пела, как птица пленная, жена». Как-то сразу вспомнилось.
Как раз у Чехова мы найдем один случай страстной привязанности жены к мужу: Сарра в пьесе «Иванов». Но какое это мучительное, горькое, тоскливое чувство, замешанное на ужасе близкой смерти и страхе потерять личную собственность (мужа).
Сарра и не видит и не слышит его настоящего, не заботится о нем. Ты, дескать, подлец и гадина, но ты обязан быть со мной. А так самый распространенный вариант в литературе – женщина, состоящая в браке, любит другого.
(Торжествующе) – «Старосветские помещики» Гоголя! «Русские женщины» Некрасова!
И это буквально все, что удалось найти. Правильно. И все-таки не забудем, что в героинях Некрасова сказались мотивы долга, общественного служения и протеста против тирании, многие из них, кстати, и мужей-то не любили; а чудесные гоголевские растения как-то и пола-то не имеют, их совместное нежное существование замешано на неколебимом быту и вековых привычках. Тогда как в истории Ксении Петровой мы видим страстную любовь молодой женщины к очевидно нестарому мужу, лишенную всяких «привходящих значений». Это супружеская любовь в чистом виде.
Поразвлекайтесь на досуге, отыскивая в искусстве лица любящих жен – намаетесь и с кинематографом, и с театром. Вы найдете разве «Повесть о молодых супругах» сказочника Евгения Шварца, вещицу славную, которую не ставили никогда и нигде, и «Таню» Арбузова, которую ставили всегда и везде. Но в «Тане» обнаруженный героиней факт увлечения мужа другой женщиной перечеркнул все ее чувства. Для меня это бросает густую тень сомнения на ее любовь.
– В жизни-то было. Анна Григорьевна Достоевская, Вера Бунина. Было!
Было. Но в творчестве их мужей отразилось не сильно.
Есть, есть несомненный дефицит поэтически воплощенных образов любви жены к мужу. Когда требуется разыскать, спасти, обрести жениха – русские женщины идеального мира на высоте. Сто железных башмаков износят и каменные хлебы сгложут. А в браке начинают томиться и фокусничать. То ли в муках и боях обретенные женихи в мужьях оборачиваются гусями, а не лебедями, то ли сил богатырских у наших воительниц в избытке: не на мирную жизнь.
Но то идеальный мир. А реальный?
Не берусь судить да рядить, картина пестренькая и полосатенькая, и все же… глядя хотя бы на полки веселых вдовиц громокипящей современности… «Башмаков не износила!» – укорял принц Гамлет мамашу, выскочившую после смерти его отца замуж за братца Клавдия. А тут, можно сказать, и рулона пипифакса не истратив… Да еще статистика гадит: шесть разводов на десять браков…
Но то, чего нет на земле, – то и должно быть на небе! Ведь так?
Есть же у нас святая, ставшая святой из-за любви к мужу. Из-за любви, вмиг обрушившей в никуда все земные страсти и привязанности, кроме одной. Есть та, что отказалась длить земной сон без любимого, с нею Божьим законом соединенного, повенчанного. Без своего полковника певчего (что-то изумительное: и полковник, и поет! идеал какой-то!). И юродивая в красной кофте силой поэтического творчества народа становится Заступницей любви.
Пишут записочки: всех возрастов дамы, есть девицы совсем неблагообразные, раскрашенные, в неподобающей одежде, и они пишут, вряд ли о супружеской именно любви умоляя; записочки всовывают в щели кладки часовни. Вся утыкана воплями в бумажках. Нужно! Тут, на этом месте, у людей болит!
Ведь и в делах любви, супружества, подмога нужна и везение: а как же. Приданого нынче нет (вот кому мешало? Прекрасный был обычай – копить девочке приданое), стало быть, вся нагрузка – на личные качества. Внешностью не выйдешь, не повезет – и все, пропадай, жизнь. Какая страшная нагрузка на личные качества! И вот они стригут, бреют, выщипывают, красят, моют, худеют, наращивают – а потом бегут к своей Ксении. На бегу шарфиком замотав бедовую голову: в царстве строгости с непокрытой головой не принимают. Ну, ладно. Ну, помаду сотрем, а потом сызнова намажем: у вас одно, а в миру другое, кто на меня без помады-то и взглянет?
Тут обнаружилось совсем смешное: оказывается, Ксению Блаженную избрали своей покровительницей… трансвеститы. Нашли основание – она же в мужскую одежду переоделась, мужнин мундир носила. Стало быть, и у эдакой земной загогулины, как трансвеститы, они считают, есть свой кусок благоприятствующего неба, свой благожелательный святой. К трансвеститам могут вполне присоединиться и актрисы амплуа «травести» – отчего бы им тоже не получить клочок благожелательного неба? Раз уж завелась такая область Божьего попущения.
Завелась или нет? Царство строгости ценит Блаженную Ксению за одно, а народная молва – за другое. Царству строгости важен отказ от мирского имущества и странничество, а людскому сердцу нужна вся поэтическая история Ксении целиком, с безумием от любви, с мундиром Андрея Федоровича и деятельной послесмертной подмогой в делах супружества. А если небо к нам не сойдет, мы же станем штурмовать небо. И вот, в культе Блаженной Ксении уже и не разберешь первоначального текста, так густо лежат на нем наслоения человеческой мечты.
Что мне нужно? Лишь одно: Замуж выйти, стать женою. Неужели и такое Человеку не дано? —печально недоумевала в зонге одна героиня Берта Брехта. Действительно, так просто: а вот не дано же, многим не дано. Счастье в браке – редкая птица. Никак не устроиться одними своими силами. Да и Ксения с мужем три года только пожила, а если бы двадцать? Кто знает? У Ксении Блаженной уйма работы: количество просьб по одному только Петербургу неимоверно, а ведь часовни и церкви Ксении стоят повсеместно. Святая, конечно, хлопочет. Те четыре брака из десяти, которые не распадаются и тихо накапливаются в глубинах ежегодной статистики – вестимо, ее рук дело. Ксения-то помогает, но кто поможет Ксении? Осознаем грустный факт: земля более не питает небо святыми.
Да, и грязная, и грешная, и пропитанная кровью и пороками – но другой почвы для произрастания святых душ у неба нет. Иссякнут источники святости и блаженства здесь – наступит острейший кадровый дефицит и там. И тот процесс, что превратил молодую столичную замужнюю жительницу Ксению Петрову в Блаженную Ксению, заглохнет, прервется. Останутся только наши вопли и просьбы. А кто, спрашивается, будет обеспечивать небо кадрами?
– Призываете нас стать святыми?
Ну, не так резко, граждане. Начнем с элементарной праведности.
Ведь чего нет на земле – откуда возьмется в небе?
Часовня стоит, свечечки горят, люди молятся. Ладно. Хорошо. Пришли в православную часовню, не к какой-нибудь ясновидящей Капитолине, из тех, что обещает: «Приворожу мужа навсегда и насмерть, разлука с разлучницей вплоть до отвращения, гарантия 100 %». Здесь гарантий никаких нет. Здесь покоится та, в чьей жизни все было просто и честно.
Мужа любила. Потом овдовела. Все раздала. По миру пошла.Фюрер красоты
Немного о гламуре
Да и я, грешная, конечно, развлекаюсь порой, на это глядя. Подмечаю разные смешные штучки. Например, два главных женских образа в мире рекламы.
Первый: домохозяйка, мамочка-женушка, в кофточке такой серенькой вроде голубенькой, с выглядывающей в вырезе беленькой маечкой. Волосы русые, стянуты в хвостик чаще всего. Личико приятное, невыразительное, с меленькими чертами, озабоченное. Фигурирует в рекламе моющих средств, растительного масла, йогуртов, супов и макарон.
Второй: одинокая дама с роскошными формами, черты лица крупные, размалеванные, волосы длинные. На ее долю достаются: гели для душа, шампуни, шоколад, кофе и конфеты, косметика.
То есть какой строгий, продуманный мир! Та, которая подбирает себе помаду, потому что этого достойна, и стонет от блаженства под душем – она не может уже интересоваться моющими средствами и растворимыми супами. Либо ты нежишь себя, либо скребешь плиту! Одним райское наслаждение, другим вечные микробы в унитазе и ржавчина на смесителе. Нетрудно догадаться, какая доля кажется потребителям слаще и предпочтительнее. Таким образом, клянясь в любви семье, преданно якобы служа ее интересам, гламур в виде боевого авангарда – рекламы – бесхитростно выдает свою антисемейную природу. Впрочем, ловить гламур на слове смешно, ведь он, собственно, ничего не скрывает. Его философия – предельный эгоизм.
Удивительно агрессивное и жизнестойкое явление этот самый «гламур». Русскому гламуру от силы пятнадцать лет, а он уже намыл себе значительную территорию и покушается на все новые. Эдакий фюрер красоты! Император потребления, можно сказать!
К примеру, на наших глазах разворачивается потрясающая битва между гламуром и криминальным сериалом.
Криминальный сериал (с большим-меньшим элементом детектива) – это то, в чем Отечество явно отличилось. За десять лет криминальный сериал развился до жанровой чистоты классического балета, дал героев, дал стиль, стал своеобразной летописью жизни переходного периода. Ранние серии «Улицы разбитых фонарей» по повестям Кивинова вообще являют собой что-то вроде антиквариата: там запечатлены Санкт-Петербург, еще не изуродованный безумием строительных компаний, и манера игры актеров (типажный натурализм с романтической нотой), которая уже редкость.
Нетрудно понять, что криминальный сериал – область, гламуру противоположная и враждебная. Там есть все то, чего в гламуре быть не может – смерть, насилие, страдание, боль, ужас, бедность, грязь. И вдруг началась эрозия. Гламур стал проникать в кримсериал тихо, понемногу, но упорно – засылая туда своих шпионок-блондинок, реже – рыжих. Они пробирались под видом подружек, стажерок, дочерей в суровый мир кримсериала и закрепляли за собой все больше территории. Смотришь – одна вращает задом, играя в бильярд, другая примеряет платьице, третья начинает выяснять отношения с приятелем-ментом… Дальше – больше: вот уже одна совсем укрепилась и ведет расследование, за ней другая, и поперла в классическую строгость детектива гламурная чушь: цветочки, диванчики, сауны-бассейны, ты меня не понимаешь, проводи меня, мы должны быть вместе… И мир кримсериала дрогнул, поплыл, стал размягчаться, стал отливать розовым идиотизмом, дешевыми стразами, и в его суровой лексике зазвенел дамский вздор, истерические всхлипы, вздохи, и эти жуткие квазибразильские выяснения отношений в барах и на диванчиках.
Нет, гламур – это отрава, зараза, вирус, микроб, пандемия. Он разлагает и развращает все, к чему прикасается. Его надо истреблять какой-то неведомой кислотой, изводить, как стафилококк. Увидел гламур – убей его. Иначе он разложит и отравит все жанры, все пространство культуры, в котором еще можно с трудом, через трубочку акваланга, но – дышать.
Шучу, конечно. Или не шучу. Это уж как вам угодно…
Когда интеллектуалы берутся размышлять о гламуре, они тем самым расширяют зону воздействия гламура до таких сфер, до каких он бы никогда в жизни без интеллектуалов не добрался – заметил Виктор Пелевин в романе «Ампир В», и замечание это свидетельствует о несомненном уме писателя.
Действительно, то и дело возникают солидные, богато инкрустированные цитатами статьи и даже дискуссии о явлениях, которые в этом абсолютно не нуждаются, будь то книги Александры Марининой, деятельность Евгения Петросяна или реалити-шоу. Щегольски посверкивая эрудицией, образованные люди сплетают нити рассуждений, из которых вытекает, впрочем, только одно: явление, не нуждающееся ни в каких оправданиях интеллекта, получает, однако, от интеллекта санкцию на проживание в новом пространстве.
Что можно возразить, когда возражать нечего? Кай человек, все люди смертны, следовательно, Кай смертен. Каю не позавидуешь, но логика есть наука, и ее задача – разоблачить и привести к одному знаменателю как можно больше беспечных Каев. Ум осмысляет действительность, гламур – часть действительности, стало быть, ум обязан осмыслять и гламур. И вот, высокомерно ступая на вражескую территорию, ум оказывается в интересном положении человека-невидимки. Он видит, замечает, указывает, негодует, сердится, ругается – но его на территории гламура не видят, не замечают, на него не сердятся и с ним никогда не спорят. Вот интеллектуал Дугин выпустил книгу о поп-культуре, где он, как та ворона из анекдота, и так полетал, и сяк полетал – но абсолютно невероятно, чтобы его рассуждения прочли герои книги или их поклонники. Так и с гламуром: положительно невозможно, чтоб основные массы потребителей гламура стали вслед за умом рассуждать о том, что они потребляют. Это так же бесплодно и кощунственно, как верующим умствовать о Всевышнем.
Гламур обращен к главному – он предлагает путь спасения. При чем тут разум, спрашивается?
Гламурный путь спасения широк, доступен, демократичен, интернационален, веротерпим, эффективен. Гламурный путь спасения связан с главным – с красотой, женственностью и любовью. Не с их сущностью, а с их формами. Гламур можно было бы назвать демоническим двойником красоты, и это подметил еще Владимир Набоков в двадцатых годах ХХ века, обозвав рекламную семейку на плакате «стайкой демонов» и заметив со своей несносной проницательностью, что стайка эта занимается «скверным подражанием добру».
Нетрудно представить себе, что именно увидел писатель. Такой плакатик может ныне висеть в каком-нибудь немецком музее, символизируя старые добрые времена. Немецкая семья за столом: розовощекий малыш, малышка в нарядном платьице, белокурая мамаша и папаша в старых добрых усах, на столе какое-нибудь печеньице или какао настоящего немецкого качества. Мирная, уютная картинка. Счастливая семья за столом – разве это не добро? Что делает эту картинку «скверным подражанием», где изъян, в чем скверна?
Между тем скверна есть, она есть всегда, это родовая скверна гламура, в каких годах мы бы его не отыскали. Всё слишком, чрезмерно, чересчур, напоказ. Слишком рассыпчаты неправдоподобно одинаковые кудри девочки, чересчур сияют голубые глаза мальчика, чересчур сладко улыбается мамаша, вся мизансцена сделана очевидно, преувеличенно напоказ. Это декорация, маскировка, занавес, скрывающий какую-то гадость. Эти твари под видом людей собрались, чтоб людей провести, обмануть, вот и подражают изо всех сил, чрезмерно и лживо, чуждым формам поведения.
Скоро твари начнут двигаться, у них появятся голоса – сладкие, притворные, липкие. Лимонады и кофе польются неправдоподобно долгой тягучей струей. Мир «скверного подражания добру» оживет, станет огромным, подвижным, агрессивным, выйдет из кондитерских, взбухнет, переливаясь с последних полос газет, затопит улицы городов, разольется вдоль дорог, с жадным чавканьем начнет высасывать телеэкраны… Но никогда, нигде, ни в каком уголке своем он не сможет потерять главные свойства – лживость и приторность. Видимо, это его сущностные свойства.
Без всяких усилий наш глаз отличит простую фотографию красивой женщины от фотографии гламурной. Простая фотография будет решать простые человеческие задачи – показать красоту красивой женщины, настроение и мастерство фотографа, состояние времени года и дня жизни. В гламурной фотографии всегда есть агрессия, вызов, особая, чрезмерная эффектность, точно это не просто так фотография, а козырь в неведомой игре, удар, наступление, выигранная битва. Красота красивой женщины будет доведена до предела, до отвращения, до тошноты – короче, отгламурена. Но именно это нужно огромному количеству женщин. Это женщины выделяют и поглощают гламур как особую субстанцию. Гипертрофия гламура в жизни – это гипертрофия женского присутствия в мире.
Можно и так сказать: у гламура, как положено, два родителя – черт и женщина. Гламур – осуществленная чертом мечта идиоток-женщин о благополучном мире, о мире тотального эгоизма, где о страданиях приличествует читать в каком-нибудь «Караване историй». Мелкий, набитый тряпками, пошлый, жуткий, затхлый мир, который буржуазки таили в себе – выступил наружу, разбух и, перелившись за край горшочка, как та кашка в сказке, затопил улицы города.
Гламур не эстетическое, а метафизическое явление. Бороться с ним всерьез не стоит, а вот давать по лапам надо, чтоб знал свое место. Не рассуждать «о свойствах и тенденциях» надо, а реально – давать по лапам: не твое, не лезь. Верти попой на подиуме и не лезь к умным людям со своими глупостями.
Знай свое место, обнаглевший фюрер: оно не вечно и не столь значительно, как ты воображаешь.
Взлет и падение криминального сериала
Предисловие
Недавно я узнала, что замечательная журналистка Евгения Пищикова, оказывается, неукоснительно смотрит реалити-шоу «Дом-2». Да, пошаливают интеллектуалы! – без всякого осуждения, а наоборот, с дружественной симпатией подумала я. Знаю мыслителя, который оттягивается на русском шансоне запредельного качества. Известна мне группа изысканных и прославленных музыкантов, которые по вечерам включают сериал «Клава, давай!» и начинают стонать от наслаждения. То есть у многих работников умственного труда есть свои любимые «зоны отдыха» в низовых жанрах массовой культуры. Есть они и у меня.
Но, в отличие от мужественной Пищиковой, которая способна выносить действительность в огромных количествах и оттого и смотрит реалити-шоу, я не способна выносить ни современную действительность, ни современников, если они не прошли хотя бы минимальную эстетизацию. Я пыталась смотреть «Дом-2», но от лиц и особенно голосов участников у меня начались корчи. Нет, между мною и реальностью должен стоять хоть какой-нибудь сценарист, режиссер и актер, сырье я употреблять не могу. Кроме того, сильно беспокоит и отсутствие трупов – персонажи реалити все время совершают нравственные проступки без всякого наказания.
В том жанре, который я избрала для досуга, подобного быть не может.
Моя специализация – отечественные криминальные сериалы.
Определение
Криминальный сериал – это многосерийный телевизионный фильм о «преступлении и наказании», с большим или меньшим элементом детектива. Во многих сериалах есть «загадка», которую надо разгадывать, но возможны сериалы, где преступные лица известны, и упор делается на их игру, на борьбу с ними и на их поимку – таковы «Бандитский Петербург», «Бригада», «Закон», «Гражданин начальник».
Большинство известных криминальных сериалов нового времени порождены литературой. Повести А. Кивинова дали первотолчок «Улицам разбитых фонарей», романы Е. Топильской легли в основу «Тайн следствия», А. Маринина породила «Каменскую», А. Константинов – «Бандитский Петербург», Д. Донцова – серию фильмов-комиксов о Даше Васильевой, Иване Подушкине и Виоле Таракановой.
Одиноким колоссом внелитературного происхождения стоит уникальный сериал «Агент национальной безопасности», чье возникновение связано с именем режиссера Дмитрия Светозарова.
Массовому производству криминального сериала едва-едва исполнилось десять лет. Для человеческой жизни срок весомый. Для развития жанра – невеликий. Однако за эти десять лет на рекордных, бешеных скоростях исторического развития, отечественный криминальный сериал прошел все стадии бытия – от зарождения и расцвета через декаданс к разложению!
Этапы развития
1997–2000. Блистательное начало. Криминальный сериал стартует из Петербурга несколькими залпами: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия». Приводятся в движение огромные массы профессионалов кинематографа всех видов. «Криминальная Россия» девяностых годов начинает художественное самоосознание, вырабатывает в своей эстетической плоскости героев и антагонистов, складывает основные типы действия.
2000–2003. Расцвет. К первому художественному толчку добавляется техническая оснащенность, искусное развитие действия, а также развитие характерологии. Появляются крупные образы, мега-образы героев и их антагонистов: следователь Маша Швецова («Тайны следствия»), следователь Пафнутьев («Гражданин начальник»), Турецкий («Марш Турецкого»), Антибиотик («Бандитский Петербург»), судья и злодей в «Законе», дальнобойщики из «Дальнобойщиков», Саша Белый («Бригада»), Кулагин («Кулагин и партнеры»).
2003–2007. Декаданс. Во всех долгоиграющих сериалах появляется усталость материала и проникновение новых эстетических веяний – прежде всего, гламура.
Эстетика криминального сериала сдает позиции гламуру. В суровый мир «преступления и наказания» проникает пропаганда общества потребления в виде главных агентов – блондинок. Сведенные к минимуму в эпоху начала и расцвета кримсериала «личные отношения» пожирают большую часть экранного времени. Отечественный кримсериал теряет энергию и своеобразие.
Уникальность ситуации состоит в том, что весь массив кримсериала существует в живом обиходе телезрителя – и фильмы девяностых годов, и нынешние вариации существуют одновременно. По всем каналам крутятся ленты, снятые на разных стадиях развития жанра, и опознать время производства не составляет ни малейшего труда. Время запечатлелось-запечаталось в кримсериале с четкостью литографии первого оттиска.
Начало
У отечественного кримсериала нового времени есть свой «крестный отец». Это ныне покойный продюсер Александр Капица. С его легкой руки стартовали в Петербурге «Улицы разбитых фонарей» («Менты»), «Черный ворон» и «Агент национальной безопасности».
Первые серии «Улиц» снимал режиссер Александр Рогожкин, «Агента» – Дмитрий Светозаров, «Бандитский Петербург» начинал Владимир Бортко, и он же немало поучаствовал в «Ментах» как режиссер и как сценарист под псевдонимом «Ян Худокормов». Кримсериал начинали высококлассные режиссеры, питомцы «ленинградской школы» – соответственно, начальный кримсериал был плотью от плоти «Ленфильма» семидесятых-восьмидесятых годов.
Сугубая, строжайшая верность натуре, «фактуре», всякого рода мусору и корявости дней, исключительная плотность заполнения персонажами второго и третьего ряда, отсутствие идеологического пафоса, ансамблевость актерской игры – все эти приметы «германовского» «Ленфильма» мы найдем и в первых кримсериалах.
Первых «Ментов» невозможно не опознать по первым же кадрам.
В основе сериала лежало два импульса: всеобщая удрученность бедностью, уродством и криминализацией нашей жизни – и мечта о порядке и справедливости. И в «Улицах разбитых фонарей» крепко соединились житейская правда и сказка. Житейская правда была и в сюжетах, и в обстановке, и в персонажах – бедный, замызганный город, где, кажется, никогда не бывает солнца, простецкие кафе с кошмарной пищей, коммуналки, бомжи всех сортов, ужасно и красочно пьющие жители – бесконечные «бывшие люди» с обидой на судьбу, злобные корыстолюбцы… А сказкой были – герои.
Собственно говоря, команда телевизионных «Ментов» была командой ангелов. Пять ангелов справедливости: Ларин (А. Нилов), Дукалис (С. Селин), Волков (М. Трухин), Казанова (А. Лыков), Соловец (А. Половцев) – под водительством архангела Мухомора (Ю. Кузнецов). У героев не наблюдалось никаких человеческих недостатков, а единственная их слабость – к спиртному – была совершенно извинительна: столько работать! Чистые, самоотверженные, нежно любящие друг друга, ангелы были абсолютно чужды этой земле. Деньги – вздор, над их отсутствием они только посмеивались. Любовь? Хорошо бы, но никак – и все разнообразные земные партнеры, которых подсовывали ангелам сценаристы, таяли на глазах бесследно. Ангелы были усталые, но спокойные и всегда готовые к труду.
Эти ангелы справедливости, слегка замаскированные под людей, упали на грешную землю в роковой час и утолили русскую жажду порядка и правды идеальным способом – в эфире. Психологическая польза населению от них была, думаю, огромная. Но с реальными работниками правоохранительных органов у них было столько же общего, сколько у балетной туфельки с гусеницей танка…
«Сказочность» наших ментов с их нежными, добрыми лицами (напускная дубоватость Дукалиса тут же рассеивается от его застенчивой, широкой улыбки), с которыми хорошо бы играть в сказках Кошеверовой, соединяется с «житейской правдой» жизни трудового коллектива. «Улицы разбитых фонарей» – это еще и телероман о коллективе, где сложились давние и прочные отношения. Это редкость для кримсериала (будет еще только в «Тайнах следствия»), где, в основном, действует боевая пара героев.
Такую пару мы застанем в кримсериале «Агент национальной безопасности» – Леху Николаева (М. Пореченков) и его друга Краснова (А. Краско). Здесь правда жизни сильно потеснилась, уступая место другой ленфильмовской «линейке» – фильмов-утопий, фильмов с фантомной реальностью. Что это за агентство «национальной безопасности», откуда выпрыгивает к нам ласковый зверь Леха, чем оно занимается и где находится, неизвестно. Там обитают всего два начальника, точно висящие в воздухе. И всего два агента, занимающиеся не просто криминалом, но криминалом с «оттенком фантастического душегубства», как выразился Ф. М. Достоевский.
Тут уже действуют не реальные суки-бизнесмены (основные гады в «Ментах»), а всякие-разные диковинные монстры – врачи-убийцы, маньяки из спецназа, девахи-экстрасенсы, похожие на Медуз Горгон, и уроды в стиле «Капричос» Гойи. Соответственно, Леха Николаев – это уже чистая сказка, и Пореченков так и играет: мужчину, которого в жизни встретить невозможно, который может только свалиться с неба, впрыгнуть в окно, спасти девицу от сказочного чудовища и затем исчезнуть, раствориться в сумрачном воздухе фантастического Петербурга, столицы монстров.
Расцвет
Расцвет кримсериала длился около трех лет. В это время развились и созрели все основные персонажи и все типы действия. Эфир собрал десятки героев, борющихся за справедливость, среди которых были такие явные актерские победы, как Юрий Степанов – кристально честный и притом хитрованский «гражданин начальник» – и трудовой коллектив прокуратуры в «Тайнах следствия».
Строгий и точный мир кримсериала, где богатство впрямую означало преступление, а злодеи, пометавшись, обязательно сигали за каким-то хреном на крышу, откуда тушками валились вниз, почти не давал сбоев.
Это был суровый мужской мир борьбы и труда. Глотнув после работы фронтовые сто грамм, герои шли домой, где всегда были готовы к ночному звонку. Личная жизнь их была трагична. Потребление товаров и услуг – минимально. Помимо удовлетворения нравственного чувства, зритель знакомился с основными положениями Конституции и Уголовного кодекса (особенно из сериалов «Закон» и «Тайны следствия»). Некоторый сбой внесла изначально отгламуренная «Каменская», где суровый мир размягчался манерной и дешевой эстетизацией и слишком большим элементом «личной жизни» героини. Но тут же дело уравновешивалось «Гражданином начальником», где герой – вдовец, с малым ребенком на руках… «Менты» разделились на «Убойную силу» и «Оперов. Хроники убойного отдела», но оба русла все еще несли родовой отпечаток: реалистичность, слаженный трудовой коллектив с обязательной взаимопомощью, неумолимую мораль «все зло от денег». В команду оперов затесалась Абдулова (А. Мельникова), но до поры до времени, пока не появился несносный И. Калныньш в роли влюбленного в нее бизнесмена, она еще была терпима.
Однако даже в пору расцвета стали слышны ноты декаданса.
Продемонстрировал этот процесс потрясающий и боюсь что невольный художественный эксперимент Российского телевидения. Летом 2006 года канал РТР показал все серии «Тайн следствия» сначала в порядке появления, а потом в обратном.
«Тайны следствия» (режиссер И. Макаров, затем А. Бурцев) тоже на первых порах склонялись к верности реалиям. «Питерский реализм» давал могучие плоды, весело используя ту самую, замызганную, неказистую жизнь, что была всегда под рукой. С ее мокрым снегом, нищими больницами, идиотским криминалом, с ее вечным безденежьем честных людей и единственным спасением – дружбой между ними.
Автор цикла романов про следователя Машу Швецову писательница Елена Топильская живо и сильно рассказала о буднях работы районной прокуратуры. Следовательская работа груба, монотонна, связана с невеселыми местами вроде морга или кладбища. Здесь своя специфика, свой жаргон, своя «профессиональная деформация». Масса конкретных подробностей (вроде такой: для прокуратуры «злодей» не ругательство, а профессиональный термин, здесь так просто и говорят – «злодей был доставлен тогда-то», «на допросе злодей сказал») придает книгам Топильской несомненную ценность. Кстати, Топильская сама и стала сценаристом сериала, что избавило его от холодных корыстных рук всяких окопавшихся на этом хлебе халтурщиков.
«Тайны следствия» выдали россыпь актерских удач.
И даже не красавица Маша, Анна Ковальчук, стала главной удачей, хотя она мила и хороша, не надоедает и кое-какие «оценки» играет точно. Отменно выразительны все лица второго ряда – прежде всего, чудесный Вячеслав Захаров (прокурор Виктор Иванович), один из лучших питерских актеров, совершенно недооцененный. Смешной, обаятельный, «патологически натуральный» в духе Евгения Леонова доктор Панов – Андрей Шарков. Уморительная секретарша Зоечка, типаж из типажей – Юлия Яковлева. Прелестный идиот Филонов – Игорь Григорьев. Добротный опер Винокуров – Сергей Барышев. Домашний, аппетитный, аж с ямочками на щеках опер Курочкин – Александр Новиков, и многие другие.
И вот, завелась такая маленькая экранная жизнь, где добро побеждало зло – спокойно, обстоятельно, не чураясь грязи и крови, ковыряясь в дурном тяжелом быту. Красавица Маша в сереньком пальтишке устало и привычно вытаскивала лист бумаги – опять писанина около трупа, а дома муж злится и ребенок тоскует. А что делать! Никак не обойтись без Маши, потому что она умница, талант. И вот, в то время как ее ровесницы обольщают миллионеров и трясут грудками на подиумах, Маша бегает по подворотням да «злодеев» опрашивает…
Однако хищные птицы «большого рейтинга», окрыленные успехом фильма, вцепились в новорожденный сериал мертвой хваткой. Дальше! Больше! И жизнь стала утекать из этих когтей, и картинка стала все более красивой, искусственной, «гламурной», а лица актеров все более кукольными, а новые введенные персонажи все более неинтересными, ненужными, а сюжет все более выморочным. И вот уже и Маша меняет наряды и моргает вечно накрашенными ресницами, и улыбается накрашенным ртом, с которого никогда не сойдет помада.
Но когда канал РТР сделал нечто небывалое, показав «Тайны следствия» в обратном порядке, то случилось вот что: неделю за неделей мы шли назад по реке времени и, так сказать, «разгламуривались».
Исчезали дорогие машины и мобильные телефоны. Погода портилась и приближалась к реальной. Ухудшалось качество алкоголя. Дорогие модельные наряды превращались в скромные костюмчики. Испарился, слава богу, второй Машин муж – бесцветный вальяжный бизнесмен – и проявился настоящий, первый, бедный ревнивый придурок, пьющий с горя. Маша плакала, сердилась, у нее болели зубы, распухла щека. Все оживало как по мановению волшебной палочки! Бедная, грубая, тяжелая, но живая и бесконечно обаятельная в своем несовершенстве жизнь проступала в застывшей гламурной маске популярного сериала…
Обнаружились и главные агенты пожирания внутреннего мира «кримсериала»: блондинки. Именно появление в «Тайнах следствия» стажерки Ольги (в нее моментально влюбляются двое героев) сигнализировало о смертельной опасности.
Декаданс
Итак, господствующая эстетика «нулевых» годов, а это эстетика гламура, начинает пожирать эстетику девяностых – эстетику «криминальной России» в духе натуральной школы. Женский мир искусственной красоты, дорогих тряпок и «давай поговорим о наших отношениях» атакует суровый мужской мир перестрелок, выпивки после работы, моргов и злодеев, падающих с крыш.
Агенты гламура – в основном, блондинки – подселяются в кримсериал под каким-нибудь невинным предлогом. То стажерка, то девушка опера, то сестра, то жена, то милая владелица кафе. И все – погиб сериал! Начинается дикая утечка энергии. Блондинки тормозят развитие действия, рвутся в мир дорогих ресторанов и подиумов, требуют шуб, машин, дач, садятся на диваны и собираются «говорить об отношениях», что и проделывают, к несчастью!
Заглянув в «Бандитский Петербург-6», обнаружила сразу двух блондинок, из которых одна сразу пошла в ванну, напустив туда пены, – я выбросила диск. Конец игры. Включила «Ментов-7» – и там появилась, сияя волосами и зубами, Лера Кудрявцева в роли хозяйки кафе. Выключила. Конец игры.
Блондинка в классическом кримсериале может максимум лежать возле двери своей квартиры в виде окровавленного трупа! Или проходить как второстепенный свидетель. Она даже преступницей быть не может – преступления организуют, как правило, женщины средних лет с волосами цвета красного дерева или баклажан. Но агрессия гламура неумолима.
Ярким примером декаданса стал сериал «Ваша честь», о работе суда (РТР, 2007), где судьей была разведенная блондинка (Наталья Вдовина). Хотя дела разбирались в этом суде довольно интересные, живые – блондинка ничего лучшего не придумала, как завести роман с прокурором, заодно флиртуя с адвокатом! Гламур соединился с кримсериалом, и получился отвратительный монстр – с гламурным телом, но с лапами кримсериала…
Однако время декаданса принесло и своеобразную победу: сериалы по Дарье Донцовой. Телесаги про Подушкина, Васильеву, Романову и Тараканову сняты вне эстетики «натурализма», но в достаточно новой для ТВ манере. Это комиксы, изначально минующие всякое правдоподобие, с легким отношением ко всему на свете и юмористическим стилем игры. Комиксовый стиль абсолютно подходил книгам Донцовой и высвободил некую новую энергию кримсериала.
Сказочный элемент очищен тут от правды жизни и суровый стиль девяностых выброшен за ненадобностью. Фильмы по Донцовой – это милый вздор, разыгранный в хорошем темпе хорошими актерами полностью «в легком жанре». Нет и обязательного для кримсериалов прошлого осуждения богатства. В этом легком идиотском мире все являются легкими идиотами, абсолютно все.
Возможно, какая-то часть кримсериалов и пойдет по пути комикса. Однако это путь обочинный, маргинальный, а основной путь сейчас забит разлагающимися трупами кримсериала образца девяностых годов. Призраками прошлого, которых живо теснит новая, гламурная кримсериальная реальность.
Сценаристы впихивают в сюжеты как можно больше блондинок и вещей. Маниакально увозят персонажей на курорты к морю и за границу. Вместо честного бильярда – непременного атрибута кримсериала девяностых – появляются экзотические виды спорта и все более дорогие машины. Противостояние «ангелов справедливости» и «злодеев» размывается, и, например, в «Ментовских войнах» бандиты практически уже неотличимы от ментов…
Что ж, прощай, великий русский криминальный сериал! Ты уходишь в прошлое и сам становишься историей. Как и все на этом свете.
Досуги невеликих людей
Сама не знаю, почему и отчего, но вот уже восемь лет снимаю дачу в Комарове, знаменитом поселке под Петербургом, где раньше жили сплошь великие люди. Был ли у меня некогда тайный прицел – расположиться поближе к компактному мемориалу великих, чтоб со временем, так сказать… ну, тоже выбиться в люди? Вот писатель Валерий Попов, проживающий в «ахматовской будке» (легендарной крошечной госдаче Анны Ахматовой), периодически высовывается из нее и кричит туристам: «Я не Анна Ахматова. Я – писатель Валерий Попов!», и в этом смиренно-горделивом возгласе есть же нечто вроде скрытой надежды. Звонкое имя «Валерий Попов» – не просто современный бонус к исторической будке, но и само по себе звучит.
Попов хороший. Личная жизнь его ужасна. Он сам описал ее в нескольких художественных произведениях – поскольку что же еще ему, бедолаге, описывать? Когда он находится в некотором отдалении от своей личной жизни, ему в этой жизни нравится решительно все. Простое и красивое, словно рубленное грамотным топором, длинное лицо писателя сияет от радости и восторга. Не знаю, насколько в таком состоянии можно руководить Союзом писателей Санкт-Петербурга, что делает Попов много лет, но, с другой стороны, а в каком состоянии надо быть, чтоб им руководить? Я там была один раз на выборах, прости Господи.
Ахматовскую же дачку-развалюху недавно отремонтировал некий отец родной, искренне тянущийся к культуре. Вложившись в будку, отец родной не стал скрываться от культуры, и в день рождения А. А. А. прилюдно спел несколько собственных песен под гитару на стихи великих поэтов. Скептическое шипение насчет того, что «они за просто так будок не ремонтируют», мы решительно отметаем. Пел отец родной с душой. Имел право!
Праздник проходил в конце июня на свежем воздухе и собрал изрядное количество интеллигентного народу. И вот опять-таки вопрос, являлся ли весь этот народ «бонусом» к прошедшей истории или среди него тоже было немало будущих великих людей? Выступал матерый писателище Андрей Битов с живописно помятым ликом. Шутил изящно. Битов великий или нет? У собравшихся в лицах было незлое напряжение, точно они именно этот вопросик и решали. В конце вечера нам дали послушать запись Ахматовой, читающей стихотворение «Мне голос был…», соответственно в записи двадцатых годов и – шестидесятых. Голос двадцатых был, конечно, молодым, но интонационно столь же недосягаемо-царственным. Нет! все-таки пропасть лежит между «теми» и «этими». Такое царственное титаническое самоуважение, каким обладала А. А. А., нынче никому не по карману. Нам уже надо искать какого-то «своего места» – Ахматова же, подобно многим великим ее современникам, свое место создавала сама.
А мы тихо живем, шелестим бумажками, ходим по дорожкам. Ну, невеликие мы люди, так и что. В мире всегда есть все, что нужно миру, – и если бы мир нуждался в великих людях, так они бы в нем мигом завелись. Видно, не нужны.
На кладбище прибавляется знакомых имен каждый год. Это, собственно, главные «комаровские новости» – вести с кладбища. То у Курехина крест вдруг повалится, то вот памятник Андрею Краско поставили. «Ничего памятник-то?» – «Ничего, ничего». А у моего учителя, чудесного литератора Евгения Соломоновича Калмановского, какая-то сволочь сбила и унесла чугунный крестик. Дескать, нечего «соломоновичам» кресты на могилах держать. Хоть бы руки отсохли!
Налево от кладбища, в лесу, кто-то неизвестный и, видимо, фантастически ушлый, воздвиг одинокий домище. Окрест на много километров жилья нет. Но прямо возле кладбища, может, даже в санитарной зоне – есть. Кто этот загадочный незнакомец? Почему его потянуло поселиться подле могил? Что он поделывает полнолунными ночами? Никто не знает, жителей дома никто не видел, звуков жилище не издает, а между тем автокатастрофоемкость дороги, идущей от кладбища к Щучьему озеру, тихой сапой возрастает.
Огромный одинокий домина возвышается и слева от станции, безумное фэнтези девяностых из красного кирпича. Прямо напротив государственной резиденции, где некогда проживал властитель Ленинграда Г. В. Романов. Теперь сюда – весьма редко – приезжает В. И. Матвиенко. Но ее хотя бы на съемках передачи «Растительная жизнь» кто-то видел. Мифического же бандита по прозвищу «Комар», которому, как говорят, и принадлежит фэнтези у станции, не видели никогда. В ворота никто не заходит, из дома никто не выезжает. Даже в самую прекрасную погоду над мрачными башнями таинственного строения висит маленькое темное облачко… Да, непросто здесь и нечисто.
Это прекрасно знает Ирина Снеговая, филолог, мать родная здешних мест – основательница комаровского музея. Музей занимает помещение бывшего магазинчика на Цветочной улице (вспоминается «Незнайка в Солнечном городе»!). По субботам и воскресеньям Ирина лично ведет экскурсии, знает о Комарове почти все и мечтает о восстановлении здесь разрушенной церкви Святого Духа. Однако все попытки собрать средства хотя бы на часовню кем-то или чем-то блокируются.
Ирина, библиотекарь Елена и глава местной администрации (мужеска пола) представляют в Комарове цивилизующее – просветительское – начало. Периодически Ирина и Елена спокойно, гордо и просто убирают чудовищную помойку на Озерной улице, куда автомобилисты скидывают на полном скаку мусор, по счастью не оставленный ими на озере. Для того чтобы напрочь излечиться от любви к отечественному человечеству, если такой редкий вид галлюцинаций у кого-то остался в заводе, надо съездить на Щучье озеро, в хорошую погоду, в субботу днем.
Здесь в голову приходят тревожные вопросы – а что, эти люди, гадящие под себя, наделены избирательным правом? Да кто разрешил?? Своими мерзкими шашлыками они превратили золотой песочек берега в серую дрянь. Чудовищные горы мусора громоздятся в окрестном лесу на каждом шагу. За состояние кабинок для переодевания хочется кого-нибудь найти и четвертовать. Катера, которые носятся, в обход всех запретов, прямо над головами у купальщиков, тянет взорвать.
Здесь НИЧЕГО НЕТ. Ни туалетов, ни шлагбаумов, ни вместительных урн, ни воды попить, ни милицию позвать. Биомасса вытаптывает траву – в озере мало кто купается, поскольку они не утрудились даже научиться плавать и не переносят прохладной воды. Мне это на руку – середка озера всегда свободна и чиста, к тому же я люблю холодную воду. А какая еще вода может быть на Севере? Нет, эти убогие переминаются, точно цапли на берегу, как будто их вчера эвакуировали из тропиков, и орут на своих бедных детей, которые пока нормальны и лезут изо всех сил в спасительную воду. «Максим! Максим! Я сказала – выйди из воды!» – и тащит ребятенка с ругательствами за тощую лапку… А ведь купаться в холодной воде – один из немногих простых и верных путей к здоровью в больном городе. Впрочем, шут с ними. Буду я еще тут днем с фонарем у них разума искать. Мимо, мимо.
Я хожу до озера пешком. Иногда ругаюсь с адреналиновыми агрессорами из катеров или с любителями включить музон в машине на полную. Всегда находится поддержка из публики. Меня трудно классифицировать по внешнему виду, и почему-то многие думают, что я из правоохранительных органов. Типа следователь прокуратуры. Не опровергаю – почему бы нет…
У главы здешней администрации (мужеска пола) бюджет скудный. Однако он с упорством дятла кладет асфальт и устанавливает указатели – со скоростью примерно три-четыре указателя в год.
Недавно автомобиль на 1-й Дачной сбил небольшую серую кошку. Кошка печально стыла у обочины и на горе попалась на глаза композитору Олегу Каравайчуку, который живет в Комарове круглый год и большую часть суток носится по дорожкам, развивая нечеловеческую скорость. Знаменитый композитор, малолетним вундеркиндом сидевший на коленях у Сталина, теперь бесплотен, носит длинные волосы и беретку, питается воздухом и чувствует под ногами все искривления и дрожания земной оси. Он пришел в администрацию, потрясенный гибелью кошки, с требованием установить на 1-й Дачной «лежачего полицейского». Решение было принято, но на его выполнение уйдет два года. Смерть кошки целиком на совести водителя, потому что комаровские кошки исключительно законопослушны и ходят только по обочинам дорожек.
Иногда Каравайчук покупает себе горсть черешни или головку чеснока. За этими дарами природы приходится ехать в соседнее Репино. В Комарове чудовищные, плохие и дорогие продовольственные магазины (всего два). Еще в начале девяностых Комарово попало в некую кошмарную разборку банд, в память о которой осталось прямо возле станции несколько сожженных магазинов и лавок. Ржавые остовы их так и стоят памятником переходного времени, а на само Комарово словно легла непонятная тень – здесь в плане бытовых услуг опять-таки НИЧЕГО НЕТ.
В самом дорогом дачном месте пригорода – ни ресторана (только на побережье, с астрономическим ценами), ни кафе пристойного, ни бани, ни кино, ни эстрады, ни одного промтоварного магазина. Почему я тут живу – объяснению не поддается. Заманило!
У меня своего-то тоже ничего нет, и чем дольше живу, тем больше сомневаюсь я насчет собственности – а стоит ли ее обретать? Говорят, нас таких, лишенных чувства собственности, где-то 15–20 % от числа всех жителей Земли. В общем, немало. Целый континент можно было бы заселить. Представляю, как бы мы славно там набезобразничали. А пока у нас один выход – пользоваться услугами 80–85 % жителей Земли, имеющих чувство собственности. Такова моя нынешняя хозяйка, Галина Михайловна К. Это без всяких скидок человек героический.
Ей около семидесяти, она вдова и бывший палеоботаник. Изучала следы реликтовых растений. Обычно по этим следам можно многое узнать в геологии, и палеоботаника когда-то была делом важным. Теперь ничего этого больше нет. Галина Михайловна – дочь Михаила К., работавшего в Отечественную войну врачом на Дороге жизни, человека, пользовавшегося огромным авторитетом у комаровчан. Галина Михайловна чтит память отца и несколько иронически относится к «Блокадной книге», которую писали в свое время А. Адамович и Д. Гранин (Гранин – комаровчанин). Считает, все там сокращено и приукрашено. Галина Михайловна тоже в авторитете и пользуется заслуженной славой женщины исключительно разумной и способной постоять за права невеликого человека великой страны. Несколько лет назад она добилась переноса платформы ближе к рельсам – ибо за рельсы и платформы отвечают разные ведомства, и однажды случилось так, что между делами этих ведомств образовался изрядный зазор, так что отдельные некрупные люди в него падали. Добившись того, чтобы одна некрупная, упавшая из поезда под платформу женщина пошла к врачу и закрепила повреждения справками, Галина Михайловна вступила в переписку с ведомствами и победила.
Этим летом ЖД в разгар сезона опять стала менять платформы, увлекшись идеей бесконтрольного садизма над невеликими людьми. В поезде голосом полузадушенного гоблина внезапно кто-то предупреждал: «На платформе “Солнечное” выход из первых двух вагонов», и люди паническими стадами бежали в начало поезда. «На платформе “Репино”, – меланхолически чеканил гоблин, – выход из последних трех вагонов» – и народы мчались в конец железного ада. Эдак всю дорогу.
Но бороться с этим витком измывательства Галина Михайловна уже не в силах. Зимой она живет на проспекте Маркса и сражается за то, чтобы в пешеходной доступности был хоть какой-то продовольственный магазин. Пока ничего нет – надо ехать остановок пять, стало быть, иметь постоянное дело с общественным транспортом. В зачищаемом под новую буржуазию Петербурге ликвидировано большинство продовольственных магазинов – добыча пищи становится уделом сильных и здоровых.
Галина Михайловна глубоко презирает администрацию города за, как она считает, лживость и корыстолюбие в сочетании с клиническим непрофессионализмом. Она слушает радио «Свобода» – но в этом году «Свободу» в Питере немножко ликвидировали, перевели на частоты, которых Галина Михайловна не знает. Поэтому слушать ей больше нечего, читать она не может (глаза), перемещаться в пространстве трудно (ноги). При малейшей возможности Галина Михайловна копается в большом саду, возится с цветами, которых у нее в изобилии. Оранжевый домик, стоящий в глубине участка, утопает в цветах: особенно хороша дорожка от калитки, обсаженная сладостно благоухающими в августе белыми и алыми флоксами.
Я снимаю полдомика и живу в тишине, подле старых вещей.
Недавно обнаружила залежи журнала «Новый мир» начала восьмидесятых годов. Там печатались известные советские писатели – Иосиф Герасимов, Юлий Эдлис, Анатолий Приставкин, Георгий Семенов и многие другие. Приятно было сознавать, что я носитель эзотерического знания, ибо нет шансов, что на свете еще кто-то возьмет в руки романы типа «Жизнеописание» или «Городской пейзаж» с их нечитаемым кошмаром вязких многостраничных описаний исчезнувшей жизни. Старались, каждый день садились за машинку или даже рукой писали. Не утруждая зад каждый день, таких эпосов не настрогаешь. Странные, болезненно работоспособные люди. Может быть, они и живы. Но этой литературы больше нет. И той литературы, что пишется сейчас, через двадцать лет не будет. Останется кто-нибудь абсолютно неожиданный, на кого и не подумаешь. Как остался от шестидесятых Венедикт Ерофеев. Кто-то, кто зад не утруждал, а взял да спел короткую песенку…
В моем полдомике нет никаких примет нового времени. Хорошо работается, отлично спится. Удивительное комаровское сочетание мифического величия и реального убожества держит весь организм в состоянии глубокого, но ограниченного контакта с действительностью. Это весьма неплохо для умственной работы. Я чувствую себя… впрочем, зачем изобретать эпитеты?
Я просто чувствую себя.
Господа, подвиньтесь! – А господа и не думают подвигаться
Недавно в Петербурге проходил конкурс композиторов имени Андрея Петрова. Конкурс себе и конкурс, с весьма солидным жюри (Тищенко, Слонимский и др.), с двумя секциями – академической и эстрадной. С одной стороны мэтры, богато декорированные своим прошлым, с симфониями, операми, знаменитыми песнями, с другой – конкурсанты, в основном, их ученики. Возрастного ценза на конкурсе не было, а потому в «эстрадной секции» победил… Анатолий Кальварский. Семидесятитрехлетний советский композитор, эстрадный классик, имя которого известно всем, кому вообще хоть что-то известно. Новых имен конкурс не открыл.
Между тем весь эфир страны забит ведь какими-то «песнями» нынешних, современных композиторов, и песни эти поются на «стихи» каких-то нынешних, современных версификаторов. Но они на конкурсы не ходят. Их жизнь, в отличие от жизни мэтров прошлого, происходит уже как бы в безымянном зазеркалье, и для того, чтобы стать Лицом, Именем, Фигурой, современному популярному композитору надо обладать дополнительными бонусами: оказаться братом популярного певца (случай К. Меладзе) или самому петь (Лагутенко, Земфира). Собственные достоинства музыкального текста недостаточны для популярности. Кажется, личности, вроде Андрея Петрова или Александры Пахмутовой, более невозможны. Композиторы должны смириться с этим и остаться подспорьем, материалом для настоящих, активно действующих в поп-культуре фигурантов. Вроде бы так. Хотя при каждом удобном случае безымянщик выползает и пытается как-то самоутвердиться, выдавая тем самым подспудную тоску по былому, когда усы Яна Френкеля и лысинка Богословского были выучены страной назубок.
То же самое смирение обязаны проявлять поставщики литературного материала для издательских «проектов». Они и проявляют, правда, всякий «негр» мечтает стать «белым» и бывает, это удается. Пересмотреть свое место в современной культуре, по идее, должны были бы и актеры, не претендуя уже ни на какое самостоятельное творчество, а упростившись до знаков режиссерского письма. Но, для видимости смирившись, актеры то и дело бунтуют, сооружают моноспектакли и сами организуют антрепризные бенефисы. Напрасно, но упорно настаивают на личных фамилиях и «бумажные критики» – хотя анонимное реагирование на все факты искусств в Интернете значительно превосходит их числом и оперативностью. А производители киношной муры настойчиво и отчаянно ставят свое имя перед титрами, как Феллини и Бергман, подделываясь под каноны авторского кинематографа.
То есть эволюция массовой культуры вроде бы ведет к полному разделению труда: за Лицами, Именами (которые по большей части сконструированы, придуманы как образ) стоят огромные безымянные коллективы подсобных работников. Но нельзя сказать, чтоб эти безыменщики согласились полностью на свое положение. Массы хотят диктовать культуре – и у них многое выходит. А вот чего-то главного не получается.
Это ситуация для нас довольно новая. Ведь романтическая концепция культуры, состоящая из гения и толпы, была лишь слегка преобразована в советские времена в плодотворное противостояние ответственного совслужащего и воспитуемых масс. Это тех же щей да пожиже влей. Какие бы зигзаги ни проделывала в советские времена идеология, формы и способы функционирования культуры не менялись.
Те же выставки, те же оперы-балеты, те же театральные и филармонические залы, куда собирается публика в поисках восторга от таланта, и пускай театр носит имя Ленинского комсомола или другого какого советского чудовища, там играют пьесы в нескольких действиях, а на подмостки выходят такие же, как и при царском режиме, артисты. Так же по вечерам раскрываются томики книг – хорошо, не Тургенев, а Фадеев, Симонов, Трифонов, так и что? Все они являются личными Именами и описывают с помощью тридцати трех букв алфавита простыми и сложными предложениями жизнь человека. Русская социальная революция именно в культуре и не совершила ничего принципиально катастрофического и нового.
Новое приходит только сейчас и, не умея еще объяснить себя, оглядывается на «романтическую», «господскую» культуру и глухо, тяжело мычит, пытаясь выразить свое с ней несогласие. Все формы и способы функционирования, все основные герои этой романтической господской культуры, которую делали господа, намеренно и твердо отделяя себя от толпы, новоприбывшему вроде как противны.
«Оно» знает: пока не будут сломлены механизмы культурного воспроизводства, полной победы и полного воцарения не произойдет.
Но сломать их пока что невозможно! Все культурные «линейки», запущенные романтическим типом культуры, действуют исправно. Ни одно свято место не пустует. Допустим, нет Чайковского и Рахманинова. Но есть Десятников и Мартынов, Карманов и Губайдулина, и они упорно пишут музыку, при всех новациях – традиционную, очерчивая и утверждая таким образом место академического композитора. Нет Станиславского и Мейерхольда. Но есть Додин и Фоменко, Гинкас и Женовач, и ареал театрального режиссера-автора спектакля по-прежнему обитаем. Нет Толстого и Чехова. Но есть Маканин и Пелевин, Петрушевская и Улицкая – и самогонный аппарат индивидуального литературного творчества пыхтит исправно. Вдобавок, все великие господа, которых как бы на материальном носителе нет, живейшим образом действуют в культуре (единственном на земле виде условного бессмертия). Они даже поживее живых будут – если вспомнить, кого больше читают и слушают, Чайковского или Карманова, Толстого или Маканина.
Что же делать? Как утвердить формы культуры, где не будет больше несносных «господ», то есть личностей, сильно отличающихся от толпы, носителей Дара, мастеров, умеющих многое, а потому выбивающихся из строя?
Атака (пока довольно хилая и плохо организованная) ведется по двум направлениям: во-первых, следует усомниться в ценности продуктов «господской» культуры, во-вторых, усомниться в личности самих «господ». Есть такой закон: все, что когда-то возвышено – должно когда-то быть унижено. Господская культура, основанная на священных текстах и канонизированных личностях, возвышена так, что неминуемо должна была прийти пора ее унижения.
И вот то и дело натыкаешься на чей-нибудь жалкий лепет: то болтун-журналист крякнет, что читал он Достоевского и не понравилось ему, то скорбная головой актриса заявит, что «Гроза» Островского – плохая пьеса, а ей станут вторить посредственные режиссеры, что да, плохая, и Чехов скучный, и Бомарше какую-то дрянь написал. И выходят книги вроде «АнтиАхматовой» Тамары К., в которых господа разоблачены вплоть до нижнего белья.
И поскольку все эти шалости весьма локальны, на них можно было бы и внимания не обращать. Ну, кто-то пописал в море – что морю-то будет? Но я ловлю эти сигналы постоянно и внимательно: говорит толпа. То есть хочет говорить устами своих избранников. Ей надоела господская культурная тирания, когда надо, понимаете ли, становиться в позу подчинения. Молча сидеть и «внимать». Господа накапливаются с каждым поколением, наращивают свое присутствие веками и угрожающе нависают над головой в виде плотного, вечно жужжащего облака фамилий, сведений, произведений – такую массу толпе уже не прокормить! Нужна жесткая ротация. Строгий отбор «господских» имен и занятий. Кто на самом деле гений, а кого раздули? Какие профессии в искусстве дают право на личное имя и романтическую позу «вещания», а какие нет?
В поисках каких-то основ для этой ротации и для этого отбора люди толпы, допущенные к публичным высказываниям, и пытаются доморощенным, самодельным способом что-то противопоставить тирании господ. Остановить инерцию культурных механизмов, что-то пересмотреть, перепрограммировать. В этом есть смысл и это могло бы получиться хотя бы отчасти – но для этого надо обладать особыми свойствами. Для начала – не иметь личной корысти, личной заинтересованности в этой желанной ротации.
Вот дефектолог по основной профессии Тамара К. развязно и с ненавистью, с позиций обывательского «гений, говорите? Ну-ну» прокомментировала жизнь и творчество Ахматовой. Мужчины, которые были у Анны Андреевны, Тамаре даже присниться не могут. Слава Ахматовой недоступна «АнтиАхматовой» даже в горячечных мечтах. Одним все, другим – ничего! В этом типе культуры, основанном на идее Дара, дико несправедливом, абсолютно безжалостном к маленькому человеку – Тамаре К. как фигуранту нет места. Только как потребителю – сиди, смотри, читай, слушай. Но ведь можно хотя бы завопить от обиды и плюнуть на эту высокомерную, злобную, лживую культурную махину-машину, которая заведена века назад и никак не может остановиться. В результате Тамара К. именно на эту машину и поработала – слегка померкшая в пореформенной России звезда посмертной славы А. А. А. начинает разгораться с новой силой.
Или вообразите себе положение человека, на первый взгляд, далекого от толпы, вполне достойного, образованного, даже пишущего, но лишенного полновесного Дара – если он страстно полюбил, например, выдающуюся скрипачку. Как ему жить мирной семейной жизнью, когда ее Дар будет постоянно нависать над бедной головой и напоминать, что у кое-кого Дара нет. Можно, конечно, найти внутри себя жабу и задушить ее. А можно написать статью, в которой усомниться вообще в привилегиях музыканта-исполнителя в нынешней ситуации, когда искусство возвращается к своей прямой обязанности – обслуживать миллионеров, и любой «лабух» всего лишь приправа к пищеварению на банкете, дрессированная обезьяна. Блеснуть образованностью, помянуть музыкантов прошлого вроде Гайдна и Моцарта, которые, дескать, тоже служили пищеварению богатеев – «забыв» при этом, что Гайдн и Моцарт служили королям и князьям, а не охреневшей от пожирания мира буржуазии. То есть как бы легко и ненавязчиво щелкнуть «по носу» своей подружке (не воображай, дорогая!). И что? Утолит ли тем самым этот человек свои мучения? Никоим образом – все останутся на своих местах: красавица скрипачка на своем романтически-господском, буржуи на своем, а утомленные музыкальные критики, мечтающие о дне, когда наконец закроются к матери все эти филармонии, – на своем.
К традиционным способам жизни культуры добавляются условно новые, но при этом и прошлое никуда не девается. Одни пианисты играют перед жующими миллионерами, другие нет, и никто не лучше и не хуже никого, и ни один вид культурного бытия не отменен. Пелевин пишет о вампирах и оборотнях, а писатель Г. Ананьев недавно выпустил в издательстве «Граница» книгу в четырех томах под названием «Орлий клекот». Читатель, представь себе этот орлий клекот в четырех томах и не грусти: Божий мир так велик и разнообразен, в нем сохранен даже такой редкий вид внеприродной жизни, как советская литература. А в Венеции соорудили выставку машин Леонардо да Винчи – по его рисункам и чертежам, огромная выставка дивной архаичной механики, смотри и любуйся на пра-велосипед, пра-самолет… И жующие миллионеры тут ни при чем. У культуры какой-то свой, не механический, не четко-прикладной к действительности и времени путь, и здешние «господа» – какие-то совсем другие, чем реальные заправилы и хозяева бренной жизни. Их невозможно свергнуть.
Ничего не выходит! Господа никуда не деваются и даже подвинуться не хотят! Ведь у закона «все, что возвышено, – должно быть унижено», есть четкое продолжение.
Все, что унижено, – должно быть возвышено.
И ругающие Островского и Бомарше режиссеры вынуждены ставить те же самые, «господские» пьесы, потому что зритель на другие ходит неохотно. И приходится писать книги о тех же самых господах, потому что даже ругань на них бодро покупается. И немного растерявшие аудиторию филармонии через некоторое время будут переполнены. И дошедшая до черты исчезновения фигура поэта возобновится с такой силой, о которой мы сейчас и не подозреваем.
И постепенно понимаешь, в чем обреченность «людей толпы» и почему они ничего всерьез противопоставить господам не могут: они им жутчайшим образом завидуют и сами хотели бы стать господами. Они не построят «новой культуры» – безымянной, абсолютно массовой, функционирующей по-новому. Они, если дать им волю, построят обезьяний остров для слуг и служанок, переодетых господами, и будут воспроизводить все то же самое, только с собой в главной роли! Они сами хотят звенеть личным именем и ставить толпу в позу подчинения. Если массы бессознательно желали иметь своих «агентов» в культуре и продвинуть через них свои настроения, действительность эти мечты опровергла. Агенты сами через какое-то время заражаются «господскими» настроениями и хотят того же самого. Покушаются на господский трон, только с негодными средствами. Переплавляют свою естественную любовь к господам в искусственную, натужную ненависть. Требуют от господ подвинуться, а не то… А что – «а не то»? Режиссер Кирилл Серебренников рассердится на плохого драматурга Шекспира и ставить его больше не будет? Ну мы прямо обрыдаемся все…
Игра в «возвышение-унижение» культурных авторитетов и занятий – неизбежна и закономерна, особенно при каждой крупной смене облика жизни. Хроническое (боюсь, что субстанциальное) отсутствие меры и вкуса в России, конечно, часто придает этому достаточно невинному занятию раздражающий колорит. Что касается настоящей культурной революции, при которой бы сменился сам тип культуры, то ее основных признаков пока не видно. На наш век филармоний хватит.
Эдельвейс русской литературы[1]
Феномен Тэффи
«Какое очарование души увидеть среди голых скал, среди вечных снегов, у края холодного мертвого глетчера крошечный бархатистый цветок – эдельвейс, – пишет в своих “Воспоминаниях” Тэффи. – Он говорит: “Не верь этому страшному, что окружает нас с тобой. Смотри – я живу”… Милое, вечно женственное! Эдельвейс, живой цветок на ледяной скале глетчера! Ничем тебя не сломить. Помню, в Москве, когда гремели пулеметы и домовые комитеты попросили жильцов центральных улиц спуститься в подвал, вот такой же эдельвейс – Серафима Семеновна – в подполье под плач и скрежет зубовный грела щипцы для завивки над жестяночкой…
Такой же эдельвейс бежал под пулеметным огнем в Киеве купить кружева на блузку. И такой же сидел в одесской парикмахерской, когда толпа в панике осаждала пароходы.
Мне кажется, что во время гибели Помпеи кое-какие помпейские эдельвейсы успели наскоро сделать себе педикюр…»
Даже переписывать эти ласковые, насмешливо-нежные слова – одно удовольствие. Они глубоки и умны. И при этом нисколько не агрессивны. Тэффи не говорит миру – Господи, какая ж это гадость из тебя вышла, и какой ужас мне, тихому Божьему человеку, и всем нам, кротким, душевным, жалостливым, жить здесь. Названная многими исследователями «единственной в истории литературы писательницей-юмористкой», Тэффи просто поет свою очередную ладную песенку. Найдя в мире то, на чем глаз отдыхает, что душу успокаивает, веселит и радует – милых женских «эдельвейсов». Всех этих Зоечек, Симочек и Катенек, чудесных российских дамочек дореволюционных лет издания, которых смела железная метла истории и которым осталось жизни – в миниатюрах их богини. Недаром они обожали ее.
«Здравствуйте! Ну! Что вы скажете за мое платье?»
Но, собственно говоря, и сама Тэффи – удивительный «эдельвейс» русской литературы. Среди суровых, бородатых, идейных вдруг вырос эдакий цветочек, красавица-умница, франтиха, брови полукружьем, глаза огромные, волосы пшеничные, на гитаре играет и песенки поет. Это в начале прошлого столетия было редкостью, прелестью – девушка с гитарой.
К мысу радости, к скалам печали ли, К островам ли сиреневых птиц — Все равно, где бы мы ни причалили — Не поднять мне тяжелых ресниц.Все ценили – даже Николай Второй и Ленин. Все печатали, звали, ждали в гости, улыбались при встрече. Дурного слова никто не оставил. Беспримерный талант и беспримерная жизнь Тэффи заключают в себе словно бы какую-то надежду (ведь и звали ее – Надежда), вот будто где-то в плотном, жестоком, грубом облике мира дырочка завелась, и оттуда – теплом тянет, светом что-то посверкивает, что-то там нежное, трогательное, чудесное…
«Неживуч баран. Погибнет. Мочало вылезет, и капут. Хотя бы как-нибудь немножко бы мог есть!.. А шерстяной баран, неживой зверь, отвечал всей своей мордой кроткой и печальной:
– Не могу я! Неживой я зверь, не могу!
И от жалости и любви к бедному неживому так сладко мучалась и тосковала душа…»
Так что же, наша Тэффи – это весть из царства души?
Подождите. Не надо торопиться. Не так все просто.
Жизнь Тэффи оказалась долгой (1872–1952), творчество – постоянным, наследство – обширным (более полутора тысяч рассказов, очерков, новелл, а также стихи и пьесы). Щедро и доброкачественно исполненное бытие – но в «малых формах». «Большие формы» Тэффи искренне смешили.
«Как, должно быть, скучно писать роман!
Во-первых, нужно героев одеть – каждого соответственно его положению и средствам. Потом, кормить их, опять-таки принимая во внимание все эти условия. Потом, возить по городу, да не спутать – кого в автомобиле, кого на трамвае…
Как тяжело на протяжении пятнадцати печатных листов нянчиться со всей этой бандой! Обувать, одевать, кормить, поить, возить летом на дачу и давать им возможность проявлять свои природные качества.
Хлопотная работа. Кропотливая. Хозяйственная…
Недаром теперь в Англии романы пишут почти исключительно женщины. Считают, что это прямой шаг от вязания крючком».
Единица жизни – один день. Единица творчества – то, что можно за этот день написать, запечатлев его живое дыхание, проблески мысли, накат впечатления. У Тэффи, конечно, есть вещи, которые за один день не напишешь – хотя бы великолепные «Вспоминания», но и они составлены из кусочков-камешков, самодостаточных фрагментов-звеньев. Возиться с бандой героев и одевать-обувать ее на пятнадцати листах Тэффи была не в состоянии – самые лучшие певчие птицы не поют сутками.
Она дебютировала поздно. Первые стихотворения были опубликованы в самом начале прошлого века, а постоянные выступления в печати начались в 1904–1905 годах. Надежде Александровне Лохвицкой, одной из дочерей знаменитого адвоката, было в то время около тридцати лет. Настоящая же слава пришла еще позднее, в 1910-х годах, когда вышли сборники рассказов писательницы. Ей уже было под сорок.
Так же поздно дебютировала современница Тэффи – великая актриса Вера Комиссаржевская. Неудачная семейная жизнь съела ее молодость, и затем жизнь творческая, человеческая стала развиваться на огромных скоростях, точно желая наверстать упущенное. Тэффи такой опасности избежала – она начала не героиней, а ловкой субреткой, писать стала будто невзначай, слегка, «на башмачки заработать». От ее отлично вылепленных юмористических миниатюр за версту несло Антошей Чехонте, юным Чеховым, который тоже, резвясь и шутя, зарабатывал смешной литературой себе – или, скорее, мамаше с сестрицей – «на башмачки». Что ж, вот он и появился здесь, в нашем рассуждении, вечный учитель-мучитель интеллигентных женщин, доктор Чехов, и место его должно быть особым образом отчеркнуто.
Итак, почему Тэффи начинает печататься в тридцать лет?
«Уговор сестер» Лохвицких, которые все были литературно одарены, но сговорились выступать по очереди и главное – не мешать самой гениальной из них, Мирре Лохвицкой, мне кажется позднейшей выдумкой или, во всяком случае, благородной болтовней гимназисток. Никто такие уговоры никогда не выполняет, хотя, конечно, в девичестве все в чем-то клянутся. Чем бы Тэффи вообще могла помешать Мирре? Их таланты соприродны не были.
До того как воплотиться в слове, Тэффи немало прожила, выражаясь по-современному, «в реале». Женой выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского университета Владислава Бучинского, матерью троих детей (две девочки, мальчик), жительницей города Тихвин, куда направился на должность ее муж. Об этом периоде жизни Тэффи известно не много, хотя тот факт, что при разводе дети остались с отцом, кое-что проясняет. Но еще больше проясняет устойчивая трагикомическая пара из многочисленных рассказов Тэффи: тупой ревнивый муж и жена «с запросами», пишущая стихи и велеречивые письма неизвестным адресатам. Например, несчастная жалкая дама-приживалка из рассказа «Домовой», натирающая по вечерам щеки творогом к ужасу стыдящейся ее маленькой дочери («Мама! Не надо в зале плясать! Мама! И зачем ты щечки творогом трешь! Мама, зачем у тебя шейка голая? Мамочка, не надо так…»). За дамочкой приезжает некто «в шубе, огромный, бородатый», начинает, трясясь от гнева, читать присланное ей кем-то любовное письмо, обвинять в изменах.
«– Коля! Я бедная маленькая птичка, не добивай меня!
– Птичка? – удивился он и прибавил почти безгневно, с глубоким убеждением: – Стерва ты, а не птичка».
Рассказ уже поздний, тридцатых годов. И все-таки позволю себе предположить, что брезжит в нем нечто личное. Конечно, металась Тэффи (тогда просто Наденька) в глухо-провинциальном Тихвине, и жалела свою молодость, и щечки терла творогом (всю жизнь упорно следила за собой – закон эдельвейса!), и писала стихи и письма, и муж ревновал, и не было счастья совсем.
И вот – поменялась жизнь. Развод, Петербург, редакции, знакомства, театры. Прорезается талант. Соприродный сотворившему ее в слове «отцу», А. П. Чехову. Да, творчески Тэффи – дочь Чехова. Поэтому явление дочери-Тэффи точнехонько после смерти отца-Чехова на том же поприще – закономерно. При нем-то живом какая в ней могла быть нужда? Но вот он умер, а пестрый многонаселенный русский мир, с Каштанками, Ваньками Жуковыми, щеглами, свирелями, адвокатами, нянечками, приказчиками, хористками, умными разговорами по женскому вопросу в поездах и имениями у речки, остался и, видоизменяясь, требовал своего рапсода.
Так появилась «девушка с гитарой».
Вот завела я песенку, А спеть ее – нет сил. Полез горбун на лесенку И солнце погасил… По темным переулочкам Ходил вчера Христос, Он всех о ком-то спрашивал, Кому-то что-то нес…Что за чудо, что за прелесть были эти русские интеллигентные дамочки, рожденные во второй половине девятнадцатого столетия и воспитанные доктором Чеховым! Не было таких и не будет никогда. Доктор был строг. Доктор требовал идеала. Женщины должны были быть образованны – и притом уметь хорошенько одеваться и следить за собой. Работать – и при этом быть не б…, а быть помощницей мужу и воспитывать детей порядочными людьми. Им разрешалась любовь – но только оплаченная огромными душевными страданиями и муками совести. От них требовались чуткость, такт, изящество всех душевных движений, правильная речь, деликатность, поэзия. Мещанок в розовых платьях с зелеными поясами, ором на прислугу и прочей пошлостью быта, Доктор уничтожал со скоростью три шутки за печатный лист. Вечно-женственное, а не вульгарно-бабское «манит нас ввысь», как говаривал Гете!
То, что где-то по большому счету это одно и то же (вульгарно-бабское тоже часть вечно-женственного), не признавалось. Догадки были – но отметались властью идеала.
И они, средние русские дамочки, дочери адвокатов, купцов, актеров, врачей, священников и профессоров, стали всерьез, изо всех сил, «соответствовать». Стараясь как-то совместить шляпки с Шопенгауэром, детей с вечерами новой поэзии, флирт с муками совести, православие с кокетством и должность жены с изяществом душевных движений. В миру это бывало комичным, и Тэффи смеялась – над ними, вместе с ними, над собой.
На войне – обернулось комком ужаса за них и жалости к ним.
«Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она “не кто-нибудь”, она говорила ребенку по-французски с милым русским институтским акцентом: “Силь ву пле! Не плер па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей!”».
Из двух только фраз вырастает потрясающий безымянный образ. Голые ноги, грудной ребенок, дождь, бездомье, беженство, гражданская война, «силь ву пле не плер па» (пожалуйста, не плачь)… Таких были тысячи, и французский «с институтским акцентом» тем, кто из них выжил и вырвался, очень пригодился. Тэффи и об этом напишет, но сейчас опять вернемся под дождь, в Новороссийск. Что сказала бы в такой ситуации баба? «Заткнись, ублюдок», не иначе. Но этой, в парусиновых лаптях, которых она и так до кошмара стыдится, предписана ведь деликатность, поэзия, изящество душевных движений! Она обязана показать миру, что она «не кто-нибудь». Не пошлая мещанка. Ей этого, собственно, и доказывать не надо, потому, что это так, но она привыкла показывать и доказывать кому-то незримому свое, так скажем, «полное служебное соответствие»…
Тэффи бы явно понравилась Доктору. Она соответствовала почти всем его претензиям к женщине. Даже ее убийственная насмешливость как-то смягчалась добродушием и нежностью к людям. Мережковскому, который завел в своей квартире обычай класть цветы у подножия статуэтки святой Терезы, она заметила: «Вас, Дмитрий Сергеевич, как настоящего беса, все тянет юлить около святых». Другую бы Мережковские съели с костями и тапочками. А Тэффи как-то ничего, с рук сошло. У исследователей Тэффи я часто читала совершенно справедливые слова о том, что писательница, помимо юмора, обладала глубиной зрения, душевной тонкостью, жалостью к миру, бывала пронзительна и печальна, с удивительной красочностью и нежностью рисовала в своей прозе портреты детей и животных. Все это так. Однако чего бы стоила жалость и нежность без светлого и острого разума, без меткой, исключительной насмешливости? Мало ли в литературе дамочек, плачущих над детками и кошечками.
Феномен Тэффи в том и состоял, что переплавилось, соединилось все в одной личности – дух и душа, природа и ум, острота слова и мягкость чувств. Что-то в высшей степени важное и существенное – удалось, получилось, вышло… Воспитали, можно сказать, из женщины человека. Перечитываешь ее миниатюры и видишь: все живо, все так или иначе смешит, увлекает, дает наслаждение и радость.
«Больших идей» у Тэффи не было. Но были поразительные догадки о мире, как в очерке «Человекообразные». Оказывается, рядом с людьми, созданными Богом и передающими из поколения в поколение своим потомкам живую горячую душу, существуют человекообразные, проделавшие гигантскую эволюцию от кольчатых червей, гадов и амфибий.
«После многовековой работы, первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему больше жить нельзя. Что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь… За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы… Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землей. Уж много раз приходилось человеку преклоняться перед их волей. И теперь уже можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, а будут стоять на месте и его остановят. А может быть, кончат с ним и пойдут назад отдыхать. Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах…»
Что тут добавить, когда картина ясна. Сто лет прошло с тех пор, как «юмористка» написала эти слова, и все так сбылось: завладели человекообразные землей, остановили человека и повернули назад отдыхать. Они изобрели все свое, человекообразное – политику, телевидение, искусство, юмор. Там, где человекообразные гогочут над шутками человекообразных, люди конфузятся и отводят глаза… Да, «идей» у Тэффи не было. Был просто – ум.
Я часто перечитываю «Воспоминания» Тэффи, где запечатлена история ее бегства из России. Причины этого бегства объяснены ею, как всегда, кратко и исчерпывающе: «Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать».
Однако в «Воспоминаниях» беженство описано как невольный и даже где-то забавный случай: два антрепренера предложили Тэффи и Аверченко выступить в Киеве, и вот они поехали через взвихренную Русь, в компании милой актерки Оленушки и старых актрис с китайскими собачками на руках. И, через Киев и Одессу, понесло-завертело писательницу злыми ветрами и вымело наконец из погибающей Родины навсегда.
Это уникальный текст. Он плотно набит людьми и событиями страшными, горькими, непознаваемыми. Жизнь героев висит на волоске. Они пробираются дикими тропами, сквозь анархию, кровавый разгул, где властные человекообразные разгуливают в шубах с дырками от пуль на спине, снятыми с убитых, а тварь-комиссарша расстреливает людей лично, у крылечка, и тут же отправляет естественные потребности. Но рядом с Тэффи, точно охраняя ее, действует невероятный антрепренер Гуськин – возможно, один из самых смешных персонажей мировой литературы. Деликатно названный Тэффи «одесситом».
Речи Гуськина можно выписывать целиком и читать вечером семье у камина. «Все пойдет, как хлеб с маслом», «а он спит, как из ведра», «буду молчать, как рыба об лед», «проще порванной репы», «здесь жизнь бьет ключом по голове», «битые сливки общества», «я буду мертвецки удивлен» – эти и тому подобные, впоследствии затасканные анекдотические словечки, придают Гуськину бодрый и крепкий водевильный оттенок. Невозможно спокойно читать, как Гуськин, натолкнувшись по пути в Киев на немецкий карантин, пытается спасти ситуацию.
«Карантин? Какой там карантин, – лепетал Гуськин. – Это же русские писатели! Они так здоровы, что не дай Бог. Слышали вы, чтобы русский писатель хворал? Фа! Вы посмотрите на русского писателя!
Он с гордостью выставил Аверченко и даже обдернул на нем пальто.
– Похож он на больного? Так я вам скажу: нет. И через три дня, послезавтра, у них концерт. Такой концерт, что я бы сам валом валил на такой концерт. Событие в анналах истории…»
Или заходит в голодные дни разговор о ресторанах.
«Я таки порядочно не люблю рестораны, – вставил Гуськин. – … И чего хорошего, когда вы кушаете суп, а какой-нибудь сморкач сидит рядом и кушает, извините, компот.
– Чего же тут дурного?
– Как чего дурного? Притворяетесь! Не понимаете? Так куда же он плюет косточки? Так он же их плюет вам в тарелку. Он же не жонглер, чтобы каждый раз к себе попадать. Нет, спасибо! Я таки повидал ресторанов на своем веку…»
Что это? Реальный человек? Наверное, какой-то реальный антрепренер и был, и вез Тэффи в Киев. Только великий Гуськин не с него писан точно. Эти интонации мы встретим во множестве ранних рассказов Тэффи, так будут говорить ее многочисленные «одесситы», косноязычные, хлопотливые, шумные, уморительные, хитро-глуповатые, незабываемые. Гуськин – их квинтэссенция, их вершина, точка, последний бал-маскарад.
И именно его Тэффи берет с собой в «Воспоминания» – чтоб защититься от ужаса действительности.
Через гражданскую войну ее проводит, как Вергилий, ее собственный персонаж!
Он делает нечеловеческое человечным. Он улаживает невозможное. Он поселяет автора в избушки, кормит, сажает на поезда, дотягивает до цивилизации. Очаровательно-идиотический, комично-важный, анекдотический Гуськин создан Тэффи, как буфер внутри текста, чтоб отчаяние не залило душу, чтоб не взбунтовался разум, чтоб не дрогнули, не расплылись в крик, в черный плач формы вверенного ей русского слова!
В эмиграции Тэффи работала много и прекрасно. Эти люди приехали на чужбину – но в некотором смысле ведь и на родину. Созданный Петром мираж русской европейской цивилизованности нашел свой последний приют по месту обитания оригинала. В Париже Тэффи ждал ее родной брат Николай, генерал. Огромное число друзей и почитателей. Здесь ее даже подстерегало позднее (Тэффи за пятьдесят) личное счастье по имени Павел Тикстон, промышленник и джентльмен. Она становится его «гражданской женой» и счастлива с ним (он умер перед началом Второй мировой).
Женственность Тэффи, казалось, не имела изъянов. Всегда щеголявшая обновками и, как говорят, перед смертью попросившая пудреницу и зеркало, она обладала полным набором милых дамских пристрастий: драгоценности, духи, цветы, легкая мистика, кошки. И при этом – никаких «феминистских» наклонностей. Женщины Тэффи не хуже и не лучше мужчин, как русские не хуже и не лучше евреев, а собаки не хуже и не лучше кошек. Такие существа, вот и все. В отличие от серьезных писательниц ХIХ-ХХ веков, которые служили большим идеям и подражали великим писателям, Тэффи не брала на себя никаких крупных долженствований, мученических страстей, обязательных служений. Она пришла в слово живая – в новой шляпке, с подслушанным вчера разговором и забавной историей, случившейся в прошлый вторник, с живым неугасимым интересом к людям.
Талант ее нисколько не слабел – взять хотя бы к примеру сборник «Ведьма» 1931 года, с исключительной, почти лесковской почвенной силой письма. Но с годами, конечно, нарастала грусть, печалование, душа. Какую-то дорогую сердцу музыку все труднее было найти и расслышать…
«Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела – видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя… Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у голубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.
– Вот и все? Ну, пойдемте спать.
– Н-да, – сказал кто-то, зевая. – Это птица – насекомое, то есть я хотел сказать – низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда – чудесно?»
Напоследок хочется сказать какую-нибудь глупость, вроде того, что книги Тэффи должны быть в библиотеке каждого читателя. Не знаю, зачем я это написала. Наверное, захотелось что-нибудь сморозить в духе какой-нибудь дамочки из рассказов Тэффи. Она смеялась над ними, потому что любила их, как родных. «На правах дуры съела полкоробки конфет». Это она так о себе…
Не скажешь – безоблачная жизнь. Потеря Родины, сложные отношения с детьми, благосостояние умеренное и постоянным трудом добываемое. И все же тянет и от жизни и от книг Тэффи неизменным теплом и светом, и веет надеждой: человек в женском образе возможен, и кто его знает, может, бывал Господь и женщиной на земле?
Да и не раз?
Примечания
1
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке статьи знатоку творчества Тэффи Сергею Князеву.
(обратно)



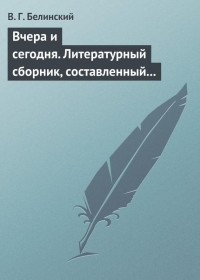

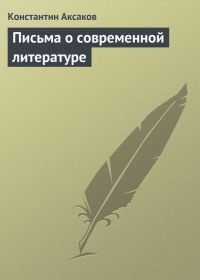

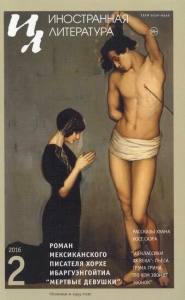

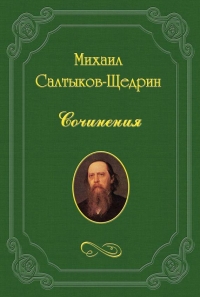

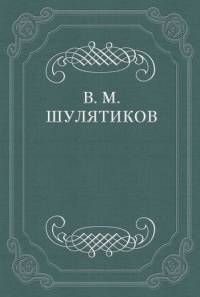
Комментарии к книге «Ничего себе Россия!», Татьяна Владимировна Москвина
Всего 0 комментариев