Татьяна Москвина Страус – птица русская Пестрые рассказы об искусстве и жизни
О чем шелестят листочки
Верните пирожные, гады!
Если я люблю (а я люблю) эклеры фабрики «Север», это не значит, что я тоскую по тем временам, когда кремлевские старцы киванием дрожащих голов вводили войска в Афганистан. Почему-то считается, что советские ценности положено брать все вместе, как когда-то набор продуктов к празднику. Хочешь, чтоб дворники вернулись? – отрекайся от свободы слова. Желаешь ребенка на лето сплавить в государственный лагерь? – опускаем железный занавес. Бесплатное образование понадобилось? – это у нас выдают только в связке с единым политднем и психушками за инакомыслие.
Ну почему?! А-у-у-а! – как пела Земфира.
Не хочу я менять свободу слова на корзиночку с кремом и повидлом, а хочу сперва насладиться корзиночкой с кремом и повидлом, а потом блаженствовать, распоряжаясь свободой слова.
А не получается.
По-моему, мало кто обращает внимание на удивительную национальную особенность: наши самые главные кондитерские предприятия не просто сохранились, но до сих пор живут под своими советскими именами. Фабрика имени Н.К. Крупской, «Север» и «Метрополь» в Петербурге, Бабаевская фабрика и «Ударница» в Москве. До сих пор можно купить старинные чудеса – «Мишку на севере», шоколад «Вдохновение», трюфели и монпансье. Кондитеры наши работают весьма достойно, одна беда – просматривается тенденция заменять старое новым по линии пирожных.
Ищу заветную корзиночку с масляным кремом – на прилавках какая-то гадость. Корзиночки с белковым кремом, например. Или с размокшей курагой. Господа, корзиночка из песочного теста с курагой не является пирожным! Это суррогат для бухгалтерш малых предприятий, которые решили с понедельника сесть на диету и во вторник закономерно ощутили глубокую грусть. В среду съедается вот это самое безобразие с курагой, после чего тоска становится уже непреодолимой, и в пятницу с криком «А пропади оно все пропадом!» в дело идет половина (лучший случай) торта «Прага».
Кондитерские изделия, пришедшие к нам вместе с демократией, не менее отвратительно-причудливы, чем она. У них идиотские названия – например, «Графские развалины». Может, кому-то и повышает аппетит мысль о том, что останки неведомого графа удачно выражены с помощью белкового крема, посыпанного хлопьями третьесортного шоколада. Мне нет. Я – принц Гамлет, герой драмы бытия, я желаю связать распавшуюся связь времен. Поэтому «Метрополь» – это булочки со сбитыми сливками, «Север» – это эклеры, буше, трубочки, «картошка» и венец творения, перл перлов – корзиночка! Почему к этому в нагрузку обязательна руководящая роль КПСС, я не понимаю. Уж конечно, товарищ Сталин не потерпел бы никаких «графских развалин» и при нем торжествовали бы исключительно корзиночки с кремом, может быть названные «Победа» или «Заря», неважно. Но я не хочу получить мои корзиночки с таким обременением и робко интересуюсь, нельзя ли обрести свое скромное обывательское счастье как-нибудь полегче, без исторических мучений?
Я понимаю драму, которая происходит на наших кондитерских фабриках. Там сидят технологи, разумеется, «из бывших», потому что какие еще сейчас могут быть технологи, и тихо держат классический ассортимент – основу разумного и вкусного потребления. А к ним на голову сваливаются директора, разумеется, «из новых», потому что какие еще сейчас могут быть директора, и начинается петрушка, исчерпывающе охарактеризованная великим Мюллером Леонида Броневого: «Они все фантазеры, наши шефы, им можно фантазировать, у них нет конкретной работы». Новый директор начинает петь об инновациях, необходимых «в наше время, когда…». А в наше время женщины находятся в состоянии паники, поэтому сидят на диете и лихорадочно листают глянцевые журналы, дабы понять, что же нравится Тарантулу, без которого никак (пока) не получается плодиться и размножаться. И в консервативный кондитерский рай вторгается ад местного идиотского гламура.
Теперь важен не вкус пирожного, а то, что так волнует обезумевшую потребительницу, – как она/оно выглядит. Отсюда фальшивый блеск белкового крема, все эти бездарные и бессмысленные разноцветные обсыпки, затейливая форма при слабом и примитивном содержании и пр.
Ведь как выглядит эклер? Просто и прекрасно, как Петропавловский собор. Его нельзя улучшить, дополнить, потому что он совершенство. Эклер невозможно реформировать, его можно только воплотить в реальность, как платоновский эйдос, чистую идею вещей. Такова же корзиночка с ее классическими пропорциями теста, джема и крема. Подменить хоть один компонент в этой композиции – все равно что поменять колонны у Исаакиевского собора. Но как раз над классикой сегодня и принято издеваться, и деструктивные тенденции культуры постепенно доползли до невинного оазиса чистейшего профессионализма, до кондитерского рая, где до сих пор не баловались преступным авангардизмом!
Вот – начали. Хожу по городу, ищу свою корзиночку, напоминаю сама себе питерского сумасшедшего, который входит в магазин военторга и спрашивает, в каком году вышли «Четки» Ахматовой. Нет, они, мои любимые пирожные, еще есть, как еще есть всё хорошее на этом свете, но, чтоб его отыскать, требуется особое «грибное счастье», то есть удачливость в находке, интуиция, фарт…
Главное, какую малость ищет человек! А вот. У нас такая земля, что хорошее малое обязательно связано с большим гадким. Никак не добиться автономии.
Хожу и шепчу сердито:
Закрыты мне в космос дороги,
И райский проект на земле
Свернули бессильные боги
И скрылись на помеле.
У двери гламурного ада
Кричу я в бесстыжие рожи:
«Отдайте пирожные, гады!
Снежное шоу
Я прекрасно помню, как в школе нам рассказывали о жизни древних людей, которые так страшно боялись природы, что рьяно поклонялись ей, для чего были выдуманы разнообразные боги.
Рассказ велся в тоне ласковой беззлобной насмешки над несчастными, у которых в их глухое первобытное время просто не было альтернативы. Они не знали, что поклоняться надо не природе, а товарищу Ленину, товарищу Сталину и коммунистической партии.
Действительно, товарищ Ленин с товарищем Сталиным и коммунистической партией являлись таким стихийным бедствием, что перед ним померкли все старомодные природные катаклизмы. Ни одному землетрясению, ни одной чуме и холере не удалось ликвидировать столько народу, сколько удалось строителям коммунизма.
Но вот Отечество вышло на новый виток своего беспримерного развития в никому не известном направлении. И поведение архаических народов, трепетно обожествлявших природу, как-то явно придвигается все ближе и ближе.
И не только к Отечеству.
Смотрю новости, как пишут на секонд-хендах, – «из стран Европы». Там ударил снегопад. И вдруг вижу до слез знакомые картинки: переполненные вокзалы с ревущими детьми, усталые замученные люди, орущие в телекамеры на произвол чиновников, согбенные фигуры, еле бредущие из-под очередной катастрофы…
Батюшки-светы! Сделать из России Европу вряд ли когда-нибудь получится, но сделать из Европы Россию – легче легкого! Один хороший снегопад – и все дела. И мигом сдувает с гладких лиц мелкобуржуазную заносчивость и демократическое самоупоение. Вот, оказывается, что отличает русские лица – печать страдания, так ее нетрудно поставить на любое человеческое лицо.
Поторопились мы выбросить на помойку древних богов. Нынешней зимой, когда состоялось выдающееся «Сноу-шоу» – снежное шоу какого-то космического Славы Полунина, – эти боги ох как пригодились бы.
Господа, вы бы знали, как я надоела сама себе за десять лет, что я твержу: дворников нет, нет, нет. Это беда, да, да. Не надо строить долбаных башен и небоскребов, а надо город убирать, мать, мать. Я, может, хочу писать о любви бедной Лизы к неверному Эрасту, а не вопить, как некормленый попугай, об одном и том же. Цитирую свою статью, опубликованную два года назад: «Я утверждаю как пешеход: ни в Москве, ни в Петербурге не убирают как следует улицы. А чаще всего их не убирают вообще, особенно в зимнее время. Благодаря изменению климата, выражающемуся в четкой череде оттепелей, идет некая самоочистка городов. Но если бы этой “милости к падшим”, то есть череды оттепелей, не было, страшно представить, что бы началось».
А вот уже и не «страшно представить» – все сбылось. Материализовалась потрясающая картина полного отчуждения граждан от собственной жизни, от своей вроде бы страны, от своего родного города. Даже такой положенной нам естественной малости, как дворники, мы – десятилетиями! – добиться не можем.
Господа, у нас народовластия (демократии) сейчас меньше, чем в XVII веке.
Мы имеем примерно то же самое государственное устройство: царь рассылает воевод на кормление по своему указу и снять воеводу можно тоже только по его милости. Но в XVII веке в Москве была городская дума, и там заседали выборные от всех сословий, «от всех чинов народа». Эти выборные жили и работали на своих местах, время от времени собираясь в думе решать существенные вопросы. Решив их, они возвращались к себе, в свое сословие, в обычную жизнь.
А кто сидит в наших городских думах? Там что, есть полномочные представители учителей, врачей, военных, бизнеса или студенчества? Они живут обычной жизнью в своих сословиях? Да они мимо проезжают на большой скорости. Живут отдельной, обособленной жизнью. Кроме слабой надежды на чью-то личную совесть, у граждан-горожан ничего нет. Никакого инструмента влияния! Разве древним богам взмолиться, чтоб пощадили и остановили «Сноу-шоу»…
А взмаливаться как раз и не надо – это будет на руку лжецам и бездельникам, которые мило пользовались теплыми зимами, чтоб тырить деньги на благоустройство и спокойно ковырять в носу. Нет, спасибо матушке-природе за то, что в своем «Снежном шоу» она наглядно показала наших «артистов» во всей красе нерукотворной. Чего стоят их слова и обещания. Каков их «талант руководителя».
Это за столько лет не додуматься привлекать в Петербург рабочую силу из России, из города из Мурома и из села Карачарова, где есть еще здоровые трудолюбивые люди, не продумать грамотную систему их поощрения, не усовершенствовать инвентарь, не посоветоваться с учеными, нет ли каких в цивилизованном мире технологий уборки северного города…
Да зачем. Ведь все это: грязные сугробы в человеческий рост в историческом центре, сосульки-убийцы, тысячи сломанных на голом льду рук и ног, транспортный коллапс – «временные неудобства».
Это у нас такой устойчивый термин. Закрыто движение, прорвало трубу, нет отопления, погасло электричество – «временные неудобства». Превратили красивейший город в помойку – «временные неудобства». С 2002 года в ремонте, улицы взрыты, дома в лесах беспросветно и бесконечно – «временные неудобства».
А когда оно будет-то – «постоянное удобство»?
Да оно уже есть. За заборами. В усадьбах «цивилизации для начальников» – там и свет не гаснет, и трубы не рвет, и ремонт как начат, так и закончен, а не длится вечно.
Нас же, терпил, «вечное удобство» по мере личных заслуг ожидает на небе, как обещает патриарх Кирилл, человек солидный и ответственный. Так что потерпим уж немножко эту нашу русскую жизнь, которая и сама-то вся есть не что иное, как «временное неудобство».
С будоражащими вкраплениями грозных шуток матушки-природы вроде нынешнего «Сноу-шоу».
Куда себя вести
Во многих отелях мира теперь висит ободряющая надпись “No Russians”. Без русских. Это приманка для цивилизованного мира, не желающего терпеть рядом с собой, по крайней мере во время отдыха, людей нашей с вами национальности.
Обидно? Честно говоря – ужасно. Главное, мы-то с вами, приличные граждане, оказываемся без вины виноватые. За что гонят? За что унижают?
А вот как окажешься за границей и посмотришь на некоторых «своих» – да-да…
Что и говорить. Осрамили «свои» своих же на целый мир. Русские – это агрессия, хамство, коррупция, нежелание считаться с правилами общежития. Некрасивые, грубые формы поведения. Своим варварским вторжением в чужой быт русские сумели, например, так оживить британскую музу, что в Англии снят уже добрый десяток картин, где главные антигерои – русские. В Лондоне проживают уже сотни тысяч наших соотечественников, и многим из них невдомек, что не все в мире приобретается за деньги. За деньги вообще можно приобрести очень ограниченное количество вещей, и чем сильнее развита национальная культура, тем этих вещей меньше. Вот хладнокровные англичане и потеряли терпение – криком кричат на русских, прямо в лицо: достали! надоели! (Правда, русскими в мире традиционно считаются все выходцы из бывшего СССР, но не будем мелочиться.) Приятно нам это, спрашивается?
Таковы уж мы, людишки, – вроде бы каждый сам по себе, однако всякая компрометация множества почему-то задевает и личность. Вот я – казалось бы, второй такой не найти, – а попробуй скажи при мне, что у женщин извилин меньше, чем у мужчин! Да я до прокурора Чайки дойти могу!
Так и с русскими: мало иметь только свою индивидуальность в красивом развитии, хочется еще и принадлежать к красивой и почтенной национальной общности. Никита Михалков, скажем, давно страдает этой мечтой и творчески вертится так и сяк, чтобы подчеркнуть и укрупнить в своем национальном множестве приятно-поэтические черты. Но мы, суровые и мрачные аналитики, не можем так роскошествовать.
Печаль в том, что в отношении поведения существуют два типа русских людей: культурный и бескультурный.
Культурный тип русских почти что ничем не отличается от европейского человечества, кроме, может быть, слишком сосредоточенного выражения лица. Культурный русский всегда немного насторожен и слишком внимателен: он как раз изо всех сил хочет вписаться в чужие правила. Он знает иностранный язык, а то и несколько, он прилично, к месту одет, он не хочет ронять себя, он четко воспринимает окружающее и видит себя со стороны. Он не орет, не жульничает, не включает музыку на полную мощь, не мусорит, не хамит, не расхаживает с важно-бандитским видом – дескать, мы вам еще покажем!
(А что там еще показывать – все уже показали.)
Впрочем, всего этого культурный русский не делает и на родине.
А бескультурный тип русского выезжает за границу, как правило, с одной мыслью: у вас тут все за деньги, а у меня их куча, ваших денег-то, так что молчите и шевелитесь, вы, дескать, от рождения уже черту запроданы, а я продал душу желтому дьяволу только позавчера и желаю теперь по своей воле погулять. Причем насколько велика эта куча – неважно, важно самоощущение.
Культурные русские вывозят за границу свою какую-никакую, но несомненную культуру. А бескультурные – свое бескультурье. Драматизм положения в том, что первые составляют 15 % от общего числа бывающих за рубежами, а вторые – 85 %. Может быть, таково же их соотношение и в родном ареале обитания.
Захватывающе интересная картина получается, когда и те и другие оказываются, будучи за границей, в одном ресторане.
Культурные, как правило, сидят вдвоем, много если втроем. Бескультурные любят роиться толпами. Вместе с ними в пространство входит тревога, передающаяся официантам. Что-то начинает вращаться в воздухе, как будто в помещение ворвалась стая невидимых, но очень крикливых птиц. Культурные видят бескультурных и делают насмешливое страдальческое лицо, обдумывая, как бы теперь скрыть перед обслугой, что они тоже русские. (Вообще мы дожили до такого стыда, что главное счастье культурного русского – это когда его принимают за нерусского. Значит, совсем похож на человека!)
Бескультурные не замечают ничего. Не видят и не слышат сами себя. Визжат, матерятся, гогочут, порываются петь, сияя самым отборным, самым пуленепробиваемым самодовольством…
Вот повезло мне, сижу на Лазурном Берегу у Марианны Францевны, так сказать, в гостях. В царстве «голого чистогана» есть множество мест общего пользования (пляжи, скверы). Там нет платных излишеств, но все пристойно и чисто. Вижу, слышу: ну никто не вопит так страшно на детей, как у нас дома, не включает музыку (вообще не принято – нельзя беспокоить окружающих), не бросает отходы куда попало. Это же его берег, его море, он завтра опять сюда придет – ну человек и ведет себя разумно. Стараясь получить удовольствие не вредя природе и людям.
И вспоминаю я родные озера – заваленные тоннами мусора, загаженные этими их мерзотными «шашлыками» и продуктами переваривания оных шашлыков, с жутким, на километры окрест гремящим музоном, с воплями, матом и гоготом… Чудовищное бескультурье. С которым никто не борется!
Ни телевидение, которое беспрерывно развлекает бескультурных русских монстров (вот будто они у нас так сильно перетрудились, что их беспрестанно развлекать надо!), ни радио, ни одна газета или журнал, никто!
Пусть мы выигрываем спортивные соревнования и конкурсы красоты, пусть наши политики все увереннее себя чувствуют на мировой арене, пусть наши певцы и танцоры удивляют талантом, положа руку на сердце, скажите: разве в массе своей мы хороши? Мы друг другу нравимся? Встречая своих за границей, мы рады?
Да, окультуривание масс – дело сложное и требующее времени, но ведь «путь в две тысячи ли начинается с одного шага», и надо же этот шаг сделать. Вот вы, читатель, и начните. Если вы сами себя воспитали, не проходите мимо бескультурья, делайте замечания! Иногда достаточно вовремя пристыдить варвара – и в нем начнется божественный процесс различения себя и своего поведения со стороны.
Еще Моисей поучал евреев: гадишь возле стойбища, возьми лопатку и закопай.
Слышишь, рожа бескультурная, – лопатку возьми и закопай! И музон свой выключи – он нам не нравится.
И на детей не ори – может, из них еще получатся приличные люди.
При которых надпись “No Russians” исчезнет из мира – навсегда.
Синдром Кронштадта
Странные вещи творятся на свете – например, борьбу с коррупцией объявили в России, а осуществили почему-то в Америке. Пока наши торжественно толкли воду в ступе, считая, видимо, что провозглашение с экрана ТВ борьбы с коррупцией и есть борьба с коррупцией, в Америке просто взяли да и повели десятки голубчиков в наручниках (а среди них были мэры городов и главы религиозных общин) в тюремную перевозку. И я хотела бы обратить внимание читателя на то, что борьба с коррупцией – ЭТО ИМЕННО ВОТ ЭТО. Так что пока я не увижу впечатляющую стаю начальников в наручниках (а вдруг среди них окажется…?! а вдруг?! – нет, остановись, моё мечтание, каким величьем бредишь ты!), верховное толчение воды в ступе буду воспринимать как положено, то есть как бессмыслицу.
Но сегодня речь не об этом. Жутко надоели все эти врущие и ворующие обезьяны. Хочется о прекрасном – например, о Кронштадте.
Вы были в Кронштадте?
Большинство петербуржцев никогда не были в Кронштадте.
Ну, это ничего. Не страшно. Ведь большинство петербуржцев очень много где не были (скажем, в Русском музее или в БДТ), но это никак не означает, что все места, коих не посетило большинство петербуржцев, надо так вот сразу и демонтировать. Спокойно, администрация!
Наш человек – он мечтать любит. Ему нравится, что где-то там что-то есть. Где он не был, но вообще-то может оказаться. Ведь счастье, несомненно, таится вдали, в сизой дымке Несбывшегося, которое неведомо большинству. Совершенно невероятно, чтоб счастье было там, где толпится большинство, не правда ли?
Особенной любовью просто блоковской силы и чистоты наш человек любит Кронштадт.
В хорошую погоду, когда таинственный остров четко виден с берега залива, девяносто девять человек из ста, пребывая в Сестрорецке или Репино в маниакальном состоянии, известном в Петербурге как попытка отдохнуть, смотрят на водную гладь, отыскивают глазом заветные очертания, отчего-то вздыхают и говорят полушепотом: «Вот… А там – Кронштадт…»
В плохую погоду те же девяносто девять человек замечают с особенным чувством, что Кронштадт сегодня не виден.
Если рядом выявляется профан, то ему горячо втолковывают, что в хорошую погоду там – во-о-он там – виден Кронштадт. Профан ничего не понимает, но на всякий случай одобрительно кивает головой. С питерскими – лучше повежливей. Этому-то мы Расею выучили…
Но погодите записывать «синдром Кронштадта» в реестр питерских причуд. Нет, дело тут серьезнее. Проблема того, виден или не виден сегодня Кронштадт, явно проходит по ведомству метафизики. Проще говоря, этот район Санкт-Петербурга – самый загадочный. Я, скажем, ценю бюргерскую закваску Васильевского острова, модерновую психованность Петроградки или советскую эклектику Фрунзенского района – в этих местах живала подолгу. Однако Кронштадт для меня – это нечто особое, это вестник Тайны.
Иоанн Кронштадтский… Кронштадтский мятеж… Но вовсе сразило меня недавнее дело, прогремевшее из Кронштадтского суда на всю страну. Вот что произошло.
Бывший офицер запаса Павел (его фамилия в разных источниках звучит по-разному – Морозов, Снегов, Студенов, из чего я заключаю, что в реале он Зимин) познакомился с жительницей Кронштадта гражданкой Еленой (ее называют то Козловой, то Барановой) с целью… с известной целью.
Оставив избранника утром в постели и поспешив на работу, Елена по возвращении не увидела ни его самого, ни борща, ни пачки пельменей, ни сосисок, ни пятисот рублей, ни фамильной иконы Владимирской Божьей Матери. Из чего возбудилось дело, завершившееся благополучным отысканием офицера запаса, а также краденной им иконы. О борще и пельменях речь не велась, хотя именно они придавали всей истории щемящий привкус трагикомедии.
До какого тоскливого кошмара, до какого разложения души должен был дойти «офицер запаса», чтоб украсть у женщины, с которой он провел ночь, пельмени, остается только догадываться. Что ж, стилистически наш офицер вполне вписывается в свое время и в свой мир – в мир оборотней, где инкассаторы грабят собственные банки, в которых служили десятки лет, а милиционеры расстреливают в супермаркете тех самых граждан, которых обязаны защищать от бандитских нападений. Эту баланду мы хлебаем суповой ложкой, и тут ничего удивительного нет.
Удивительное случается в зале суда! Краденая икона оказывается старинной и дорогой и, как положено, начинает творить чудеса. Женщина Елена прощает непутевого Павла, и дело закрывается вследствие примирения сторон. Некрасивая, постыдная история совершенно неожиданно выворачивает в сторону света и вместо гримасы легкого отвращения творит на лицах зрителей ласковую улыбку!
Мы же понимаем, что пережила Елена и что переживают сотни тысяч ее сестер в этих безнадежно банальных типовых ситуациях. Как пела ее душа, как она ликовала, мчась на работу, и как отчаивалась и убивалась потом. Оскорбленная женщина жаждала мести – и вот строгой походкой в жизнь вошел закон, завертелась машина возмездия, и месть, казалось бы, явилась в полном и грозном блеске. Но! Тут вмешался Кронштадт. И свершил маленькое чудо.
Зашуршало невидимыми крыльями то, перед чем даже закон склоняет голову. Она простила его… И постыдная, унылая бытовуха превратилась в забавную и милую сказку. Намечалась гадость – а получилась радость. Собрались тучи – и прошли стороной… Вот бы всегда так.
Или хоть иногда, но почаще.
Ладно, хватит кропать почеркушки, поеду-ка я в Кронштадт, погуляю, поговорю про себя с душой тех мест.
Кронштадт, таинственный остров! Пролей во все стороны хоть немного разума и милосердия, и пусть тебя будет видно с любой стороны русского света… И пусть все дурацкие истории, которые завершаются в судах за примирением сторон, назовут, по прецеденту, синдромом Кронштадта!
Фрейндлих-эффект
Многие мои друзья встретили мировой экономический кризис традиционным питерским лозунгом «Не жили богато, не… привыкать», и действительно, если кого и можно удивить житейскими передрягами, то никак не питерского обывателя. В конце концов, в городе проживает более ста тысяч «детей блокады», а у них ведь тоже есть дети, которые много слышали о том, что такое настоящее горе и подлинный ужас и так далее. Идет по цепи память о небывалой ни в каких временах катастрофе. Блокаду пережили, подумаешь, кризис!
Я отчего так хлопочу о Петербурге? Оттого, что это самый прекрасный и самый несчастный город на земле. Такого сочетания красоты и страдания нет нигде. И мы все-таки, несмотря ни на что, должны выстрадать для своего города лучшую долю. Пусть мифы о ленинградцах-петербуржцах, которые до сих пор существуют в России – что они самые вежливые, воспитанные, культурные, свято чтящие прошлое, понимающие ценность старины, бескорыстные и т. п., – не соответствуют реальности. Наша задача не в том, чтобы осуществить идеал, а в том, чтобы к нему двигаться.
В Петербурге существует явный источник, порождающий такие умонастроения, – источник идеализма. На первый взгляд его не различить. Однако он действует. Это источник постоянного излучения неких духовных токов высокого напряжения. Именно они отражают попытки мещанского огламуривания Санкт-Петербурга, настраивают многих людей на сопротивление подлым и пошлым обстоятельствам, провоцируют настоящее творчество. Эти токи высокого духовного напряжения излучают в Петербурге всего-навсего несколько сотен людей. Горстка! А результат удивительный.
Я всех этих людей не знаю. Но один источник излучения мне известен давно, как известен он всему просвещенному Петербургу. Да стоит лишь один раз увидеть ее и услышать, чтобы понять – Алиса Фрейндлих не просто актриса, чудесная и замечательная, не только самый настоящий почетный гражданин Петербурга, «блокадный ребенок» и символ интеллигентной женщины-петербурженки. Это какой-то передатчик волн между небом и землей. Поэтому феномен частичной сохранности настоящего Петербурга я предлагаю назвать по имени этого передатчика – «Фрейндлих-эффект».
Фрейндлих-эффект и в том, что у нас в Питере категорически не принято хвастаться богатством, и все наши нувориши отчаянно скрывают доходы, а если приходится демонстрировать хоромы, как правило, делают это с извиняющимися лицами. И в том, что, испортив в историческом центре многое, погубили все-таки лишь малую часть, поскольку процесс уничтожения Петербурга тормозился как снизу руганью недовольных, так и сверху каким-то подобием совести в тех, кто принимает решения. (Могу указать на Веру Дементьеву, председателя охраны памятников, как полностью замученную Фрейндлих-эффектом.) Наши театры работают неровно, однако в городе нет ни одного гнилого, черного театра, транслирующего разложение сценического искусства, – кроме, конечно, Александринского театра. И вообще, всякий раз, когда я встречаю случаи высокого профессионализма, почти не связанные – увы! увы! – с денежной компенсацией, когда вижу писателей, за мизерные деньги пишущих великолепные книги, музыкантов, каким-то чудом поддерживающих честь своего искусства, да просто смотрю на театральную публику в зале, на их по-питерски бледные, грустные и светлые лица, то вижу все тот же неумолимый, мощный Фрейндлих-эффект.
Работаем, излучаем! И вот волосатая лапа, тянущаяся украсть, как-то замирает. Она, конечно, все равно украдет. Но хотя бы хвастать не станет украденным и не будет утверждать, что так и надо. Что, мол, «все такие».
Да нет, харя твоя воровская, не «все такие». Человек может быть очень высоким существом, если каждый день выбирает не то, что пониже, а то, что повыше. И это стремление быть выше, лучше и чище мы по праву можем и должны называть по имени одного из самых мощных источников питерского излучения «токов идеального», то есть, как и было предложено мною, специалистом-петербурговедом, – «Фрейндлих-эффект».
Который вносит удивительно приятную путаницу в картину национальной деградации.
Москвина против Москвиной
Обратились тут ко мне люди из движения «Живой город»: подпишу ли я воззвание, призывающее граждан на митинг против строительства башни Газпрома на Охте. Конечно, говорю, подпишу, да и на митинг приду, ведь, как известно, революция – это праздник трудящихся и угнетенных.
Пришла. Полюбовалась на порядочных людей в большом количестве. Однако была сильно удивлена составом выступавших. Среди них оказался поэт Кушнер, только что воспевавший Валентину Ивановну в оде на открытие Дома Союза писателей, и даже историк Лев Лурье, который пять лет кантовался на губернаторском телевидении в полном шоколаде! Хотя что удивляться. Благодарность – элитарное свойство людей высшего типа, а в шайках такого не бывает. В шайках один закон – сдавай подельника, пока он тебя не сдал… Да, видимо, какие-то неизвестные нам, простым смертным, ветры задули против башни, если даже придворная челядь пошла вдруг протестовать. Скорее всего, Охта-центру кранты.
Но, как всякое бесовское порождение, эта треклятая башня просто так уйти из сознания Петербурга не может. Она еще способна намутить много воды. «По башне» наметился раскол среди, как говорится, работников культуры: одни обращаются к президенту и гражданам, высказывая свое неприятие «четырехсот метров бесстыдства», другие, напротив, делятся жаждой увидеть еще при своей жизни этот символ эффективного менеджмента. Причем в сонме противников башни – писатель Татьяна Москвина (это я), а в бригаде сторонников – тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, то есть Москвина против Москвиной получается!
По этим пиар-технологиям остается еще найти другого Гребенщикова, другого Басилашвили и другого Битова, чтоб совсем запутать граждан и внушить им, что, так сказать, на каждую вашу несогласную Москвину у нас найдется своя согласная Москвина.
Но мне совершенно не хочется воевать с Тамарой Москвиной – почтенным и уважаемым человеком. Я не знаю, по каким мотивам она подписала чужой бездарный текст, расписывающий прелести газпромовской башни. Но догадываюсь. По тем же самым мотивам когда-то талантливейший Товстоногов ставил жуткие спектакли про Ленина, великие актеры читали по телевидению «Малую землю» Брежнева, выдающиеся композиторы сочиняли кантаты и оратории, славящие партию, и т. д. У власти всегда есть рычаги воздействия на деятелей культуры. Но шло время. И что осталось от той власти и тех деятелей?
Только то, что было сделано от души и по совести. А все спектакли, оратории, фильмы и книги, сделанные по указке, провалились в небытие. И всё, что сделано не по совести, а по приказу, из корысти, из страха, из конформизма, – всё это стремительно несет человека в забвение. И очень часто в это забвение обваливается и то хорошее, что человек успел сделать.
Я, конечно, пишу это не для спящего сознания Татьяны Булановой, которая у нас теперь на телевидении рассказывает о событиях культуры, с трудом вспоминая, что ей там редакторы понаписали. И не для Александра Невзорова, которого двадцать лет по инерции называют журналистом, когда он давно стал профессиональным любителем денежных знаков.
Если эти и другие лица, к примеру, завтра навсегда улетят на Луну, культура наша ничего не потеряет. Но среди тех, кто подписал письмо, одобряющее башню Газпрома, есть действительные авторитеты, и это люди немолодые.
Надеюсь, здоровье их крепкое и им не понадобится в ближайшее время попасть на обследование с помощью томографа – прибора, сканирующего состояние головного мозга. Ведь в таком случае они бы узнали, что подобных приборов в городе три, на них тысячные очереди. Не дай бог им придется задуматься: а кстати ли в городе, где три томографа, строить не нужную никому башню в четыреста метров? И что такое «деньги Газпрома» – уж не наши ли это деньги, полученные от эксплуатации общего национального достояния, очень тихо, мило и начисто отобранные у нации «эффективными менеджерами»?
В Интернете подписавших письмо за башню награждают такими эпитетами, что жутко делается. Надо же было до такого состояния довести психику города и особенно молодежи! Надо же было проявить столько бездарности именно по части пиара, чтоб не суметь объяснить даже немногие положительные стороны своей политики и вызвать нутряную неиссякаемую ненависть!
Ведь не башня сама по себе вызывает эту ненависть, а весь порядок неправедной жизни, где нет даже уголка справедливости. Здесь инкассаторы грабят собственные банки, милиционеры за просто так убивают граждан, а хранители музеев воруют охраняемые экспонаты – да что мне кудахтать, вы разве сами не знаете? И вот крошечный «культурный слой» этой жизни, чайную ложку «сливок», которую удалось наработать, – и ту хотят расплескать, расколов интеллигенцию, загрязнив чертовыми лапами репутацию творческих людей. Теперь разве я могу со спокойной душой пойти в новый театр Бориса Эйфмана, когда и если он откроется? Нет. Теперь, когда Эйфман подписал письмо за башню, я буду думать о нем не как о талантливом творческом человеке, а как о марионетке самозванцев, губящих Петербург. Я этого не хочу, но думать иначе я не смогу.
Но положимся на всеисцеляющее время… Может быть, «раскол по башне» станет уроком для работников культуры и приучит их следить за репутацией, не поддаваться на посулы тех, кто им не друг на самом деле, а лютый враг. Может быть, шизофреническая ситуация в сознании Петербурга, когда Москвина оказалась против Москвиной, сгладится, отболит, исчезнет. Может быть, как поется в романсе, «минует печальное время, мы снова обнимем друг друга»! Но это произойдет не раньше, чем идея мерзопакостной башни – памятника беспримерному в мировой истории воровству! – навсегда улетучится с трагических берегов Невы.
Тоска по областной судьбе
Разговорам о том, что с городом на Неве «что-то не так», что он стал «великим городом с областной судьбой», уже почти четверть века. Но оглядываясь теперь туда, в перестроечный Ленинград, думаешь с русской тоской, обогащенной петербуржским синдромом: эх, пожить бы хоть денёк в виде культурного отдыха там, в «областной судьбе»!
Там детишки играли себе без присмотра на улицах, очищенных дворниками. Минимальная зарплата была 70 рублей, а квартплата – что-то смешное вроде 2 рублей. Медицина и образование были реально бесплатными. Русскую классику издавали тиражами в полмиллиона экземпляров. На эстрадах этого города пели Хиль и Пьеха, а в подполье – Гребенщиков, Цой и Кинчев. Дикция и речь ведущих были нормативными, то есть образцовыми. Тем более что Ленинградское телевидение вещало на всю страну. Да, тогдашнее начальство было чудовищным, а газеты – нечитаемыми, но как раз этот параметр «кодекса времени» ничуть не изменился…
(Ценили мы это? Разумеется, нет. Что мы были бы за люди, если бы умели ценить действительность! С ужасом предполагаю, не будем ли мы лет эдак через двадцать так же рыдать по бесконтрольному Интернету, частной собственности и свободным поездкам за границу?)
Что такое из себя представляет нынешний Санкт-Петербург, сказать трудно. Могу нарисовать разве такой образ-сравнение: представьте себе, что из белого лимузина вылезает господин во фраке с орхидеей в петлице, при этом он в грязных подштанниках, небритый, помятый и босиком. Этот господин одновременно плачет, ругается, декламирует стихи, просит милостыни и утверждает, что он из царской семьи, внук Ленина, гражданин мира и человек будущего… Во всяком случае, проклятие «областной судьбы» этот господин, конечно, преодолел. Скромная, расчетливая провинциальная жизнь явно не для него.
С 2003 года в Петербурге утрачен здравый смысл. Здесь возобладали дилетанты и прожектеры, аферисты и рвачи. В результате под безумные проекты нарыто котлованов на миллиарды, и ничего не построено, и не будет построено. Город лишился телевидения, и в этом традиционно обвиняют Москву. Но Москва ли виновата в том, что некие господа два раза с размахом обновляли вещание, а потом выяснилось, что оно по-прежнему никому не нужно, и вдобавок оказалось, что куда-то в лихорадке обновлений делась доля города в акциях Пятого канала?
Где эта доля? Где теперь архив Ленинградского телевидения? Кто персонально виноват в том, что здание на Чапыгина 6 стоит пустое?
Допустим, я это знаю, ну и что? Какая мне радость, если провидение будет медленно и долго наказывать этих корыстных гадин? Ведь наказание приходит так неспешно, что настигает совсем не тех людей, которые грешили. Пока там Высший суд разберет дело, пока оно поступит в Главное управление исполнения наказаний – глядишь, прошли годы, и божий пристав является не к бодрому грешнику, а к побитому молью старичку. «В таком-то году украл, предал? Вот вам по исполнительному листу рак желудка». А ему уже и так по законам физиологии положен рак желудка. В общем, никакого удовольствия.
Меня по роду занятий тревожат не пропавшие миллионы, а судьбы талантливых людей. Неважно у нас они складываются. Пропитаны одиночеством и горечью, окружены равнодушием. Вот прогремел на весь мир Эдуард Хиль со своим «Тро-ло-ло». Это забавный финт, но вспомним, что Хиль прославился здесь, в Ленинграде, где были возможности для старта эстрадного певца. Сейчас никаких таких возможностей нет. Меня часто приглашает на маленькие концерты певица Татьяна Долгополова (пять октав в диапазоне), а я стесняюсь идти – не могу помочь, не имею никаких выходов ни на радио Петербурга, ни на телевидение, нет никакого окна, куда я могла бы выкрикнуть: ребята, у нас сейчас есть потрясающая певица, бегите, слушайте, передавайте из уст в уста радостную весть о таланте…
В Театральной академии гремит выпускной курс Григория Козлова. Потрясающие дети – умные, чистые, вдохновенные – играют первую часть «Идиота» Достоевского, «Старшего сына» Вампилова, «Сон в летнюю ночь», на них сбегается оставшийся в живых театральный Петербург, всем ясно: родился новый прекрасный театр, который пьешь, как клюквенный морс в жаркий день, глоточками, в полном счастье. Но кто ж это озаботится здесь рождением нового театра, когда старые-то девать некуда?
В проклятом марте, который теперь не «первый месяц весны», а месяц кошмаров и катастроф, умер выдающийся поэт – Елена Шварц. Автор десятков поэтических книг, переводчица множества книг, известная всем любителям поэзии у нас и за рубежом. Ни одного сюжета по ТВ, ни одного некролога в местных газетах и инет-порталах. Не знают, не интересно, не важно. Москва знает – Петербург нет! На портале «Культурная столица» («Фонтанка.ру») 15 марта красовалась списанная с РИА «Новости» скупая информация о том, что-де умерла Елена Шварц, и время и место погребения неизвестны, а уже мы Елену отпели и похоронили… Безграмотные редакторы этой «Культурной столицы» не знают даже, кому позвонить, чтоб написать вменяемый некролог, дать интервью, процитировать самого поэта. Фантастика этот портал вообще – в разделе «Книги» за полгода нет, к примеру, почти ни одного сообщения о каком-либо питерском писателе или событии питерской литературной жизни. Переписывают с чужих новостных лент бесконечно ценную информацию о Дэне Брауне и Фредерике Бегбедере, получают в местном комитете по печати субсидии и гордо несут себя.
Такими темпами деградации, поощряя бездарей и рвачей, мы скоро скатимся от «областной судьбы» до убогого райцентра, откуда всякий хоть на что-то способный человек мечтает немедленно сбежать.
Впрочем, уже бегут.
Оставшимся – скидки не будет. Их удел, как всегда, жить в бедности и равнодушии, гордо исполняя свой – неведомо кому – долг.
О чем шелестят листочки
Стоп, я не поняла – так мы больше не удваиваем, что ли, ВВП?
Мы же собирались его, ВВП (внутренний валовый продукт), удвоить к какому-то году. Вот не скажу, к какому, – давно длится русский спектакль, так что не только высокохудожественные детали, но и основной сюжет что-то слабо держится в голове.
Я в экономике не понимаю ничего. Поэтому запомнила только пафосно-торжественный и вдохновенно-самоуверенный вид высоких начальственных лиц, обсуждавших – совсем недавно! – это самое грядущее удвоение ВВП. Что бумаги, электронных полей и эфира извели, удивительно! В результате на днях нам сообщили, что наш ВВП – ликуйте, смертные, – снизится в 2009 году не на двенадцать процентов, как о том твердили пораженцы и диверсанты, а всего на семь…
О-хо-хо… шелестят, шелестят листочки…
Если представить себе русское общество в виде дерева, то я, мать двоих детей, среднего достатка, живущая своим трудом, расположена где-то внизу ствола, ближе к корневой системе. И довольно спокойно, отчетливо понимая, что если я и мне подобные рухнем – рухнет дерево, я слушаю «шелест листочков» – то есть лепет начальства.
Я же понимаю, что листочки нужны для приличия и красоты, что не они определяют жизнь дерева – а жизнь дерева определяет их, и вместе с тем каждый раз изумляюсь их своеобразию. Наши начальственные листочки явно склонны воображать, что они живут самостоятельной жизнью и могут повлиять на ствол и корни. Эту горячечную мечту поселяют в них некие ветры, гуляющие в пространствах, загадочные ветры, о которых нам внизу ничего не понятно. Известно только, что когда ветер дует – листочки шелестят, а когда ветер стихает, листочки умолкают. И даже как будто вовсе забывают, о чем они шелестели только что.
Вот подул ветер, наверное сирокко, – и внезапно зашелестела идея о том, что в России слишком много пьют, вдвое превышая критическую черту потребления, и все это безобразие надо срочно прекратить.
Ужасно!
Немыслимо!
Так пить нельзя!
Дня три шелестели наши листочки. Я на момент даже вздрогнула, вспомнив 1985 год, – ну всё, началось. Ведь вроде бы существует огромная государственная машина пропаганды, сейчас цена бутылки водки превысит стоимость нового романа Марининой, во всех эфирах начнется лютая борьба с алкоголем, и с утра до вечера станут показывать картину Динары Асановой «Беда» 78 года, потому что больше показывать насчет ужасов алкоголизма у нас нечего… Однако картина «Беда» так и осталась в недрах Госфильмофонда, а новый роман Марининой по-прежнему дороже «книжки в стеклянной обложке», как ласково называли водочку интеллигентные алкаши 70-х. Шелест листочков смолк так же внезапно, как начался.
Вместо сирокко задула какая-то трамонтана.
Президент России написал статью о том, что стране надо двигаться вперед, и призвал народ высказывать новаторские идеи насчет целей и направлений Большого Движения.
Правда, его мысли размещались в Интернете, стало быть, значительная часть ствола и корней русского дерева их просто-напросто не услышала. А услышали их, естественно, постоянные обитатели интернет-клиники и, конечно, рьяно принялись высказывать новаторские идеи, поскольку уж чего-чего, а дефицита новаторских идей насчет будущего России в Интернете не предвидится. Эта разновидность абсурда вообще на втором месте по объему инет-испражнений после, разумеется, грязной ругани между инет-мужчинами и инет-женщинами.
Идеи футуриста Калашникова показались президенту настолько занимательными, что он отдал их распечатку своей администрации, дабы та отыскала здоровое зерно и при случае посеяла его в русском поле. Для грядущих всходов.
Русское поле – это же волшебное поле, на нем и не такое прорастало. Подумаешь, Калашников! Испугали! Мы семьдесят лет строили общество, где от каждого будет по способностям и каждому – по потребностям. Почти уже построили, между прочим, потому что правильно догадались, с какого конца долбить это уравнение: довести людей до такого состояния, чтоб у них уже не осталось ни способностей, ни потребностей… И Калашникова мигом воплотим, делов-то.
Администрация, с удовольствием кивая, поняла дело так, что с алкоголизмом мы уже не боремся (ура, пронесло!!!), а отыскиваем зерно в грезах Калашникова, что является в тысячу раз более осмысленным делом. Правда, смысл борьбы с алкоголизмом вообще-то стремится к нулю, так что если стремление к нулю умножить на тысячу, то в результате получится…
Но тут стихла трамонтана и повеял бриз!
Бризом этим сдуло обезумевшего от счастья футуролога Калашникова обратно в инет-клинику, откуда его на нашу голову выпустили, и навеяло куда более нажористую грезу – что США, оказывается, давний друг России, а НАТО – естественный и возлюбленный ее партнер…
О-хо-хо… Из-за близости к корневой системе я знаю, как тяжело, медленно и трудно растет дерево. И дело не в новомодных идейных поветриях, не в скороспелых кампаниях по борьбе, даже не в политической и экономической системе, а в том количестве солнца и воды – то есть РАЗУМА И МИЛОСЕРДИЯ, – что выпадают нашему дереву. Чтобы здесь добиться каких-то заметных результатов, нужна суровая и терпеливая последовательность, а не эйфорический шелест в порывах ветра.
(Вот алкоголики, к примеру, отличаются именно этим. То есть суровой, терпеливой последовательностью. Если человек решил спиться, его уже вряд ли с этого пути собьешь…)
А давайте-ка спланируем на бреющем полете сверху вниз, от кроны к земле, скажем, в прилегающую к федеральной трассе деревню Ушаки Ленинградской области. Где несколько лет машины сбивают детей, потому что нет светофора, а большинство наших водителей, как известно, на пешеходных переходах не тормозят, хоть их штрафуй, хоть сажай, хоть кол им на голове теши, хоть их кастрируй.
Нет светофора. Гибнут дети. Жители ходят по зебре, митингуют. Они пишут в инстанции много лет, они даже президенту писали – без толку… Четырех детей накануне сбили – и вот, светофор обещан!
…Листочки, листочки, о чем вы опять шелестите?
Сокол!
Либерально-демократической партии России исполнилось двадцать лет. На съезде ЛДПР был вновь выбран ее бессменный председатель – Владимир Вольфович Жириновский. Всё это факты. Всё это – фантастика.
Он подошел к карте России, о чем-то задумался, обвел указкой контуры страны и от всего сердца воскликнул:
– Тут жить нельзя!
Все, в принципе согласные с этим утверждением, замерли, потому что никто на свете не может предугадать, куда заведет Владимира Вольфовича его пламенная беспокойная мысль.
– Здесь холодно. Самое холодное место на земле!
И Жириновский прямо на глазах загрустил. Как будто вот здесь, вот сейчас личной своей кожей ощущая, как холодно и грустно в России.
– Почему же наши предки оказались здесь?
И он реально задумался…
И я задумалась…
Я знаю, многие из вас смотрят на итоги очередных выборов и поражаются – опять у Жириновского восемь процентов, десять процентов, двенадцать процентов, да кто же за него голосует, что за чудаки! – ну что ж, объяснимся.
Я – избиратель Жириновского с многолетним стажем.
Я гневаюсь, когда Владимира Вольфовича – с его-то пятью проходками в Госдуму! – называют шутом и скоморохом. Вместе с тем я понимаю, что все наши политические деятели, как бы плохи или хороши они ни были, находятся в одном измерении – а Жириновский в другом.
Такое впечатление, что он нереален. Как соткавшийся из воздуха Коровьев в романе Булгакова. Или, если помните, был фильм «Кто подставил кролика Роджера», где на равных правах на экране существовали живые актеры и нарисованные персонажи, «мульты». Вот и Владимир Вольфович кажется мне таким фантастическим существом, который вроде бы живет в действительности – но действительностью не является.
На выборах председателя ЛДПР был подан один голос против Жириновского – и это был голос самого Жириновского. «Не люблю, когда все единогласно!» – объяснил вождь. Обычно политики строго разграничивают серьезное и смешное, выделяя для шуток особые маленькие зоны, – Жириновский так не может. Он пропитан юмором весь насквозь. Недаром даже в стальных глазах Владимира Путина появляется что-то вроде ласковой улыбки, когда он смотрит на Владимира Вольфовича.
Не представить себе Думы без него. Сколько он будет жить и здравствовать – столько будет сидеть волшебным мультом среди плотных, смертельно серьезных, тяжело ворочающих чугунными мозгами.
«Пусть курит наш народ! Курить и пить каждый день всем – это единственное спасение, чтоб меньше было самоубийств. Кончат курить – все будут вешаться!» (из речей ВВЖ) .
Жириновский – действительно оппозиция. Только не политическая. Тут что-то другое!
Он противостоит не идеям, не поступкам своих политических противников – а самой сути, самому стилю их игры. Заметьте, к концу века многим казалось, что игра лидера ЛДПР сыграна, что он исчерпал свои возможности, что наступили иные времена. Но чем меньше было в поведении новых лидеров искренности, естественности, живых реакций – тем больше рос, наливался новыми силами и блистал Владимир Жириновский.
«Кросс-полярные маршруты», «деверсификация», «монетизация», «нанотехнологии»… Хочется беззлобно спросить: сынки, а по-русски никак? Никак! Движения новой России по-русски необъяснимы – таковы уж превратности нового менеджмента. Когда надо обязательно делать хмурое научное лицо и сыпать терминами. Дескать, мы не просто грабим природу и вырождаемся – а с помощью специальных знаний и высо-о-о-о-оких технологий.
Тут и вырастает Жириновский – который, без сомнения, явление русской разговорной речи.
«Жизнь человеку дана один раз, и прожить ее нужно в городе Сочи» (из речей ВВЖ) .
Выдающийся демагог. Такой украсил бы даже блистательные ряды демагогов афинской демократии, римской империи, французской революции. Для демагогии – то есть искусства разговаривать с массами – прежде всего нужна энергия. Настоящая энергия, которая залегает в природе личности. Здесь ВВЖ равных нет.
Даже если он начинает речь вяловато, полусонно – через несколько секунд, можете не сомневаться, из глубин пойдут клубы пара, засверкает огонь, а потом и лава начнет извергаться. От сотрясающих его энергетических вихрей у ВВЖ вечная проблема с галстуками – они сбиваются набок, воротничок рубашки начинает топорщиться, по пиджаку словно пробегают волны. Заработало!
«И что они сделали за десять лет? У них было столько денег, сколько у России никогда не было, ни у царской России, ни у Советского Союза, и что они сделали? Ничего! Ни одной дороги не построили, даже эту, свою родную, Москва – Петербург, шестьсот километров всего, и то не построили. Где деньги? Только сидит эта Голикова, бухгалтер, и плачет».
Ведь всё правда! Только не горькая, не ужасная, а – пока ВВЖ говорит, только на этот момент! – забавная.
Он что-то делает с действительностью. Как-то ее преображает на мгновение. Это – свойство искусства. И ВВЖ – явление искусства. Когда его видишь и слушаешь, жизнь кажется интереснее, веселее, хитрее, умнее, забавней, ярче, неожиданней, чем в сводках новостей или в речах политических лидеров.
Жириновский – протест русского духа против скуки. Сокол прикола.
Нисколько не сомневаясь в его умственных и деловых способностях – карьеру он сделал фантастическую! – я ценю в Жириновском именно это свойство.
«Мне Саддам Хусейн ни одного динара не дал. Если бы дал, я бы взял» (ВВЖ) .
Личность! Причудливая, странная, с фокусами и вывертами личность, которой вряд ли можно доверять, острая, артистичная. И действует там, где личностью уже вовсе не пахнет, среди серых, пригнувшихся, одинаковых, стереотипных, тоскливых до смерти. Победа индивидуальности над заштампованными мозгами, лицами, реакциями. (Не потускнел за двадцать лет нисколько, наоборот – расцвел.) Конечно, если бы он еще был добр, мудр, правдив, бескорыстен, честен и справедлив – о! что было бы тогда! Наверное, это называлось бы второе пришествие Христа.
Чего нет, того нет. Есть Жириновский. Не орел, конечно, но уж сокол – это точно.
Воистину Октябрьская!
Вот уже 65 лет как по большому счету на нас никто не нападает, не правда ли? Однако «чувство уверенности в завтрашнем дне» что-то несильно прирастает у граждан РФ. Неважно обстоят дела даже с чувством уверенности в сегодняшнем дне.
Видимо, мы напрасно приравняли свое историческое времяисчисление к тем вехам, что расставила Европа. Это у них там были Средние века, Возрождение, Новые и Новейшие времена.
У нас же явно было и есть что-то другое.
Например: это в Средние века в Европе проездные пути-дороги были источником постоянной опасности. На дорогах свирепствовали разбойники. Хозяева постоялых дворов драли с проезжающих лютую мзду. Передвижение в пространстве было делом героическим.
Теперь, если нет форс-мажора, картина в Европе достаточно мирная.
У нас не так. Не знаю, как дела обстоят на всех направлениях движения, но уж нравы Октябрьской ЖД мне более-менее известны. Это воистину Октябрьская дорога! Такая же мало вежливая с простыми гражданами, как ее историческая тезка – Октябрьская революция. Когда только ступаешь на Московский ли, Ленинградский ли вокзал, становится ясно: караул, грабят!
Если в городе доллар (покупка) стоит, скажем, 30 рублей – здесь будет 34.
Если в городе дурацкое криминальное чтиво в бумажной обложке стоит 80 рублей – здесь будет 170.
Бутерброд с подкрашенной семгой возрастет в цене вдвое.
Чайник зеленого чая в кафе – и тот угрожающе зарычит: подавай 300 рублей!
Стоимость всех газет автоматически удваивается и даже утраивается.
То есть пассажира предупреждают прямо на вокзале, что он попал в особую зону ценообразования. Что здесь только раскошеливайся, потому что пути-дороги если не прямо в руках у разбойников, то, видимо, выплачивают им постоянную дань. Состригая ее, эту дань, разумеется, с пассажиров.
Эту хищную, разбойничью повадку РЖД даже и не думает чем-то прикрывать.
Вот как раньше назывались дневные поезда из Петербурга в Москву?
Сначала была «Аврора» (заря то бишь) – нежно, мечтательно.
Потом явился «Невский экспресс» – нейтрально.
Их больше нет. Отменили. Теперь есть «Сапсан» и только «Сапсан» – а сапсан птица хищная, питается мелкими животными. Надо думать, это мы с вами.
Билет на «Сапсан» стоит дороже, чем билет на самолет. Но это теперь единственный дневной поезд меж столицами, так что нравится не нравится, бери, моя красавица. Примерно 100 долларов за билет, в каждом вагоне не меньше 50 пассажиров, вагонов 9–10. Считайте сами, каков доход с одного только поезда.
Что вы получаете за свои деньги?
Проводников в старинном слове больше нет. Пробегают иногда какие-то девушки, у которых никакого чаю не спросишь, потому что его не существует. Курить нигде нельзя, поэтому пассажиры с хитрым и виноватым видом скрываются в туалете. Нет и вагона-ресторана, к чему РЖД лишний расход. Есть бистро в пятом вагоне (сэндвич с бужениной – 130 рублей) и тележка, медленно движущаяся меж кресел, так что некоторые, сидящие в невезучих вагонах, успевают выпить кофе только к концу путешествия.
Тележка движется медленно, потому что за кофе и другие кошмары берут денежку. Если в самолете вам все-таки нальют пойла бесплатно, ибо вы уже заплатили-переплатили за этот кофе и другие кошмары, покупая билет, то РЖД не намерено упускать пассажира, не выдоив его полностью.
Попался гусь – терпи! Это дорога темная, разбойничья. Нечего воображать себя «клиентом, который всегда прав».
В шестом вагоне вместо вешалки для верхней одежды сидит кассир, готовый вам продать прямо в поезде билеты на прочие направления РЖД.
В задаче спрашивается: куда пойти поплакать? В Антимонопольный комитет? Но непонятно, образуют ли дневные поезда на Москву то, что этот комитет должен защищать? Ведь это не тарифы ЖКХ, вроде есть другие варианты передвижения – ночные поезда, самолеты. Обложили круто, но ведь не до беспросветности!
Сначала, когда «Сапсан» только начал свой хищный полет, авиаперевозчики круто снизили цены, и можно было долететь до Москвы за фантастическую сумму в 800–1000 рублей. Но, видно, кое-кто кое с кем пошептался, и счастливый для пассажиров демпинг накрылся.
Это вам не 90-е годы! Начальники научились договариваться без трупов. Тихо, по-свойски. Это же отдельная популяция в населении – начальники. У них все свое: жилища, питание, развлечения, мировоззрение. Это не бандитский беспредел, а единая Россия. Монополию на стрижку человеко-овец в суровых боях отвоевало само государство. А государевы люди меж собой разбираются в новой манере, без пальбы. Где-нибудь в закрытых спорткомплексах за заборами в три метра вышиной. Там звучат бессмертные тексты вроде «Ты на кого, сука, батон крошишь?», но никакие сценаристы уже подслушать этого не могут.
Куда же в этой обстановке писать жалобы на бессовестную птицу «Сапсан»? Господину Якунину?
По всему видно, что глава РЖД – человек энергичный, волевой, предприимчивый. Но у него есть одно свойство, которое обессмысливает всякие жалобы. Это вообще одно из коренных свойств успешного русского начальника, и оно, я думаю, образуется, когда мужчина лет двадцать подряд каждый рабочий день надевает пиджак, выглаженную рубашку и повязывает галстук. А сзади стоит жена и шепчет: «Какой ты у меня красивый! С богом, Вася!»
За двадцать лет этот человек так укрепляется в мысли, что Вася красивый и с богом, что тугая лаковая пленка беспредельной самоуверенности забивает в нем все живые дышащие поры души.
У господина Якунина важные, громадные хлопоты. Он аж доставку святого православного огня из Иерусалима в Москву курирует. Это возвышенно и красиво.
А то, что за чай-кофе в «Сапсане», переплатив за билет супротив его реальной стоимости где-то вдвое, пассажир со вздохом отдает деньги и покупает газету на вокзале втридорога, – это мелко и уродливо.
Этого светлыми православными очами, лишенными всяких сомнений в своем славном праве стричь проезжающих, вообще не видно…
Ну, ничего не скажешь – Октябрьская, воистину Октябрьская!
Труп Ленина и сердце Гамбетты
В Москве, в Мавзолее лежит мумия Владимира Ленина, борца за светлое будущее всех трудящихся, и многие считают, что это дикость, варварство, поклонение идолам и типичное азиатское безобразие.
А в центре Парижа, в Пантеоне, у входа в крипту замуровано в изящном сосуде сердце Леона Гамбетты, либерала-политика, провозгласившего республику (70-е годы XIX века), и это считается возвышенным, европейским и прекрасным.
То, что замариновали тело Ленина, – это, значит, плохо. А то, что вырезали сердце и в отдельном сосуде на веки вечные поставили в каменной домине, где ни солнышка тебе, ни птичек, ни креста, – это, значит, хорошо.
Чудны дела твои, Господи! Одно можно сказать твердо: судя по всему, пламенное сердце Гамбетты работает в мистическом плане куда более энергично и плодотворно, чем лишенный мозга еще в 20-х годах труп Ленина. Наверное, именно это сердце так рьяно и бесперебойно гонит французских трудящихся на борьбу за свои права.
Первого мая, в день Труда, я была в Париже и оказалась на Больших бульварах. Я видела своими глазами демонстрацию трудящихся, которую потом в газетах назвали неудачной – на улицы Парижа вышли «всего» 300 000 человек. (Что ж, в конце мая трудящиеся взяли реванш и вышли миллионами – протестуя против повышения пенсионного возраста.) Тяжело было видеть это человеку из России! Пылая жаром сопротивления, массы трудящихся шагали разноцветными колоннами, скандируя лозунги, разбрасывая листовки, влекомые сотнями сплоченных организаций – Левый фронт, Рабочая борьба… Маленькой кучкой застенчиво шла и французская компартия – но ей, конечно, и следовало вести себя как виноватая раскаявшаяся грешница. Впрочем, во Франции есть кому защищать трудящихся без всякой компартии с ее сказочками про чудесное завтра. Никакого завтра – справедливость сейчас и немедленно, вот пафос современных социалистов.
Франция – закоренелая буржуазная республика, и правят ею, как положено, цепные псы буржуазии. Однако они находятся под хроническим, огромным, властным давлением прекрасно организованной борьбы трудящихся за свои права. И видя это, попросту ложишься на свою несчастную землю и плачешь.
У нас что, нет трудящихся? Ну, если судить по нашему кино и ТВ – нет и в помине. Есть олигархи, политики, бандиты, неотличимые от них менты, развратные девки, жуткие «звезды» шоу-бизнеса, чьи дегенеративные телодвижения неустанно описывает пресса, и – где-то вдалеке смутный непонятный «народ», которым занимается в случае катаклизмов министр Шойгу.
Однако мы понимаем, что трудящиеся в России никуда не делись, и они числом поболее, чем во Франции. Плавится сталь, выращивается картофель, строятся дома, извлекается электричество и уголь, работают железные дороги, аэропорты, больницы и школы… тьма трудящихся!
Они выйдут миллионами бороться за свои права и протестовать против несправедливости и угнетения? Мирным, законным путем отстаивать свои интересы?
Пока – нет. Наши трудящиеся как будто парализованы, растеряны и вообще плохо понимают, что у них есть права, которые приходится постоянно отстаивать. Потому что буржуазия она и есть буржуазия – мигом захапает все, что плохо лежит и не сопротивляется.
Но мы подзабыли, как это делается! Давненько уж очень это было – рабочая борьба. С 1905 года не знаем, что такое всеобщая стачка. Случись делать баррикады – руками разведем: забыли рученьки! Слово «солидарность» ушло из лексикона – какая там солидарность, человек человеку волк, каждый за себя, все умрут, а я останусь!
Фу, в какое же дурное пошлое мировоззрение мы въехали – такого в цивилизованном мире давно уж нет. А у нас принято или не верить никому и ни во что, ожесточенно, в одиночку сражаясь с жизнью, или исступленно ждать милостей у государства и, не дождавшись, столь же исступленно его проклинать.
У нас трудящиеся выходят на улицы, когда совсем труба. Когда жизнь с воплем отчаяния зависает у последней черты. Да и то – далеко не всегда. Нормальная, спокойная, цивилизованная, постоянная, ставшая частью образа жизни борьба за свои права нашим трудящимся пока неведома.
И получается, что любое улучшение положения трудящихся у нас происходит только через катастрофу. Когда после министра Шойгу на место прибывает премьер-министр Путин и медным голосом приказывает мордатым воеводам прекратить царство голого чистогана или хотя бы повернуть его малым профилем в сторону трудящихся. Путин, надо заметить, вообще рыцарски предан идее более разумного распила прибавочной стоимости между населением. Да только что он может один? Без мощной предъявы со стороны самих трудящихся?
Сердце Гамбетты бьет труп Ленина и в плане идеологии и пропаганды. Французские мастера искусств или аполитичны, или являются крайне левыми. «Свобода, равенство, братство», – по-прежнему начертано в сердцах интеллектуалов, пусть их пафос уже от времени стал пародийным и не вполне искренним. Но не принято воспевать капитал, восхищаться властями, прогибаться перед имущими, лебезить перед начальниками. Этого не носят во Франции ни в каком сезоне!
А наши? То они ставили спектакли про доярок и сталеваров и писали эпопеи про трудовые династии, то как корова языком слизнула с экранов, сцены и книжных страниц вообще какие бы то ни было упоминания о профессиональной деятельности человека, о труде, о правах людей труда.
Боже, видимо, в этих головах может проживать только одна идея – ну, нет места для нескольких. Если мы уже не строим коммунизм – значит, гори все синим огнем, и человек человеку волк. Но ладно, нет ни меры, ни вкуса – так хоть инстинкт выживания должен работать? Здравый смысл может хоть иногда включаться?
От того, что мы не строим коммунизм, трудящиеся-то никуда не делись, верно? Значит, надо сызнова вспоминать уроки истории. Как в том анекдоте эпохи застоя, когда воскресший Ленин исчезает, оставив записку Дзержинскому:
«Феликс, я в Париже. Явки старые. Надо начинать все сначала».
Корова, собака, лошадь…
Корова, собака, лошадь… продолжите ряд. Вы поняли, что я перечисляю?
Это русские ругательства.
Странно, правда? Не сыскать животных полезнее для человека, нежели корова, собака, лошадь. Но даже тут особенно выделяется корова. Существовала ли на свете хоть одна вредная корова? Кто-нибудь видел такое? Один вид коровы уже благотворен и утешителен, не зря в Индии она отождествляется с образом Богини-Матери и считается священной. Священная корова, «гваматра». Бродит где хочет, никто не смеет тронуть.
А у нас священное животное – медведь. Поэтому у нас чтят грубую силу в шерсти, с когтями, зубами и грозным рыком.
А чтоб оскорбить крупную женщину, которая, как правило, жена и мать, ее обзывают коровой.
– Кар-рова! – и перекошенная от злобы рожа мужского скота. Впрочем, напрасно я употребила слово «скот». Им тоже не стоило бы ругаться. Скот – полезные животные нелегкой судьбы. Лучше сказать как-то иначе: дрянь, сволочь, ублюдок. Не ругаться именами и названиями прекрасных животных, которые ни в чем не повинны.
Говорю, потому что обидели меня на днях. Приехала я поездом из Москвы, и запутка вышла с дальнейшим транспортом. Ну, думаю, ладно, вещей нет, пойду поймаю машину на Староневском.
Стою, ловлю. Подходит ко мне таксист, предлагает услуги. Нет, отвечаю я твердо, нет. У меня деньги трудовые, я их не собираюсь дарить этим странным людям, которые у нас называются таксистами и «заряжают» до изумления. Не может такси в Петербурге стоить дороже, чем в Париже и Нью-Йорке! А оно именно так и стоит.
Так что я отвечаю вежливым отказом, что почему-то бесит эту мужскую тварь. Тут он меня и выругал «кар-ровой». Он это зря сделал.
Я повернулась к нему (он сел в свою машину) и говорю. Хорошим, громким голосом, поставленным еще в драмкружке Дома культуры имени Ильича в 1972 году.
– Ты что, выругал меня коровой? Ты считаешь, это плохо – быть коровой, ты воображаешь, что ты лучше, выше меня? Ты хотел меня оскорбить? За что? За то, что я не хочу отдавать тебе свои честные деньги? Да, я корова, я мать детей, я труженица, ты обязан меня уважать, а ты что? Плохой человек. Ты – плохой человек. Ты мне не нравишься. Знаешь что? Пожалуй, давай-ка ты сегодня у нас до дома до своего не доедешь. Вот я возьму сейчас и плюну тебе на колеса. Чтоб ты понял, на кого можно пасть разевать, а на кого нельзя.
Надо сказать, он такого отпора не ожидал. На подобных коров он до сих пор явно не напарывался. А что делать! Не в Индию же ехать в самом деле. Придется здесь жить-доживать, в этой земле, где женщина-мать за свою коровью вахту от государства получит полкукиша без масла, а от мужских тварей – обиды и оскорбления. Так что надо уметь держать удар…
Что они «коровой» ругаются – это частность. Но эта частность исходит из большого отвратительного целого.
Я к тому веду, что мало у нас уважения к женщине-матери, а потому такое варварское отношение и к природе, и к Родине. Даже не знаю, что нам, коровам, делать! Вот возьмем и собьемся в эдакое взбешенное коровье стадо, рога и копыта отрастим-отточим и начнем защищаться, да так, что небу жарко станет.
Ведь коровы не так уж безобидны. Просто у них установка на мир и покой. Стоят, жуют, смотрят своими потрясающими глазищами, в которых – какая-то вселенная спит. А вот возьмет эта вселенная и проснется. И взбунтуется. И поднимет на рога тех, кто «коровой» ругается…
Теперь еще один вопрос возникает интересный: вступать ли коровам в союз с лошадьми? Ведь если крупных, толстых женщин именуют коровами, то женщин сильных, высоких обзывают лошадьми. Это разные категории женских существ. Почему-то они редко дружат между собой, хотя в открытую войну не ввязываются. Держат что-то вроде нейтралитета. И это правильно с точки зрения грамотного домашнего хозяйства.
Но перед лицом общих врагов и коровы, и лошади могут объединиться! Для защиты своего двора. И своего природного достоинства.
А то что придумали – «кошечка» у них похвала, а «корова» и «лошадь» – ругань.
Вот гады!
Страус – птица русская
Маленькая история, которую я вам сейчас расскажу, – чистая правда. Ни одной – даже крошечной – выдумки в ней нет. Да и за каким чертом литератору на Руси что-то выдумывать? Русская жизнь это делает за нас. В наши небольшие головы просто не может поместиться ее изобретательность!
По субботам я люблю ходить на рынок, вооружившись объемистой французской сумкой из плетеной соломки. Как человек подозрительный и недоверчивый, я тщательно вглядываюсь в разложенные на прилавках продукты и возвышенные над ними лица продавцов. Пытаюсь понять тайные каверзы и пороки, в них заключенные.
Почему-то особо радушны и веселы продавщицы солений, видимо, есть связь между сутью продукта и продающим его, а соленый огурец – он что? Он классика. Поэтому в мире рынка продавщицы соленых огурцов держатся как-то особенно твердо и уверенно.
А вот на лицах продавщиц птичьего отдела, где курицы-индейки, залегли с недавних пор странные тени.
Дело в том, что у них на прилавке среди наших обыкновенных синявинско-бугровских цыпок завелись какие-то загадочные части неведомых птичьих тел. Названия гласят: «голень индейки», «шея индейки», «крыло индейки». Но, мысленно складывая эти разрозненные части в первоначальную птицу, приходишь к мысли, что это не индейка. Или какая-то фантасмагорическая индейка гораздо более метра в высоту. Ведь ее голень одна только достигает полуметра, а устрашающая шея и огромные крылья вообще навевают воспоминания о птеродактилях. Смотрела я смотрела на эти загадочные части тела, и вырвись у меня крик души: «Господи, что ж это у вас за индейка! Прямо страус, а не индейка!»
Продавщица с некоторым уважением посмотрела на смышленого покупателя и тихо ответила: «Да это и есть страус…»
Страус?!
И молния озарила ум.
Я вспомнила, как некоторое время тому назад видела по телевизору выступления одного русского маньяка, который убежденно говорил о необычайно высоких вкусовых свойствах страуса как съедобной птицы и срочной необходимости разведения заморского чуда в России. Маньяк, разумеется, был вооружен множеством цифровых выкладок и особым блеском в глазах, который без всяких цифр убеждал в том, что участь страуса решена: страус – птица русская. Такой же блеск пытливых глаз в связи с учением марксизма когда-то решил и судьбу России. Марксизм был привезен, взращен и внедрен с потрясающим результатом…
Какое-то время о судьбе страусов как русских птиц ничего не было известно. Потом пришли тревожные вести: на ферме случились катастрофы, страусы пали, и мы по-прежнему были лишены вкусовых свойств чудо-птицы. Но маньяк не сдавался. Периодически то здесь, то там я находила отзвуки информации о деятельности внедрителя страусов. И наконец, как можно догадаться, всё получилось! Буквально не прошло и двадцати лет.
То есть страусы укрепились, размножились и стали давать приплод в промышленном количестве. И тут героя-страусовода настиг эффект, понятный без разъяснений всем коренным петербуржцам: по-питерски уважая маниакальность таких размеров в теоретическом плане, мы на практике страусов есть не собираемся. Недаром сегмент экзотических блюд в наших самых дорогих ресторанах ничтожен. Консервативны-с! Согласитесь, надпись «мясо страуса» надолго способна лишить аппетита почти любого петербуржца. Вот если бы продавались перья страуса – это еще как-то могло бы заинтриговать хотя бы театральный Петербург, где до сих пор идут пьесы из господской жизни. Но кушать страусов! Это нереально. С тем же успехом можно было бы продавать мясо тигра… Тем более цена у них внушительная – под 300 рублей кило.
И вот развязка: страусов продают под видом индейки. Полуметровые голени и трубы шей заморского чуда, плодоносящего на русской земле, скармливаются под ярлыком более-менее обыкновенным, хоть как-то привычным потребителю. Удивление размерами новоявленной «индейки» остается внутренним явлением будней рынка. Нельзя сказать, что реальный страус, который индейка по документам, зажил яркой товарной жизнью – его покупают вяловато, однако покупают, особенно когда синявинские цыплята заканчиваются. Но если бы страус не скрывался лукаво, а так и лежал под собственным экзотическим именем, даже вялое впаривание его закончилось бы намертво!
Эта история меня напрягла. Теперь я с некоторым страхом всматриваюсь и в прочие товары на рынке: кто их знает, наших весельчаков? Не выдают ли они кенгуру за телятину? Точно ли передо мной хурма, а не плоды каучукового дерева? А это вообще молоко или сок амариллиса? Вправду ли эти яйца куриные, а не крокодиловые? После индейковидного страуса ожидать можно всего.
Вот ведь беда приходит, откуда и не ведаешь. Не проговорись продавщица, никогда бы не подумала, что в мирном птичьем отделе завелись такие чудеса. А еще считается, что профессия домохозяйки – тихая и спокойная.
Да это самое опасное нынче занятие. Хуже, чем по морю ходить. Кругом рифы, ямы и буруны. Одни подвохи! Не знаешь, что принесешь домой в корзиночке – еду или отраву.
А к страусам теперь я отношусь нежно. Это раньше он был далеким и странным. Теперь не то. Теперь у страуса завелась русская судьба, наша, родная, понятная. Мерзнет он, горемычный, где-то в области на ферме, клюет что-то там понемногу, размножается поневоле – и едет на прилавок под именем индейки, никем не опознанный, безымянный, бесславный русский зэка! Эх, страус, русская птица. Обнять бы тебя вечерком, выпить по маленькой и поплакать о нашей общей судьбинушке…
Один на всех
Остались одни уроды
О фильме Алексея Балабанова «Жмурки»
Составители анонсов довольно легко могут отделаться от нового фильма Алексея Балабанова «Жмурки», твердо поместив его в рубрику «черная комедия в духе Тарантино». Однако эту операцию можно смело признать бессмысленной: она явно неадекватна картине. Тарантино – глобальное явление стиля, безразличного к моральным ценностям, а Балабанов – сын трудового народа, и любое его творческое высказывание так или иначе задевает обостренное чувство национального. Соль «Жмурок» – в ядовитом сатирическом огне, который горит в душе режиссера, лихо и весело расправляющегося с бандитской романтикой в кинематографе. Можно сказать, что «Жмурки» – это «Анти-Бригада». Балабанов истребляет все претензии русских бандюков на героическое, претензии, которые они так щедро финансировали. Жадно оплачивая запредельную эстетизацию своих рыл, братва надеялась пролезть без спросу в царство прекрасного: погуляли и хватит, похоронил вас Алексей Балабанов. «Жмурки» – могила криминального романтизма: ни людей, ни героев, одни уроды. Хотя они и покупают гамбургеры, а в одной бригаде даже действует черный (Г. Сиятвинда) – это наши уроды, не ошибешься, и «Эфиоп» недаром так свирепо настаивает на том, что он русский. Он русский, и это многое объясняет.
Действие картины происходит в 90-е годы, в замызганном провинциальном городе (для этих целей сгодился непарадный Нижний Новгород, как сгодился бы, в общем, любой русский город), по которому на убитых тачках рассекают мужчины разного возраста и разной степени «отмороженности». Основная интрига (сценарий Стаса Мохначева и Алексея Балабанова) прочитывается не без труда и отпечатка оригинальности не имеет. Суть в том, что некий мент (В. Сухоруков), решив по-легкому срубить капусты, подбивает трех уродов забрать кейс с деньгами у людей Сергея Михайловича, бандитского Папы (Н. Михалков). В кейсе оказывается героин. Папиным пацанам (Д. Дюжев, Ал. Панин) приходится отбивать порошок, по пути превращая большое количество живых белковых тел в трупы. Все у них получается. Окрыленные удачей, пацаны преспокойно решают кинуть Папу и отправляются в Москву за счастьем, которое, судя по финалу, сбывается с неумолимостью русской сказки. А жмурки – это игра такая: если, стреляя себе в висок, зажмуришься, значит, проиграл.
Но суть не в сюжете, а в людях, общем колорите, атмосфере и энергии фильма. Перед нами новые люди нового русского мира, ставшего теперь нашим боевым прошлым, – люди вне идеологии, вне традиций, вне культуры, вне общества. Люди ниоткуда и сами по себе. Тонкий слой человечности, прикрывавший животные инстинкты, свернулся в 90-е как кислое молоко и был без труда слит. Осталась голая простота первобытной агрессии. Если бы ученые научились расшифровывать разговоры крокодилов или варанов, они были бы, наверное, более содержательными, чем те разговоры, что разговаривают персонажи фильма «Жмурки». У наших уродов будто напрочь вылетел этап становления, развития, оформления во взрослую особь – встав с горшка в детском саду, они вместо пластмассовых пистолетов взяли в ручонки настоящие и так и живут внутри дурацкой инфантильной игры. Забирай и беги, поймают – не признавайся. В этой игре есть условно старшие и условно младшие, но они легко могут поменяться местами – это вам не «крестный отец», а русский беспредел, русская вольница, которая во сто крат хуже, гаже, страшнее, чем русская зона.
Вот, казалось бы, главный распорядитель игры – бандитский Папа, в правильном малиновом пиджаке, с бычьей шеей и визгливым голосом, налитый темной яростью и комическим самоупоением король уродов. Никита Михалков играет блестяще, как всегда, и как всегда его игру малость портит то обстоятельство, что Никита Михалков знает, сколь блестяще он играет. Рыжий паричок, имитирующий детскую стрижку (такой же носят и отморозок Корон – герой С. Маковецкого, и мент Сухорукова), придает облику председателя Союза кинематографистов неописуемо юмористический оттенок, а его реплика, обращенная к незадачливому архитектору, испортившему камин: «Ну всё – карачун тебе, церетели», – рискует стать классической. В «Жмурках» Михалков совершенно на месте, поскольку его имя можно смело присвоить одному из самых распространенных национальных типов. В любой большой компании вы найдете того, у кого грудь шире, усы круче, голос громче, повадка напористей, бумажник толще, баба блондинистей, – короче говоря, «никиту-михалкова». Русский доминирующий самец, как правило, за редким и неприятным исключением, чем-то да похож на свой эстетический первообраз. А с точки зрения искусства Папа «Жмурок» – прямой потомок Проводника из «Вокзала для двоих», предприимчивый жулик восьмидесятых, заматеревший до бычары девяностых. Все эти Папы давно уже в гробу, на зоне или притаились на дне жизни, малиновые пиджаки истлели, а бывшие Папины шестерки рулят в пределах Садового кольца. Посему оттенок ласковой насмешки, которым окрашивают этот буффонный образ артист и режиссер, вполне точен.
Вообще незнакомые лица редко встречаются в этой комедии уродов – Балабанов впихнул туда рекордное количество любимых актеров, усиливая впечатление карнавала, маскарада, фарса. В центре почти всех картин режиссера действует пара героев, на этот раз это хитрый шустрик Алексея Панина и флегматичное дитя-палач Дмитрия Дюжева. Сочувствия они вызывают столько же, сколько бы их вызвало видеонаблюдение за совместными действиями удава и хамелеона. По ходу фильма кровищи прибавляется, а веселья убавляется. Балабановская хмурость нарастает, а насмешливость тает. Сколько бы ни комиковали артисты, картина вырисовывается тоскливая: очень глупые и очень несчастные люди в изношенном, грязном и опозоренном мире дерутся между собой за призрак того, что им кажется жизнью.
Был, был в этом мире когда-то прекрасный герой, благородный русский господин, которого Балабанов же уродам и придумал, ввязался господин по велению режиссера в уродскую жизнь и назвался Братом уродов. И нет его больше. А уроды остались…
Я думаю, что «Жмурки» – не главный фильм Балабанова. От его колючего дикорастущего таланта мы вправе ожидать чудес. Но этой динамичной и довольно забавной картиной в жизни режиссера закончилась длительная «полоса препятствий», несчастий и неудач. Она подводит итоги криминальным девяностым и сливает куда надо бандитскую романтику. Уцелевшая братва, наверное, обидится и станет бурчать, что, мол, «все было не так, там были хорошие, реальные парни, да». Народ погогочет от души. Не много, но и не мало.
Михалков и пустота
О фильме «Статский советник»
Современное искусство, за редким исключением, – это вздор; но бывает милый вздор и противный вздор. «Статский советник», на мой вкус, относится к области забавного, безвредного, невинно-занимательного, то есть к области «милого вздора». Что-то вроде «бисерного чехольчика на зубочистку», который жена Манилова дарила мужу в «Мертвых душах» Гоголя.
«Статский советник» Бориса Акунина, один из лучших романов фандоринского цикла, вышедший в конце 90-х годов, написан с обычной для этого автора нечеловеческой гладкостью – никакая личная корявость не портит его лихо отшлифованную поверхность. Это уже, можно сказать, классика поп-культурной игры в Россию, конструктор хай-класса, к тому же снабженный вечно милым русскому сердцу мотивом противостояния порядочного человека и безумной государственности. Высшие полицейские чины, правящая элита оказываются кровожаднее своих номинальных врагов. Жить в этой стране никак нельзя (да в ней, судя по фильму, никто и не живет, кроме властей, террористов и обслуживающих их дам), но поиграть азартному человеку можно: фактура богатая, привлекательная.
Чем больше знаешь о лицах, трудившихся над экранизацией этого конструктора, тем интереснее смотреть – те, кто знает досконально творческую биографию Никиты Михалкова, Олега Меньшикова, Константина Хабенского, Владимира Машкова и других, сильно выигрывают в «романе восприятия». Конечно, актеры использованы в виде самых устойчивых масок (Михалков – «плохой папа», Меньшиков – фантом в черном, Хабенский – одинокий обаятельный волк, Машков – вор-разбойник), но такова стилистика «карточной игры», принятая в картине за основу, да и маски нажиты этими артистами рельефные, выразительные. Правда, когда фильм вышел на экраны, обнаружился занятный эффект, который зарегистрировали несколько добровольцев: он скорее нравился при первом просмотре и скорее не нравился при повторном. Это свидетельствует не столько об отсутствии художественных достоинств (есть картины скромных х.д., которые тем не менее можно смотреть многажды и с удовольствием), сколько об уплощении внутреннего пространства, неминуемом в визуальных конструкциях такого типа. Такое пространство не живет, не дышит – оно свернуто в орнамент и не рождает обобщающих, символических значений. Его съедаешь при первом употреблении, и на повтор как-то не тянет.
Возьмем для примера квартиру, где обитает герой фильма, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Москвы, статский советник Эраст Фандорин. Совершенно непонятно, что это за квартира, сколько в ней комнат, кто где живет, как устроен быт и обиход героя. Всего лишь несколько фоновых деталей – раздвижная ширма, бочка с горячей водой (японская баня), вращающийся стул. Это годится для эффектов: на стуле вращается задумавшийся Фандорин, что меняет ракурсы восприятия его лица, в бочке сидит девица Литвинова (Эмилия Спивак) – голая по пояс, стало быть, есть шанс рассмотреть аппетитные грудки. А если бы Фандорин не вращался, а Литвинова не показывала свою красотищу, смотреть было бы не на что – там внутри ничего нет. Стерильно.
Конечно, этого не могло быть, если бы режиссером картины являлся Никита Михалков. Квартира или дом, где живут герои, для него всегда – предмет особого художественного попечения, драматическое пространство, обильное подробностями и зараженное психическими излучениями жильцов. Нет, Никита Михалков не мог заниматься режиссурой «Статского советника», и подозрения, звучавшие в прессе о том, что, хотя режиссером фильма считается Филипп Янковский, на самом деле… – безосновательны. Михалкова, как всегда, оклеветали. Ничто в режиссуре «Статского советника» не говорит нам о его причастности к ней. Печать личности Н.С. Михалкова твердо поставлена только на одно: на личную актерскую работу в роли князя Пожарского. Зато уж и выжал он из этого всё, что возможно. Блеснул, прогремел. Опять заставил общество говорить о себе, и на сей раз мнения не разделялись, а сошлись в одной точке: в признании полной и безоговорочной победы.
Да-с, это вам не шутка – девять лет актер без работы. Свою последнюю роль, городничего в «Ревизоре» Сергея Газарова, Михалков сыграл в 1996 году, потом явился в виде царя Александра Третьего в собственном фильме и далее опустился до безвыходного заключения в действительности, где он семь лет исполняет роль председателя Союза кинематографистов. На такие роли в советские времена были заготовлены специальные актеры «без свойств», с крепкими лицами и эпическим темпераментом – явно не михалковское амплуа. Для него, Михалкова Н.С., 1945 года рождения, всегда будет существовать «гамбургский счет» в искусстве; вопросы профессиональной состоятельности волнуют его глубоко, живо, по-настоящему, и никакая слава, кроме профессиональной, никогда не напитает эту ненасытную душу. Актерскую работу Михалков не просто любит – обожает; потому и запустил свой несколько заржавевший от бездействия актерский механизм на полный ход, и ворвался в «Статского советника» как бешеный паровоз, и показал, на что способен настоящий артист, и, собственно говоря, спас картину для истории.
«Статский советник» скроен и сшит по всем правилам той визуальности, что носят в этом сезоне. Это «кино Первого канала»: максимум известных лиц (преимущественно – лиц Первого канала) в кадре, средняя длина плана – две-три секунды, отгламуренная фактура (всё новое, чистое, свежее, без энтропии), дозированная кровь для оживления омертвленного пространства, никакой эротики (чтоб не вносить тревожность в массы, да никто этого играть больше не умеет), музыка фоновая, вместо ритмов – метрическая отбивка. От актеров в этом кино требуется, если использовать терминологию фигурного катания, показательное выступление.
Конечно, фильм содержит внутри себя остаточные следы некоторой «длинной претензии» – скажем, на участие в спорах о России. Воспроизводя некоторые реалии девятнадцатого века, «Статский советник» будто бы формулирует некоторую «формулу России» с извечным перевертышем взаимодополняющих друг друга властей и террористов. «Главная беда России, – говорит и в романе, и в фильме Фандорин, – добро здесь защищают дураки и мерзавцы, а злу служат герои и праведники». Что-то в нашей душе, несмотря на дутую блескучесть этого сомнительного афоризма, отзывается на него узнаванием. Какая-то перспектива ассоциаций открывается – например, с фигурами Генерального прокурора и национал-большевиков… Стало быть, центральные образы «Статского советника», возможно, что-то такое олицетворяют собой, однако понять, что именно они олицетворяют, не так-то просто. Современность никак не втискивается в этот карточный домик, хотя мне встречались попытки прочесть «Статского советника» буквально и простодушно, как слегка зашифрованную карту настоящего времени: дескать, Меньшиков – Фандорин – это маргинальный интеллигент, Михалков – Пожарский – безнравственная власть. Не получается. Нет сейчас во власти никакого подобия Михалкова – Пожарского (опять Никиту Сергеевича оклеветали), в ней рулят господин Никто и люди без свойств. Ослепительный личностный окрас там не проходит уже на самых ранних этапах. И ни при какой русской погоде маргинальный интеллигент не может выглядеть и вести себя, как Олег Меньшиков – с презрительным щегольством идеальной модели. Тем более загадочен террорист Грин – Константин Хабенский.
В романе Бориса Акунина прослежена метаморфоза еврейского юнца Гринберга в стального-ледяного террориста. В фильме объяснений, какая дорога привела персонаж в его нынешнее состояние, нет, что естественно – Первый канал шарахается от всяких разборок по «еврейскому вопросу». Соотнести лицо Хабенского с известными нам реалиями фасада современного терроризма – невозможно. Стало быть, и ни к чему тут привлекать мир подвижных смыслов, раз перед нами пространство назывных значений: террорист терроризирует, вор ворует, снег белый, кровь красная. Такая в них программа заложена. И Грин – Хабенский – зачарованный воин программы с интересным лицом, не более того.
Но «более того» уже не нужно; химера художественности перестала терзать основной массив кинорежиссеров так же, как основных потребителей их продукции. В «Сибирском цирюльнике» Михалкова, созданном семь-восемь лет назад, оператор Павел Лебешев снимал одну заснеженную ветку над Москва-рекой, и этого было достаточно для образа русской зимы. В «Статском советнике» Владислав Опельянц снимает и снежную аллею, и целый ледяной дворец, и это не подчинено строгим целям художественности, а так – вообще красиво. Намеки, детали, тонкие энергии плохо воспринимаются потребителем, сложные ритмы раздражают. Первый канал успешно поработал над новым форматом восприятия и теперь вправе собирать созревшие плоды.
В это новое пространство вступают два выдающихся артиста предыдущей эпохи – Михалков и Меньшиков.
О том, что Олег Меньшиков сыграет Эраста Фандорина, говорили еще пять лет назад. Тогда, на волне «Сибирского цирюльника», театральных успехов, общей атмосферы любопытства к его герметичной личности, он бы сыграл, надо думать, иначе. А сейчас…
Отлично нарисованный силуэт – носить костюмчик лучше Меньшикова в нашем кино по-прежнему никто не умеет. Всё фандоринское снаряжение на месте – седые виски, усики, легкое заикание. Умело выделанные саркастические интонации, непроницаемый взгляд, красивая отчужденность вкупе с моментальными реакциями. Фандорин? Вроде бы да, Фандорин. И всё-таки что-то не так.
Акунин сочинил своего героя по классическому принципу гиперкомпенсации: он и умен, и хорош собой, и физически крепок, и судьба его любит и хранит. «Фандорин – ну, это же такой Джеймс Бонд для стран с неконвертируемой валютой», – сказал однажды Меньшиков в телеинтервью. Остроумно и точно: победного биооптимизма, цельнолитой энергии, характерных для героев действия из стран с конвертируемой валютой, в Фандорине нет. По замыслу автора, его душа надломилась в самом начале жизни («Там человек сгорел!» – как воскликнул поэт Фет в искомом девятнадцатом веке) и осталось уповать на порядок, дисциплину, отделку фасада, поиск хороших интеллектуальных задач для решения и японскую гимнастику как средство служения русскому Отечеству. Холодное благородство и невозмутимость – привлекательные черты на фоне хронической русской горячки идей и аппетитов.
Хотя в Меньшикове нет нормативных триллеровых добродетелей (бег, прыжки, стрельба, гимнастика), что положено, он отрабатывает. Но главная черта его героя – фантомность. Это как в старинных мелодрамах – появляется Неизвестный, Некто. В нем нет всепокоряющей обольстительности, и не быть ему мечтой очкариков. Его ирреальная природа излучает тонкую прозрачную печаль, несчастье рождения в мир. Это космическое привидение в черном, из иномиров заброшенное в русские обстоятельства, которым не перестает изумляться. Он брезгливо отстраняется от вульгарного напора примитивной энергии русских варваров во главе с могучей мужской динамо-машиной (князем Пожарским). Он изящен, как фарфоровая куколка, японский иероглиф, звездный блик в ночных волнах. Главенствовать, напирать, побеждать? Кого, зачем? Всё так странно… Иногда фантом задумывается о чем-то своем, фантомном, и тогда его черные глаза напускают такого лунного туману, что в нем рискуют утонуть и авантюрный сюжет, и хорошенькая открыточная Москва (Москву-то нынче приходится ездить в Тверь снимать, вот оно как-с) со своими невменяемыми обитателями. Кроме, конечно, одного обитателя, которого ничем не проймешь, – его придется взорвать.
Князь Пожарский появляется где-то через пятнадцать минут после начала фильма, и всё – Михалков сразу соберет весь кадр на себе и уже никуда зрителя не отпустит. Начинается «практическая магия». Типологически князь Пожарский – глубокий родственник князя Валковского, сыгранного им в картине А. Эшпая «Униженные и оскорбленные» по роману Ф.М. Достоевского, – хитрый, крупный, энергичный бес, мастер психологической провокации. Но Михалков делает максимально возможное, чтобы правда и вера этого героя стали главными, перебили весь смысловой и нравственный баланс фильма. Его роль – главная роль, и противник его – не русский террор и спящие власти, а тот, кто на главную роль покушается, то есть Меньшиков – Фандорин. Ну что у тебя есть? Ничего же у тебя нет, кроме дурацкой милости судьбы? Тогда отойди, сгинь и рассыпься – словно говорит Пожарский Фандорину. При всей рассыпчатой легкости психологических пристроек, реакций, шуточек, смешков, в Пожарском – Михалкове явно засела какая-то тяжелая, неподвижная мысль. Она сидит в бешеных зеленых глазах, которые князь эффектно щурит, наливает тайной яростью крупное, но весьма ловкое тело. Это мысль о том, что где-то есть совсем уже настоящий враг, напрочь отрицающий его главную роль, – и это не Фандорин, которого он презирает и чуть-чуть боится. Этого могущественного врага вообще нет внутри картины. Возможно, он ее посмотрит. Поэтому надо сделать так, чтобы, посмотрев, враг увидел незаурядный ум, волю, напор и врожденную привилегию победительности князя и сдался добровольно. Отойди, не то раздавлю – ежеминутно читается в Пожарском – Михалкове. Никто и не подходит – князь бушует в пустоте, что его нисколько не смущает: не свита играет короля, это вздор, король создает свиту, а даже если свиты нет, король останется королем и пустота будет его королевством…
Россия, Россия, Пожарский постоянно твердит о ней, нуждающейся в защите от супостатов, об элите, обязанной хранить свое нажитое «добро» и любой ценой противостоять хаосу. Между тем Россия «Статского советника» – не очень-то приятная страна, за вычетом нескольких интерьеров и пейзажей. В ней нет ни детей, ни животных (только лошади – возить персонажей), ни трудового народа, ни интеллигенции, ни церквей, ни воинов, ни влюбленных. Это страна безумных мужчин неопределенного рода занятий, с удовольствием ненавидящих и истребляющих друг друга. Женщинам (обворожительная Жюли – Мария Миронова, свеженькая нахалка Литвинова – Эмилия Спивак и замороженная, скрытно-пламенная Игла – Оксана Фандера) остается помогать им в этом, в сущности, нехитром деле. Кого тут хранить, что защищать? Нет у России никаких «интересов», а есть куча азартных игроков, готовых разнести в клочья что угодно. Да пропади они пропадом – человечество ничего не потеряет, избавившись от этих полоумных. Когда в ходе действия возникает вор Козырь (Машков – мастер на такие роли), становится очевидно, что русская агрессия не нуждается в оправдательных идеях. «Не пузырься, революция! Налет – дело фартовое!» – смеется разбойничек. И жизнь в России – дело фартовое, и кино – дело фартовое, чисто энергетическое, можно сказать. А потому Михалков, хранитель стратегического запаса русской энергии, смотрится здесь победителем. Красиво печальному, чуть увядшему, как срезанный бутон, Пришельцу из иномира остается грустно посмотреть на происходящее и меланхолически обронить: «Зло пожирает само себя». Закон есть закон, и он исполнится в точности – мужчины истребили друг друга, зима продолжается, Некто в черном снова шествует по холодной пустоте. Приклеенный финал, когда Фандорин, уже резко отвергнувший служение безумной российской государственности, вдруг соглашается вернуться к прежним обязанностям, остается бесполезным, да и играет в нем Меньшиков точно через силу. Игрушечный драйв закончился, милый вздор растаял, аппетитные нарезки кадров с красотками, обедами, выстрелами, лошадками, взрывами, паровозами, мундирами и пр. закончились – и что осталось в памяти? Михалков и пустота.
Групповой портрет с тремя правдами
Фильм «12» Никиты Михалкова
Двенадцать присяжных заседателей собираются в спортивном зале обычной школы для вынесения вердикта – в зале суда то ли ремонт, то ли нехватка помещений. Дело поначалу кажется простым и очевидным.
Один русский офицер, служивший на Кавказе, усыновил осиротевшего чеченского мальчика Умара, найденного при зачистке территории. Он привез мальчика в Москву и занялся его воспитанием. В один непрекрасный день офицера нашли зарезанным, его воинская пенсия была похищена, объявились и свидетели: старичок снизу и соседка напротив показали, что мальчик (ставший юношей подсудного возраста) угрожал приемному отцу, а старичок еще и якобы видел его сбегающим по лестнице в час убийства. Улик достаточно. Подсудимому грозит пожизненное заключение – осталось только вынести вердикт.
Такова завязка новой картины Никиты Михалкова «12». В ее глубокой основе лежит известная, дважды экранизировавшаяся американская пьеса «Двенадцать разгневанных мужчин», русифицированная Михалковым, а также В. Моисеенко и А. Новотоцким (это сценаристы фильма Звягинцева «Возвращение»). В сценарии явно сказался страдальческий опыт самого Михалкова в качестве Председателя Союза кинематографистов России: он вдоволь насмотрелся, что такое «русское собрание», с его патологической страстностью, непредсказуемостью, анархией, переменчивостью мнений, изматывающей нервы энергетикой раздора. И эта «эстетика русского собрания» воплощена в картине блистательно. Тема фильма – как найти конкретную истину о конкретном человеке сквозь тяжкую огромную толщу расовых и национальных предрассудков и антипатий, личных пристрастий, амбиций и обид. Как вырастить небесно-общечеловеческое из земного – национального и личного.
Тема крупная, да и фильм немелкий. О нем будет много споров-разговоров после премьеры в отечестве, я лишь постараюсь изложить самые первые впечатления о картине, увиденной мной только что на Венецианском кинофестивале. Для более солидного анализа надо будет посмотреть фильм еще раз (и мысль об этом вызывает интерес и удовольствие – лента не одноразовая) и подкрепить рассуждения освежением в памяти американского первоисточника. Так что уж извините – пишу по горячему следу и на всякий случай для нетерпеливых читателей сообщаю вкратце: да, новое творение Михалкова мне понравилось, чрезвычайно понравилось, но с некоторой шероховатостью, зацепкой какого-то смутного несогласия, которое вот тут же, на ваших глазах, в процессе сочинения текста я и постараюсь выговорить для читателей терпеливых.
На 64-й Венецианский кинофестиваль Никита Михалков прибыл в финале, когда американские звезды и акулы глобального кинобизнеса отправились по своему графику на фестиваль в Довиле вместе с мощной свитой из журналистов, дистрибьюторов и пиар-агентов. Опустели террасы отеля “Des Bains”, осиротели кафе и траттории. Гуд бай, Америка, – здравствуй, Россия. «12» показали международной общественности 6 и 7 сентября – под закрытие, на котором Михалков получил специального «Золотого льва». Лев же не специальный, а обычный достался Энгу Ли за картину «Вожделение», что, учитывая национальность председателя жюри Чжана Имоу и общую «чайнизацию» мира, понятно. Не знаю, насколько этот специальный лев утолит честолюбие Никиты Михалкова, но уж реакция публики должна была осчастливить и обнадежить режиссера вполне: фильм приняли с восторгом. Два с половиной часа «русского мужского балета» в поисках истины, снятого на пределе возможного в кинематографе мастерства, удержали внимание пестрого интернационального зрителя абсолютно.
Никита Сергеевич появился в Венеции с женой и обеими дочерьми, сильно похудевший, чрезвычайно напряженный и взволнованный, в оригинальном «дизайне» комдива Котова на войне (щетина на лице, высветленные волосы), – прямо «из окопов», то есть со съемок «Утомленных солнцем – 2». Волнение его не удивительно. Между «Сибирским цирюльником» и «12» пролегла творческая пауза длиной в девять лет.
Уровень предъявленного в картине мастерства свидетельствует о том, что это безобразие. Он мог бы делать вообще по фильму в год да еще, подобно живописцам прошлого, держать мастерскую, где ученики работали бы в его манере и выпускали «картины школы Михалкова». О кино он знает почти все, и по части работы с экранным пространством и временем ему равных мало. Схватить намертво зрителя камерной историей, происходящей в замкнутом пространстве, без секса, без насилия, без спецэффектов, без террора мелькающими красивостями, на одной игре актеров и фейерверке режиссуры – это надо уметь, и он это умеет.
Дело тут не только в прирожденном таланте. Никита Михалков – это мощная, динамичная, развивающаяся творческая система, способная к постоянному обучению. Его композиционное мастерство (особенно расстановка фигур) и понимание роли света в пространстве основаны на пристальном многолетнем изучении живописи (отсылаю желающих к уникальному проекту Михалкова – многосерийному авторскому фильму «Музыка русской живописи»). Его умение чередовать атмосферы и настроения исходит из недюжинного чувства (и знания) музыки. Он, как никто, может выжать из артиста, полностью его растормошив и раскрепостив, все лучшие силы. Наконец, Михалков полностью усвоил уроки новейшего кинематографа с его «кинематическим дизайном» – и благополучно перетащил к себе кое-какие его достижения вроде жестких монтажных стыков и эффектных статичных планов, длящихся не более секунды (такого раньше у него не было). Но перетащил лишь в качестве легкой приправы к основному блюду, изготовлением которого и славен, – традиционному психологическому кино с живым внутренним пространством.
Как «Пять вечеров» или «Без свидетелей», которые тоже были созданы на литературной основе пьес, новый фильм Михалкова – не эпический, а театрально-драматический. Его переполняет энергия исповеди, энергия раздора, энергия человеческих страстей и столкновений. Но это не сама жизнь (какая жизнь без женщин?) – это спор о жизни. Спор, который ведут двенадцать современных мужчин-россиян разной национальности.
Зачинщик спора – интеллигент, ученый-изобретатель в исполнении Сергея Маковецкого. Это тот единственный, который проголосовал против обвинения и спутал все карты, тот, кто рискнул попытаться переубедить коллег, а заодно рассказал всю свою жизнь за десять минут на общем плане (и глаз не оторвать). Он начинает партию совсем тихо, даже будто испуганно, прикидываясь дурачком, недоуменно округляя свои таинственные непроницаемые глаза – какой-то странный пришелец нравственного закона в российские дебри. Что ж так быстро и так единодушно вынесли вердикт? Ведь в руках у присяжных судьба человека. А что, если он невиновен? Маковецкому разъяренно возразит герой Сергея Гармаша – таксист, человек толпы, человек сегодняшних настроений, который в выражениях не стесняется.
Это крик больной, озлобленной, униженной русской улицы, давно готовой к нацизму, невозможному в современной России только лишь по причине энергетической ослабленности. На фашизм большие силы нужны, а у нас их, слава богу, нет. Таксист кричит о чеченских ублюдках, для которых русские – это добыча, о заполонивших город приезжих, кричит о своем ужасе пред ними, о неизбывных исторических обидах, обращаясь за поддержкой к «земляку», Алексею Петренко (видимо, прораб-метростроевец из обрусевших украинцев). Но медведеобразный прораб с узкими хитрыми глазами себе на уме и тоже начинает свою линию гнуть. А тут и пожилой лукавый еврей (очевидно, из юристов) – Валентин Гафт – встает на сторону подсудимого: очень уж скучное лицо было у адвоката, не защищал он как следует нищего «чеченёнка». Слетает восточная дрема и с хирурга кавказского происхождения (Сергей Газаров) – очень уж больные, зацепляющие каждого пошли разговоры… И только жалкий, напыщенный, под «общечеловека» отлакированный телепродюсер, сын мамы – владелицы телеканала (Юрий Стоянов), никакой правдой интересоваться просто не в состоянии, поскольку на этот счет в Гарварде, где он обучался, им не получено решительно никаких инструкций.
Присяжные начинают собственное расследование – потребовав материалы дела и в порядке игры реконструировав событие и место преступления. А мог ли, собственно говоря, свидетель – старик, больной артритом, – так быстро дойти до двери и увидеть подсудимого? Тут происходящим начинает живо интересоваться артист эстрады (Михаил Ефремов), до этого лихо якобы нюхнувший кокаина в досаде, что опоздал на поезд (гастроли). Перевоплотившись в свидетеля, он убеждается, что дело нечисто – старичок дойти так быстро до двери не мог. Да и «человек толпы», присяжный Гармаша, артисту противен как образ вечно ржущего, ненавистного, тупого зрителя. Итак, доводы обвинения рушатся один за другим, по всему выходит, что «чеченёнок», видимо, невиновен, и все большее число присяжных встает на его сторону…
Все актеры играют с искрой, просто одни образы сценарно разработаны более, другие менее, как у Владимира Вержбицкого, Сергея Арцыбашева и Романа Мадянова, которые остаются несколько в тени. Игра со светом (общий свет отрубают, потом используют свечи, потом включают только отдельные лампы – масса выдумки и разнообразия) и сменой планов потрясающая по изобретательности, хороши кавказские «наплывы» – особенно сцена отдыха боевиков в мирном селе, и, как всегда у режиссера, замечательны переливы эмоций на лицах артистов. Надо заметить, Михалков, потерявший за последние годы, к сожалению, обоих своих прекрасных операторов Павла Лебешева и Вилена Калюту, нашел убедительного союзника в лице человека другого поколения Владислава Опельянца. Но мастерство мастерством, а мы ж еще не на небе, чтоб часами обсуждать детали художественной огранки. Что там «внутри», какое послание, о чем речь?
На мой взгляд, в картине «12» сталкиваются три правды. Первая – личная правда, исходящая из собственной жизненной истории, в которой каждый играет по своим законам, имеет свои убеждения и пристрастия. Скажем, директор кладбища (Алексей Горбунов) знает о гадких махинациях своих могильщиков и спокойно пользуется доходами с богопротивных делишек, но на вырученные могильные деньги он широко благотворительствует и совестью не мается. Русский человек по закону жить никогда не будет, декларирует он, – русскому противно все внеличное. Да и каждый из присяжных что-то такое придумал для себя, какие-то законы и закончики для своего пользования. Вторая правда – национальная. В ней человек отождествляет себя с общностью и противопоставляет себя общности. И здесь трибун национального унижения (герой Гармаша), как бы требующий консолидироваться без раздумий перед лицом опасности национального уничтожения, сталкивается с героем Гафта (евреем), героем Газарова (кавказцем) и героем Стоянова (космополитом). Выиграв с помощью яркой художественной агрессии борьбу с космополитом (Гармаш в лицах заставляет бедолагу пережить воображаемое нападение кавказских разбойников на его семью), остальные битвы человек толпы проигрывает. Еврей ведет себя умнее и достойнее, а кавказец, столь обманчиво мирный и простодушный, в ролевой игре с кинжалом, когда присяжные хотят понять, мог или не мог нанести подсудимый удар сверху, выказывает столько силы, ловкости, удали и великолепно-артистического (но и грозного!) щегольства, что становится понятно: агрессия униженной русской толпы – это детский лепет. Голые, больные эмоции. Сталкиваясь с настоящей силой – силой ума или силой искусства воевать, – они мигом распыляются в ничто. Сам же таксист, как оказалось, забил собственного сына, так что тот чуть не повесился, – какая уж тут правда?
Запекшийся на губах «человека толпы» злой ужас национального унижения – это не шутка. Это каждодневная действительность. Но над этой «русской правдой ненависти» расположена третья, последняя и главная правда. Правда закона. Вина вот этого данного конкретного человека должна быть доказана без всякой связи с его национальной принадлежностью и личным характером. Как ни относись к лицам кавказской национальности, если вот этот конкретный чеченец никакого преступления не совершал – он должен быть отпущен на свободу. Иначе – кровавый кошмар, анархия и бойня. Если русские хотят выбраться из ямы национального унижения, они обязаны стать оплотом закона, порядка, справедливости, взрастить в себе более высокую нравственность, показать миру более привлекательные способы жизни, более красивые стандарты поведения, чем их враги, оппоненты, критики и недоброжелатели. Словом, надо самим себя вытащить за волосы из болота, как барон Мюнхгаузен!
Трудно что-нибудь возразить против этой светозарной утопии. Для ее реализации Никита Михалков поступил старым испытанным способом. В качестве примера такого элитного русского типа он предложил самого себя. В роли одного из присяжных, председателя собрания, бывшего офицера, а ныне художника.
У него необычный грим – длинные седые волосы и бородка делают его похожим на Санта-Клауса, да и имя он носит соответствующее – Николай (у остальных имен нет). Он всю картину помалкивает. Его выход – финальный. Когда выясняется (несколько загадочным и явно искусственным образом), что убийство подстроили таинственные бизнесовые люди, чтоб освободить квартиры в доме, где произошло преступление, и расширить таким образом территорию будущего элитного жилья, Санта-Клаус предлагает совершенно удивительный выход из положения. Проголосовать за то, что парень виновен, спрятать его в тюрьме, чтобы бизнесовые его не убили, а тем временем нанять нужных людей и завершить расследование. На это ни сил, ни времени ни у кого нет. Приходится Санта-Клаусу предложить отпущенному на свободу парню пожить пока у него.
Зима, падает мягкий крупный снег. Присяжный Маковецкого возвращается в спортзал, чтобы забрать забытую иконку Божьей Матери – спрятал в углу тишком, чтобы помогла в трудном деле. На глаза ему попадается ушлый неугомонный воробей, весь фильм на правах полноценного персонажа рассекавший пространство спортзала. Герой открывает окно: хочешь – лети, хочешь – оставайся, придется тебе решать самому, – и вежливо приподнимает перед воробышком шляпу. Так это была сказка?
Чтобы снять рождественский привкус, Михалков дает еще один финал (и я вспоминаю уникальные фильмы Студии Довженко 70-х годов, где было по пять-шесть концовок): картина ужаса войны с какой-то жуткой собакой Баскервилей, несущей в зубах оторванную человеческую руку.
Что-то тут «не так», как говаривал Аким у Льва Толстого во «Власти тьмы». Перебор какой-то. Портят ли эти финалы картину? Да в общем нет, на зрительском возбуждении от ее могучей энергетики и виртуозной актерской игры проходит и это. И все-таки осадок остается. Фальшинка концовки при дальнейшем анализе вытягивает некоторые несовершенства и в ходе фильма: искусственные, неоправданные сюжетные ходы, явную сконструированность иных монологов, излишнюю жирную театральность при внутреннем холоде в некоторые моменты актерской игры. Я бы сказала, что в этом роскошном ковре ручной работы из натуральных материалов есть одна неважная синтетическая ниточка – она не портит ковер, но слишком заметна, и критики не преминут этим воспользоваться. Публика же ничего, думаю, и не заметит. Зрительский успех фильма вне дискуссии.
Для меня же главное достоинство картины в том, насколько интересным, захватывающе разным, привлекательным, увлекательным и завлекательным может быть на экране человеческое лицо. Чтобы с такой любовью показать человека, надо его искренне любить. Влюбленность Михалкова и в человека вообще, и в своих актеров, и в придуманных им персонажей и приводит режиссера к постоянной авантюре: самому переодеться в действующее лицо, вмешаться в пространство экрана, научить, наставить, навести порядок, помочь, спасти!
И что тут возразишь? Когда создатель сам заявляется в созданный им мир, кто же ему судья, интересно?
Никита Михалков как русский Вагнер
1
Когда вышел фильм «Утомленные солнцем» (пятнадцать лет тому назад), я, пораженная тем, как эту картину приняли у себя на родине, написала статью «Суд над победителем». Тогда пришлось с печалью констатировать, что общественное мнение (и критика как его часть) мало способно понимать и уж тем более анализировать художественное произведение.
В том, что тогда было написано о фильме, была явно слышна тяжелая нота если не классовой ненависти, то уж точно социального раздражения против личности Никиты Михалкова.
Что ж, теперь, когда вышла картина «Утомленные солнцем-2: Предстояние», мне впору сочинять «Суд над победителем-2». И прийти к выводу, что за пятнадцать лет ситуация с пониманием значительно ухудшилась. Такой умственной операции, как «понимание», в современности пожалуй что нет вообще!
Почти любое суждение превращается в суд. Абсолютно не признающий того, что для суда над профессионалом такого класса, как Михалков (высшего класса все-таки), требуется определенная квалификация.
Профессиональных кинокритиков остались считаные единицы. И где им печататься, если даже журнал «Искусство кино» (возьмем в руки № 1 за 2010 год) половину тощенького своего объема посвящает разбору сериала «Школа». Вот больше негде обсудить сериал «Школа», а только на страницах «Искусства кино»! А газеты – дело боевое, там не до искусства вообще, оттопчись скоренько на Михалкове, дескать, устроил премьеру в Кремле, денег потратил немерено, а фильмец-то пшик, и ступай себе дальше.
(Диво дивное! Пишут о премьере в Кремле, как будто Михалков верхом на Царь-пушке въехал в Успенский собор. А он всего лишь пригласил публику в КДС, который является обыкновенной концертной площадкой, где танцуют балеты и поют песни…)
Нынче любые квалифицированные суждения плотно окружены густым слоем каляк-маляк племени полуграмотных полузнаек, что кишат в блогосфере (жутком русском подполье, которое предсказал Достоевский). Там в принципе думать запрещено, и подавляющее большинство невежественных анонимов вдохновенно и убежденно несут дичь.
Вот читаю даже что-то вроде «стихов», где гордый кривляка описывает, как в фильме Михалкова-де стелется компьютерный дым в сцене танковой атаки немцев под Москвой.
А я приезжала на несколько часов в Алабино, где велись съемки как раз той сцены, когда курсанты прибывают на поле боя, видела своими глазами вырытые окопы, Дюжева и прочих знаменитостей, сидящих в них на морозе, снегомашину и дымомашину, неустанно трудящихся, – но даже если бы и не видела этого поля, поняла по эмоциональному «полю» фильма, что нет там компьютерных дымов и быть не может.
Да, перед нами «другой Михалков», осваивающий новый для себя киноязык, но он по-прежнему предельно насыщает жизнь внутри кадра, а не «химичит», подрисовывая картинки.
Точно так же Михалков не «химичит», говоря о Божьем промысле, спасшем родную землю, но верит в это всем существом, верит глубоко, полной мерой. Но туман, стоящий в глазах многих современников, искажает все очертания, и они даже эту страстную веру режиссера принимают за некую генеральную стратегическую хитрость.
Честно говоря, с годами начинаю при всем скептицизме склоняться к мысли, что Никита Михалков прав, твердя о Божьем промысле, – во всяком случае, в отношении него что-то такое явно существует. Сам по себе он бы не выдержал давления такой силы. Этого не выдержал бы никто.
Ведь даже многие умные люди отравлены, заворожены ядовитым «туманом».
Блестящий интеллектуал Д. Быков, к примеру, написал о фильме так, будто Михалков вынул картину из кармана, будто она есть чистый продукт его личной воли, а не результат труда сотен людей и достижение нашего кинематографа в целом. Быков, конечно, не унизился до неприличной ругани и назвал фильм «Предстояние» «хорошей советской картиной о войне примерно семидесятых годов».
Семидесятых годов?? Фильм, который начинается с товарища Сталина, которого суют физиономией в торт, и заканчивается обгоревшим солдатиком, прикасающимся к женскому телу в смертной тоске, – это семидесятые годы?
Проблема понимания в нашем обществе, конечно, не сводится к Михалкову и его картине. Но именно в его случае видно, насколько обострена ситуация. Творческие люди в такой ситуации рискуют задохнуться в атмосфере непонимания и ненависти или погибнуть среди равнодушия.
А теперь собственно о «Предстоянии».
2
Товарищ Сталин, грузный, рябой, с жуткими глазами (М. Суханов), вместе со своими приспешниками прохлаждается на берегу пруда. Сквозь плотный портретный грим актера признаешь не сразу, но, когда он пару раз блыснул хищным взглядом, узнавание приходит – Суханову много времени не надо, чтобы врезаться в память… Что-то не так в этом летнем дне и этих людях, все подозрительно чересчур… Среди гротескных физиономий – и комдив товарищ Котов (Н. Михалков), приготовивший для вождя сюрприз: огромный торт с шоколадным профилем Отца Народов. Кто хочет резать товарища Сталина? Никто не хочет? И комдив Котов яростным сладострастным движением погружает голову Отца прямо вглубь лакейского торта… Сирена. Подъем. 22 июня 1941 года, товарищ Котов, и вы не в кошмарном сне, а в том, что будет покруче всякого кошмарного сна, – советской зоне.
Котов занимает в картине немного времени. Любой режиссер, пригласивший Михалкова на главную роль, продержал бы его на экране куда дольше. Но сам Михалков несколько тушуется, уступает место другим. В отличие от первого фильма, где комдив был гордым, победительным красавцем-отцом, Котов находится в состоянии поражения, падения, заброшенности в ад. На осунувшемся лице горят дикие воспаленные глаза, разбитые пальцы прикрыты каким-то самодельным железным устройством. Да он и в душе нарастил такую же самодельную броню, позволяющую сохранять выдержку в любом запредельном адском выверте судьбы.
Когда над головой сбежавших из зоны Котова и Вани (Д. Дюжев) пронесутся немецкие самолеты, товарищ комдив веско скажет: «Это война, Ваня. Это единственное наше спасение».
Спасение для Котова, у которого есть возможность затеряться в хаосе растерявшейся тоталитарной машины. Но и спасение для народа, отпавшего от Бога, – спасение через неимоверные страдания.
Тем, кто полюбил классическую картину Михалкова «Утомленные солнцем», нелегко будет сразу погрузиться в грандиозную трагическую атмосферу ее продолжения. Это не совсем продолжение. Между действием «Утомленных солнцем» и «Утомленных солнцем-2» проходит вроде бы пять лет, но между съемками прошло куда больше, поэтому одни персонажи стали значительно старше, а других вообще исполняют новые артисты.
Но это тот случай, когда художественная условность не только допустима, но и оправданна. Мы вступаем в пространство и время исторической трагедии, подавляющей все драмы частной жизни. Люди взрослеют не от прожитых лет, а от жизненных испытаний, поэтому на войне – главном испытании народа – так резко и страшно взрослеют даже малые дети.
Всё, за что цеплялись люди в мирной жизни, растоптано. Люстра венецианского стекла, о которой так хлопотала расфуфыренная дамочка на барже (М. Шукшина), будет в осколках валяться на берегу, а деньги, которые везет рачительный бухгалтер (А. Петренко), фантасмагорическим дождем осыплют сотни людей, в панике мечущихся у переправы. Из всего, что было дорого миру, на войне останется только ужас за близких людей и любовь к ним.
Не раз комдив Котов вспомнит счастливую тихую речку, по которой он плыл с дочкой. Нынче отец и дочь разлучены, но по-прежнему любят друг друга, и в мифологическом пространстве фильма именно это сохраняет им жизнь. Надя (Н. Михалкова) не отреклась от отца, как ее уже полностью потерявшая облик человеческий подруга по пионерлагерю (А. Миримская). Отречься от отца значит отречься от Бога. Отпасть от Божьего порядка и войти в адскую вертикаль власти, где наверху тот, кто посмел назвать себя отцом этого несчастного, погибающего, но не проклятого, нет, не потерянного вовсе народа!
«Предстояние» – не реалистическая, а мифологическая картина. Никита Михалков, как русский Вагнер, творит собственный личный миф, величественный и трагический, но не такой сумрачный. В определении «русский Вагнер» делаем ударение на слово «русский»! В душевной мифологии Михалкова есть место чуду, милости и надежде, а любимые герои возведены в статус богов и не могут погибнуть. Разве вода, в которой плывет Надя, схватившись за рогатую мину, – это реалистическая вода? Нет, это именно некие библейские воды, в которых ее крестит прямо на мине умирающий священник (С. Гармаш), завещав слова молитвы: «Господи, сделай так, чтобы моя воля не перебила Твою». При всем изобилии конкретных деталей все повествование приподнято, возвышенно, опоэтизировано, как в опере. Оно предельно насыщенно, сверхплотно, быстро – и будто замедленно-величаво.
Центральная часть этого фильма, словно составленного из нескольких фильмов кряду, – эпизод обороны Москвы в 1941 году. В художественном отношении он безупречен, однако не знаю, найдутся ли зрители, способные любоваться эстетикой рассказа, – так он переворачивает душу. Двести сорок отборных кремлевских курсантов, элита Красной армии, все ростом от 183 сантиметров, прибывают в окопы, вырытые штрафбатом, под начало психованного, скрывающего ужас и растерянность старшего лейтенанта (великолепная работа Евгения Миронова). Встреча грязных, страшных, закаленных войной бойцов штрафбата и красавцев-курсантов – отдельная маленькая жизнь с забавными маленькими происшествиями. Особенно запоминается улыбчивый курсантик с грустными глазами, который чувствует, что погибнет (А. Михалков). Под немецкими танками погибают почти все, и мертвая заснеженная земля словно втягивает, вбирает в себя их недвижные тела… Лирическая, поэтическая живописность, которую так любит Михалков, в этой картине предстает как красота скорби, красота пронзительного реквиема.
Тем временем до товарища Сталина доходят вести о разгуливающем где-то по фронтам комдиве Котове, и он отправляет на его поиски того самого Дмитрия – Митю (О. Меньшиков), который когда-то и производил арест опального комдива. Митя как-то ловко укрыл жену и дочь комдива, выдав их за свою семью. Ненависть к советскому миропорядку да и к миру вообще все так же посверкивает в его злых глазах, но развернуться в пространстве этого фильма ему негде – в общей трагической картине бытия его роль невелика. Разве что в разговоре-дуэли с работником Смерша (С. Маковецкий) мы чувствуем Митину надменность, холодное высокомерие и безжалостность. (Надо сказать, Меньшиков и Маковецкий впервые встретились в кадре, и это почин, который можно только приветствовать, – в наших звездах столько разнообразной энергии, что проходная в общем сцена пульсирует от их нервных вибраций.)
Взрываются мосты, тонут баржи, рушатся церкви, горят деревни – но никогда в хаосе исторической катастрофы режиссер не забудет человека, его лица. Михалков возвращает человеческому лицу достоинство, униженное временем торжества гламура. Лица в его фильме не прикрашены, не выглажены, не «отгламурены» розовым утюгом. Они сохраняют все пятнышки, морщинки, складки, веснушки, шероховатости, они говорят о характере и судьбе, они хранят выразительность и красоту живой жизни, а не слащавую мертвенную красивость, мнимую гармонию (работа главного оператора В. Опельянца феноменальна).
В изображении врага нет особых драматических коллизий и психологических сложностей. Враг – он и есть враг, бесконечно чуждый. Может быть, тот добрый шутник Ганс, который высунул из самолета задницу, чтобы испражниться на баржу с красным крестом (бомбить ее запрещено), и хотел всего лишь смешно пошутить. Но трудно не понять солдатика, который в эту задницу влепил из винтовки от всей души, хотя он и погубил этим всех. Из трех немцев, что идут по деревне, только один припадочный расстрелял семью цыган, остальные морщатся от самодеятельности придурка Отто. Мы успеем понять, что враги состоят из разных людей, но это в общем избыточное знание, подаренное нам художественной натурой режиссера. Главное, что на землю пришел враг, которому безразлично все то, что дорого живущему здесь народу.
А что дорого живущему здесь народу?
Родные, любимые люди. Всё остальное с товарищем Сталиным во главе – адский мираж, искушение и морок. Только через любовь к родным можно прийти к Богу.
И великим страданием заслужить милость и прощение…
Всё это абсолютно иррациональные вещи, и фильм-миф Никиты Михалкова обращен не к интеллекту, но к душе народа.
В нем нет никаких особых сложностей – разве что новая для Михалкова композиция, цепь переплетенных рассказов, где личная судьба уступает место теме Общей судьбы. Отец и дочь разлучены, но любят друг друга, преданы друг другу, помнят родной дом, служат Отечеству, выполняя свой долг на войне. И это предстояние перед Богом – залог их спасения. Чего тут можно не понять, если только не заглушить собственное сердце назойливым брюзжанием маленького ума?
Если не тратить свою драгоценную жизнь на немыслимую чушь, а потом упрекать и ненавидеть Никиту Михалкова за то, что он своей жизнью распорядился иначе?
И когда благодаря «Предстоянию» вновь понимаешь, какую цену заплатил народ за свою самостоятельность и самобытность, одолевает наивное – но неизбывное – желание, чтобы он своей самостоятельностью распоряжался хоть немного лучше.
Никита Михалков – один на всех
– Вышла ваша картина «Предстояние», пошли первые отклики на нее. Но почему-то фильм рассматривается как ваша личная галлюцинация, а не плод труда сотен кинематографистов. И давно повелась эта манера: обсуждать не фильм, а вас лично.
МИХАЛКОВ: Остается сожалеть, что в такой огромной стране осталась только одна большая мишень, в которую интересно стрелять! Меня буквально отождествляют с фильмом и говорят только обо мне. Когда прокатчики, купившие картину, пишут рекламный слоган «Великое кино о великой войне», это опять я написал. Нет, я должен был пойти к ним и усовестить их: как вам не стыдно! Это все равно что вот я вам продал помидоры и ушел к себе делать другие помидоры. А вы разложили их на рынке и кричите: кому гнилые помидоры!
Про меня могут говорить и писать что угодно, но есть люди, которые хвалить меня не смеют, я не хочу, чтоб они меня хвалили. Это будет значить, что я не туда пошел и не то сделал. Такие люди для меня – маяк и ориентир. Я им благодарен даже. Очень легко потеряться в мире лжи, похвалы и лести, прикрывающей равнодушие…
– Ушли из жизни ваши любимые операторы, вы расстались по тем или иным причинам с прежними сценаристами. Вы были по преимуществу камерный лирический художник. И в формуле «война и мир» явно предпочитали прежде всего мир. Теперь вы выходите в новое пространство с новыми соратниками. Другая жизнь?
МИХАЛКОВ: То кино кончилось. Прежнее кино – кончилось. Многие, понимая это, судорожно ищут, каким сейчас должно быть кино, чтобы попасть в струю. Слава богу, я как-то естественно менялся и меняюсь вместе со временем. Не специально. Я же не проснулся однажды и не сказал себе: о, дай-ка я поменяю время и себя, это же не диета. Это происходит органично…
Я не хотел в своем фильме пугать, нагнетать ужасы. Я хотел сказать в сегодняшний день: ребята, родные, притормозите, вы, сегодняшние, прекрасные, со своим ощущением проблем. Это не проблемы! Мне хотелось бы, чтобы человек, пришедший в зал, вышел и сказал: бог ты мой, о чем я думаю, разве это проблемы, вроде того, что крыло у машины не так покрасили. А вот с чем сталкивается человек, когда Господь навлекает на него настоящие испытания. Мне хотелось бы дать иммунитет к мелочности забот сего дня. Чтоб на мелочах этих не зацикливались. Ведь что будет, если Господь пошлет нам серьезное испытание? Вроде цунами или того, что происходило после терактов в метро? Когда люди задирали цену на такси в десятки раз. Одних трагедия объединила, а другим дала повод для наживы… Неужели для того чтобы стать товарищами в высоком, пушкинском смысле слова, нам нужна трагедия – взрыв, цунами, падение самолета? Мне хотелось дать другой масштаб измерения жизни. Укрупнить человека. Мое право – поделиться со зрителем чувством чуда Божьего промысла, потому что мы выиграли войну из-за этого промысла.
– Но верховным главнокомандующим был товарищ Сталин, и с этим ничего не поделаешь – так было.
МИХАЛКОВ: Товарищ Сталин, между прочим, Казанскую Божью Матерь возил на самолете над Москвой. Товарищ Сталин выпустил священников и обратился к стране: «Братья и сестры». Видимо, что-то понимая в том, что происходит. Я о другом – нельзя ставить в упрек людям то сокровенное, что являет для них основу жизни.
– Для вас важна тема родства, тема отца и отечества. В России то и дело нужно убить отца, отойти от отца, отречься от отца, чтобы получить новую страшную свободу. И, как говорил принц Гамлет, распадается связь времен. Как вы думаете, все равно надо любить и чтить отца, пусть скорбя о его несовершенствах или ошибках? Не отрекаться?
МИХАЛКОВ: Конечно! Надо понимать, что такое отречение. Это очень серьезно. Когда люди крестятся, они отрекаются от беса, от греха. Отречение как понятие заряжено огромной энергией. Отречение – новый рубеж, переход за грань: всё, я отрекся! За это нужно отвечать, просто так нельзя сказать слова отречения. Ведь отрекаются от того, что было так или иначе введено Божьей волей в них. А мы не придаем значения словам! Пускаем их просто так в воздух и теряем их смысл. Мы даже не понимаем, что можно так сказать и так сформулировать, что по большому счету никогда этот человек, ЭТО сказавший, не имеет права протянуть тебе руку. И не надо оправдываться тем, что было произнесено в ссоре, в горячке. Есть такие слова, которые даже в ссоре и горячке произносить нельзя.
– В России идет распад родственных связей, новая жизнь обострила эгоизм, хищнические инстинкты, все суды переполнены. Папашу с мамашей можно свободно с кашей съесть. На этом фоне Михалков упорно создает свой миф о том, что любовь между родными может спасти человека, а может быть, и мир. Не знаю, насколько это утопия…
МИХАЛКОВ: Неважно, утопия или нет! Вспомните, как сказал Достоевский, – если мне математически точно докажут, что истина вне Христа, я предпочту остаться с Христом, а не с истиной.
– Вы понимаете, что у вас нет полной гармонии с современностью и вы многим «не в масть»? Вот опять – группа кинематографистов объявила о своем выходе из Союза. Герман, Сокуров, Рязанов, Садальский, Смирнов хотят какого-то другого союза. Люди сторонние, просто зрители, не знают, как это и понимать.
МИХАЛКОВ: Когда люди объединяются на нелюбви, это так печально и бесперспективно! Мне бы хотелось вообразить, как Герман и Сокуров собираются на кухне и обсуждают последние работы Рязанова. Или как Андрей Смирнов обсуждает актерские способности и нравственные устои Садальского. И как они берут туда Отара Иоселиани, который «выходит» из Союза кинематографистов России, тридцать лет живя во Франции. Который ненавидит и презирает всех нас и называл в интервью мерзавцами и убийцами. В результате они пишут письмо в газету «Либерасьон», чтоб возбудить против меня французскую общественность на тот случай, если картина вдруг попадет в Канны. А Иоселиани пишет письмо против меня в дирекцию Каннского фестиваля. Все это «альтернативный союз» называется? Что-то очень уж на пещерном уровне.
Ну, какие проблемы, вольные художники, встали – и ушли. Летом будут собираться в Парке Горького, зимой в клубе «Эльдар». Поскольку недвижимость Союза неделима. У меня вопрос возникает к этим людям: вы боретесь за чистоту Союза, а что вы для него сделали хоть раз? Ну хоть раз вы поделились со своими коллегами неимущими, на чьих картинах вы учились? На чем вы объединяетесь?
– На лозунге «Долой Никиту». А на нем долго можно проскрипеть, поскольку у Никиты Сергеевича довольно здоровый вид. И у мирового киносообщества к нему претензий нет – вот опять его картина в конкурсе Каннского фестиваля. Я слышала, по регламенту ее придется несколько сократить?
МИХАЛКОВ: Сократим не так уж много, чтоб не разрушить ткань. Что до Канн, то я ничего не жду, и это не кокетство. Я свое уже отождал на Каннском фестивале четыре раза, когда, полный надежд, попадал потом мордой в салат. У меня нет этого: у, ладно, гады, я вам покажу! Вот как в детстве, когда я плохо учился по математике и у меня была мечта: получить Героя Советского Союза. Сесть на коня и в бурке приехать к учительнице – вот ты меня так унижала, а я герой, на коне и в бурке.
– Так вы же потом и сели на коня и стали героем. Я-то желаю вам победы в Каннах просто из любопытства: а те, кто вас топтали за фильм, съедят тогда если не шляпу, то хоть экземпляр своей газеты?
МИХАЛКОВ: Не съедят! Никто ничего не съест. Если вдруг что-то получит картина – ясно, Михалков купил фестиваль. Путин или Медведев позвонили Саркози, потому что Год России во Франции. Все понятно, почему дали. Мне не до этих галлюцинаций. Мне надо делать вторую часть, «Цитадель». А это восемь дней из жизни 1943 года, когда комдив Котов попадает к себе на дачу, в тот самый домик. Такая смесь из «Неуловимых мстителей» с «Санта-Барбарой» – даю своим недругам хороший слоган… Моя проблема была не в том, чтобы заработать денег, получить премию, понравиться начальству или кому-то за границей. Я выговорился и предстою сейчас – это у меня сейчас предстояние перед народом, перед зрителем, перед критикой… «Предстояние» – не религиозная картина, но там есть то, что нельзя потрогать руками, нельзя объяснить и не надо объяснять. Если вы не погружаетесь чувствами в предлагаемые обстоятельства и начинаете считать пуговицы на кальсонах и говорить – нет, в то время было пять пуговиц, а не шесть… Ну, живите своей жизнью, смотрите другое кино. А я буду жить своей.
Проклятье императорского театра
Театр без театра
Опыт лирико-полемической театральной прозы
Могучая сила инерции авторитета и уникальная способность наша к производству мифов и легенд диктовали сознанию картину вполне романтическую: казалось, что в великолепном здании Росси прекрасные традиции Александринки сохраняются сами собой. А между тем реальная история старейшего русского театра полна драматизма.
...
Александрийский театр – одно из самых гармоничных произведений Росси… Главный фасад театра венчает динамитная скульптурная группа, изображающая колесницу Аполлона, влекомую четверкой коней, поднявшихся на дыбы. Четко выделяющаяся на фоне стены зрительного зала, которая возвышается над аттиком, квадрига Аполлона служит своего рода символом театра, его эмблемой (М. Иогансон, В. Лисовский // Ленинград).
Как же я смею принести к подножию этого здания свой жалкий театроведческий инструментарий логики, риторики, анализа пьес и спектаклей… Довольно бесполезное занятие для театрального критика разбирать, как учили, спектакли современного Пушкинского театра; прекрасно знают о том лидеры театральной критики и – молчат. Узок круг тех, кто постоянно, из года в год, пишет о Пушкинском.
Но что же тут делать театральной критике? Для чего она? Никогда ей, с ее жалким лепетом про «художественный уровень» или там «средства выразительности», не постичь и сотой доли того, что есть на самом деле старейший театр России. Это ведь совсем особенное место; здесь на каждом шагу натыкаешься на чудо, тайну либо загадку; здесь стрелки зашкаливают, «здания теряют вертикали», а календари врут – они показывают 1988 год, тогда как на самом деле… а как на самом деле?
На первой, довольно шаткой ступеньке, с которой можно разбирать и толковать жизнь искусства, на ступеньке Здравого смысла, – критика, пытающегося туда затащить Старейший театр, ждет явное поражение. Тут не обойтись без двух величин, мало поддающихся здравому смыслу. Это Время и Город.
Время – 70-е и частью 80-е годы отечественной истории, Город – тот самый город, где, по убеждению Андрея Белого, происходит непосредственное соприкосновение мира реального с миром ирреальным; проход туда и оттуда свободный, так что, скажем, превратить колесницу Аполлона в бричку Чичикова для Города – сущие пустяки, особенно если время махнет на него рукой.
Но если мне и не дано понять всех тайн и чудес, сопряженных с Ленинградским академическим театром драмы имени А.С. Пушкина, то по крайней мере в моих силах рассказать о них: быть может, чей-то более мощный ум проникнет дальше?
Почти что десять лет тому назад журнал «Театр» опубликовал большую проблемную статью Юрия Смирнова-Несвицкого «Наш Пушкинский театр» (1979, № 1). Статья написана с любовью к прошлому театра и с тревогой за его настоящее. Все проблемы, которые ставит критик, не только не отпали, но и обострились за прошедшие годы. Это и «перегруженная, неукомплектованная как следует труппа», и «упавшая культура актерского мастерства», и спектакли, оставляющие впечатление «театрального анахронизма», и «сентиментальность и претенциозность» в игре иных актеров…
С увлечением говоря об остром, насмешливом, саркастическом даровании Игоря Горбачева, критик считает, что актер играет роли, ему чуждые: «оптимизм сценических героев Горбачева бывал и бодряческим, нетерпеливым»; «был период, когда актер, избрав вялую, внешне бесформенную манеру, едва цедя слова, демонстрировал залу свое обаяние». И, заключает Смирнов-Несвицкий, «величие этого театра не снимает обязанности быть всегда учеником». Замечу еще, что критик дает мимоходом интересную концепцию развития Александринского-Пушкинского театра. Он не находит в нем безусловных, неизменных, генетически передающихся из поколения в поколение традиций. Нет, «история этого театра дает дивный пример такой сцены, эстетика которой формируется спонтанно, по воле и по „фантазии” крупных личностей». То есть всякий раз, когда в театре оказывается крупная, определяющая личность, этот театр начинается заново…
...
Национальная сокровищница русской и советской культуры – Ленинградский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, прославленная Александринка, – будет, естественно, умножать свои богатства, и дело критики… – радоваться этому приумножению, вписывая каждую новую его страницу в героическую летопись великого русского театра (И. Вишневская. Пульс эпохи // Советская культура. 29 января 1982).
Свое повествование я буду вести исключительно «от первого лица». От лица человека, который может обратиться к Пушкинскому театру с ахматовскими словами – «я тебя в твоей не знала славе…».
Я видела лишь последние работы Толубеева, Меркурьева, Борисова; хорошо знаю репертуар последних четырех-пяти лет, то есть того состояния театра, которое называется «после юбилея» (юбилей отмечался в 1982 году).
Запах лжи поэт Борис Слуцкий определил как «тошный и кромешный». Не то чтобы он исходил от всех статей, посвященных Пушкинскому театру последнего десятилетия, случались и точные слова и трезвые оценки, особенно в последнее время, но согласитесь, трудно всерьез воспринимать заверения вроде того, что, взяв в репертуар пьесу Софронова, театр прикоснулся к «драматургии чистых родников», а таких перлов в сообщениях, посвященных Пушкинскому театру, десятки. Притом к этому запаху примешивалась и некая нота, которую, используя слог рекламы наших духов, можно назвать «фантазийно-цветочной».
Из мертвых красивых слов составляли блоки, стены возводили, замки и города, и так все романтично получалось: великолепное здание Росси, прекрасные традиции Александрийского театра, прославленные мастера, властители дум, корифеи Пушкинского – и, через запятую, присоединялся к тому и нынешний театр в здании Росси, который тоже утверждает все героически-монументально-просветленное в метафорических образах и приумножает вековую славу отечественного театра.
Наверное, мы в мире занимаем первое место по силе инерции авторитета и производству мифов и легенд.
Возьмем вопрос о традициях. Каковы эти традиции, собственно, толком понять было невозможно: просто все, что ни есть в мире светлого, хорошего и жизнеутверждающего, – все это и есть традиции Александринки. А между тем реальная история русского государственного театра полна драматизма.
Неужто историки театра решатся отрицать, что, например, в XIX веке императорскую сцену затопляло несметное множество бездарных, но злободневных драматургических поделок, в которых одни актеры мучались, а другие – ловко процветали? Что внешняя пышность немногих ударных постановок сочеталась с неряшеством и убожеством многих других? Что пренебрежение к сценическому искусству со стороны театральных властей доводило иных людей, преданных русскому театру, до отчаяния? (Отсылаю любознательного читателя к многочисленным запискам А.Н. Островского на эту тему.) И разве, переделываясь из императорского театра в театр советский, Александринка всегда держалась достойно в 20–30-х годах? Неужто вовсе неприложимо к ее тогдашнему периоду развития, мягко говоря, слово «конъюнктура»?
Из всего из этого тоже можно сложить своеобразную «традицию», если не считать, что традиция – это непременно что-то архизамечательное. Я бы назвала ее, эту отрицательную традицию, традицией «государственного театра», которая находилась в сложных, конфликтных взаимоотношениях с русским актерским искусством.
Это так очевидно, что не отрицается и самыми горячими сторонниками театра, но объясняется ими следующим образом: происходит тяжелый, мучительный процесс смены актерских поколений. «Досталось ему (И.О. Горбачеву. – Т.М.) оскудевшее хозяйство» (Т. Забозлаева. Театр зовет к поступку // Советская Россия. 2 сентября 1986). Неминуемо должны были уйти из жизни мастера Пушкинского, составившие его славу в 50–60-е годы, а великие актеры не рождаются по заказу, найти их и воспитать – огромный труд, вот театр сейчас этим и занимается, и когда-нибудь, мы верим, плоды будут огромны и сладки.
Как будто правдоподобно. Однако, собственно говоря, эта ситуация (смена поколений) выглядит здесь уже слишком драматично и исключительно. Разве когда-нибудь было такое в истории театра, чтобы актеры не умирали? Увы, не всегда на Александрийской сцене тут же вырастали или появлялись новые имена. Однако всегда было на кого смотреть. Думаю, не в том суть, что 70–80-м годам недра оскудевшей русской природы недодали актерских талантов. Ведь недостаточно просто пригласить в труппу способного актера. Хотя и на этом этапе есть свои трудности, ведь надо как минимум определить, к чему, на что этот актер способен, понять природу его дарования. Далее: ни один артист не сможет развиваться в отсутствие содержательных творческих задач, в атмосфере вялого, холодного ремесла. По отдельным живым интонациям, удачным намекам на черты характера персонажа, неиссякнувшей до конца органичности можно уловить, что есть в нынешней труппе Пушкинского театра способные актеры – Н. Мартон, К. Петрова, И. Вознесенская, В. Смирнов, О. Калмыкова, Р. Катанский, С. Шейченко, С. Сытник, Т. Кулиш, А. Минин, М. Хижняков и некоторые другие. Но сколько обаяния ни вкладывай, например, Н. Мартон в своего Наполеона, ему лишь на мгновение удастся оживить спектакль, превращенный по существу в монументально-декоративную иллюстрацию к пьесе В.Соловьева «Фельдмаршал Кутузов»; какие бы небанальные, смешные и трогательные интонации ни находил для Кристиана де Невиллета С. Сытник, они неминуемо потонут в декламационности «Сирано де Бержерака»; как ни старайся В. Смирнов и И. Вознесенская сыграть что-то наконец нормальное про обыкновенную человеческую жизнь, пьеса В. Красногорова «Несколько часов из жизни мужчины и женщины» подкосит все их попытки своей уцененной «арбузовщиной», а режиссура А. Локтева погубит отсутствием режиссуры.
Проблема репертуара, проблема режиссуры, проблема развития актера – вот те сверхактуальные для Пушкинского театра проблемы, которые хорошо бы ему было решить наряду со сценическим обрамлением актуальных проблем советской власти и партийной жизни.
Анализируя репертуар Пушкинского театра, понимаешь, что к шедеврам мировой драматургии у него, скорее всего, душа не лежит. Но это не в упрек, театр вправе выбирать то, что ему близко, что по силам. Хотя, с другой стороны, все-таки храм искусства, сокровищница, и вдруг такие названия в афише… К примеру, слова «мужчина и женщина» – конечно, стопроцентно кассовые слова, но упомянутая уже пьеса Красногорова не заслуживает и клубного показа, это спекуляция на «выгодной» тематике, не отличающаяся даже бойкостью. Есть в афише и слабая пьеса О. Перекалина «Требую суда!», пьеса, отставшая от своего времени лет на двадцать (о его «Чужой ноше» – речь впереди). Вот и модный супербоевик – «Торможение в небесах» Р. Солнцева, «Сирано де Бержерак», «Фельдмаршал Кутузов»… что-то пестро, хаотично, никак не выделить единой творческой линии театра.
Надо сказать, к юбилею репертуар выглядел куда собраннее, более соответствовал званию «академический театр», хотя это звание в городе и девальвировалось планомерно тем налаженным способом, каким девальвировалось и многое другое. Видимо, какое-то время в театре еще были живы силы «стяжения», препятствовавшие слишком бурному произволу его генеральной линии. Постановки А. Сагальчика («Дети солнца», «Иванов»), Н. Шейко («Зеленая птичка», «Похождения Чичикова», «Унтиловск», «Театральный разъезд») открывали возможность критических разборов, поскольку выдавали явное желание этих режиссеров заниматься именно сценическим искусством, плохо ли, хорошо ли. Однако режиссерский триумвират (Сагальчик, Шейко, Горбачев) оказался непрочным. После юбилея, отмеченного с той мерой умопомрачительной пышности, которая являлась классической стилевой приметой конца 70-х – начала 80-х (все могуче, все прочно, все на века), Сагальчик и Шейко ушли из театра. И для того чтобы понять, какова же сегодня режиссура Пушкинского, обратимся к спектаклям по русской классике на его сцене.
Очевидно, что для учреждения, где хранятся вековые традиции русского театра, русская классика должна быть особенно ответственным и серьезным делом.
В репертуаре сохранился «Иванов» Сагальчика; работы Р. Горяева почему-то хронически не держатся в репертуаре, хотя для его «Капитанской дочки» (1985) нашла добрые слова даже непреклонная М. Дмитревская; несколько пьес поставил В. Хоркин.
Можно по-разному трактовать «Вассу Железнову» Максима Горького, однако есть вещи, от которых трудно, а то и невозможно отрешиться вовсе: от раскаленного драматического темперамента автора, от его мощных жизненных типов (самый мелкий человек у Горького имеет свою жизненную философию, он укрупнен и обобщен), от страстей, ведущих к преступлениям, от сугубо русской закваски всех его пьес. Однако в постановке Хоркина «Васса» не соотнесена ни с историей России, ни с ее современностью. В пустом, тусклом, скупо меблированном пространстве неловко двигаются актеры, снабженные текстом Горького, и разыгрывают абстрактную историю о смерти некоей «женщины вообще». Нет ни одной детали (помимо текста!), которая свидетельствовала о том, где и когда все это происходит. Где-то и когда-то. Один раз вспыхнуло в спектакле что-то узнаваемое, когда Васса (Г. Карелина) спорила с Рашель (Л. Горбачева) о судьбе внука, – свекровь препирается с невесткой, знакомое дело, зритель оживился на этой сцене, но как вспыхнула эта анекдотическая искорка, так и погасла. Да отчего же? Неужто возможно воплощать отвлеченные идеи на сцене помимо актеров? Могу согласиться, что сделать историю Вассы Железновой житейски внятной и узнаваемой – это не бог весть какие высоты сценического искусства, но тем не менее для того, чтобы двигаться дальше, надо это уметь непременно. Кроме того, неясно, какие же отвлеченные идеи положены в основание этого безжизненно-символического спектакля. То, что грешить плохо, а то сам умрешь ни с того ни с сего? Неужели ради этой весьма скромной мысли надо ставить спектакль?
Каковы бы ни были способности актеров Пушкинского театра, они, по существу, не востребованы и не задействованы. В них развивают склонность к отвлеченно-театральному пребыванию на сцене, не требующему ни личности, ни мысли, ни культуры.
Великие старики, корифеи Пушкинского, далеко не всегда были предельно точны и сильны, особенно в последних ролях. Однако они несли в себе совершенно особенное качество. Казалось, их не заботит ремесло, мастерство (как ступить, куда взглянуть, сколько «минора» выдать в грустном тексте). Но они приносили с собой столько прожитой жизни, минувших и настоящих страданий и радостей, опыта чувств и мыслей, что имели какое-то уже независимое от роли и спектакля значение. Эта «пропитанность» жизнью – верный признак больших актеров.
Нынче даже признанные лидеры труппы держат уверенный курс на полную искусственность внешнего рисунка роли, совершенно заслоняющей их личность. Вот Галина Карелина, чье неиссякаемое трудолюбие вызывает уважение. Играя возрастные роли (Васса, Матрена из «Власти тьмы», теща в «Самоубийце»), она решительно и смело жертвует тем, что всегда оберегала на сцене, – эффектной внешностью. Васса Карелиной куда более оформлена и сделана, чем прочие персонажи. Ее позы обдуманы; она строга, величава, собрана, говорит яснее, разнообразнее, «поэтичнее», чем другие. И все-таки эта Васса – сугубо театральный персонаж, абстрактная фигура абстрактной истории, не вызывающая живых ассоциаций и настоящего контакта. С грустью наблюдаешь, как с течением лет блекнут живые краски на лицах актеров одаренных, как они застывают и коснеют в однажды найденных приемах.
Ольга Калмыкова дебютировала в 1977 году в спектакле «Приглашение к жизни» (по роману Л. Леонова «Русский лес») в роли Поли. Не без оснований выделила ее критика из этого утомительного, громоздкого и тяжеловесного зрелища – звонкий голос, свежесть чувств и интонаций, наивный и обаятельный задор комсомолочки 30-х годов. Через десять лет в роли Людмилы («Васса») – те же звонкие детские интонации, наивная непосредственность, правда, с легкой «безуминкой», требующейся по роли, – и словно прожитые годы и не понадобились актрисе для сцены. Поразительный принцип существования: все, что видел, чувствовал, над чем думал, весь опыт жизни, все, что я есть на самом деле, – все оставлять за кулисами.
Сказанное о режиссуре и принципах актерской игры в «Вассе Железновой» в той же мере справедливо и для «Власти тьмы» Льва Толстого. Хоркин последовательно воплощает пьесу как поучение, «моралите» о том, что «коготок увяз – всей птичке пропасть». Опять в огромном темном пространстве скупо двигаются фигуры. Опять это не «жилое» пространство, где трудятся и пьянствуют, ругаются и любят, «грешат бесстыдно, беспробудно» русские люди под властью тьмы. Это пространство без опыта, без психологии, без атмосферы, без истории – оно наполнено только аллегориями, иллюстрациями к морали.
Здесь умершего Петра мужики несут точь-в-точь как на картинах, изображающих «Снятие с креста». Здесь Никита (С. Кудрявцев) вначале, в пору веселья, одет в красную рубаху, а в конце, когда его душа объята тьмой грехов, – в черную. Здесь на шее его злодейской матери (Г. Карелина) красные бусы – и красен сверток с деньгами убиенного Петра. (Всё это было и в «Вассе» – красная рубаха, некое «символическое» яблоко в руках Вассы перед смертью.) Суровая, аскетическая сдержанность внешнего облика спектаклей, слегка пересыпанная немногочисленными знаками-символами, ничем не наполнена и заставляет думать, что происходит она от бедности воображения, а не от сознательных художественных задач.
Допустим, Хоркин тяготеет к «мистериям» и «моралите» о грешниках, которых ждет неминуемая смерть. Отчего бы не взять тогда соответствующий репертуар? Не пришлось бы игнорировать или уничтожать живую плоть великолепных реалистических пьес, полных вольных русских страстей и огромных характеров; хотя сомневаюсь и в успехе подобного «символического» театра.
Когда в начале века были предприняты попытки его осуществления, этим занимались люди, выросшие на лучших образцах реалистического искусства; мощная реалистическая культура могла позволить себе роскошь самоотрицания. На какой же «базе» строить нынче «символический» театр – я не знаю, я ее не вижу. Вижу, что на сцену выходят актеры, не знакомые с азбукой сценического реализма, и собираются играть борьбу Бога с дьяволом в мировом масштабе. Или всеобщий нравственный кризис. Или еще что-нибудь, столь же удаленное от жизненной и сценической правды. Но возможно ли, не одолев арифметику, браться за алгебру? Не умея создать простого, понятного человеческого характера, пытаться сыграть невиданные обобщения?
«Человек – очень прочная вещь», – говорит в пьесе А. Червинского «Счастье мое» Виктория, используя модель человеческого глаза в качестве молотка. Не будет большой ошибкой добавить к этой «концепции человека», что человек – все-таки очень сложная вещь. И когда некоторые актеры Пушкинского, не используя собственную реальную человеческую сложность, на сцене превращаются в плоских, одномерных, бескрасочных кукол, становится как-то обидно за сценическое искусство, которое на нашей земле все развивалось, все прогрессировало и вдруг с небывалой энергией стало утекать.
Самое интересное, что ничего мистического, рокового и инфернального в этом процессе не было. Если мы говорим о развале или падении чего-либо в какой-либо области, то прекрасно понимаем, что у каждого развала есть имя и фамилия либо имена и фамилии. Почему этих фамилий так много, почему они взялись служить именно падению, а не возвышению? Да почему вы думаете, что они служили падению? Они служили своим целям и зачастую даже и не предполагали, что из этого получится какой-то развал. Более того, им не так-то просто понять, что результатом их деятельности стал развал, а не расцвет.
Проблема старых театральных организмов стояла и стоит по сию пору остро. Как вдохнуть новую душу в отмирающее по естественным законам театральное «тело» – никто с уверенностью сказать не может. В общем, тяжелое, мучительное это дело, и попытки его делать, конечно, заслуживают внимательного и сочувственного отношения. Но не от природной злобности выбираю иное отношение к Пушкинскому театру – я убеждена, что тут-то делали большей частью совсем другое дело, которое давалось куда легче, куда проще и даже, можно сказать, веселее.
...
Если у кого-то, скажем, начальник является человеком, совершившим недостойный поступок, нельзя драматургу делать из одного этого факта далеко идущие выводы, бросающие тень на всю нашу действительность, и навязывать эти выводы зрителю. Есть такое выражение – «зона комфорта». Так вот, жизнь человеческая должна быть в этой зоне (И. Горбачев. Стратегия счастья // Театральная жизнь. 1981, № 4).
Игорь Олегович Горбачев – с 1975 года художественный руководитель театра, народный артист Советского Союза, режиссер, актер, много играющий в театре и кино, театральный публицист, охотно рассуждающий о назначении театра вообще и Старейшего театра в частности… Сюжет о его творческой судьбе – это, в сущности, вариация на тему вечного сюжета о «дорогах, которые мы выбираем»… а впрочем, точно ли мы знаем, кто тут кого выбирает: мы дороги или дороги – нас?
…На премьеру «Сирано де Бержерака» я шла, уже предупрежденная ленинградскими газетами, что главное в Сирано – Игоре Горбачеве – это жажда порядочности и неистребимая нота романтизма. Три действия этого спектакля продержали меня в состоянии непрекращающегося изумления, но не потому, что актер заразил меня жаждой порядочности и пронзил неистребимой нотой романтизма.
Спектакль оформлен как лирическая исповедь Игоря Горбачева. В прологе на занавес проецируют сначала виды Старейшего театра, затем фотографию его художественного руководителя; в это время звучит голос Игоря Горбачева, читающий пространный монолог в стихах. Он рассказывает о том, что Пушкинский театр всегда боролся за правду, добро, красоту и шел трудным путем под взглядом недобрых глаз. Далее актер сообщает зрителю, что он всегда мечтал сыграть Сирано, однако приходилось играть совсем другие роли, и теперь он решил показать, как бы он сыграл эту роль, будь он молод.
Хотя меня удивили слова о трудностях, которые испытал театр в борьбе за правду, добро и красоту, поскольку мне всегда казалось, что Игорю Горбачеву удалось осуществить на практике теорию «зоны комфорта» и плотно окружить ею свой театр, – остальное возражений не вызывало, знаменитый актер имеет право к своему юбилею выбрать любую роль, возраст тут ни при чем. Тем более Горбачев в хорошей форме, он бодр, подтянут, даже молодцеват. Другое дело, что суть роли расходится с природой его дарования. Расходится бесповоротно – так я считала, пока не увидела актера в роли.
Да, он создал образ. Это воистину человек-король, это именно Игорь Горбачев, претворенный в Сирано Ростана, и такого Сирано драматическая сцена не видела и не увидит.
Абсолютный победитель, заранее уверенный в победе, знающий наперед исход каждого происшествия, любого поступка. Спокойный, расчетливый эгоцентрик, распоряжающийся чужими судьбами властно, привычно, легко. Ничто не удивляет его, ничто не застает врасплох – его, главного и бесспорного, хладнокровно усмехающегося, бросающего лукавые взгляды в зал при особо удачных репликах и сопровождающего их премилым ироническим жестом руки.
Какое беспредельное, блистательное щегольство выказывает этот Сирано! Как восторженно, как вдохновенно он упоен собой! Даже в предсмертных монологах – все та же самовлюбленность, упоение собственными достоинствами, какой-то титанический апофеоз самодовольства…
Итак, актер осуществил свою мечту. Поскольку Горбачев-актер в то же время и сам себе режиссер и художественный руководитель, можно не без оснований предположить, что все роли последних десяти-пятнадцати лет на сцене Старейшего театра никем ему не навязаны. Он их выбирал, он играл то, что хотел играть.
Надо сказать, не всякому актеру следует играть то, что он хочет, опасное это дело, и вот почему. Часто знаменитые актеры на вопрос, что они мечтали бы сыграть, дают странные ответы. Великолепный комик может заявить: «Я всю жизнь мечтал о короле Лире». Не каждому дано точно знать характер своего дарования, не каждый в силах видеть себя со стороны и уметь распоряжаться своим талантом. У многих и многих людей, особенно актерской профессии, кроме «я» подлинного есть «я» выдуманное, мнимое. Бывает, что люди эти не щадят ни себя, ни сил, ни времени, ни чужих жизней, с немалой энергией, подробно, со вкусом выстраивают и сооружают фантастический дворец этого своего выдуманного «я».
Так – с размахом осуществил Игорь Олегович Горбачев свое выдуманное «я» на сцене Старейшего театра. Великолепный Хлестаков, отличный Остап Бендер, непревзойденный Чичиков, он, за тринадцать лет работы под собственным руководством, варьировал, по существу, один и тот же образ. Образ «положительного героя». Несокрушимого оптимиста. Восторженного, наивного мечтателя, романтика-энтузиаста до слез в огромных глазах.
Как-то в дружеском кругу, заранее предвкушая восторг (о, как бы он это сыграл!), составляли воображаемый список ролей для Игоря Горбачева – помню, там был Бургомистр из шварцевского «Дракона», брехтовский господин Пунтила, мольеровский Тартюф, Фома Опискин Достоевского… Случайно ли, что по сию пору насмешливые, иронические интонации удаются артисту превосходно и – единственные! – скрашивают и оживляют его положительную романтическую декламацию?
Что и разводить тут риторические вопросы. Конечно, не случайно он сделал свой выбор: стал художественным руководителем театра, где разыгрывали в лицах – то есть олицетворяли – идеологическую программу 1970-х. Эта программа, придуманная, разумеется, не Игорем Горбачевым, отличалась завидной четкостью. Человек и его жизнь представали там не какой-то тайной, но арифметической суммой достоинств и недостатков. Первые были огромны, вторые – отдельны. Искусство же должно было с помощью разнообразных стилей (это – пожалуйста) представлять эту сумму в яркой, художественной форме.
Много раз в публичных выступлениях Игорь Горбачев повторял слова о социальном оптимизме, пафосе созидания; с презрением отзывался о пьесах, переполненных «стонущими неудачниками» и мелкими неурядицами… Хотя эти пассажи и не есть оригинальные мысли Горбачева, нелишне будет сказать, что подобные рассуждения мало общего имеют с подлинной человечностью. Потому как она, человечность, не в том, наверное, состоит, чтобы подсчитывать количество несчастных на тысячу населения в целом по стране и определять – уже можно обобщать или еще нет? С этой точки зрения вообще всё искусство – болячка на здоровом теле. Например, один датский принц на основании мелких неурядиц своей личной жизни решил, что его родная страна – тюрьма, а человек – квинтэссенция праха. Жалкий неудачник.
Однако в рассуждениях Горбачева порой мелькала словно какая-то искренность. И вот, не свой немалый артистический дар, не талант сделал он источником вдохновения, а комфортное мироощущение, окрасившее целый ряд его режиссерских и актерских работ.
Интересное признание сделал Игорь Горбачев в одном интервью (Советская Россия. 29 октября 1978): «Жизнь порой сложнее наших сложившихся “узких” представлений о порядочности и правде. В законах борьбы – логика своя. Но в компромиссе есть мера допустимого. Переступил эту невидимую черту – и предал себя».
Да, вопрос о допустимой мере компромисса решали все. Одни отказывались вовсе определять заветную меру. Для других компромисс был составной частью сложнейшей тактики по обеспечению некоторой творческой свободы своим театрам. Увы, не так было в Александринке: не было здесь ни мучительных метаний между искусством и начальством, ни трагических разладов «двойной бухгалтерии» – полная, просветленная гармония царила здесь. Под Аполлоном, в бывшем императорском театре на Александровской площади, шла торжественная церемония «примирения» искусства с действительностью.
И действительность платила любовью за любовь! «Двадцать одно действующее лицо означено в программке – двадцать одна актерская удача предстает перед нами на сцене», – пишет о спектакле «Иней на стогах» «Литературная Россия» (28 сентября 1973). Очко, стало быть! Не знаю, читал ли о себе такое Художественный театр в пору расцвета…
В репертуарной политике театра прослеживается определенного рода закономерность, уверенная константа. Время от времени театр выпускает своего рода «гвоздь», спектакль, обреченный на одобрение. В его основе – так называемая актуальная пьеса, поднимающая важную и нужную проблему (защита окружающей среды, быт современной деревни, беспорядки на железных дорогах, взаимоотношения рабочего класса и советской власти), причем поднимающая с той степенью остроты, какая точнехонько есть на страницах местных газет в данном году и с применением традиционных крепких мелодраматических формул.
Помилуйте, скажут мне, да разве это особенность этого именно театра? Где, в каком городе нет подобных спектаклей? Подождите, читатели, я попытаюсь вывести вас к основной своей мысли.
Для этого нужно твердо определиться в исходном пункте рассуждения. Вот классический лейтмотив всей театральной критики 70-х годов, звучащий и поныне: «Театр взял актуальную, важную тему (проблему), но художественный уровень спектакля не на высоте, к сожалению». Вариант: «Хотя художественный уровень спектакля отмечен рядом недостатков, тема (проблема) взята театром важная и нужная».
Итак, сценическое искусство состоит из содержания (идеи, темы, проблемы, пафоса) и формы (режиссура, сценография, игра актеров). Хорошо, когда между этими частями царит гармония, но гармония чаще всего не царит, даже, надо сказать, и никогда не царит; тогда важность, нужность, актуальность, общественная полезность содержания оправдывает недостатки формы?
Думаю, пора с этим расстаться навсегда. Для сценического искусства подобное разделение «содержания» и «формы» есть рудиментарный эстетический «сталинизм», и он – дорога никуда.
Каким мистическим образом можно воспринять это таинственное, не выраженное, не оформленное «содержание»? Если речь идет о литературной основе и о ее содержании, то театр попросту в таком случае собственного содержания не имеет, являясь объективным транслятором пьесы. Так мы и получаем «театр без театра».
Подобный театр, разумеется, укоренен повсеместно. Но в Пушкинском этот принцип существования выступает в своей ничем не прикрытой чистоте.
При этом не решусь утверждать, что, например, постановки И. Горбачева никак не оформлены, не имеют сквозного приема. Имеют – но какой! Чем-то они кровно схожи между собой – «актуальные» пьесы Перекалина, «Сирано де Бержерак» Ростана, «Фельдмаршал Кутузов» Вл. Соловьева и более ранние постановки – «Пока бьется сердце», «Предел возможного»… положена в их основание некая общая мысль.
Все эти постановки смонтированы из огромных, чисто разговорных кусков, где персонажи передвигаются только в случае ремарки или крайней необходимости; изредка размеренное течение спектакля прерывается небольшим постановочным аттракционом (пляска гвардейцев – «Сирано», вращающиеся колеса поезда – «Требую суда!», военный парад – «Фельдмаршал Кутузов» и т. д.).
Тягучие, важные, плавные ритмы разговорных кусков напоминают что-то до боли знакомое. Настолько они, кажется, въелись в плоть и кровь, что успокаивают и буквально убаюкивают своей неизменностью.
Это ритмы… торжественного заседания.
В основу всех спектаклей Игоря Горбачева положен общий принцип – принцип торжественного заседания, где каждый актер является докладчиком своей роли; основной доклад обычно принадлежит самому главному режиссеру.
Пушкинский театр не зря называет себя старейшим государственным театром. Кардинально важное для него слово – «государственный». Государственность образца 1970-х живо определила его судьбу, театр с каким-то сладострастием отдавался официальным запросам. И «кинуть в него камень» почти никто не смел, ибо все были не без греха.
Но вы ошибетесь, если решите, что Пушкинский театр – прославленная Александринка – собирается до скончания века оставаться любимым театром сторонников Нины Андреевой. Никак он не мог не реагировать вовсе на ветры и грозы в верхних слоях атмосферы.
…Старый мудрый рабочий Кормилицын грустит на могиле жены, под цветущим деревом. Наступила весна обновления, и старый рабочий Кормилицын решил наконец сделать то, что давно собирался, – исправить один, отдельно взятый недостаток. Этот недостаток – хозяин края Антон Гроздев, называющий народ населением, оторвавшийся от него и переставший выказывать ему почтение. И Кормилицын просит Гроздева оставить свой пост добром – не то он выдвинет другого кандидата. После некоторых драматических перипетий, ибо даже в семье своей Кормилицын не находит поддержки, он возглавляет-таки борьбу по устранению недостатка, и, судя по финалу, по гремящему грому и блеску молний, этому недостатку придется туго.
«Чужая ноша» Перекалина в постановке Горбачева – незабываема. Наверное, потоки времени, кружась, вертясь в разнообразных направлениях, оставляют иногда иные участки нетронутыми, цельными, и, глядя в них, видишь какой-то грандиозный театр прошлого с реками и лесами на рисованных задниках, с могучими представителями рабочего класса, решающими судьбы огромной родины, с взываниями на могиле умершей жены, с патетическими речами о народе, с обращениями к совести начальников… Да, в этом мавзолее театральной лжи есть нечто, отливающее вечностью, как сочетание бархата с золотом.
Однако обновление тематики (хотя и мнимое) при полной сохранности эстетики, конечно, никого особенно провести не могло.
...
Не случайно в этом спектакле такой большой смысл обретают слова Чернобривцевой, которые она скажет после трудного объяснения с секретарем райкома партии: «Все-таки нам везет. Секретарь райкома у нас – человек» (И. Патрикеева. Испытание нравственной прочности // Театр. 1976, № 7).
И вот спустя двенадцать лет – не повезло! Ужасно не повезло населению пьесы Р. Солнцева «Торможение в небесах», потому что секретарь обкома у них – жулик. И все отцы города и области – отъявленные мошенники; обобщенные факты реального разложения партаппарата драматург нанизал на лихой детективный сюжет с реминисценциями (вполне сознательными) из гоголевского «Ревизора»; причем в роли ревизора выступает Центральное телевидение.
Итак, на сцене, где секретарь райкома (выше театр не смел и заглядывать) всегда был главным положительным лицом, ныне ответственный партийный работник подвергается осмеянию. Театр, всегда отвечавший на официальные идеологические запросы, решил радикально измениться соответственно изменению запросов. Эта сверхъестественная легкость сравнима разве что со знаменитой фразой поэта-драматурга Н. Кукольника, которую очень любил цитировать М.Е. Салтыков-Щедрин: «Прикажут – завтра буду акушером». А вдруг послезавтра театрам прикажут отставить конъюнктуру и заниматься своим делом? Неужели – займутся?
Принцип торжественного заседания в «Торможении в небесах» не скрыт, как во многих предыдущих постановках, а, вслед пьесе, обыгран непосредственно. Зрителю предложена роль присутствующего на некоем собрании под председательством первого секретаря некоего обкома партии.
Зритель переносится за кулисы «местной власти», и, надо заметить, возможность посмеяться над нею, пусть бы и в исполнении актеров Пушкинского театра, приводит публику в совершенный восторг. Воодушевленные реакциями публики, актеры стараются дружно и весело играть то, от чего порядком отвыкли, – комедию. При дополнительных усилиях театра была возможность трактовать пьесу как сатиру, и, на мой взгляд, только тогда это и стало бы приемлемо, потеряло бы оттенок неоконъюнктуры. Но для сатиры надобны «сила гнева, пламя страсти», боль.
Актеры театра играют пустоватый фарс, водевиль со смешными, глупыми фигурками, обреченными на поражение. Вольно Роману Солнцеву смеяться торжествующим смехом над олухами царя небесного, но неужто так сладко актерам чувствовать себя марионетками чужих проказ? Ведь, когда они, по воле драматурга, время от времени снимают маску персонажа, обращаясь в зал, очевидно, от своего гражданского лица, особенно видно, что это просто исполнение приема и такого лица у них нет.
Никогда не забуду один школьный урок труда, на котором мы изучали следующую тему: «Как из старой простыни сделать новую скатерть». Следовало, кажется, по краям приделать бахрому, а на месте дыр вышить цветочки. С такой же изящной фантазией перестраивается нынче Пушкинский театр, пополняя свой репертуар не только Р. Солнцевым, но и Н. Эрдманом. Для любого театра пьеса «Самоубийца» Эрдмана, конечно, сущий клад. Можно безо всяких творческих конвульсий декламировать репризы первого остроумца Москвы 20-х и иметь полный зал. Репризы пробиваются даже сквозь поразительно унылый, выморочно-эксцентричный каркас, надетый на текст режиссером В. Хоркиным. Какую позицию занял театр по отношению к событиям пьесы Эрдмана? Какую цель он преследовал, напрочь лишая пьесу исторического быта? Нет цели и нет позиции, а есть уже знакомый по многим постановкам мрачно-символический стиль режиссуры Хоркина. Например, прощальный банкет в честь Подсекальникова сделан наподобие сцены из «Жизни Человека» Л. Андреева (неподвижные люди сидят за столом, глухим голосом изрекая реплики); из всего пестрого, смешного, цветного, остро очерченного населения пьесы Эрдмана ни один не поднимается даже на уровень соленой карикатуры, что закономерно, поскольку спектакль отрешен и от истории, и от реальной плоти нашей отечественной жизни. Но более всего изумляет ввод в спектакль двух статистов в черных кожаных пальто – они появляются, стреляют из пистолетов, молча дефилируют в глубине, «символизируя», очевидно, роль ГПУ и НКВД в нашей истории. Контакт между реальной трагедией и игрушечной театральной символикой удручает своей безответственностью.
Никаких живых токов не исходит и от актеров, старательно выполняющих пластические алогизмы, придуманные для них балетмейстером Г. Абайдуловым. Многолетняя неподвижность, однако, поминутно дает себя знать так же, как и прочие традиционные грехи этой сцены (каждый занят самодемонстрацией, нет внутренних связей между актерами, никто никого не видит, не реагирует).
Так что – транслировали одни пьесы, теперь транслируют другие, вся разница.
Удивительным, то есть, наоборот, неудивительным образом то, что происходило с Пушкинским театром, совпало с общим падением театральной культуры Ленинграда. «Всё разваливалось, рассыпалось в руках…» Уезжали в Москву талантливые режиссеры и актеры; изгнав из своего театра режиссуру, застыли, будто в недоумении, покрытые уже, кажется, непробиваемой «броней» мастерства мастера советской комедии в Театре комедии; после смерти Г. Опоркова Театр имени Ленинского комсомола не ведает даже честных творческих неудач; В. Воробьев, в середине 70-х поднявший Театр музкомедии на ноги, сообщивший ему изрядный творческий импульс, – где он и где тот театр? Жестокий кризис ТЮЗа, робкие, растерянные шажки молодой режиссуры – и так далее, и так далее… Наверное, только героическим усилием можно остановить эту тягу к распаду, самоотверженным трудом преодолевая уныние безнадежности.
«Театр без театра» – вовсе не исключение, он – норма, это все остальное (муки творчества, попытки заняться сценическим искусством) – исключение, отклонение от нормы. Здесь, к счастью, вспоминаются лучшие спектакли БДТ, Малого драматического.
Пребывая в изнеможении на разного рода критических «круглых столах» и конференциях, не раз видела, как очередной вице-Робеспьер от критики призывал иные театры – в их числе и Пушкинский – вообще закрыть. Занавес, мол, занавес. Хватит. Не могу никак с этим согласиться. Ведь Пушкинский театр – это фантастическое искривление времени, и не театры надо закрывать, а время выпрямлять, пока не поздно и если хватит сил.
Костюмчик есть, тела пока нет
Веселому и добродушному нраву императрицы Елизаветы мы обязаны появлением на свет русского государственного театра – 30 августа 1756 года «кроткия Елисавет» подписала соответствующий указ. Через двести пятьдесят лет в этот день старейший театр России, бывший императорский Александринский театр Санкт-Петербурга, принимал гостей после великолепной реконструкции. У старейшего театра начинается новая жизнь.
Чертог сиял! И на лица главных режиссеров других петербургских театров, приглашенных на открытие Александринки, ложились тени смешанных чувств, среди которых мелькала и явная ревность. Их нетрудно понять: такой красотищей никто похвастаться не может. Отсутствующую в театральном Петербурге волю к жизни и пробивную силу нынешний художественный руководитель Александринки москвич Валерий Фокин воплотил в поистине императорских масштабах. Здание, спроектированное самим Карлом Росси, одна из главных достопримечательностей города, ныне оборудовано по последнему слову техники и возрождено во всем имперском блеске. Сделали с умом и вкусом: новодел не бросается в глаза, бархат и позолота не вопиют, но сдержанно мерцают, а Музей русской драмы, расположенный в анфиладе третьего яруса, способен поразить любого скептика. В запасниках Александринки оказались сотни подлинных костюмов и аксессуаров из прошлого, так что зритель, поднявшись на двухстороннем лифте, вмещающем 1500 кг живого веса, может полюбоваться на подлинные сценические платья ХIХ века и порыдать над крошечными шелковыми туфельками знаменитых примадонн: увы, ни таких ножек, ни таких актрис больше не предвидится!
Представление, которым открылась возрожденная Александринка, не успело надоесть очаровательным абсурдом в постановке режиссера-экспериментатора Андрея Могучего: длилось около сорока минут. Главной задачей тут было продемонстрировать возможности обновленной сцены, и они были явлены – мягко опускались и поднимались многоразличные задники и кулисы и оркестровая антресоль, на проекционных экранах мерцали изображения легендарных артистов, даже как бы оживленно подмигивающих зрителю (компьютерная обработка дает и такие возможности)… На воздушных петлях взмывали вверх, тревожно помахивая пуантами, танцовщицы в белых юбочках и обтягивающих белых шапочках, что придавало им какой-то больничный вид. Из глубины сцены, тяжело покачиваясь, приблизился некто в цилиндре и сюртуке, отливавших металлическим блеском, – то был бархатный бас Александринки народный артист Николай Мартон. Он изображал нечто вроде соборной души театра, а потому бредил афоризмами из классических пьес. Потом явились загадочные персонажи в красных длинных платьях с осветительными приборами, установленными прямо над головой. Потом люди в белых фраках пронесли вдоль сцены справа налево силуэты розовых фламинго. Потом из волшебного черного ящика появился первый поздравляющий – директор Большого театра Анатолий Иксанов, как всегда всем довольный и не имеющий на лице ревнивых теней. По простой причине, которую он сам и объявил обновленной Александринке: «Вы старше, но мы-то дороже!» Всё это время пианист Алексей Гориболь на левом краю сцены невозмутимо, но с чувством играл музыку Леонида Десятникова.
Все бывшие императорские театры приветствовали старейшего собрата: Валерий Гергиев (Мариинский театр) прислал видеописьмо, а Малый театр счел нужным прибыть лично: Элина Быстрицкая, Ирина Муравьева и Юрий Соломин прочли поздравительную оду и подарили театру изящную фигурку благодетельницы – императрицы Елизаветы…
Итак, на сегодняшний день старейший государственный театр страны представляет собой чистую, ослепительно прекрасную форму, в которой пока нет никакого содержания. Что будут играть на этой замечательно оснащенной сцене? Что останется от старого репертуара и каков таков будет новый?
Вообще-то пока что по творческим вопросам Московский Малый театр значительно превосходит старшего императорского брата, как это и было не раз в истории русского театра, – не зная резких перемен, избегнув диктата идеологической и стилистической моды, Малый имеет и обширный репертуар, и богатую индивидуальностями труппу, и добротную, а иногда и превосходную режиссуру. Видите ли, ремонт для театра вещь хорошая, но не главная. Великие спектакли возникали, бывало, в повалах и чердаках, на маленьких пространствах и в случайных залах, потому что театр – дело живое и заводится от духа творчества, а не от сметы. Поэтому нынешний праздник Александринки – праздник по форме, а не по существу.
Валерий Фокин, конечно, незаурядный режиссер, но за годы руководства Александринкой поставил только один интересный, яркий спектакль – «Ревизора» Гоголя. Другое увлекало его, иное вдохновляло – явный победитель пространств, он привык завоевывать все новые и новые. Сможет ли Фокин остановиться и углубиться в творчество? Вот уже он публично заявляет о необходимости малой сцены для Александринского театра, и это тогда, когда на основной-то сцене нечего играть. И вспоминаешь, что руководимый им Центр имени Мейерхольда, огромное здание в Москве, тоже блещет техническими возможностями, но что-то не спешит познакомить зрителя с выдающимися театральными экспериментами.
Просматриваются тревожные симптомы. Театральной общественности явно следует внимательно приглядывать за Валерием Фокиным, на всякий случай держа в руках смирительную рубашку, и когда и если режиссер потребует ради очередной «малой», «новой», «другой» сцены снести в Петербурге квартал, эту рубашку применить по назначению. С Валерием Гергиевым такой операции не проделали, а жаль.
Сказанное не отменяет выдающихся заслуг Валерия Фокина в деле реконструкции театра: они очевидны, и новая Александринка по праву нравится решительно всем. Правда, обычно живое тело, руководимое разумом, шьет себе платье по карману, а здесь наоборот: блистательный костюм будет подбирать себе подходящее живое тело. Фантасмагория во вкусе Гоголя! Проказы имперского духа!
И скажу вам уж совсем прямо: сделать ремонт театра, имея толковых специалистов, государственную поддержку и приличные деньги, дело трудное, хлопотное, но реальное.
А вот как сделать ремонт таланта?Проблемы большие, Александринские и Мариинские
Что происходит с императорскими театрами?
В начале октября на Новой сцене Большого театра состоялись торжественные похороны оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». Все действующие лица, от героев до статистов, были одеты в черные костюмы и платья. Сцену загромождали двенадцать угрожающих черных колонн, напоминающих трубы крематория, рассеченные посередине прогулочным мостиком с чугунной решеткой. Таким образом, сцена была как бы расчерчена на шесть квадратов, и все действие сосредотачивалось в верхнем центральном квадратике, изредка спускаясь вниз.
Постановщик «Пиковой дамы», именитый режиссер Валерий Фокин, в предпремьерных декларациях много говорил об особенной «петербургской мистике», но никакой такой мистики в его постановке не ощущалось. Черная скука, царящая в опечаленном зрительном зале, была вызвана не страстями, кипящими в опере Чайковского, а тем грустным фактом, что Фокин, видимо, утратил способность сочинять режиссерскую партитуру спектакля.
Не решен ни один образ, не придумана ни одна запоминающаяся выразительная мизансцена. С помощью нехитрых дизайнерских ухищрений создатели спектакля постарались хоть как-то прикрыть факт полного отсутствия сценического «текста», но это факт такого сорта, который скрыть невозможно. Как невозможно скрыть, какого размера трубы ни сооружай на сцене, качество пения, недопустимо низкое для Большого театра.
В виде призрака когда-то грозной и величественной Большой сцены появилась Елена Образцова – Графиня, немного развеяв тоску своей победительной поступью и филигранной отделкой каждой интонации и каждого жеста. Но то был отдельный концертный номер.
Между тем рядом с Новой сценой кипит – как мы все надеемся – реконструкция сцены главной. Мы очень ждем, что она когда-нибудь откроется и слухи о том, что вместо реконструкции Большого театра идет активная добыча золота из подземных вод, неосновательны. Но когда и если Большой будет восстановлен в полном блеске архитектуры – чем заполнится его сцена? И в каком состоянии к тому времени будет его труппа, оперная и балетная?
Перед глазами – свежий драматический пример. В прошлом году произошло торжественное открытие реконструированного Александринского театра в Петербурге. К реконструкции претензий нет – сделали качественно и со вкусом. Прошло более года, и смотреть на этой красивой сцене в общем нечего. Руководитель Александринского театра Валерий Фокин (возглавляющий также Центр имени Мейерхольда в Москве, обширное, по последнему слову техники оборудованное здание) поставил только один спектакль – «Живой труп» Л. Толстого. Зрелище оригинальное, поскольку оттуда выкинута напрочь цыганская тема, а действие крутится вокруг шахты лифта в подъезде. Кроме того, в труппе нет актера, способного сыграть Федю Протасова, главного героя толстовской пьесы. Труппа Александринки вообще ужасно разбалансирована, не выстроена толком, в ней не хватает многих амплуа и совсем провал с молодыми героями, а без них какой театр-то может быть? «Живой труп» собрал на премьере знатоков, у которых еще живо кое-какое любопытство, дальше в театр пошел рядовой зритель – а для него на императорской сцене ничего не припасено. Итак, Александринка сегодня – идеальная площадка для гастролей. Собственного творческого содержания почти не имеет. Тем не менее Валерий Фокин вот выбрал время и похоронил еще и «Пиковую даму» в Большом театре.
В чем же дело? Разве Валерий Фокин – такое уж пустое место? Конечно, нет. Это был один из интереснейших режиссеров страны когда-то. Он ставил отличные спектакли в «Современнике», ставил в Театре имени Ермоловой, он понимал и чувствовал актеров. Но, выражаясь нынешним языком, менеджмент – это одно, а креатив – другое. Фокин стал первоклассным менеджером – но та часть разума, что рождала творческие идеи, осталась, видимо, в лихорадке освоения пространств и бюджетов без питания. Потому что творческая часть разума требует другой пищи. И другого стиля жизни. Нельзя одновременно считать возможную прибыль и придумывать, как решить сцену карточной игры у Чайковского. Поэтому сцена не решена никак – люди в черном вяло хлопают в ладоши (якобы карты мечут), а Герман, почему-то в нижнем белье, поет (вернее, пытается спеть) «Вся наша жизнь – игра»…
Незаурядные менеджерские таланты проявляет и руководитель Мариинского театра, выдающийся дирижер Валерий Гергиев. Он тоже стремится осваивать пространство как можно активнее. Выстроена Третья сцена (ужасающая по дурновкусию, но это уже в духе всего нового строительства в Питере, где дурной вкус принят за стиль). Вторую сцену Мариинки, ради которой снесли целый квартал на Крюковом канале, построить так и не могут. Говорят, при попытке забить сваи бунтуют подземные воды (геологов в Питере традиционно «забывают» спросить, что там с почвой). Но хорошо, пусть все эти сцены будут выстроены – и Вторая, и еще один проект Гергиева – Дворец фестивалей в Новой Голландии, ради которого сейчас на острове снесены все сооружения, «не имеющие исторической ценности». Допустим, что эти бесконечные сцены Мариинского театра такую ценность будут иметь. Но что там показывать-то? Неужели Валерий Гергиев, подобно демону, размножившись по числу сцен, станет дирижировать одновременно в четырех-пяти местах? Ведь тот репертуар, что имеет сейчас Первая, главная Мариинка, далеко не превосходен.
В Мариинском театре есть сильные артисты – и в оперной, и в балетной труппе. Неизменно на высоте оркестр. Это еще есть, и это – главное сокровище театра. Но в формировании репертуара не видно никакой особой мысли, направления, строгости, главного русла. Многие оперные постановки выживают один сезон. На всем печать какого-то легкомыслия, скоропалительности, неосновательности. Нужно ли в такой ситуации гнаться за лишним пространством? Ради чего?
Что вообще происходит с бывшими императорскими театрами? Они защищены государством, они без труда находят себе покровителей, они не стеснены в средствах. Что мешает им углубленно заняться творчеством и оправдать и большой отпущенный им кредит государственного и зрительского доверия, и немалые денежные средства?
Деньги – это хорошо, и ремонт – это прекрасно, и новые сцены – превосходно. А когда будем думать о творчестве, товарищи мастера искусств? Когда будем поднимать из руин оперную режиссуру, когда решительно поставим заслон перед дилетантами и откровенными жуликами, пытающимися прорваться на главные сцены? Когда будем сознательно выстраивать труппу, ценить таланты, искать их, а найдя, холить и лелеять?
Из всех бывших императорских театров более всего думает о творчестве Малый театр под руководством Юрия Соломина. Так у него и ремонт поскромнее, чем у всех, и «наверху» его не видать, не слыхать, и прикормленные критики не вопят про большие победы.
Вот такой грустный выбор – или «имперские амбиции», воинственный захват денег и пространств, или серьезная, достойная творческая жизнь.
А чтобы все вместе – этого, наверное, на Руси быть не может.
Распад
В Александринском театре (Санкт-Петербург) состоялась премьера спектакля «Гамлет». Версия художественного руководителя театра Валерия Фокина длится полтора часа и ярко свидетельствует о прогрессирующем распаде драматического искусства в стенах старейшего театра России.
В уважительный диалог с Шекспиром режиссер вступать не стал – Шекспир в наше время вообще лицо подозрительное и нереальное. На авторство его пьес претендует тьма народу во главе с королевой Елизаветой. Так с какой стати писать имя проходимца на афише? Поэтому автор «драматургической адаптации» В. Леванов сделал корявый микст из нескольких переводов, причем не возвышенными белыми стихами, а прозой. С использованием современной лексики – «депрессия», «сексапильный» и т. д.
Все монологи Гамлета выброшены, сцены предельно сокращены, остался только слабо различимый сюжет, да и тот подвергнут «адаптации»: призрак отца вовсе не является Гамлету. Психованного юношу (Д. Лысенков), валяющегося в алкогольной коме, с неизвестной целью разыгрывают придворные, шепча ему в уши «загробным голосом». А Офелия (Я. Лакоба), увидев труп Полония (старательно выполненный в мастерских Александринки муляж актера Виктора Смирнова в натуральную величину!), не играет сцену безумия, а тихо сваливается в яму на авансцене. Бессмысленное действие мчится в бодром темпе, причем множество сцен происходит вообще вне глаз зрителя, на арене, скрытой обнаженными конструкциями громадных трибун. Там несчастные актеры, у которых начисто отобрали роли, что-то кричат и лепечут.
Что это и зачем это?
А это буквальное перенесение на сцену принципов «актуального искусства». Ведь сегодня можно взять кучку дерьма, или репродукцию Джоконды с подрисованными рогами, или бутылку кока-колы, или три палочки, или вообще пустой холст, написать «Сакральный космос. Отчаяние № 6». И всё! Состоялся факт «актуального искусства». Смело идите на выставки, на аукционы, в музеи. Именуйте себя «актуальным художником». Пилите бюджеты и читайте глубокомысленную «критику».
Новый «Гамлет» и есть произведение «актуального театрального искусства», то есть его полный и глубокий распад. Отобрав у зрителя Шекспира, Фокин не намерен хоть что-то дать ему взамен. Кроме двух охранниц с немецкими овчарками, которые фигурируют в начале и конце спектакля, более никаких режиссерских фантазий не предъявлено. Кроткие дрессированные собачки, осторожно маневрируя по громоздкой конструкции художника А. Боровского, видимо, должны создать образ полицейского государства, «Дании-тюрьмы». В остальное время актеры просто топочут вверх-вниз по большой черной лестнице, установленной в центре сцены, и плюют друг в друга скверным варевом «драматургической адаптации».
Режиссеру не нужен текст Шекспира, не нужны актеры, а что нужно-то?
Да ничего. Кроме лично осуществляемого процесса распада искусства, ему не нужно ничего. Именно в распаде он находит странное, неведомое мне счастье. Когда его Гамлет, надев на руку череп, с отвращением произносит несколько строк монолога «Быть или не быть», а потом спрашивает зрителя – ну что, вам хватит? – это, видимо, и наполняет режиссера радостью. Вот вы, рутинеры, всё крутите опостылевшую шарманку про датского принца, а я всё это свободно могу отправить на помойку!
Новая, страшная, черная свобода кружит смельчаку голову. Боюсь, он всерьез думает, что его короткий скучный бред – новое слово в искусстве. Говорят, так режиссер самовыражается. Но сказать хоть что-нибудь о самом Фокине по этому спектаклю невозможно! Что любит и ненавидит этот загадочный человек, каковы его мировоззрение, его убеждения и пристрастия – тайна.
Да, суровый рок распростер свои крыла над императорской сценой… Я хожу туда с конца 70-х годов и могу под присягой заявить: как тогда это был мертвый дом, так и сейчас мертвый дом. В советское время там шла неземная чушь про колхозы и заводы, а нынче вот «адаптированный» Гамлет.
У современного МХТ есть по крайней мере «медийные лица» в труппе и несколько действительно выдающихся актеров. У Малого – кое-какие сбереженные традиции, замечательная культура речи и уважение к автору. У Александринки нет ничего, кроме энергичного руководителя, давно утратившего способность к режиссерскому творчеству. Но театр тем не менее молотит премьеру за премьерой – в планах стоит и «Бесприданница», и «Укрощение строптивой», и еще десятки громких названий. Актуальная мельница готова перемолотить все на свете!
Вот еще странность какая. Почему-то Валерия Фокина любят некоторые критики из числа так называемой либеральной интеллигенции. Растоптав Никиту Михалкова за выдающийся фильм, они превозносят Фокина за пустые бессмысленные поделки, вычитывая в них какие-то смыслы. Мрачность его унылых спектаклей, лишенных и тени юмора, они, наверное, принимают за некую оппозиционность нынешнему государству.
Это уж чистый мираж. С какой стати Фокину, члену Президентского совета по культуре и искусству, оппонировать государству? Именно абсолютное безразличие современного государства к ценностям культуры и привело к тому, что в центре Петербурга на казенный счет в роскошно реставрированном здании, наполненном капельдинерами в белых перчатках, распадается драматическое искусство.
Сегодня, чтобы посмотреть настоящий театр, не надо идти в красивые здания с колоннами, похожие на тортик. Надо искать подвалы, углы, закоулки, малые сцены, студии, надо бежать смотреть спектакли выпускников театральных школ, пока они не превратились в чучела актеров.
А потому мне как зрителю хотелось бы расстаться с Александринским театром вечным расставанием. Распадайтесь без меня. А я пойду посмотрю выпускной курс Санкт-Петербургской театральной академии – там, говорят, почти полный текст первой части «Идиота» Достоевского играют, Шекспира играют, и публика валом валит.
Есть еще люди, которым Шекспир с Достоевским не мешают.
Вот я и пойду к своим.Танцуют все!
Декадентский романс
При большом стечении публики в Михайловском театре (Санкт-Петербург) состоялась премьера фильма Сергея Соловьева «Анна Каренина». Судьба картины в общественном мнении тревожна.
Сергея Соловьева, автора многих прелестных фильмов («Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Асса», «Нежный возраст» и другие), обаятельного и весьма образованного человека, лично знают сотни людей. Но роман «Анна Каренина» знают сотни тысяч людей, не собирающихся делать скидку на личную симпатию к режиссеру. И разного рода сомнения и даже полное неприятие будущей картины были еще тогда, когда стало известно распределение ролей. Ведь если затронуты классические произведения первого ранга, то многие задаются вопросом о праве режиссера – не юридическом, а по совести! – на вольную интерпретацию.
А между тем только вольная интерпретация и может осуществиться, когда речь идет о таких колоссах, как «Анна Каренина» или «Братья Карамазовы». Экранизировать эти романы буквально из-за сверхъестественной плотности авторской мысли и обилия психических движений героев (и даже из-за количества персонажей!) – невозможно и не нужно.
Так что перед нами авторский фильм С. Соловьева по мотивам «Анны Карениной», и восклицать «что это за Анна, помилуйте», «что это за Вронский, Господи» мы не будем. Попробуем понять, что это за картина и для чего она была создана.
Фильм длится два часа с лишним, состоит из пяти частей (1 – «Метель»; 2 – «Он сломал ей спину», 3 – «Ужасная женщина» и пр.), время от времени на экране возникают фразы из Толстого, а за кадром кое-какой авторский текст произносит хриплый голос С. Гармаша, играющего также роль Константина Левина. Модная нынче нарезка на главы с подзаголовками – воспоминание о немом кино (и о Тарантино с Ларсом фон Триером), фразы из Толстого и голос за кадром – поклон автору.
Но автор и режиссер расходятся в главном. Толстой, ненавистник фальши, докапывается до сути человека, разоблачает и вскрывает, Соловьев – прикрывает и украшает. У Толстого мышление эпическое, романное, у Соловьева – лирическое, романсовое. Поэтому его картину можно назвать декадентским романсом.
Действие новой «Анны Карениной» происходит не в пореформенной России, которую мы не видим и не чувствуем. Пространство картины камерное, малонаселенное, малоподвижное, персонажи склонны к постоянному застыванию в красивых позах. Это условно-романсовое пространство, где снаружи – метель и лед, а внутри – оранжерея (чуть не в каждом кадре расставлены пальмы, папоротники и монстеры). В этой оранжерее медленно двигается и говорит шепотом роскошная женщина с темными сонными глазами, припухшими губами и статуарной пластикой – раба любви, игрушка страстей (Татьяна Друбич). Ее сопровождают добрый, печальный пожилой супруг Каренин (Олег Янковский) и плотный, упорный мужчина Вронский (Ярослав Бойко). Драма этой женщины в том, что она не создана для семейной жизни, в ней живет страсть к падению и гибели. Вокруг Анны живут более-менее обыкновенные люди, которые женятся, изменяют, как-то устраиваются. А она отмечена печатью рока и обречена. «Отблески пожарища», о которых пишет Толстой, воплощены буквально – на загадочном непроницаемом лице Анны, уже решившей изменить мужу, играют отсветы от горящего камина… Вернувшись с Вронским из Италии (Италия дана как медленный проезд по венецианскому каналу в карнавальной маске), Анна начинает употреблять порошки морфина и, так надо понимать, становится законченной наркоманкой. Во всяком случае, в финале она уже ест морфин чайной ложкой, и все дальнейшее предстает как аляповатая галлюцинация истеричной опустившейся женщины.
Если выбрана эстетика декадентского романса, то основное содержание романа Толстого ни для чего не нужно – не нужен Стива (А. Абдулов), не нужны Китти и Долли, не нужна Бетти Тверская, да и Левин не нужен, и, хотя эти персонажи вроде бы есть в кадре, они удручают своей необязательностью. Да и сыграны слабо. Режиссер, согнувшись от почтения к автору, остановился на полпути – от романа ушел, а к полновесному собственному сочинению не пришел. Получилось безумно, бесконечно странное кино!
Костюмы героев вроде бы верны эпохе (конец 70-х годов), но для чего они верны эпохе, ежели никакой этой эпохи в помине нет? Лица женщин раскрашены, что уместно в декадентском салоне, но немыслимо для высшего русского общества. Какие бы пируэты мастерства не выдавали лучшие наши операторы (над «Карениной» трудились С. Астахов и Ю. Клименко), создавшие дивные по красоте портреты Друбич – Анны, то, что все – ряженые, скрыть не удается. Видимо, культура нашего времени не приспособлена для решения таких задач, как стилизация позапрошлого века, – последние актеры, которые знали, как держать спину, если ты играешь князя, давно умерли, и остался один В.М. Зельдин. Но в таком случае от любых попыток стилизации надо было отказаться вообще и смелее разыгрывать декадентский романс без реверансов Толстому.
Правда, тут встает вопрос: а зачем тогда вообще сюжет «Анны Карениной»? У декаданса были свои могучие писатели (Л. Андреев, Ф. Сологуб и др.) Я думаю, дело не в тяге Соловьева к исторической эпохе русского декаданса. Дело в том, что декаданс (упадок) наступил в русском авторском кино, которого Соловьев – законный и не худший представитель.
Проще говоря, русское авторское кино гибнет и хочет гибнуть по возможности красиво.
Отскакали белые лошади, сгнили рассыпанные яблоки, моль побила развевающиеся на ветру вуали, тоской несет от зеленых полей и мальчиков в белых рубашках, несущихся по этим полям, затасканы до полного опошления дворянские усадьбы, заэкранизирована до тошноты вся русская классика…
Но режиссеры авторского кино старого образца не сдаются. Пряча на груди портреты любимых, они гордо стоят на палубе своего тонущего пиратского корабля и лелеют дерзкие мечты «еще побороться, клянусь громом!».
Публика между тем сравнивает новую «Анну Каренину» не с романом Толстого, а с фильмом А. Зархи с Татьяной Самойловой и вздыхает, терпеливо ожидая, когда на смену декадансу нашего кино придет хоть какое-то движение вверх.Чайка оглохла
В МХТ имени Чехова состоялась премьера «Трехгрошовой оперы» Б. Брехта с музыкой Курта Вайля. Спектакль режиссера Кирилла Серебренникова идет с двумя антрактами и длится около четырех часов. В начале третьего действия актеры, переодетые в современные типажи уличных нищих, шатаются по зрительному залу, вызывая оживление у одних зрителей и неловкость у других. Новая «Трехгрошовая» явно не будет принята в обществе безоговорочно.
То, что зритель слышит, – действительно пьеса немецкого драматурга со всемирно известными зонгами Вайля (сочинено в 1928 году). Это вроде бы герои, ситуации, мысли Брехта. Но – в новом переводе. Где всё «переведено вниз», на огрубление выражений, на вульгаризацию лексики. Здесь уже не поют «сначала хлеб, а нравственность потом» – но непременно «сперва жратва, ну а потом мораль». Известные слова на букву «ж» и букву «б» тут мы встречаем на каждом шагу. Меня, выросшую в новостройках, этим не удивишь, а вот каково приходится вышитой на занавесе МХТ чайке, можно только догадываться.
Впрочем, и МХТ уже давно не девушка, как говорится. В его обширном и разнообразном репертуаре есть и спектакли, явно «идущие вниз», на потеху черни. Так что никаких сенсаций – пытка чайки продолжается уже несколько лет.
Никак нельзя сказать, что спектакль Кирилла Серебренникова лишен смысла и формы. Нет, в отличие от его беспомощных опусов в «Современнике» «Трехгрошовая опера» придумана энергично, с трюками и аттракционами. Несмотря на унылую, в основном черно-серую цветовую гамму спектакля (подозреваю, что у К. Серебренникова, как и у новатора оперы Д. Чернякова, – цветоаномалия), в нем есть занимательные фокусы. Герои вращаются в тележках и клетках из супермаркета. Арестованный бандит Мэкки томится в огромном павильоне из оргстекла (где справляет нужду в ведро – но спиной к публике). В финале появляется колоссальный скелет человека верхом на скелете лошади – так изображен вестник короля, а Мэкки, подвешенный на лонже, уходит по ковровой дорожке вверх, будучи расположенным горизонтально (то есть оптически мы как бы смотрим на него сверху)…
А смысл? Смыслами заведует автор, то есть Брехт, который в России получается крайне редко. Может, только Юрию Любимову на Таганке он удавался по-настоящему, потому что сквозь сюжет всегда были видны умные, светлые личности актеров…
Действие «Трехгрошовой оперы» происходит якобы накануне коронации в Англии, персонажи носят английские имена. Владелец фирмы «Друг нищего» Джонатан Пичем, заведующий всеми побирушками в своем районе, сажает в тюрьму бандита Мэкки, который имел наглость жениться на его дочери. Сюжет трехгрошовый, потому что главное в этой пьесе – звучащий отовсюду остроумный и гневный голос автора, ведь это – поэтическая сатира о состоянии мира накануне фашизма. О мире, наполненном разложившимися бессовестными людьми. Чтобы сыграть это сейчас, тоже нужны умные лица, нужны личности. Но личности актеров спрятаны за пошлыми масками. Актеры играют «вообще». Николай Чиндяйкин – «вообще» коренастый ушлый делец, Марина Голуб, изуродованная накладными толщинками, – «вообще» попивающая мамаша, Константин Хабенский – «вообще» герой в костюмчике, Ксения Лаврова-Глинка – «вообще» разбитная девица, даже без личных свойств.
Режиссёр вроде бы наполнен отвращением к жизни человеческих уродов в развратном мире. Идея о том, что весь мир – бардак, все люди – б…, конечно, копеечная и неверная к тому же. Однако если она выражена художественно – ладно. Но режиссер выразить свое отвращение может только кривлянием актеров и трюками. Остроумная поэзия Брехта испаряется от вульгарности изложения и низкого профессионального уровня постановки.
Плохо с дикцией, особенно у молодых актеров. Плохо с чувством ритма и со сценическим движением – пластика некрасива, невыразительна. И особенно плохо с вокалом, а ведь это музыкальный спектакль. В нем участвуют певцы и музыканты Московского ансамбля современной музыки, но в основном на сцене поют актеры в образе персонажей, как и предусмотрено автором. Режиссер попытался обыграть слабый вокал, изобразив дело так, что всё происходящее – это пародия на мюзиклы 70-х годов с их героями, приваренными к микрофону и воющими в круге света. Ну, я-то видела мюзиклы 70-х годов в «Ленкоме» у Захарова, в Театре Ленсовета у Владимирова, помню, как тогда пели Караченцев и Фрейндлих, и прошу прощения за резкость у старательно орущих артистов МХТ, но так петь неприлично. Хоть бы в промежутки между нот попадали, не то что в ноты. Сорванными от непривычки сиплыми голосами, немыслимо громко, с дикой агрессией, не подходящей для зонгов Вайля, не чувствуя красоты и сложности музыки, актеры выкрикивают огрубленный новыми переводчиками текст. Если плохое пение – это пародия или прием, то никакая пародия или прием не может длиться часами. Не проще ли было нанять педагога по вокалу?
Но у энергичного режиссера просто какая-то аллергия на профессионализм. Вот для чего он сам стал и соавтором сценографии, и художником по костюмам? Чтобы развернуть рулоны любимого им черного и прозрачного полиэтилена и замотать в них некоторых персонажей? Нет, Кирилл Серебренников для меня совершенно загадочный человек, получающий удовольствие от совершенно загадочных вещей.
Новую «Трехгрошовую» в МХТ не назовешь халтурой – во всем виден труд, даже усердие. Для самодеятельного коллектива при каком-нибудь институте или профобъединении такой спектакль при всей его немилосердной затянутости и плачевном вокале был бы любопытным событием. Но для профессионального театра, да еще имеющего в своем названии слово «художественный», зрелище дикое. В прошлом году МХТ отмечал свое 110-летие, и, надо заметить, все 110 лет сотни талантливейших людей кидали свою жизнь в топку этой сцены, чтобы МХТ действительно был образцовым художественным русским театром. Этот бренд создан не сегодня и не теми, кто определяет сейчас художественную политику в Камергерском переулке. Необходимость обновления очевидна – но любое обновление МХТ обязано проводиться на художественном уровне, превышающем вкусы безграмотной толпы. Которая, как всегда, млеет от того, что видит на сцене знакомые по блокбастерам и сериалам лица и слышит наконец-то любимые слова на «ж» и «б». Толпа радуется, что нарушены условия игры: пришли в серьезный театр, а на сцене звучит то же, что и на улице. Но на этом трехгрошовом счастье толпы не построишь художественного театра.Танцуют все!
В Центре имени Мейерхольда состоялась премьера хореографической новеллы «Бедная Лиза» в постановке Аллы Сигаловой. Под фонограмму одноименной оперы Леонида Десятникова станцевали Чулпан Хаматова и Андрей Меркурьев.
Камерная опера Десятникова для тенора и сопрано, написанная им в юности, озвучивает натуральный текст повести Н.М. Карамзина – классическое сентиментальное произведение о мире чувств бедной девушки, влюбившейся в знатного господина. Музыка изысканно стилизована и прекрасно выражает тонкую и печальную душу композитора.
Хореография Аллы Сигаловой, напротив того, рассказывает о дикой растрепанной современной девице, обуреваемой эротическим томлением. Поэтому никакой связи между фонограммой (включенной, кстати, невыносимо громко) и танцами установить не удалось. Время от времени музыку вообще обрывали, и в тишине герои, знойно сопя и вскрикивая, сплетались телами. А в сцене близости они разделись до белья и просопели несколько минут в соответствующих корчах. Потом неспешно оделись.
Чулпан Хаматова в кроссовках и коротком черном платьице изображала вульгарную «тарзанку» (действительно била себя в грудь, как герой незабвенного фильма), поджидающую кого-нибудь в пустом кинотеатре. Три ряда стульев и экран, на котором ничего не показывали, – вся сценография. Правда, экранов потом стало три, но на них всё равно ничего не показывали, кроме лица Хаматовой в финале полуторачасового действия.
Черно-белый дизайн считается аскетичным и стильным, но в данном случае он скорее способствовал низкой эстетической привлекательности зрелища. Проще говоря, новая «Бедная Лиза» некрасива и нелепа. От нее несет тлетворным духом «актуального искусства» с его неаппетитными и бессмысленными «перформансами». И с его жадным стремлением к раскрутке на пустом месте.
С гораздо большим удовольствием я бы посмотрела обыкновенную старательную постановку оперы Десятникова. В ней есть настоящая красота, а красота полезна даже для физического здоровья. Ученые выяснили недавно, что созерцание картин Боттичелли и других «лакировщиков реальности» способно снизить ощущение боли в три раза! От просмотра же «Бедной Лизы» можно захворать. Хореограф Сигалова не стремится к красоте, ее выдумки произвольны, бессвязны, лишены логики, включают много вульгарных бытовых движений. Я таких «бедных Лиз», кривоногих, с пивом в руке, матерящихся наравне с парнями, потерявших всякое подобие женственности, вижу каждый день сотнями, на что они мне на сцене? Неужели современность – это такая крупная драгоценность, что от ее созерцания нельзя оторваться?
У Чулпан Хаматовой нет пластического дара, она драматическая актриса, да и в драматическом театре пока что не достигла профессиональных высот. Когда я вижу Хаматову в рекламе известного банка, где она сообщает: «На сцене серьезные драматические роли забирают все мои силы…», – хочется переспросить, какие ж это роли забирают у актрисы «все силы» (а банку пожелать лопнуть). После «Трех товарищей» Ремарка, где она играла весьма неплохо, Хаматова участвовала в спектаклях режиссеров Чусовой и Серебренникова, которые были так отвратительны, что даже наш терпеливый зритель их забраковал. Не идет «Гроза», снят с репертуара «Антоний и Клеопатра». Так нет, «экспериментаторы» не могут оставить Чулпан Хаматову в покое и дать ей нормально развиваться. Актриса стала каким-то секс-символом театрального «авангарда», ее перетаскивают как заветный фетиш из одного безобразия в другое.
Это тем более обидно, что личность Хаматовой незаурядна. Она не пустышка, не глянцевая кукла, но серьезный думающий человек. Живя в обществе, где при слове «благотворительность» морщатся и скучают, актриса обладает живым сочувствующим сердцем и волей к добру. Для самой беззащитной части общества – больных детей – актриса не жалеет сил и времени. Но эти ангельские качества личности Чулпан Хаматовой не проникают на сцену! Темные режиссерские силы из года в год втискивают актрису в злодейский рисунок своих вульгарных и самодурных фантазий. И вот юная прелесть уходит, наступает время, когда и выясняется настоящий масштаб актера, а вместо побед – опять участие в странных затеях, способных окончательно сломать психофизический аппарат одаренной актрисы.
Благодаря кинематографу зритель видит талант Хаматовой. Когда ею занимаются профессионалы (вспомним «Доктор Живаго» Прошкина или фильмы А. Германа-младшего), актриса очень даже хороша. Но в «Бедной Лизе» на нее больно и неловко смотреть. Ревут и стонут приглашенные на спектакль друзья, а не участвующие в заговоре вздыхают и отводят глаза.
Превратили искусство в тусовку друзей, понимаете ли! Вопросы таланта и профессионализма изгнаны напрочь. Одни друзья кривляются на сцене и экране, другие хлопают в ладоши, пишут восторженные статьи или даже финансируют очередное дилетантское кривлянье. Что называется, танцуют все! Даже Министерство культуры, содержащее Театр Наций (это заведение и является рассадником «актуального театра», в том числе «Бедной Лизы»)… Если Чулпан Хаматова и дальше будет заперта в клетке с такими «друзьями», профессиональный рост актрисы станет невозможен. Так и уйдет талант на всякую ерунду.
Интересно, волнует ли это кого-нибудь?Дело сделано, человека нет
Смерть Владислава Галкина – публичная драма. Это вам уже не частный случай, а нечто вроде гибели гладиатора на арене римского цирка. Под рев толпы.
Что-то жутковато-нарочитое есть в этой смерти. Предельно обнажился тот факт, что быть популярным артистом сегодня – это что-то совсем иное, чем полвека назад и даже два десятилетия назад.
И раньше актеры пили и буянили. К примеру, много чего рассказывают о любимце народа Петре Мартыновиче Алейникове, с которым, кстати, по актерскому типу у Галкина есть большое сходство: взрывной темперамент, простодушие, редкая органичность, огромное обаяние. Но долгое время люди ничего конкретного о своих кумирах не знали – так, слухи-сплетни. Теперь о любом проступке мгновенно узнают миллионы. Судят. Выражают мнение. Выносят приговор.
За пьяную драку в баре на Садово-Кудринской в прошлом году Владислава Галкина осудили массы – и они же сегодня содрогнулись, когда их безжалостный приговор был приведен в исполнение. Реальный суд оказался куда милосерднее и справедливее, чем суд толпы, явно не удовлетворенной небольшим условным наказанием.
Логика была такая: Васю или Петю за подобное поведение упекли бы за решетку. За что актеру послабление делать? Чего вообще с ними, скоморохами, цацкаться? Изображают героев, а сами!
Что ж, хочется спросить: судьи из толпы, вы теперь довольны?
Нет, опять недовольны, ищут виноватых. Винят бармена, который вовремя не налил Галкину сто граммов и тем спровоцировал дебош. Винят жену, которая ушла. Друзей, которых не оказалось рядом. Самого актера, который не остановился в алкогольном полете. Да и саму русскую жизнь как она есть. Вот только Америку и евреев на этот раз не приплести – а так весь набор!
Но, как верно написала в инете одна женщина: «Теперь хоть суди, хоть ряди – дело сделано, человека нет».
И точно в старину – бабы завыли, мужики хмуро чешут в затылках, что-то бормоча про водку проклятую и вообще житья нет…
«Просто мужик устал», – искренне вздохнул один из анонимных комментаторов. Будто и не про Галкина, а про миллионы русских мужиков. Которые ни сами с собой, ни со своей землей справиться не могут.
Мужик устал!
Исторически устал.
Сам от себя. От беса, который в нем сидит. От огромной и беспощадной своей земли, которая ни кровью, ни слезами напитаться все никак не может. Тут каким богатырем ни родись – к сорока превратишься в мочало…
А ведь в личности Галкина вроде бы не было ничего фатального, обреченного – плоть от плоти своей земли и своего времени, он воплощал характернейшие черты русского парня-удальца. Саня-Санёк, как зовут героя Галкина в «Дальнобойщиках». В минуту опасности, на войне или в схватке со злодеями – отважен и лих. В миру – жаден до жизни, плут, озорник и греховодник. Притом улыбка до ушей и ямочки на щеках. «Знаем мы эти ямочки!», как говорят у Чехова. И работа есть, и денежки водятся, и женщины любят – чего тебе еще, парень, живи да радуйся!
И вот вместо прекрасной, цветущей жизни – ужас, мрак и горе.
Люди пытаются понять, что случилось, догадываясь, что колокол прозвонил не только по Галкину, но по всей земле, – и понять не могут. Мы гибнем, потому что пьем, и пьем, потому что гибнем, – проклятый порочный круг, который можно разорвать силой воли, а откуда взять силу воли?
Вы можете со мной не согласиться, но, по моему ощущению, талантливые мальчики, рожденные в 70-х, – в основном несчастное поколение (о девочках другая история – женщины не так зависят от времени). Их детство прошло в застое, утратившем звонкие мелодии 60-х годов, их молодость пришлась на большой развал, а нажитой исторической стойкости у них не было. Будь ты, к примеру, каким хочешь актерским гением – где ты нашел бы место в чудовищном кино 90-х? Одинокие печальные мальчики, попавшие в социальные джунгли, научились носить маску и играть по новым правилам, но переехало-то их колесом неслабо. Сейчас уже совсем другие народились кадры – с детства понимают про формат, пиар и гонорар. А Галкин, в 1981 году сыгравший Гека Финна у Говорухина, явно готовился к совсем иной жизни, нежели та, что нам всем потом выпала.
Это так – груз времени велик. Но он давит на всех. Что все-таки может человек, сам человек?
Однажды я видела Владислава Галкина на драматической сцене. В интересном антрепризном спектакле по «Братьям Карамазовым» он играл брата Митю. Играл великолепно и очевидно с полным душевным совпадением. Ведь и чудесный, благородный Митя Карамазов собой не владеет, его душа извергает столько страстей, что воля и разум попадают в их плен. Легко обуздать душу, когда от природы она смирная, маленькая, чувств отпущено крохи, а огромную, страстную душу укротить – на это способны разве праведники, и то через большие страдания. Я тогда подумала: жаль, что Галкин не играет в театре постоянно, но будничная служба в государственном театре была ему, наверное, никак не по натуре.
Натура эта была такова, что для благотворного развития ему требовалось постоянно укрощать, смирять себя, гасить слишком сильные эмоции, – но профессия-то его требовала как раз противоположного, поймите трагический парадокс! Если бы он еще был ремесленником, играл в «пол-ноги» – а он был сильным, страстным актером, выкладывающимся на всю катушку. Хроническое нервное перевозбуждение, как можно догадаться, изматывало актера каждодневно. Моральное осуждение публики за срыв – осуждение, с которым он сам был согласен, – добило окончательно. Сказалась обычная наша жестокость, неспособность к суждению мягкому, гибкому, уклончивому. Нет – всегда рубим сплеча (я это и к себе в полной мере отношу). На основании одного поступка или одной фразы даже выносим приговор о человеке в целом, чего делать ведь нельзя. Тем более сейчас, когда любой может свое суждение сделать гласным. Когда публичный цирк жадными глазами смотрит на новых гладиаторов…
Хоронили актера в тот момент, когда его лицо, снятое для сериала «Котовский», красуется во всех телевизорах страны. Сериал этот, конечно, такая же дешевая самодеятельность, как и все прочие визуальные продукты нашего времени. Ни диалога энергичного написать, ни свет в кадре поставить – как будто истории кино вообще не было, начисто смыто из памяти. Но Галкин и тут хорош – и понятно, что движет его героем.
Не может Котовский жить в быту, скучными буднями, смиренной работой. Ему нужно всегда поджигать кровь азартом, приключением, игрой – и тут бандитский налет, запретная любовь или вихри революции равнозначны как возбудители чувства жизни.
И этот поиск возбуждения при ослаблении или отсутствии общих правил жизни, строгих запретов, уместных наказаний – самая ужасная опасность для наших мужчин.
Им нужно какое-то торможение – а они постоянно возбуждают себя. Литрами алкоголя, интимными связями, бешеной скоростью на дорогах, сверхъестественной алчностью.
Как разъяренные слоны, бегут навстречу смерти – не окликнуть, не остановить! Сплошь Котовские. А души при этом у многих живые, совесть неубитая – вот и мучаются так, что не позавидуешь.
Вспомните страдальческие глаза Галкина на суде – врагу не пожелать такого.
Страданием, писал Достоевский, все очищается. Очистилась и эта яркая, больная жизнь – жизнь человека, который не только творчеством, но и самой своей смертью потряс людей и заставил их думать.
Мир и покой его несчастной душе.
Наш современник – товарищ Сталин?
Премьера в театре «Современник» под интригующим названием «Сон Гафта, пересказанный Виктюком» – одно из самых странных и экстравагантных зрелищ театрального сезона. Поскольку Валентину Гафту приснился не кто иной, как товарищ Сталин, понятно, что сон этот можно смело отнести к числу кошмаров.
На сцене – двухэтажная металлическая конструкция, на которой развешаны картины, в том числе и портреты вождя народов. Слева – рояль и мольберт, справа – стол с грудой булыжников, по центру – красная трибуна с гербом пропавшего государства СССР (художник Владимир Боэр). В этих обстоятельствах действуют три актера. В. Гафт выступает в роли Сталина, правда, делается намек, что, может быть, это не совсем Сталин, а вжившийся в его образ запойный дядя Коля. А. Филиппенко изображает всех собеседников вождя – а это историк Радзинский, сатирик Жванецкий, маршал Жуков, лидер коммунистов Зюганов и безымянный зэк-писатель (Солженицын?). М. Разуваев исполняет функцию слуги сцены, а затем представительствует от имени молодого поколения, рожденного в перестройку и Сталина «нашедшего уже на помойке». Два часа без перерыва пролетают быстро и вызывают живейшее любопытство зрителей.
Ведь режиссер спектакля Роман Виктюк – крупный мастер театральной формы. Он знает толк в сценическом пространстве и времени, он никогда не даст публике заскучать. Когда нужно, включится музыка и свет, поменяется мизансцена, восприятие взбодрится резким звуком, сменой ритма, песенкой, репризой, выкриком. Как бывалый иллюзионист, Виктюк элегантно «упаковывает» любое содержание в обаятельную театральную оболочку, и его фокусы всегда удаются. Конечно, кто-нибудь капризный может сказать, что он эти фокусы уже видел много раз. Но язык не повернется сказать, что много раз как товарищ Сталин выходил на сцену в исполнении большого актера. Нет, это у нас впервые.
Пьеса Гафта написана в стихах (ямбы) и не имеет четкой сюжетной линии. Сталин внезапно является в современности, требуя ответа у своих собеседников на вопрос, дьявол он или бог. Страшно пугает историка. Не производит никакого впечатления на сатирика. Вызывает бурю подхалимажа в лидере современных коммунистов. Уважительно винится в грехах перед маршалом. И если Филиппенко, мастер эстрады, довольно мягко и шутливо показывает своих героев, то Гафт чрезвычайно серьезен.
Между актером и героем нет ни малейшего сходства, ему не делают портретного грима, и вместе с тем в некоторые минуты казалось, что перед нами действительно каким-то чудом оказалась эта гадина (тов. Сталин). Свирепо сверкая глазами, брезгливо выпячивая губы, неизменно злобный и сумрачный, Гафт – Сталин пристально вглядывается в зал. Делается как-то не по себе. Защищаясь от слишком уж серьезного отношения актера к персонажу, зритель вылавливает в спектакле черты простого публицистического фарса и знай себе посмеивается. Всерьез въезжать в театральное пришествие Тараканища ему неохота.
Ведь Сталин – невыигрышный театральный персонаж. Он на своем месте в исторических фильмах. Но для сцены он годится плохо, потому что неинтересен по-человечески. (Пока какой-то гениальный драматург не пересоздал его для театра, как это делали с историческими мерзавцами Шекспир или Шиллер.) Текст Гафта выразил умонастроения актера, его страхи, сомнения, тревоги. В нем есть неловкое бормотание, длинноты, неудачные философские претензии, но есть остроумные реплики, неплохие шутки. Чувствуется нерв и личная боль актера. Но в результате получился во многом «сумбур вместо музыки». Может, слишком неопределенный жанр выбрали создатели спектакля – «фантасмагория»? Фантасмагория – это значит всё что угодно. Лучше бы всё-таки происходящее было комедией. Публика так и настроена и жадно ищет в «Сне Гафта» проблески юмора. Трудно с ней не согласиться.
Я с интересом смотрела на сцену. Ум работал – но сердце молчало. Зрелище явилось эстетически довольно привлекательным. Но никакого движения души не было, поскольку движений души не было и в главном герое, однообразном, сумрачном, маниакально сосредоточенном на каких-то своих сверхценных идеях. В театре ли решают, нужен России царь или нет, в Кремле Сталин до сих пор или успокоился подле него? Это задача публицистических программ, общественных дискуссий. А в драматическом театре плачут и смеются, любят и ненавидят. Но как полюбить то, что совсем не трогает душу?
У меня нет никаких претензий к профессионализму создателей спектакля. Самоотверженно работает Гафт, порадовал виртуозный Филиппенко, блеснул темпераментом Разуваев. В полном обладании своими магическими умениями мастер Виктюк. Но отчего, отчего Гафту не приснился другой сон – сон о том, что он играет главную роль в хорошей пьесе про человеческую жизнь?! С достаточным ли вниманием относится руководство «Современника» к своим артистам, тем более такого ранга, как Гафт? Заботится ли о том, чтобы вовремя обеспечивать их достойной работой? Гарантированы ли мы от того, что вслед за Гафтом не заснут с последующими кошмарами Нина Дорошина и Лилия Толмачева, Марина Неелова и Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова?
Ведь если актеру вечером в полную силу поработать на сцене – то сны вообще сниться не будут.
Смертельная любовь масс
На экраны вышел фильм «Майкл Джексон: Вот и всё», в котором использованы съемки репетиций несостоявшегося шоу кумира миллионов. Итак, у нас есть последняя возможность подумать о нем…
Добрую половину фильма занимают охи и вздохи отобранных в шоу танцоров, певцов, музыкантов, осветителей, звукооператоров и режиссеров спецэффектов. Все они мурчат и чирикают том, как они счастливы работать вместе с Джексоном, как они об этом мечтали всю жизнь с пятого класса и какой он отличный парень. Всю эту американскую тошниловку зритель смиренно пережидает, чтоб впиться глазами в экран, когда появляется Он.
Истощенный, белолицый, какой-то пришибленный, подчеркнуто вежливый и словно уже неживой, отделенный от жизни невидимой роковой чертой… Майкл Джексон прилежно и ответственно репетирует свое шоу. С таким символическим названием – «Вот и всё».
Надо заметить, атмосфера на этих репетициях удивительная. Никто не орет, ничего не роняет, не путает, не ругается матом, не устраивает скандалов и разборок. После любого замечания Джексон тихо шелестит: «Господь с вами. Я люблю вас!» «Мы любим тебя, Майк!» – благоговейным эхом отзываются танцоры, певцы, музыканты, осветители, звукооператоры и режиссеры спецэффектов. Прямо церковь какая-то, а не шабаш поп-культуры.
Но поп-культура и есть своего рода церковь масс. И Майкл Джексон – своего рода епископ этой церкви.
Почему именно он?
На этот вопрос тому, кто не масса, ответить трудно. А сами массы по обыкновению ничего объяснить не могут – мычат или визжат.
Голос у Джексона был – небогатый, хлипкий, жиденький, но был. Он сам его смял, притушил, потому что петь и одновременно бурно двигаться при живом звуке нельзя. Тот, у кого есть голос, как правило, стоит на сцене и поет, а не дергается, как черт на веревочке. Ведь для извлечения звука надо регулировать дыхание, сбивающееся при танце. Поэтому Джексон, сделавший опору на движение, придавил голос, сделав его звучание плоским, резким. Но так и нужно было для его образа, для того образа, который возлюбили массы.
Что это за образ?
Это образ, если угодно, сверхчеловека. Того, кто сумел избавиться от своей расы и нации, превзошел свой пол и возраст, взлетел над толпой, справился с временем и прогрессом – и стал их повелителем! Человек без расы, без нации, без пола, без возраста, Джексон пропустил через себя ритмы современной технократической цивилизации и прошелся по планете лунной походкой торжествующего демона. На правах победителя он даже пожалел эту бедную планету и призвал очень-то ее не плющить в знаменитой «Песне Земли».
Он, сверхчеловек, вступил в любовную связь с массами. И массы, как всякая влюбленная женщина, захотели от Джексона сразу всего.
Они хотели, чтоб он летал и парил над ними как инопланетянин, как божество, как повелитель – и одновременно был «как все», спал с земными существами женского пола, размножался как все, наполнял жизнь тем же содержимым, что и все. Цари над нами, но будь как мы! – требовали массы.
И Джексон заметался. Странные браки, усыновленные дети… Повелитель толпы сделался угодником толпы. Бедный запуганный человек не выдержал напора масс, и победоносный образ героя цивилизации стал крошиться и рушиться.
И вот он на сцене – последний раз, как оказалось. Резко бросается в глаза его игрушечность, неестественность. Он как нарисованный. Кажется, будто этой нервной раскрашенной куколке вообще нет места в жизни – но только на сцене, в лучах света, в цветном дыму, в роскошных декорациях…
Несмотря на байки про новые песни Джексона, которые он написал уже, видимо, после смерти, ничего такого в фильме нет. Всё те же стопудовые хиты – «Триллер», «Черный-белый» и т. д. Всё те же прелестно-угловатые «электрические» движения. Всё тот же Джексон, прилежная работящая игрушечка, продолжающая и после гибели приносить доход. Любовник масс, замученный их смертельной любовью…
Надо заметить, отечественное телевидение нашло симметричный ответ выходу фильма про Майкла Джексона. На НТВ целый вечер показывали шоу «Возвращение звездного мальчика», посвященное жизни и смерти Жени Белоусова. Что же из того, что Джексон – профессионал высшего класса, а Женя Белоусов – жалкий фонограммщик, проблеявший двадцать лет назад три с половиной песенки про «девчонку-девчоночку»? Ведь эти явления всё равно из одного корня растут, из потребности масс в любви.
Просто в западном мире любви в массах так скудно, что они ее отдают только за что-то и строго соразмерно заслугам – за талант, за труд, за профессионализм.
А у нас на Руси этой самой любви – завались! Поэтому она отдается даром. Просто так. Никакого профессионализма и таланта не нужно. Вышел молоденький-смазливенький, тряхнул кудряшками, открыл рот под фанеру – и полилось из «девчонок-девчоночек», только ведро подставляй.
Массы любят, любили и будут любить, так что Майкл ли Джексон, Женя ли Белоусов, неважно. Есть роль на чертовой ярмарке – быть объектом сладкой и смертельной массовой любви, – и ее как играли, так и будут играть. И если исполнители этой роли обожрутся наркотиками-водярой, потому что трезвому человеку невозможно выдержать всю эту петрушку, и сгинут, так мигом другие найдутся! Вот и всё.Спасти режиссера Бёртона!
На экраны вышла картина «Алиса в Стране чудес» знаменитого режиссера Тима Бёртона. Возможно, это не худший фильм всех времен и народов. Но это худший фильм Тима Бёртона.
Я давно заметила: когда проваливается талантливый человек, он делает это каким-то особо жутким образом. Он проваливается не на средний уровень ремесленника, а куда глубже, как Алиса сквозь таинственную нору, – в то ужасное место, где вообще не светит солнце Божьего дара.
Какой мертвый, скучный, унылый, тусклый фильм! А ведь Тим Бёртон снял не одну-две великолепные картины, а больше десятка. Крупнее того таланта, что выдали в лавочке Бёртону, и не бывает. Это особый дар – уметь рассказывать гротескные фантастические сказки, изобретать собственный причудливый мир. «Битлджус», «Эдвард Руки-Ножницы», «Бэтмен» (первые две серии, самые прекрасные), «Эд Вуд», «Марс атакует!», «Кошмар перед Рождеством», «Сонная лощина», «Труп невесты», «Крупная рыба»… Заслуги Бёртона перед миром бесспорны. За сумасшедшее воображение и беспощадную иронию его обожали европейские интеллектуалы и продвинутая русская молодежь. А более остроумного фильма, чем «Марс атакует!», в свое время наглухо закрывшего тему инопланетного вторжения, где блистало штук двадцать первостатейных голливудских звезд, я не видела вообще.
И вот сижу в кинотеатре в треклятых этих очках 3D, глаза болят, на сердце тоска. Формат 3D, который нынче подается как великое изобретение, полвека назад именовался «стереоскопический эффект» и демонстрировался во всех крупных городах Союза. Да я лично в «Стереокино» на Невском смотрела «Майскую ночь» в 1969 году. Стереоскопия считалась скромным фокусом для детей младшего школьного возраста, неуместным во взрослом кинематографе. Тогда в кино еще умели ставить свет и создавать иллюзию объема художественными средствами…
В тоске думаю: если Бёртон просто провалился, ладно, бывает. А если тут беда покрупнее? Может быть, талант режиссера вообще больше не определяет кинопроцесс? А рулят им идеологи-маркетологи, которые высчитывают, что именно должно иметь успех у зрителя?
Еще лет десять назад эти идеологи-маркетологи что-то помнили про искусство кино, Орсона Уэллса и Федерико Феллини. А нынче им лет по двадцать пять – тридцать, они выросли на компьютерных играх, механизм эмоционального сопереживания у них отключен в принципе, и их единственная цель – превращать деньги в деньги. Для этих циничных хладнокровных ублюдков и пятидесятилетний Тим Бёртон – всего лишь забавный старикан, который пару раз сумел взять кассу.
Идеологи-маркетологи знают, что в зрительном зале сидят девицы с попкорном вместо мозга, которые хотят смотреть кино только про себя. В числе жизненных приоритетов этих девиц собственный бизнес давно преобладает над удачным замужеством.
Поэтому девочка Алиса в фильме превратилась в девятнадцатилетнюю дылду с порочным, сонно-злобным кукольным личиком. В ней нет ничего трогательного, чистого, светлого. Главный итог ее путешествия – набрать силы в Стране чудес, чтобы в реале вместо брака с глупым юным лордом предложить его папаше совместный бизнес с Китаем. И эту будущую акулу капитализма так ждали в Стране чудес как спасительницу? Может быть, это фильм-метафора про юность Кондолизы Райс?
Конечно, Америке выгодно воспитывать из своих девочек цепных собак империализма. Для такой великой цели вполне нормально бросить в топку и талант Тима Бёртона, и одну из самых остроумных книг в истории человечества. Нам объясняют, что это «не та Алиса», это вариация на тему – дескать, Алиса Кэрролла выросла и снова попала в Страну чудес, это новая Алиса и новые ее приключения.
А за каким чертом, спрашивается, нам «не та» Алиса? У нас и без того все «не то». Мясо не мясо, лекарства не лекарства, выборы не выборы. Пусть тогда новую героиню и зовут иначе – Дженнифер или Хилари. Но идеологам-маркетологам обязательно нужно использовать раскрученный бренд «той» Алисы. Та не та – имя звонкое, терпилы пойдут даже для того, чтобы посмотреть, насколько эта Алиса – «не та»!
Книга Льюиса Кэрролла в пересказе Бориса Заходера давно стала русской любимицей. Поэтому слушать в новой «Алисе» жалкие потуги русского переводчика на каламбур сродни пытке – «вострый меч», «бравный воин», «всё чудливее». Но беспомощность этого перевода совпадает с эстетикой самого фильма, в котором стереоскопический эффект подменил настоящее творчество.
Мир Страны чудес не построен, не наполнен обаянием и юмором – он распался на картинки и трюки. Живых актеров – Джонни Деппа (Шляпник), Хелену Бонэм Картер (Красная Королева) и Энн Хэтэуэй (Белая Королева), дико раскрашенных, можно было бы без всякого ущерба заменить анимацией. Они ничего не излучают и не вызывают никаких эмоций. Депп попробовал было развить тему Мастера-демона, но пространства для развития в мельтешении новой «Алисы» нет никакого. Белая Королева – очевидно, такая же необаятельная гадина, как и Красная, так что смысл генерального сражения Алисы с Бармаглотом неясен. Чудесный абсурд Кэрролла, издевающийся над штампами и стереотипами и сознания, и языка, превращен во второсортное фэнтези. Со смазанным сюжетом и смутными героями. К анимационным удачам можно отнести только неплохо сделанного Чеширского Кота, но и этот персонаж начисто утратил обаяние оригинала как характер.
Как же нам спасти режиссера Бёртона? Как убедить его плюнуть на идеологов-маркетологов и бежать из мертвого Голливуда куда-нибудь на маленькие бюджеты, на полную свободу творчества? Вернуться в молодость, когда он был близок к гениальности, снимая на копейки дивные вещи!
Ведь для создания художественного фильма вовсе не нужны миллионы долларов. Миллионы нужны только для того, чтобы забрать у публики еще больше миллионов. В этом страшном механическом процессе, где мы, зрители, превращены в автоматы (у нас нажали кнопочку – получили из нас денежку), все меньше места таланту, вдохновению, искренности, оригинальности…
Всему тому, ради чего существует искусство кино!
Которому, видимо, предстоит умереть, а потом родиться заново.Кошмар имени Чехова
29 января – 150 лет со дня рождения А.П. Чехова. Подавляющее большинство театров встретит юбилей ударным трудом, и буквально вся Россия покроется «Чайками» и «Вишневыми садами». И дело даже не в том, что на «датские» спектакли отпущены солидные средства. Режиссеры давно облюбовали чеховские пьесы как материал для своих загадочных галлюцинаций. И для главного соревнования их жизни – соревнования друг с другом.
Началось… В Ленкоме – «Вишневый сад» Марка Захарова. Судя по телерепортажам, это превеселый спектакль, где актеры сочинили свой собственный текст, не хуже, чем у классика.
В МХТ (имени Чехова) вот-вот стартует «Иванов» Ю. Бутусова.
В Театре имени Моссовета – «Дядя Ваня» А. Кончаловского. И в Александринском театре Петербурга – «Дядя Ваня». (Там человек аж из Америки приехал нам показать, как надо Чехова-то воплощать.) В Театре имени Вахтангова – тоже «Дядя Ваня». Надо смотреть!
Смотрю, а жизнь проходит мимо – вздохнем мы в духе юбиляра. (Он замечательно писал о бессмысленной трате дней…)
Начала я с вахтанговского «Дяди Вани», потому что я режиссерскими галлюцинациями не увлекаюсь, а увлекаюсь хорошими актерами, а тут у нас заняты Сергей Маковецкий (Войницкий) и Владимир Вдовиченков (Астров) – таланты первой величины.
«Дядя Ваня» – второй заметный спектакль Римаса Туминаса на посту главного режиссера Театра имени Вахтангова. Надо сказать, с Чеховым он обошелся уважительнее, чем с Шекспиром, чью трагикомедию «Троил и Крессида» поставил с ног на голову в прошлом сезоне. Текст Чехова звучит почти без отсебятины и крупных сокращений. Ведь мощь режиссера может выразиться и помимо текста – персонажи могут говорить одно, а делать другое. Тем более что люди в спектакле немножко не в себе, они перевозбуждены, экзальтированны и двигаются как бы в лунатическом трансе. Эта гипотеза находит подтверждение в оформлении сцены художником А. Яцовскисом: на черном заднике все четыре действия висит желтый круг – не то полная луна, не то затмение солнца. А, вот разгадка: девушка Соня предлагает закопченные стекла, стало быть, затмение. В режиссерских театрах не всегда бывают так вежливы: чаще всего никто ничего не объясняет. Здесь же, у Туминаса, понятно: время действия пьесы – затмение солнца, длящееся два дня. Люди, конечно, поплыли умом и стали куролесить.
Тогда ясно, отчего девушка Соня (М. Бердинских) визжит звонким голосом травести и с пионерским задором скачет по сцене. Почему профессор Серебряков (В. Симонов), который сначала фигурирует как строгий «человек в футляре», в шляпе, галошах и с зонтиком, затем является нам в белых одеждах и садится верхом на свою красивую жену Елену (А. Дубровская). Эту самую жену вообще неслабо валяют по сцене и дядя Ваня, и Астров, опрокидывают на стол, хватают за все интересные места, которых у артистки Дубровской весьма, весьма много. Ну, затмение! Если бы не оно, разве стала бы народная артистка Людмила Максакова так фарсово изображать комическую влюбленность Марии Васильевны, маменьки дяди Вани, в этого чокнутого профессора? Так виснуть у него на шее, так стонать? Но ослепительнее всего затмение сказалось на старой няне Войницких (Г. Коновалова). Она превратилась в нечто вроде сумасшедшей барыни из «Грозы» – прихорашиваясь и хихикая, няня бродит по усадьбе как призрак выродившегося дворянства…
Кроме того, несчастные не просто пьют, а пьют из огромных стеклянных банок, где томится брага, – Астров в нетерпении сосет зелье из резиновой трубочки. Да, эти бедные люди невменяемы и легко забывают, что они изображали пять минут назад. Какая же может быть цельность характера в таких условиях? И какое драматическое действие? Поэтому из разных кусочков актерской игры довольно сложно собрать образ, а из разных эпизодов – собрать общее впечатление от спектакля.
На сцене вроде бы все время что-то происходит. Вот доктор Астров в финале говорит знаменитое: «А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища – страшное дело…» До сих пор доктора Астровы в задумчивости глядели на карту мира и говорили, конечно, не об Африке, а о своей душевной жизни. Туминас показывает, что доктор, человек ищущий, беспокойный, реально собирается уехать в Африку, и ему приносят кучу больших черных чемоданов. Этот рельефный образ – черные чемоданы – буквально преследует режиссера. С чемоданами вваливался в дом к Фамусову Чацкий (в театре «Современник»). С той же кучей чемоданов отправляется в стан к грекам Крессида («Троил и Крессида»). И опять те же чемоданы в «Дяде Ване»! Наверное, Туминаса, кочующего между Литвой и Москвой, преследует образ странствия. Но эти чемоданы – просто внешнее приспособление, раскрашивание текста, ничего не говорящее про суть и идущее «мимо автора». Кто вообще все эти люди на сцене – и не чеховские интеллигенты, и не современные, а кто? Аллегории? Символы? Так надо тогда Леонида Андреева и Метерлинка ставить. А нашего юбиляра режиссерский деспотизм явно заездил. Уже все было – вот, правда, чемоданов у Астрова еще не было…
Туминас много придумал, но зачем – не берусь вам сказать. И сквозь эти придумки иногда пробиваются к Чехову двое – Маковецкий и Вдовиченков. Именно сквозь, а не благодаря им. К примеру, насколько может помочь Маковецкому то, что во время ночного объяснения в любви к Елене Андреевне он снимает брюки? Деликатный, нежный дядя Ваня – и снимает брюки перед безнадежно любимой женщиной? Он что, собрался ею овладеть прямо под боком у профессора? И ведь Маковецкий играет именно драму человека чуткого, чувствительного, лишенного всякого напора и нахрапа, который не может урвать, заграбастать себе даже то, на что имеет право. А Вдовиченков – для чего грубо кидает Елену Андреевну на стол и раздвигает ей ноги? Иначе, другими средствами не передать, что он сильный и смелый человек? По-моему, эти довольно вульгарные режиссерские придумки дешево стоят. А вот глаза Маковецкого и Вдовиченкова в некоторых монологах – стоят дорого. В них есть искреннее, мощное чувство общего несчастья, общей горькой драмы русской жизни, где равны в несчастье и слабый, и сильный.
Очень бы хотелось посмотреть на этих актеров в менее патологической режиссуре.
А пьесы Чехова куда-нибудь зарыть в безопасное место лет на двадцать, потом отрыть и вновь прочесть. Может, тогда поймем, что там написано?Доктора не вызывали
Как наша культура подготовилась к стопятидесятилетнему юбилею А.П.Чехова?
Всякий юбилей – праздник призрачный, фантомный, однако если речь идет о гениальном писателе, властителе дум, он все-таки дает повод обществу предъявить некоторые умственные и культурные достижения.
К юбилею А.П. Чехова предъявлять нечего.
Начнем с того, что не было выпущено не только академического, но даже простого полного собрания сочинений Чехова. Если какой-нибудь юноша с кольцом в носу вдруг подсядет на творчество Чехова, ему придется по-прежнему рыскать в магазинах старой книги. Вряд ли он нападет на тридцатитомник полного собрания сочинений (издание 1974–1982 годов), это решительная редкость. Скорее всего, отыщется собрание сочинений 1962 года издания. Серенький двенадцатитомник этот, когда-то изданный тиражом 610 000 экземпляров, до сих пор утешает страждущих, и более мы ничего не имеем! Конечно, Чехов в магазинах есть – обычно в виде избранных рассказов, выпущенных тиражом не более 5000 экземпляров. Издательства можно понять, им жить надо, выпуская в свет не книги собственно, а раскупающийся «книжный продукт», – а вот государство понять нельзя.
Где государственные издательства?
Где государственные заказы на издания классики?
Где трудовые коллективы, которые могли бы тщательно подготовить такие издания?
У нас нет научной биографии Чехова. Не закончено издание летописи его жизни и творчества (остановились на 1894 годе). В магазинах стеной стоит всякая чушь вроде книги Д. Рейфилда. Предприимчивый англичанин этот сосчитал всех любовниц Антона Павловича, и всякий желающий может узнать, с кем юный Чехов лежал на сеновале в Таганроге.
Диву даешься, откуда подданный Ее Величества нарыл такие потрясающие сведения! Не иначе он, как булгаковский Воланд, может утверждать, будто «сам там был».
Но вот мне не интересно, с кем Чехов лежал на сеновале. Миллионы юношей лежат на сеновале, однако не становятся великими писателями. Мне вот интересно, как южанин из мещанской семьи, писавший с ошибками, стал известен всему читающему миру. Но об этом кто же станет рассказывать?
Пойдем далее. В юбилейные дни, когда есть повод показать лучшие экранизации Чехова, в телепрограмме не существует:
– грандиозной картины Сергея Бондарчука «Степь» (по одноименной повести Чехова);
– классических фильмов Иосифа Хейфица «В городе С.» (это «Ионыч») и «Плохой хороший человек» (это «Дуэль») с Далем и Высоцким;
– замечательной экранизации «Дяди Вани» А. Михалкова-Кончаловского с И. Смоктуновским в главной роли;
– чеховских лент Никиты Михалкова, «Неоконченной пьесы для механического пианино» и «Очей черных» (где виртуозно аранжированы мотивы рассказов и ранних драм Чехова);
– оригинальнейшей картины Киры Муратовой «Чеховские мотивы» (там задействованы рассказ «Тяжелые люди» и пьеса «Татьяна Репина»);
– выдающегося фильма Александра Сокурова «Камень» – о явлении призрака Чехова в Ялте, фильма, признанного, скажем, в Японии, бесспорным шедевром;
– экранизации рассказа «Поцелуй» Романом Балаяном (О. Янковский в главной роли)…
Я перечислила только самые громкие, самые звонкие имена режиссеров и актеров. Этот список значительно больше. Думаю, причина, по которой лучшие экранизации Чехова не показаны в его юбилейные дни, очевидна: это невежество и безграмотность в искусстве тех, кто составляет сетки вещания.
На всех каналах.
Эти люди, я уверена, просто не знают о существовании перечисленных фильмов и о том, что они имеют отношение к Чехову. Может быть, архитекторы вещания, проявив редкую для телевизионных профессионалов пытливость, кликнули поисковую систему и заглянули, скажем, в Википедию. Но там в разделе «экранизации Чехова» не упомянута даже «Степь» Бондарчука!
Господа, Интернет не является надежным источником информации!
Господа, на телеканалах надо иметь специалистов или хотя бы их иногда о чем-то спрашивать!
Чем телевидение встретит чеховский юбилей, мне понятно. Снята пара-тройка как бы документальных лент производства главной студии страны – «Мура-фильм». Там будут долго обсасывать обстоятельства смерти писателя и некие стилизованные тени будут изображать, что они Чехов и Книппер под флегматичный закадровый голос Сергея Чонишвили. Спасибо, уж этим накормили – суповой ложкой…
Даже лучших современных спектаклей по Чехову – а это «Дядя Ваня» Льва Додина в Малом драматическом театре и «Черный монах» и «Скрипка Ротшильда» Камы Гинкаса в Московском ТЮЗе, – и тех не покажут.
В это время в театральной Москве будет резвиться парад режиссерских самодурств под названием «Чеховский фестиваль». Парад кривлянья тех, для кого тексты Чехова уже давно стали несущественным поводом, удобной почвой для паразитирования.
Ведь режиссерский театр ХХ века начался с Чехова, с опытов Станиславского и Немировича-Данченко. Значит, всякий претендующий нынче на режиссерский трон считает своим долгом самоутвердиться именно на Чехове. До потери всякого смысла!
Да, вот где главная беда: личность и творчество Чехова несовместимы с нынешним обликом нашей культуры.
Чехов был предан идее о воспитании и самовоспитании людей, о творческом преображении жизни, о полной честности в самоотчете и отношениях между людьми. Он сам лично преобразил в цветущий сад два своих имения – в Мелихово и Ялте, финансировал постройку нескольких школ для мужицких детей, возился с десятками начинающих писателей. Кроме огромного ума у него была огромная совесть и неотвязная мысль, что нельзя, невозможно человеку жить просто так, спустя рукава, что под руку подвернется, нельзя восхищаться собой, врать себе и людям, осквернять землю и Божий замысел о человеке.
Ну и для чего все это разболтанному современному театру? Как нынешний актер, избегавшийся по дерьмовым сериалам, мечтающий только о деньгах, всерьез может произнести монолог доктора Астрова об истреблении лесов?
Слова Астрова явно заветные для Чехова. Они красивы, поэтичны, высоконапряженны. Именно поэтому почти все режиссеры на этом месте заставляют актеров выделываться и кривляться.
Не надо красоты! Не надо поэзии! Астров – алкоголик, пижон и придурок. Как все мы, колония нефтяных паразитов.
Как нам, падшим, грязным, развратным, понять героев Чехова? В пьесе «Иванов» главный герой погибает от того, что не может спасти родную землю, не может преобразить ее хаос и остановить падение. Он надорвался, взял на себя слишком много. «Земля моя глядит на меня как сирота», – говорит он. И как это играть? Вы когда-нибудь хоть кого-то похожего на этого Иванова видели? Вот в МХТ имени Чехова и придумали миленький прием: играют пьесу с конца, с момента самоубийства Иванова, а потом, так сказать, расследуют в детективном плане, как протекала предшествующая суициду жизнь.
В этом режиссерском ходе чувствуется сильное влияние Б. Акунина, который тоже ведь переписал «Чайку» сообразно канонам детектива. И ничего, смотрят. И покупают – «Чайка» Акунина продается куда лучше «Чайки» Чехова.
Все это – умственный разврат. Потеря всяких культурных ориентиров. Потеря – скажем как есть – совести.
Чехов, по его собственному признанию, не верил в интеллигенцию, он верил в «отдельных людей». Он так сильно, так могуче повлиял на современников, что этих «отдельных людей», буквально подражавших ему, были десятки тысяч.
Они есть и сейчас. Только их плохо видно за сверканием красных фонарей ополоумевшей, падшей «культуры». Которая только делает вид, что уважает «доктора Чехова».
Да нет, ей охота «гибнуть откровенно», она доктора не вызывала.
Впрочем, хоть бы и вызывала – к безнадежно больным зовут уже не доктора, а священника.Мачехи и золушки
Пятнадцатая по счету раздача «Золотых масок» вызвала в театральной России кроме естественного ликования награжденных ожесточенные споры.
Премия «Золотая маска» имеет некоторый авторитет, с этим не поспоришь. Ее хотят, ее ждут, на нее надеются, особенно в провинции. Тем не менее надо твердо понимать, что «Золотая маска» сформирована и поддерживается определенным театральным кланом со специфическими вкусами и манерой существования. (Не будем употреблять слово «мафия», всё-таки в театральном мире дело еще не дошло до отстрела конкурентов.)
От сотрудничества с «Маской» отказались по принципиальным соображениям многие театры Москвы – Малый театр, МХАТ имени Горького, театр «Современник», театр «Модернъ», «Школа современной пьесы» и другие коллективы. Каждый год присуждение «масок» удивляет стойкой смесью справедливости с произволом. Порок торжествует наряду с добродетелью, награды достаются действительным героям и тут же увенчивают пустоту, мнимость, бездарность.
Вот пример. «Золотую маску» за лучший оперный спектакль получил в этом году театр «Зазеркалье» из Петербурга за великолепную беспримерную работу – «Золушку» Россини. Всем лицам, которые грезят, что они режиссеры, следует посмотреть эту «Золушку» и многим поменять после этого неверно выбранную профессию. Режиссер Александр Петров сумел сочинить небывалое количество сценических решений, и не архаических, и не мнимо новаторских. Дух умного озорства и подлинного веселья переполняет этот удивительный спектакль, где все компоненты доведены до возможного сегодня совершенства. Это – реально лучшее, что есть нынче на многострадальной оперной сцене, где так редко торжествует настоящая ответственность таланта.
Но если «Золушка» из «Зазеркалья» признается лучшей постановкой, при чем бы тут был «Конек-Горбунок» из МХТ имени Чехова, названный лучшим мюзиклом? Переписанный братьями Пресняковыми «Конек-Горбунок» – не более чем капустник невысокого разбора, где зрителю угодливо подсунуты эстрадные репризы. Все эти суетливые забавы должны были бы испариться, если есть настоящие критерии оценки искусства. Ведь в жюри музыкального театра, насколько мне известно, были собраны профессионалы, не дилетанты. Возникает подозрение, что некоторые решения «Золотой маски» проистекают вовсе не от жюри. А откуда-то сбоку. Или сверху. Вдруг появляется некая «дополнительная маска» и падает на то, что хочет поощрить этот «бок» или «верх».
Начинаются какие-то вздохи о том, что-де надо помочь кому-то, кто «теперь в таком трудном положении». То есть награда, призванная отметить талант и труд, становится инструментом «помощи» и «поддержки» на основании чьих-то вздохов. Инструментом театральной политики хитроумно распределенных поощрений. Где рядом с настоящими талантами постоянно фигурируют друзья-приятели клана «Золотой маски». Не все они бездарны. Но как-то чрезмерно преданы суете и ужасно боятся «выпасть из моды», подобно выдающемуся взбивателю околотеатральной пены художнику Павлу Каплевичу («Маска» за лучшие костюмы).
Однако все-таки в области музыкального театра хоть какая-то тень справедливости иногда возникает. Кто бы поспорил, что Диана Вишнева действительно сегодня одна из лучших балерин. Многие из тех, кто дебютировал с ней в одно время, сникли, померкли, потеряли жар исканий. А она по-хорошему неугомонна. Да, на оперную или балетную сцену не может затесаться человек, вовсе не умеющий петь и танцевать. Пока что так! Не знаю, что будет через десять лет. А вот решения «Золотой маски» по части драматического искусства вызвали у многих чувство тягостного недоумения.
В этом году таинственные незнакомцы, желающие помочь обездоленным, решили поощрить бедную, несчастную Александринку. Основное несчастье Александринского театра состоит в том, что Валерий Фокин из режиссера превратился в менеджера, ориентированного на позапрошлогоднюю европейскую моду. Поэтому лучшая режиссура у нас теперь – это фокинская «Женитьба» Гоголя, та самая, где действующие лица катаются на коньках. Беда ведь не в том, что гоголевские персонажи катаются на коньках, а в том, что более о спектакле ничего сказать невозможно (если, конечно, вы не прикормленный Александринским театром театровед). Коньки – это голый, пустой режиссерский прием, штучка, фишка, трюк. Такая режиссура идет поверх автора, поверх актеров, поверх смысла и назначения драматического искусства. Я называю такие явления режиссерским самодурством, откровенным самоутверждением режиссера-узурпатора, присвоением не принадлежащих ему прав. Пьеса не раскрыта, индивидуальности актеров использованы механически, без любви и понимания. Это, конечно, мое мнение, но вот что интересно – я не встречала ни одного профессионала – ни режиссера, ни актера, – который бы всерьез восхищался этой «Женитьбой».
Но хорошо. Пусть кабинет главного режиссера Александринского театра сплошь устилают «золотые маски». Действительно, в таком несчастье, как ослабление таланта и потеря профессионального авторитета, человека надо постоянно утешать. Я о другом. О некотором классовом расслоении в театре.
Конечно, так было всегда, но сейчас как-то особенно стало видно – в театре рядом друг с другом живут «мачехи» и «золушки».
Одни терпеливо и вдохновенно работают, редко-редко получая доброе слово и лишь мечтая о балах. Другие тешат пустое тщеславие и изо всех сил «ловят знаки высочайшего внимания». Связи у них такие, что сам король позавидует!
Но хочу вам напомнить золотые слова Евгения Шварца, которыми кончается его «Золушка»: «Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце – справедливым…»Одноразовое кино
Мы уже привыкли, что каждый сериал выходит под фанфары и трубы, обещающие нам грандиозное событие. И всё-таки наивность лицемерия, с которым фильм «Исаев» притыкали к «Семнадцати мгновениям весны», изумляет. «Юность Штирлица»! «Молодой Штирлиц»! Нет, извините.
Красивый деревянный молодой человек, марионетка Чека, никаким образом не может быть молодым Штирлицем. У меня нет никаких претензий к пикантному разрезу глаз, отличной лепке скул и шикарной улыбке актера Даниила Страхова. Но в нем нет и следа внутренней жизни, скрытой энергии, глубоких реакций, движения мысли – короче, той дивной личности, которую создал Вячеслав Тихонов. Этот Исаев служит советской власти как сомнамбула в шляпе. Маловато ума, личности скуповато! А нет увлекательного героя – нет и приключенческого фильма. И по этой, и по множеству других причин сериал «Исаев», как мне кажется, точно такое же одноразовое кино, как почти все фильмы и сериалы последних десяти-пятнадцати лет.
Одноразовое кино – это кино, которое можно смотреть только один раз. Которое не будешь вспоминать, пересматривать, цитировать. В нем нет чего-то, какого-то таинственного вещества, из-за которого фильм можно смотреть еще и еще.
Что это за вещество такое? Художественная ценность? Да вот как раз и нет! Как говорится, великие люди – это одно, а близкие люди – совсем другое. Любимые фильмы, выученные наизусть, как правило, вовсе не входят в список признанных и увенчанных, никакими наградами международных фестивалей не отмечены и критиками в свое время не разобраны и не воспеты. Когда они выходили на экраны, на них и внимания особого не обращали – на «Холмса», к примеру, несколько лет не было никаких рецензий. У этих картин есть одно свойство: их можно смотреть много раз. Вот включил телевизор, попал на кадры «Бриллиантовой руки», «Места встречи», «Покровских ворот», «Семнадцати мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Шерлока Холмса», «Служебного романа» и т. д. И всё, прилип как миленький! Сам не зная, почему.
Я назвала бы это свойство долгоиграющим обаянием. Фильмы долгоиграющего обаяния – это никем не изученный феномен. Его признают «постфактум», когда уже всё с картиной понятно. Тем не менее кое-что можно предположить.
Да, фильмы долгоиграющего обаяния основаны на базовых ценностях, они говорят о главном: любви, дружбе, борьбе со злом, родине, семье… Они занимательны, но в меру, без искусственных вывертов сюжета. Обязателен юмор (сколько иронии и остроумных афоризмов в «Семнадцати мгновениях», которые по жанру вовсе не комедия!). В них есть выдающегося обаяния герой, а то и несколько. Яркая, запоминающаяся музыка…
Всё так, но и еще что-то есть иррациональное. Какая-то сумма психических излучений, попавших на пленку и создавших великую иллюзию внутреннего мира фильма, жара его жизни! Вот как будто эта картина живет сама по себе и без нас, а мы на нее только иногда смотрим.
А в новом фильме Сергея Урсуляка таких излучений нет. Урсуляк взял хороших актеров, поручил аранжировать музыку Таривердиева, придумал сцены в Советской России делать черно-белыми, а за границей – цветными. (Чтоб было сразу понятно, где жизнь, а где, как говорится, житие…) И вот бежит сюжет про алчных тарантулов всех наций, волокущих бриллианты туда-сюда, а счастья нет. Где тут «наши», собственно говоря? Кого любить? Кем восхищаться? За кого переживать? Разве что за грустного М. Пореченкова, который на этот раз оказался графом Воронцовым и в этом качестве вызвал у меня приступ материнской нежности (опять мучают актера!)…
Ничего страшного, разумеется, не произошло. Посмотрели и забыли. Завтра раздадутся новые трубы и фанфары, возвещающие появление нового одноразового кино. Только не надо всуе поминать великого Штирлица. Ведь в фильмах долгоиграющего обаяния режиссеры любили и обожали своих героев. И эти фильмы бурлят от творческой энергии. Режиссер же «Исаева», сдается мне, героя не полюбил. И ничего поэтому там не бурлит.
При всем своем могуществе телевидение не Господь, чтоб посылать вдохновение по заказу.Трагедия на Фонтанке
Премьерой спектакля «Дон Карлос» Ф. Шиллера Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) завершил празднование своего девяностолетия.
Именно трагедией Шиллера «Дон Карлос» и открылся в 1919 году Большой драматический. Надо полагать, новый революционный зритель был в пламенном восторге, увидев на сцене коварный испанский двор короля Филиппа и услышав зажигательные речи маркиза Позы. Тогда, как помните, народ вообще пребывал в патологическом энтузиазме, чего не скажешь о нынешней, порядком сомлевшей от реформ театральной публике. Тем не менее четыре с половиной часа она пыталась понять, чего хотят все эти довольно красиво одетые (прямо из Веласкеса) фигуры и чем они могут быть нам сегодня интересны.
Среди зрителей, собравшихся на юбилейный вечер БДТ, мелькали главные режиссеры петербургских театров и видные театроведы. БДТ по-прежнему считается идущим в фарватере, так сказать, ведущим крейсером, и неудачи театра решительно никого не радуют в городе, привыкшем его любить или по крайней мере почитать.
Однако этот сезон Большого драматического удачным не назовешь. Обострились все хронические болезни театра: недостаток энергии, разлаженный ансамбль актеров, робкая, бескрылая режиссура. «Дона Карлоса» актеры буквально еле-еле доиграли. Казалось, они сами не понимают цели затеянного предприятия.
«Дон Карлос» – третья постановка Шиллера нынешним главным режиссером БДТ Т. Чхеидзе. В 1990 году он выпустил блестящий спектакль «Коварство и любовь», три года назад – интересную «Марию Стюарт». Но, как известно, в театре нет рецептов счастья. «Дон Карлос», сверкнувший в 1919 году, не состоялся в 2009-м. Несмотря на то что пьесу играют в новом переводе Е. Шварц, новые смыслы или не возникли, или не дошли до зрителя из-за крайней архаичности формы спектакля. Это было скорее чтение в лицах, чем театральное действие.
Об эпохе, когда Испания владычествовала в Европе, зритель осведомлен мало, и значительное количество сил уходит на то, чтобы разобраться в родственных отношениях действующих лиц и политической обстановке многовековой давности. Намечается интрига: дон Карлос, сын короля Филиппа, влюблен в свою мачеху Елизавету Валуа. Его враги хотят погубить сына в глазах отца, его друг Поза хочет спасти Карлоса, отправив юношу возглавлять мятеж во Фландрии, но путается в собственных расчетах и гибнет сам. Только какой-то исключительной верой в предлагаемые обстоятельства и заразительной страстностью актеры могли бы спасти этот крайне далекий от современного зрителя сюжет. Но этого нет. Интересный брюнет И. Ботвин (Карлос) как неприкаянный бродит по сцене, декламируя текст. Король Филипп (В. Ивченко) распадается на ряд ничем не связанных между собой образов – то он бешеный ревнивец, то тиран, то искатель правды, то просто усталый чиновник. Маркиз Поза (В. Дегтярь), видимо, живет такой сложной душевной жизнью, что зритель до конца не может понять, молодец он или гадина. Елизавета (И. Патракова) – натуральная блондинка, и более сказать ничего не могу. (Надо заметить, в нынешней труппе БДТ состоят на службе несколько чудесных молодых красавиц, натуральных блондинок, что радует глаз, но не душу – душа все-таки просит встречи с актерским талантом.) Разве что Г. Богачев (Великий инквизитор) сыграл старого циника-идеолога с фарсовой остротой, легко и смешно, однако этот персонаж появляется лишь в конце постановки, и до этого еще надо дожить.
Все артисты, занятые в спектакле, конечно, могли бы сыграть иначе – осмысленно, ярко, если бы знали, что и зачем они сегодня играют. Но на сцену не проникало ни лучика живой жизни – как будто зритель посетил некий музей, где выставлен муляж театра в натуральную величину.
По окончании спектакля была показана нарезка из документальных фильмов о прошлом театра на Фонтанке, а затем на сцену вышла труппа, и среди них – старейшины, остатки товстоноговского БДТ: Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, Людмила Макарова, Олег Басилашвили, Лев Неведомский, Георгий Штиль… Их хватило всего-то на один ряд стульев. Это золотой запас театра, но он неминуемо тает, а потому говорить сегодня о сохранении традиций БДТ – бесполезно.
Никаких традиций не сохранить без живой энергии. Это необходимое условие бытия театра в принципе. Нет энергии – нет театра. Георгий Товстоногов умел добывать сценическую энергию из косной материи, и его умения достало на четверть века, но и у него она стала заканчиваться в начале 80-х годов. Уже тогда, при Товстоногове, театр стал впадать в сонное музейное состояние, из которого время от времени ему удавалось выходить. Но такие спектакли, как «Дон Карлос», могут исчерпать энергетический запас театра.
Нужны срочные меры – новая драматургия, новые актерские и режиссерские имена, может быть, новые формы существования. Повторяю, неудачи БДТ никого не радуют, у театра нет врагов – но сплошь встревоженные и опечаленные друзья.Куликова мистика
В рамках Третьей Московской международной бьеннале современного искусства в ЦУМе открылась… открылся… открылось нечто под названием «Пространственная литургия № 3». Автор и одновременно куратор проекта – знаменитый актуальный художник Олег Кулик, «человек-собака».
Идите смело! Дерзкий художник в этот раз не сидит голый на цепи у входа и не кусает зевак за ноги и выше, как это было однажды в истории «современного искусства». Тогда Кулик своим отчаянным жестом протестовал против иллюзорного положения художника в мире потребления. Теперь протест сменился глубокими размышлениями об этом положении. Для этого нашлось идеальное пространство – ЦУМ.
Из-за своей ценовой политики ЦУМ давно стал чем-то вроде музея современного искусства. Здесь царит воистину философский покой, и редкие посетители ничего и никогда не покупают. На первом этаже им предлагают понюхать бумажные полоски, пропитанные туалетной водой за тысячу баксов, и, впав в медитацию, они едут на пустых эскалаторах, разглядывая приветливые группы манекенов, элегантно позирующих продавцов и образцы инопланетной одежды, развешенные по оттенкам цвета. К четвертому этажу я добралась в отличном расположении духа, которое только возросло, когда я обнаружила себя единственным посетителем «Пространственной литургии № 3».
Литургия занимает пространство примерно в 4000 квадратных метров – увертюра на четвертом этаже, основное действие на чердаке. Сначала я шла оранжево-желтыми от подсветки коридорами, сделанными из полупрозрачной материи, изредка обнаруживая предметы – то картонное дерево, то три кресла, то черные стены, расписанные фигурами светящихся человечков. Затем вышла в огромный черный зал, где звучала космическая музыка, а на стене колыхалась тень маленькой куклы, подвешенной на игрушечном летательном аппарате. Здесь меня ждало пространное объяснение Олега Кулика на двух языках.
«Этот проект, – гласит текст, – медитация на сакральные смыслы современного московского искусства 1960–2000 годов. Под сакральностью в данном случае подразумевается как эстетическая значимость художественного высказывания, так и его мистический, магический, эзотерический или религиозный накал».
Что называется, «свой уголок я убрала цветами»! Сразу все сладкие слова современного шарлатанства по имени «актуальное искусство» вывалил человек – сакральный, магический, эзотерический… Я уж было приготовила лицо к насмешливой улыбке и отправилась смотреть основное действие литургии, и тут…
Художник победил. Он оказался прав. В его «Пространственной литургии № 3» действительно есть всё, что обещано было в меню. Мистический магический акт между мною и зрелищем состоялся на высшем уровне сакральности – ибо я поняла, что сказал Кулик о «современном искусстве» 1960–2000 годов.
Когда я поднялась на эскалаторе, на чердаке меня встретил тревожно гудящий лабиринт из зеркальной пленки. На нем метались светло-серые тени, занятые странными, иногда малопристойными делами. Олег Кулик как-то хитро обработал видео и киносъемки многочисленных актуальных перформансов за прошедшие сорок лет, переведя их в негатив и лишив всех подробностей жизни. Эти изображения транслируются на стены зеркального лабиринта (изнутри, так что зритель проекторов не видит, видит только тени). Среди этих теней прошлого есть и сам Кулик в виде собаки, только лишенный, как и все, иллюзии объема, ставший и сам белесой тенью на стене. При этом действия этих теней бесконечно повторяются, они, как заколдованные, делают одно и то же! Такая жуткая дурная вечность. Ни прошлого, ни будущего – одно и то же, одно и то же. Абсолютно верная формула «современного искусства», которое не меняется полвека, продавая одни и те же заплесневелые «фокусы», одну и ту же гордую позицию «а я художник, значит, что хочу, то и делаю»…
И вот я шла по лабиринту, где вовсю прыгали, кривлялись, бросали буквы, рисовали, складывались в группы и разбегались, что-то шептали и кричали световые силуэты… Боже! На что ушла и уходит жизнь этих людей! – думала я в мистическом трепете. – Ведь это ад, ад для деятелей современного искусства. Вот куда отправляют демоны-кураторы своих подопечных, «современных художников», вместе со всеми их инсталляциями и перформансами! Это воистину литургия – литургия заблудших, предавших изобразительное искусство ради облапошивания богатых дурачков, ради извлечения денег из невежества или ради дурного самовыражения и славы на пустом месте…
Радикальное высказывание Олега Кулика вызвало большое раздражение у самих героев «современного искусства». Как-то совершенно некстати он напомнил им о бренности и бессмысленности их занятий. Вообще предал свой круг, свой, можно сказать, класс! Кураторы и художники не могли возразить Кулику по существу и стали смутно шипеть про «ожидания, которые не оправдались». Не могли же они признать, что Кулик лихо и талантливо отправил все «современное искусство» в заслуженный ад – уж не знаю, сознательно или бессознательно.
Когда я уходила, в лабиринт осторожно заглянули еще две посетительницы. Заходите, заходите, друзья. Минут пятнадцать можно провести с удовольствием. Если вас не пробьет мистическая магия и сакральная эзотерика, так полюбуетесь на оригинальную технику – которую, по-моему, вполне можно пару раз применить в театре. Молодец Кулик! Но после такого комментария к истории «современного искусства» как будет художник этим иллюзорным делом впоследствии заниматься? Зная, что ему уготован им же изображенный ад? Как хотите, тут назрела драма с настоящим героем. Я обещаю следить за ней.Лаура и ее продавцы
Оказывается, Владимир Набоков написал новый роман. «Лаура и ее оригинал». Стоит как бестселлер во всех книжных магазинах, вышел многотысячными тиражами.
Как, тот самый Набоков, классик, автор «Лолиты» и «Дара»? Он же вроде бы давно умер.
Ну подумаешь, умер – это что, повод романов не писать? Аксенов вот целых два романа написал после смерти, и оба чудесно продаются. Обсуждать качество написанного никому и в голову не придет. Хватит уж, поиздевались, господа, при жизни – а тут придется благоговейно помолчать.
«Лаура и ее оригинал» издана в двух вариантах. Первый вариант представляет из себя том устрашающих размеров в глянцевой черной суперобложке – но это отнюдь не текст романа. Это фотокопии 138 каталожных карточек, на которых Набоков писал карандашом черновик своей книги (по-английски). Поклонники гения могут зимними вечерами всего за 660 рублей трепетно созерцать рукописный подлинник, видимо, с целью просветления разума, изнемогшего от массовой культуры.
Второй вариант – это переведенный текст черновика, составляющий около 80 страничек, с предисловием сына писателя, Дмитрия Набокова, и послесловием переводчика Геннадия Барабтарло. Со всей этой требухой набралось на маленькую книжечку карманного формата ценою подешевле (230 р.).
То есть в чистом виде печатать было решительно нечего. Фрагменты черновика никак не тянули на полноценную книгу. Тогда и была задумана роскошная коммерческая операция, которую ее изобретатели выдали за событие культуры.
Суть дела вот в чем.
Владимир Набоков, привыкший, как все изгнанные из России аристократы, к непрестанному труду, до конца жизни работал – писал на своих карточках новую книгу. Он по-прежнему владел удивительной литературной техникой, но к концу 70-х годов исчерпал все свои излюбленные темы. Набоков стал писать нечто вроде пародии на самого себя с изысканной до издевательства над читателем игрой мотивов и каламбурами на трех языках. Таковы его поздние романы «Бледный огонь» и «Смотри на арлекинов!». Таковы же и фрагменты последнего романа.
В них нет и следа новизны, художественных открытий. Молчаливая развратница Флора, влюбленный художник, пишущий о ней роман «Лаура», старый уродливый муж этой самой Флоры, читающий роман о своей жене и мечтающий уничтожить самого себя мысленно, – все это перепевы прежнего творчества писателя.
«Для первого раза она сдалась несколько неожиданно, чтобы не сказать обескураживающе. Вымолчка – легкие ласки – скрытое смущенье – наигранно-веселое удивленье – предварительное созерцание. Она была щупла до невероятности. Ребра проступали. Выдававшиеся вертлюги бедренных мослов обрамляли впалый живот, до того уплощенный, что его и животом нельзя было назвать…» Что ж, хотя бы понятно – женская плоть внушала автору некоторый интерес. По нынешним временам это литературная редкость. Хотя и мутит как-то от «вымолчек» и «вертлюг» с «мослами», но это, разумеется, причуды перевода.
Перед смертью Владимир Набоков просит семью сжечь незаконченный роман – он привык появляться перед читателем исключительно в полном литературном параде. А не в виде набросков и фрагментов.
Последняя, предсмертная воля! Как можно осмелиться ее не исполнить?
А вы поставьте себя на место наследников. Уходит из жизни кормилец, и, как сложатся дела в будущем, неизвестно. То, что Набокова станут издавать на всех языках мира десятки лет, повально экранизировать и ставить на сцене, еще никому неведомо. А у вас в руках драгоценные карточки, исписанные его почерком, последний роман, клад! Как не положить его, так сказать, на всякий пожарный, в несгораемый сейф?
Так и поступила практичная вдова писателя. И вот настал момент, когда сын открыл несгораемый сейф, вынул клад, и наша «Лаура» прекрасненько поступила в продажу.
Отличить по стилю предисловие, сам текст и послесловие довольно трудно. И Набоков-младший, и переводчик пишут, одинаково подражая позднему Набокову, то есть выспренне и темно. Надменно сохраняя некоторые приметы дореволюционной орфографии («шоффер», «разсказ»). Я даже подумала было, что нет в природе никакого «Барабтарло», а это маска Дмитрия Набокова. Впрочем, лукавлю: конечно, продавцы «Лауры» пишут куда хуже оригинала. Пожалуйста, полюбуйтесь на перлы переводчика: «В предисловиях к изданным “Азбукой” в моем переводе “Пнину” и “Истинной жизни Себастьяна Найта” я пытался объяснить единственную в своем роде трудность перевода английских книг русского писателя Набокова на русский в том отчаянном положении, в котором некогда родной его язык оказался в некогда родной его стране».
Одна фраза – и употреблено шесть предлогов «в». А еще он нас будет учить, как писать на русском языке! Если бы у книги был грамотный редактор, эта фраза звучала бы так: «Трудность перевода английских книг русского писателя Набокова на русский объясняется, по моему мнению, отчаянным положением его родного языка в родной стране». Всё остальное – ненужный да еще и высокомерно-претенциозный мусор… Но благодаря этому мусору удалось хоть как-то раздуть объем книги!
Что ж, можно поздравить издательство «Азбука» с удачной коммерцией. Особенно изящно получилось сэкономить на художнике – «Лауру и ее оригинал» украшает фрагмент «Весны» Сандро Боттичелли, о чем, правда, в выходных данных, да и вообще нигде, не сообщено. И это понятно: мало того что Боттичелли покинул нас куда раньше Владимира Набокова, у него не осталось никаких предприимчивых наследников, которые наложили бы загребущую лапу на творения мастера. Так что можно его и вовсе не упоминать – вот оно, тихое счастье книгоиздателя.
Поехали к цыганам!
По доброй воле, томимая любопытством, заглянула я на днях в цыганский театр «Ромэн», что на Ленинградском проспекте. Это особенное место. Театральных критиков там не бывает…
Этим вечером в театре «Ромэн» (под руководством народного артиста СССР Н. Сличенко) давали пьесу И. Ром-Лебедева «Плясунья – дочь шатров». Я уже давно собиралась взглянуть на эту самую «Плясунью» – что, думаю, в сотый раз смотреть, как наши самодуры над «Гамлетом» или «Дядей Ваней» издеваются. Поеду лучше к цыганам! Как любит говорить Роман Виктюк, «вдруг пойдешь – а там счастье».
Счастья, конечно, там не было. Но время я провела со вкусом.
Билет во второй ряд стоил 800 рублей, но люди (по преимуществу женщины среднего и старшего возраста), конечно, покупали за 200, а потом пересаживались поближе. Были также курсанты и небольшие группы приезжей молодежи. А вот чего не было – так это признаков нашего времени. Ни в здании сталинского ампира, где расположен театр, ни в пьесе, где речь шла о барине, возжелавшем поселить у себя плясунью-цыганку, ни в существовании актеров на сцене, да нигде вообще!
И действительно, а на что нам наше время, если мы поехали к цыганам? От цыган мы ждем только одного. Я бы условно назвала это явление «айнанэ». Это совершенно загадочная штука.
Если вы заметили, воздействие цыганского пения и танцев основано не столько на мастерстве, сколько на особенной магии. Движения цыганского танца не столь уж разнообразны – это не изысканная символика танца индийского, не фантастическое буйство испанского фламенко. И в песнях трогает не вокальная изощренность, а особенный звук, подача его. Раскачивание длинных серег, взвихренные юбки, мелькание рук, страстная экспрессия, степной полет дикого, необработанного голоса – всё это вместе дает нам магический соблазн, дает нам обожаемое «айнанэ».
Под воздействием «айнанэ» русские буквально теряют голову – кидают «лебедей в оркестр», женятся на цыганках, уходят приживалами в табор. «Айнанэ» – это экстатическое состояние абсолютного праздника, которого русские сами достичь не могут. Поэтому они ищут заветное «айнанэ» где только можно, в том числе и в театре «Ромэн».
Было «айнанэ» в этот вечер на «Плясунье – дочери шатров»? Было. Но мало! Было, когда в первом действии вышел цыганский хор праздновать свадьбу Марфуши и Ефимки, было во втором действии, когда на сцене появилась Е. Жемчужная и прекрасно спела три классические песни. Но ведь «Ромэн» – не цыганский ансамбль, а цыганский театр, поэтому, чтобы заслужить небольшую порцию «айнанэ», здесь приходится выдерживать изрядные этапы сценического действия.
Вот это, конечно, слабое звено «Ромэн».
Не было у цыган своего Островского и Чехова. Об их жизни писали русские авторы. Поэтому в репертуаре театра появляются обработки классических текстов, где фигурируют цыгане (Лев Толстой, Лесков), или пьесы авторов, так или иначе варьирующих те же мотивы. А русские сочинили, в общем, один мотив – как барин полюбил цыганку (почему-то не наоборот, нет такого, чтоб цыган полюбил дворянку или барыня – цыгана).
Вот и «Плясунья – дочь шатров» из этой серии. Барину понадобилась плясунья, потому что цыгане в моде. Злобный управляющий отнял Марфу у Ефима, и Марфа страдает в усадьбе. Она пытается убежать, но увязает в болоте и приходит в беспамятство. Тут со скрежетом заработала дымомашина, которая, видимо, живет в «Ромэн» с 70-х годов, и в клубах едкого дыма плясунье стал грезиться любимый Ефим. Но враги оклеветали его, и Ефима отправляют на каторгу. Марфа бежит за ним, звучит выстрел… и она, сначала несколько упав, потом приподнимается и смотрит в небо. «Журавли летят…» – улыбается отважная цыганка, и мы понимаем, что гордая дочь шатров хоть и погибла, но не сдалась.
Эту архаичную нелепую мелодрамку, где действия набирается едва-едва на полтора часа, разыгрывают вполне симпатичные актеры. С плясуньей мне не очень повезло (корпулентная актриса танцевала без блеска), но что касается барина – Г. Жемчужного или темпераментного Ефима – Р. Грохольского, то они примерно соответствовали стандартам Малого театра 70-х годов. Но с примесью самодеятельной инфантильности. Играть-то, в сущности, нечего – все лица пьесы нарисованы одной краской. Но только лишь заиграет музыка, поведут плечами цыганочки, вскинут голову цыгане – и ветром вольных полей сдувает с артистов вялость, беспомощный текст, старомодную преувеличенность вскриков и смеха. И начинается страсть, горе, веселье, отчаяние, и всё это вместе, и пахнет как будто степными травами, и краденые кони ржут, и луна как бледный одинокий убийца светит в черном небе – словом, «айнанэ»!
А потом – опять наивная фальшь второсортной цыганской «драмы»…
Что-то явно забуксовало в идее цыганского театра, забуксовало – и остановилось в развитии. Быть ли «Ромэн» просто театром? Но зачем? Театров, даже сугубо архаического толка, у нас в избытке. Превращаться в цыганский ансамбль, нацеленный только на «айнанэ»? Но и в ансамблях недостатка нет. По-моему, театр «Ромэн» – это ценность, несомненная ценность, но нуждающаяся в реформах.
Ставить детские слабенькие пьесы, где зритель терпеливо пережидает вялые диалоги ради возлюбленного «айнанэ», – значит окончательно превратиться в какой-то курьез, недорогой советский антиквариат, смешную экзотику. Думаю, «Ромэн» можно было бы обратить в центр цыганского творчества и чередовать в афише честные, откровенные концерты с поисками сочетания «айнанэ» с драматическим действием. Только не перекладывать туда-сюда в тысячный раз одни и те же штампы про богатого барина и бедную цыганку. Если энергично и с умом подойти к делу да еще суметь грамотно «раскрутить» и подать этот театр публике – да на Ленинградском проспекте будет столпотворение!Забавно как всегда
Вышла новая книга Виктора Пелевина под названием «П5» – «Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана».
Странно было бы ждать от Пелевина сочных описаний природы и человека, глубокого психологизма или стилистических красот. Как говорят французы, «самая лучшая девушка не может дать больше того, что у нее есть». Писатель давно разработал собственное пространство, где главные темы наперед известны – приключения человеческого сознания, сатирические трактовки современной политики и нехорошие чудеса, которые творят с людьми деньги. Пять рассказов, которые собраны в новую книгу, – это пять сеансов забавной и привычной игры Пелевина с читателем.
Если В. Сорокин фатально встревожен Кремлем и не может отвести от его обитателей свой завороженный взор, Пелевина не интересуют современные политики сами по себе. Ему интересны манипуляции, которые используют колдуны-политтехнологи, чтобы внедрить политиков в жизнь. Мишени его сатиры из рассказа «Некромент» – геополитик «Дупин» и политтехнологи «Пушистый» и «Гетман». Это они так заморочили несчастного генерала ГАИ Крушина, что он стал добавлять в «лежачего полицейского» пепел реальных, замученных изувером постовых милиционеров. А в повести «Зал поющих кариатид» такие же гниды заманивают бедных девушек в подземелье, где оборудован суперкомплекс миражей для олигархов.
Девушкам, работающим кариатидами в малахитовом зале, вкалывают экстракт из насекомого по имени богомол. Теперь они могут стоять неподвижно часами. Но вместе с тем они ощущают богомола в себе – или себя в богомоле. Поэтому девушка Лена, вступив в ментальный контакт с божественным насекомым, поступает как самка богомола, то есть отрывает голову олигарху, ее возжелавшему. Таким образом, противоядие от черных технологий политических колдунов таит в себе сама природа-мать. Только ее решения будут куда более жуткими, чем идиотские грезы самодовольных болтунов.
А в рассказе «Пространство Фридмана» описывается уникальный эксперимент по выяснению того, как крупные суммы денег трансформируют сознание человека. Ученый профессор считает: «Простая параллель с теорией черных дыр позволяет видеть, что должна существовать сумма денег, обладание которой приведет к подобию гравитационного коллапса, ограниченного рамками одного сознания. По аналогии с радиусом Шварцшильда, при достижении которого происходит образование черной дыры, назовем эту сумму порогом Шварцмана… Расчеты показывают, что после пересечения этого порога никакой реальной информации о внутренней жизни сверхбогатого субъекта получить уже нельзя…» Участники эксперимента – «баблонавты» – пускаются в путь, снабженные растущим счетом и датчиками информации, но ничего выяснить так и не удается! Впрочем, читатель и сам может пуститься в подобные изыскания – «баблонавтика» наука молодая и на территории РФ, несомненно, прогрессирующая.
Фантастический элемент присутствует во всех рассказах Пелевина, но это не каприз писателя, а необходимый инструмент воздаяния. А как иначе наказать или поощрить? Поэтому разболтанных и ни во что не верующих современных людей хитроумный фокусник отправляет во времена фараонов строить пирамиду – так сказать, на трудотерапию («Кормление крокодила Куфу»). Реалистическими средствами с ними не справишься…
Хотя рассказы из «П5» не обладают большой художественной силой, они весомо подтверждают существование уникальной личности В. Пелевина. Ведь этот писатель известен нам только из своих произведений. Он не сидит с видом судной жабы в телевизионных конкурсах для обезумевших от тщеславия и алчности масс. Не вещает глупости в ток-шоу. Даже интервью не дает. А ведь мог бы при такой-то популярности стать телевизионным кошмаром номер один, и пустота, о которой Пелевин знает столь много, одарила бы его всеми своими пустыми дарами. Со своим игривым умом Пелевин в состоянии и высмеянных им политколдунов оттеснить от кремлевской кормушки запросто. Но нет, назвался писателем – пиши! И Пелевин честно пишет примерно одну книгу в год, притом очевидно пишет ее сам. Характер!
Что касается «политических пигмеев Пиндостана» и «технологий боевого НЛП» (нейролингвистического программирования), которые якобы применены в книге, то все это попытки шутить, когда на душе не слишком весело.
«Патриотизм и любовь к России в русской душе живы и часто просыпаются, но сразу обваливаются в пустоту, поскольку становится ясно, что их уже ни к чему не приложить – это как попытка поцеловать Марию-Антуанетту после того, как силы прогресса отрубили ей голову…» – замечает писатель.
Какие уж тут пигмеи и НЛП. Честная русская грусть.Пелевина терзают демоны
Если книга вышла тиражом более 100 000, шансы на то, что ее писал один человек, а не бригада, стремятся к нулю. Подавляющее большинство современных раскрученных писателей – это бренды, литературная фабрика. Не сдается один гордый Пелевин! Однако, судя по его новому роману «Т», демоны подступают всё ближе…
Виктор Пелевин выпускает примерно по одной книге в год – это много для лично творящего писателя, но смехотворно для коммерции. «Акунин» и «Донцова» по три-четыре штуки мечут на прилавок! Ясно, что маркетологи давно замучили писателя предложениями взять в помощь литсотрудников.
Нет, нет! – отвечал наш герой. И тут, по моим предположениям, его и пронзила страшная мысль, которая затем легла в основу романа «Т».
С чего это мы взяли, что мир создал единоличный Господь Бог? Может, когда-то так и было, когда книги писались авторами. Но нынешний дурной и халтурный мир – не сочинен ли он подлой бригадой демонов-халтурщиков, давно подменивших подлинного автора?
Герой романа, граф Т., – фантом, снабженный некоторыми чертами графа Льва Толстого. Он ввязывается в различные приключения по дороге в Оптину пустынь. С ним вступает в диалог некий демон Ариэль Брахман, открывающий графу глаза на действительное положение вещей: текст, в котором существует граф, есть коллективное творчество разных демонов. Один, Митенька, пишет эротические сцены. Другой, Гриша Овнюк, – боевые. Третий, Гоша Пиворылов, отвечает за бредовые видения героя. Четвертый – метафизик, кропает внутренние монологи… И все потому, что когда-то под историю Льва Толстого, стремящегося в Оптину пустынь, дали нажористый кредит и его надо хоть как-то отбить… А Бог в этом мире – просто бренд на обложке. «Хорошо раскрученный бренд. Но текст пишут все окрестные бесы, кому только не лень».
Узнав о подлой сущности мироустройства, герой начинает бунтовать. Он мечется по разным фантасмагорическим пространствам, отыскивает друга – засевшего в адском Петербурге Федора Достоевского, отстреливающего мертвые души. Но одолеть демонов герою, запертому внутри текста, невмочь! Только он решит, что действует сам, – тут же появляются циничные халтурщики, распоряжающиеся его судьбой. Для них славные имена прошлого – источник коммерции. «Главная культурная технология двадцать первого века, – объясняет Ариэль, – чтоб вы знали, это коммерческое освоение чужой могилы. Раньше думали, одни чекисты от динозавров наследство получили. А потом культурная общественность тоже нашла, куда трубу впендюрить. Так что сейчас всех покойничков впрягли!»
Пелевин, конечно, знает о реальности. Вот, к примеру, как он прелестно обмолвился об экономическом кризисе: «В этот раз даже объяснять ничего не стали. Раньше в таких случаях хотя бы мировую войну устраивали из уважения к публике. А теперь вообще никакой подтанцовки. Просто женщина-теледиктор в синем жакете объявила тихим голосом, что с завтрашнего дня все будет плохо…» Однако реальность так отвратительна писателю, что он с явным аппетитом кидается в описание миражных злоключений своего героя. Громоздит горы интеллектуального бреда, из-под которых с блеском выбирается. Роман мчится со скоростью лихой компьютерной игры, рассыпается на сны и сны внутри снов, чтоб иногда затормозить в глубокой грусти. Грусти благородного героя, вынужденного жить по указке мерзких демонов… «Да вы хоть представляете себе, – говорит граф Т., – какая это мука – знать и помнить, что ты живешь, страдаешь, мучаешься с той единственно целью, чтобы выводок темных гнид мог заработать себе денег?»
Это хороший вопрос! Это вопрос, который русские люди задают себе не первый день. И очевидно, этот же вопрос задает себе сам писатель. Судя по его новой книге, он вообще перестал выходить из дома. Но даже на скромный образ жизни, на зеленый чай с Интернетом и компьютерными играми надо как-то зарабатывать. Приходится писать толстые романы, хотя Пелевин явно тяготеет к малой форме, к рассказам. А тут еще маркетологи со своими советами – ах, да возьмите в помощь литсотрудников, по три книги в год можно лудить с вашим-то именем… Писатель рассвирепел. И заклеймил демонов в особо игровой форме. И мы теперь можем быть уверены, что Пелевин, как бы там ни было, безумствует сам, один, лично! Молодец!
Что до критики человеческого ума и постоянных заявлений об иллюзорности сознания, то эта сторона творчества Виктора Пелевина меня всегда впечатляла мало. Как сказал добрый немец Томас Манн, «грозила ли когда-нибудь человечеству хоть малейшая опасность погибнуть от избытка разума?»Распад киносоюза
В 1991 году распался Советский Союз. В 2009 году на грани распада оказалась самая крошечная, но и самая амбициозная «республика» бывшего СССР – Союз кинематографистов России.
Не знаю, каким образом будет оформлен этот распад, на какие части расколется Союз кинематографистов, но в своем нынешнем виде он нежизнеспособен.
Его раздирают противоречия, скандалы и склоки, и это тут же становится известно и обсуждаемо в обществе. Чуть что – кинематографисты пишут письма «наверх», что-то требуют, на что-то жалуются. У двух президентов, Ельцина и Путина, скопился за годы их правления, наверное, целый шкафчик с письмами кинематографистов. Теперь шкафчик придется заводить и Д. Медведеву. На днях видные деятели кино накатали президенту «телегу» на Н.С. Михалкова. Не могут мастера искусств разобраться между собой – желательно вмешательство высшей власти! В других краях земли дела обстоят как-то иначе. Не слышно, чтобы Мартин Скорсезе написал кляузу в Белый дом на Френсиса Форда Копполу…
Хотя все население «республики кино» составляет около четырех тысяч человек, шума несоразмерно много. Я бы даже сказала острее: шум, производимый кинематографистами, несоразмерен их вкладу в современную отечественную культуру. Есть известный актерский афоризм: «Пить не по таланту». Вот и кинематографисты «шумят не по реальной своей ценности». Тратя немалые государственные деньги, чего лишены многие работники искусств (что тратят писатели или музыканты?), кинематографисты в целом не обеспечивают общество качественной продукцией. Трудятся одиночки! Не снял в этом году Сокуров, Михалков или Звягинцев кино – и на престижные фестивали ехать не с чем. Не поднапрягся Балабанов или Тодоровский – и рецензии писать не про что. Посмотрите на список лучших фильмов 2008 года, сформированный академией «Золотого орла», – по-моему, это не список, а позор.
За исключением «Бумажного солдата» в нем вообще нет ни одной по-настоящему художественной картины. Унылое депрессивное «Дикое поле» почему-то дико нравится критикам, наверное, благодаря завываниям про то, что Россия – это отстой и молодым людям здесь не жизнь. В списке «лучшего» нет ни одного действительно важного, нужного, волнующего фильма. Эти картины можно преспокойно не смотреть – вы ничего не потеряете.
Не обеспечивая общество полноценной продукцией, кинематографисты, однако, без устали производят «информационные поводы», связанные с личностью своего председателя, Н. Михалкова.
18–19 декабря прошлого года состоялся съезд кинематографистов, призванный избрать новое руководство и собранный по принципу делегирования. Считалось, что все регионы проведут собрания, выберут делегатов на съезд и оформят соответствующие протоколы.
Н. Михалкова в делегаты съезда не выбрали. Протоколы как следует не оформили. Естественно, встал вопрос о законности съезда и нового руководства союза. В Минюсте новое руководство Союза кинематографистов вследствие безграмотности протоколов не утверждают, а Н. Михалков взывает к сообществу с идеей созыва чрезвычайного съезда. Где вот все и решится наконец!
Позвольте сказать свое мнение.
Во-первых, о законности прошлого съезда. В моей семье двое членов Союза кинематографистов – я и муж (Шолохов С.Л.). Ни меня, ни мужа никто в Петербурге, где мы живем и числимся в списках, не извещал о том, что будет собрание, на котором станут избирать делегатов на съезд. Никто на это собрание не приглашал. Когда было это собрание и было ли оно вообще, нам неизвестно. Более того, некоторые члены петербургской делегации, смущенно посмеиваясь, говорили мне, что и они ни на каком собрании не были. Как? А так, по телефону сказали: ты, парень, выбран делегатом, поезжай в Москву.
Тысячу извинений, господа, но о какой законности прошедшего съезда может идти речь? Если список такой организации, как петербургская, был сформирован неизвестными лицами по неизвестному принципу? Впрочем, о принципе я как раз догадываюсь. Видимо, пропуском на съезд была активная нелюбовь к Михалкову, чем я лично похвастаться не в силах. Многие мои друзья пытались за эти годы излечить меня от пагубного пристрастия к Михалкову и привить здоровое чувство к его недругам, к критику Матизену и драматургу Финну, но – увы! увы! – режьте на куски меня – не могу! не могу!
Во-вторых, о будущем чрезвычайном съезде. Напрасно Михалков надеется, что на нем все решится. Ясно, что будет та же занудная бессмысленная трепка нервов. Опять кинематографисты будут сладострастно позориться на всю страну. Если уж даже личность Михалкова не соединяет кинематографистов, а раскалывает и разводит по разным лагерям, то кто их может объединить? Не Михаил же Пореченков, милейший артист с хорошим мужским обаянием, но ничего не значащий в глазах старшего поколения кинематографистов. У Пореченкова еще нет никакого весомого авторитета, чтоб вести за собой людей. И нервы оказались слабоваты: на декабрьском съезде кричал от обид, как раненая птица. Вряд ли его выберут даже на чрезвычайном съезде.
Ненависть части кинематографистов к Михалкову носит исключительно страстный характер. Лично на меня он не производит впечатления расхитителя общественной собственности. Но хорошо, если Михалков что-то расхитил – пусть, конечно, отвечает по всей строгости закона. Однако для чего столько криков, оскорблений, писем «наверх»? Какая может быть, в сущности, польза от союза людей, ничем не скрепленных, никаким общим делом, и только позорящих себя на всю страну взаимной руганью?
Объясните мне, зачем, с какой целью удерживать вместе тех, кто от ненависти и презрения друг к другу теряет разум? Что они могут вместе сделать? Кинематографическое сообщество фактически уже раскололось. Этот раскол теперь надо оформить по закону. Так в свое время раскололся Московский художественный театр (по фигуре лидера).
Лучше всего было бы нынешнему Союзу кинематографистов разойтись на два разных сообщества, развестись насовсем и разделить имущество. Поручив этот раздел, разумеется, государству, а не кому-то из враждующих сторон.Честно и благородно
Идите и смотрите
Люди часто спрашивают меня в некоторой растерянности, что хорошего можно посмотреть в современном театре? После «Вассы Железновой» в МХАТе имени Горького я могу наконец дать уверенный ответ: смотрите Доронину, Татьяну Доронину.
«Вассу Железнову» Максима Горького, добротный спектакль режиссера Бориса Щедрина, играют нечасто, но пропустить эту работу нельзя. Актрис масштаба Татьяны Дорониной, воплощающих живую полувековую историю русского театра и притом оставшихся в полной силе, единицы. Она создала образ такой глубины и красоты, что я не в состоянии понять, кто же в тот год, когда вышел спектакль, получал всякие «золотые маски» за лучшую женскую роль. Какое-то странное поле умолчания и недомолвок окружает МХАТ Горького, для части театральной Москвы он словно выпал из своего времени – а между тем никаких справедливых оснований для этого нет. Эстетический консерватизм театра со временем приобрел даже некоторую ценность, а что касается Дорониной – то она ее и не теряла никогда. Возможно, в том, как она руководит театром, есть свои изъяны (а что, где-то есть какие-то идеальные театры, где их нет?), но как актриса она – «изумруд яхонтовый», особенно в хороших режиссерских руках. Татьяна Доронина не демонстрирует себя, выпрашивая аплодисменты под капитал прошлых заслуг, а самоотверженно, неистово работает на сцене. Каждое мгновение ее существования на сцене наполнено душевным волнением, сложной внутренней жизнью.
Более тридцати лет сижу я в зрительных залах, и уж, кажется, ничем меня не удивишь, а вот Доронина – поразила. Даже не красотой игры, которая удивительна на сегодняшний день, когда актрисы нелепо двигаются, визжат, кривляются и эти неаппетитные корчи называют современным стилем. (Что это за стиль, когда к визжащей актрисе хочется вызвать лечащего врача?) Конечно, Доронина доставляет наслаждение мелодичностью незабываемого голоса, изяществом движений, но поразила она меня прежде всего мощью сыгранной темы.
Героиня пьесы Горького Васса Железнова, владелица пароходной компании и мать нездорового, деградирующего семейства, изо всех сил, любыми средствами старается удержать власть над своим пространством. Для автора она – и привлекательная своей силой, и отталкивающая своим аморализмом героиня обреченного класса русских «хозяев».
Но в аморальность Вассы-Дорониной поверить невозможно, это всё пустые слова, ярлыки. Перед зрителями разворачивается другая история – трагическая история оскорбленной, ожесточившейся женской души. Великой души, способной на великие дела и вынужденной погрязнуть в мелком выродившемся мире, который спихнули на ее плечи пьяные развратные мужчины.
Васса Дорониной величава, монументально красива, царственно благородна. Но душа ее снедаема постоянной тревогой, неутихающей обидой и болью. В семье, где каждый беспечно щебечет о чем-то своем, маленьком, ей приходится думать обо всех, связывать разорванное, поправлять испорченное, налаживать расстроенное, и это было всегда, и все уверены, что так и будет всегда. Нет, не будет – перед нами последняя попытка великой женщины спасти падающий мир.
Мы не покинем пределов уютной гостиной в доме Железновой, обставленной художником В. Серебровским с маниакальной тщательностью. Но что бы ни делала Васса-Доронина – заводит ли она граммофон, пьет ли чай, отмыкает заветный сейф, журит дочерей, спорит с невесткой, – над бытом встает драма ее непоправимого несчастья. Всё распадается! Как принц Гамлет хотел связать разорванную связь времен, так Васса Дорониной хочет спасти жизнь семьи, за которую она отвечает перед Богом. Она – точно воплощение страстной и обиженной русской души, когда-то сильной и прекрасной, а теперь надломленной, раненой, отягченной ужасными бедами.
Доронина вылепила вполне конкретный узнаваемый характер. Когда Васса возвращается домой после того, как дала взятку чиновникам, и горестно открывает сумку со словами: «Семьсот рублей!» – зритель улыбается в радости узнавания: наша женщина. Тысячи замотанных хозяек-начальниц каждый день приходят домой с такими вздохами. Но сквозь характер, как это часто бывает у Дорониной, идут горячие волны огромной мощи. Что бы она ни делала на сцене, она передает страданья и радости души. Это абсолютно иррациональная актриса. Железная, преступная капиталистка Горького полностью растворена, утоплена в жарких стихиях ее могучего излучения. Женщина обижена, женщина несчастна, женщина пыталась спасти гнилой мир и надорвалась, обрушилась, упала! – вот что играет Доронина, и такую высоту сегодня на театральной сцене мало кто может взять…
А потому не читайте вы ерунды и не глядите всякий вздор, а идите и смотрите на великих актрис, на Алису Фрейндлих, на Татьяну Доронину, не откладывайте, пока они еще с нами.Любимец
Любимец публики, избранник богов Муслим Магомаев умер, ничем не омрачив свой великолепный сценический образ. Он сам был из победителей и пел о победителях – на эстраде нового времени ему решительно не было места. Разве что где-то в уголке на правах бывшей «суперстар». А Муслим Магомаев был не «суперстар», а натуральная сверхзвезда.
Удивительная это была страна – СССР. В ней области неумения, брака, халтуры перемежались со сферами, где брак был минимален, а халтура исключена, вроде космоса или эстрады. На советской сцене не могло появиться безголосого певца. Певцы зачастую пели фантастические по жуткому пафосу советские песни, но они пели их хорошими голосами. Однако даже на высоком профессиональном фоне советской эстрады Магомаев стал исключением, феноменом, лучшим из лучших.
Немыслимая, по-восточному сладострастная красота и невероятный «полетный» голос, сокрушительное и строго мужское притом обаяние, блистательный артистизм, очевидная широта крупной, щедрой натуры – все гармонично сочеталось в этом человеке и сулило столь же щедрую, блистательную, красивую судьбу.
И она отчасти сбылась. Магомаев создал целый творческий мир на основе многих замечательных песен отечественных композиторов. Всегда был любим и счастлив в браке. Даже сплетни о нем были какие-то незлобные, без грязи, даже развратная пресса новых времен не знала, к чему бы прицепиться. Импозантный, величественный и при этом явно добродушный, Магомаев всегда держался с удивительным достоинством и спокойствием замаскированного Гарун-Аль-Рашида, разгуливающего по Багдаду… Но беда наша в том, что не умеем мы связывать времена, живем какими-то рывками, скачками, один сон жизни сменяет другой, старые миры рушатся «до основания, а затем», деды чужды отцам, а песни отцов смешны детям. Вот американский коллега Магомаева певец Том Джонс – и сорок лет назад был Том Джонс, и двадцать, и поныне он Том Джонс, действующий певец со своей аудиторией и нормальной концертной жизнью. А у нас уже через десять лет работы певец часто выглядит как «тень забытых предков» и считается ретро. Между тем долгая творческая жизнь не только нормальна для работника искусства, но еще и служит верным залогом связи времен, созидания широкого общего пространства богатой культуры. Культуры, которая живет в том числе и богатой общей памятью, и общими переживаниями, а не одной лишь сменой моды.
Магомаев не стал вписываться в новый поворот, где ему грозила участь стать символом самого себя и собирать элегические залы желающих вспомнить о былом. Это тоже по-своему неплохо, но как-то, наверное, не по росту ему бы пришлось. Он, как помните, высокого роста был человек. Двести лет назад Магомаев дружил бы с королями, но выпали ему загадочные генеральные да первые секретари. Он, бывало, напрягал божественный голос в искусственном металлическом пафосе торжественных советских гимнов, но сквозь наслоения времени всегда слышался отзвук вечности.
Как песня Орфея, доносящаяся из ада.Блестящий
26 сентября народному артисту СССР великолепному Олегу Валерьяновичу Басилашвили исполняется 75 лет. Из них ровно полвека он провел на сцене Большого драматического театра (Ленинград – Санкт-Петербург).
У меня было три любимых роли Басилашвили на сцене классического, эпохи Товстоногова, БДТ: надменный, всепонимающий «король-солнце» в «Мольере» Булгакова, фантастический проходимец Джингль в «Пиквикском клубе» Диккенса и несчастный прожигатель жизни князь Серпуховской в знаменитой «Истории лошади» по Л. Толстому.
Эти роли были изумительно, филигранно отделаны и показывали немалый диапазон актера. Смешнее этого Джингля я вообще мало что видела на сцене. И лучшего короля видеть не приходилось. И такого потрясающего рассказа о напрасной, пустой жизни, как это получилось у Басилашвили в роли князя, тоже не встречала. Французы с их обожанием блеска формы носили бы такого актера на руках всю жизнь. Правда, мы тоже в общем не подкачали в этом смысле…
Но при всей признанной величине актерского диапазона вы согласитесь – не представить нам Олега Басилашвили в русской избушке.
Ну, разве барин зашел к мужику молока попить…
В любой роли проглядывает в нем тонкость породы, щегольство ума. Им невольно любуешься, даже когда актер вне образа просто так появляется в какой-нибудь телепередаче. Изящно демонстрируя, что интеллигент – это не какой-то там вялый, безвольный, сомнительный типчик. Интеллигент – это может быть и звучать красиво, гордо, обворожительно!
Всем известно, что за глаза Олега Басилашвили называют «Басик», и если кому-то чудится тут ласковое кошачье имя «Барсик», то случайно ли? В нашем большом русском «доме культуры» есть актеры-иконы, на которых молятся, есть актеры-картины, которыми любуются, есть актеры-мебель: кто-то должен ведь и просто надежно служить… А Басилашвили вполне можно в шутку представить как актера-кота, всеобщего любимца, которым восхищаются даже тогда, когда он вроде бы «ничего не делает», изысканно-лениво шевеля лапами.
А ловит ли он мышей?
Еще как ловит! Молодое поколение зрителей, незнакомых с высшими достижениями труппы Большого драматического, узнало Басилашвили по фильму Бортко «Мастер и Маргарита», где он сыграл Воланда. И даже самая злобная и безграмотная часть этих зрителей увлеклась четким и остроумным образом, который изваял актер. Ему удалось передать глубочайшую иронию древнего мудрого существа, его холодность, насмешливость и легонькое любопытство к людишкам. Красиво очерченное лицо с правильными чертами было «никакого возраста», и это, надо заметить, весьма характерно для Басилашвили.
У него своеобразные отношения со временем. Умильного гоголевского помещика Манилова в классическом телеспектакле «Мертвые души» он сыграл сорок лет назад и уже тогда казался солидным мастером, а было-то ему всего едва за тридцать. А сейчас, когда Басилашвили выпадают роли ветхих старичков (в спектаклях БДТ «Дядюшкин сон», «Квартет»), прекрасно видно, что у актера нет психофизики старости, и ее приходится изображать, наигрывать – высмеивать. Сколько на самом деле лет этой ясной и умной актерской душе, непонятно.
Вообще, если невероятным усилием воли отвлечься от чар, которые излучает Басилашвили, то приходит в голову, что это очень странный актер.
При такой красоте трудно назвать его героем-любовником, ничего страстно-романтического он не играл. «Осенний марафон», говорите? Но стоит внимательно всмотреться в усталые и виноватые глаза героя, как возникают большие сомнения в том, испытывает ли он любовные чувства. В «Вокзале для двоих» речь тоже идет не о страсти, а о том, как несчастный человек находит себе верное любящее сердце. Эта картина, кстати, отлепила от Басилашвили ярлычок интеллигентного негодяя, которому сам Рязанов же и способствовал («О бедном гусаре…», «Служебный роман»). Впрочем, всех своих негодяев Басилашвили играл столь же прелестно и элегантно, сколь прелестно и элегантно он играл душевных заблудших интеллигентов – может быть, потому, что ни в ком из своих персонажей артист не растворялся полностью. В каждом, что называется, торчали уши: актерская усмешка, привет зрителю с экрана – дескать, ты не очень-то мне доверяй, я тут шалю-озорничаю…
Он слишком умен и рассудителен, чтоб растворяться в персонажах. Ему присуща любовь к гармонии и особая «осенняя прохлада» натуры, а потому наилучшим образом Олег Басилашвили чувствует себя в интеллектуальной комедии. И здесь кроме признанных удач у Данелии и Рязанова я бы обратила ваше внимание на целый ряд образов, созданных Басилашвили в остроумных гротескных фильмах Карена Шахназарова – «Город Зеро», «Сны», «Яды, или Всемирная история отравлений». Здесь актер показал великолепное умение с удовольствием, щегольски существовать в самых невероятных обстоятельствах и с точностью фармацевта дозировать насмешку!
Вот чего нет совсем в Олеге Басилашвили, так это духа тяжести. Его блестящая артистическая легкость совсем не от легкомыслия – этого нет и в помине. Басилашвили – образованный, умный человек, серьезный и ответственный гражданин. В Петербурге знают, как непримиримо актер относится к уничтожению исторического центра города и сколько высокопоставленных врагов он себе этим нажил. Нет, легкость, которая сопровождает его творчество, – сродни полету стрекозы или бегу ручья. Эту божественную легкость излучает творение, которое получилось, вышло удачно и в хорошую минутку.
В такую хорошую, удачную минутку, видимо, Создатель задумал Басилашвили, и он – получился. И эту веселую, радостную легкость удачного творения ничто не вытравило из натуры актера! Зритель по-прежнему рефлекторно улыбается, завидев его на сцене и экране. Любуется. Любит, даже когда ворчит придирчиво, что-де «Басик сегодня разленился…».
Поздравляя Олега Басилашвили с юбилеем, выскажу два пожелания: во-первых, очень бы хотелось увидеть актера в новой комедийной роли. А во-вторых, тревожит отсутствие большой полноценной книги о нем. Несправедливо!Молодец
24 мая поэту Иосифу Бродскому, лауреату Нобелевской премии по литературе, исполнилось бы 70 лет. Череда юбилейных фильмов о поэте на короткое время вернула телевидению забытый образ – образ профессионально умного человека.
Иосиф Бродский прожил две жизни или, можно так выразиться, сыграл две роли.
Роль гениального русского поэта и роль блестящего американского интеллектуала. Обе роли он сыграл великолепно, потому что был разнообразно талантлив, умен и вменяем. А это редкость среди русских поэтов.
Холодная, хрустальная чистота его жизни поразительна. Человек не совершил ну ни единой глупости в жизни! Не ввязывался в политику, не примазывался к власти, не увлекался никакими людоедскими философиями, не боролся с Богом, не бегал на дуэли из-за ничтожных баб, не пил запоями. Женился – и то с умом.
Полный молодец!
Единственное, что удручает, – это то, что после четырех инфарктов, имея маленькую дочь, Бродский продолжал отчаянно курить. Но это прискорбное небрежение здоровьем – одна из плачевных привычек молодости. В 60-е годы в литературной среде было принято убивать себя с размахом и дружными компаниями.
Мне приходилось встречать мнения, что Иосиф Бродский, при всей гениальности, не был по-человечески привлекателен, отпугивал высокомерием и эгоцентризмом. Думаю, тут все-таки оптическая ошибка – холодные эгоцентрики не получают четыре инфаркта. Скорее всего, гордая повадка Бродского – охранительный панцирь для огромного и богатого внутреннего мира. В конце концов, Божий дар слова надо уметь защищать, и Бродский сумел его защитить.
В юбилейные дни много говорилось о судебном процессе над Бродским («дело о тунеядстве»), о его высылке в Архангельскую область, о фактическом выдворении с Родины. Однако справедливым будет напомнить о сотнях людей, которые Бродскому помогали. Скажем, адвокатом Бродского на пресловутом процессе была знаменитый ленинградский юрист Зоя Топорова (мать известного ныне литературного критика Виктора Топорова). Возможно, благодаря и ее усилиям приговор суда отличался некоторой мягкостью – все ж таки не тюрьма, а вольное поселение. Можно сказать, дракон сонно зевнул, а мог и выжечь огнем.
И какой счастливый ветер надул кому-то в советскую крышу, что отщепенцев вроде Бродского следует отправлять за границу! Он понимал, что жизнь его как русского поэта на этом, в общем, заканчивается. «Кажется, я оставил на Родине свою музу», – пошутил он как-то с грустным изяществом. И умно и достойно вписался в новую ситуацию. Он стал производить не стихи, а суждения – меткие, острые, элегантные.
В Россию он не вернулся, несмотря на усиленные приглашения. Особо коварный план возвращения Бродского умирать именно на Васильевский остров разработал в свое время мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой. По их проекту, поэт должен был поселиться в резиденции на Каменном острове, под легкой ненавязчивой охраной. Но у нашего молодца хватило ума и вкуса не связываться с этой шайкой и не марать себя поселением в хоромах бывших палачей.
Памятник поэту, о котором талдычили в Санкт-Петербурге много лет, разумеется, к юбилею не появился. Да и не появится. Хотя городу Ленинграду вернули историческое название, правит им по-прежнему ленинградский обком партии. Чуть что не в полном составе. Или, во всяком случае, трудно отличить эти физиономии от прежних.
Какой там еще Бродский? Начальникам наконец-то разрешили грабить население без реверансов, по-простому. Тут явно не до памятника знаменитому пожилому еврею, проживавшему до отъезда на ПМЖ за границу по адресу Литейный, 24 .
Дом на Литейном давно пошел трещинами из-за уплотнительной застройки рядом. А многочисленные конкурсы на памятник Бродскому успешно завершились чем-то – наверное, денежной премией авторам.
Честно говоря, перечитывая стихи и эссе Иосифа Бродского, я по-прежнему не понимаю, как он здесь оказался и сумел вырасти. Ведь сила дарованного ему слова почти равна библейской. Что ж, хорошо, наверное, чего-то не понимать и надеяться, что чудо такого дара может опять повториться.
Жизнь Бродского производит отрадное впечатление – и недаром прах его лежит на самом красивом кладбище на свете, на острове Сан-Микеле (Венеция). Это значительная, полезная жизнь. Судьба же многих умных людей в России такого отрадного впечатления не производит. Что ж, не всем так везет, как «рыжему Иосифу».Ветеран молодости
1 июня на 78-м году жизни умер Андрей Вознесенский.
Известие о смерти Вознесенского поступило днем, а уже вечером все главные телеканалы показали фильмы о нем – перемонтировали снятые к 75-летнему юбилею, дело привычное. Радио, Интернет – все мигом отбарабанили про «великого поэта» и «уходящую эпоху» с несколько пугающей готовностью. «Барабан был плох, барабанщик – бог». Разве что один гордый обозреватель «Радио Свободы» счел нужным поведать миру, что Вознесенский не является его любимым поэтом. Ну, на то она и «Свобода», чтобы сообщать нам, несчастным, томящимся в застенках диктатуры, бесконечно ценную информацию.
Как многие истинные жизнелюбы, Вознесенский долго и трудно расставался с жизнью. Еще несколько лет назад Андрей Андреевич был завсегдатаем светской Москвы – в светлых пиджачках, с непременным шарфиком на шее, как будто всегда в приподнятом настроении, доброжелательный и словно немного растерянный. Он старательно вслушивался и всматривался в новую жизнь, вечно готовый отозваться, двинуться навстречу, поймать чье-то милое лицо, заинтересованный взгляд. Он вообще не менялся.
Молодость Вознесенского совпала с чудесным миражом, который выпадает не каждому поколению – с иллюзией молодости вновь зарождающегося мира. Этот новый мир родился в конце 50-х и погиб в диких мучениях примерно к середине 70-х. В нем жили на равных правах космос физиков и Господь верующих, идеалы обновленного социализма и обольстительные прелести «зарубежа», восхищение технологиями и страстная вера в «волшебную силу искусства». Невероятную кашу в головах молодых инженеров-строителей нового мира пронизывала торжествующая музыка слова, и слово это было вручено нескольким людям.
Момент полного совпадения с публикой длился у Вознесенского не год и не два, так что памяти об этом хватило надолго – и ему, и публике. Его неопределенный пафос, жадность к впечатлениям от внешнего мира, пламенная наивность в описании любовных переживаний, страсть к развинчиванию и свинчиванию словесных конструкций – все идеально совпадало с душевной волной, идущей от советских мальчиков 60-х годов. Особенно тех, что корпели в бесчисленных НИИ и КБ. Им тоже до всего было дело, они хотели причастности к сердцу времени, они ощущали себя гражданами мира, и сочинение монологов от имени несчастной Мэрилин Монро (есть такой стих у Вознесенского) не казалось им праздной забавой. Расщеплявшие атом одобряли расщепление слов, «вознесенские» эксперименты над материей языка. А театральность поэзии Вознесенского пришлась впору сразу двум большим режиссерам – Юрию Любимову и Марку Захарову. Эта не-комнатная, не-тихая поэзия была нужна именно потому, что своим шумом и блеском стремилась очертить контуры большого мира, превозмочь русскую затерянность, русское уклонение от столбовых дорог цивилизации.
Так-то оно так, однако в памяти всплывает из Вознесенского что-то совсем не шумное, не парадное. «Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены?» Великий мираж 60-х, развеянный над русской равниной, остался сиять причудливым, осколочным светом в тех людях, которые его создавали и воспевали.
Они остались девочками и мальчиками, очень ненадежно укрытыми их стареющими лицами. В ходе жизни, правда, кое-что выяснилось четко и определенно – например, что несомненной и огромной ценностью для человека является не хроническое душевно-любовное смятение, а преданная жена. Фантасмагорическая «Оза» Вознесенского оказалась, слава Богу, надежной и верной женщиной, Зоей Богуславской. Она и провела поэта за руку через меняющиеся времена. А испытание миража «нового мира» на прочность было, как водится, по-русски беспощадным: потрескался пафос, пожелтели призывные плакаты, устарела языковая смелость и яростное хватание мира за хвост. Куда-то в рекордные сроки исчез космос – космос как мечта и надежда. Померкли идеи социального обновления, чтоб еще раз вспыхнуть на прощание в середине 80-х, совсем уж прощальным фейерверком. И что осталось поэту?
Остались простые чистые звуки. Наивная, любящая душа. Трогательная нелепая надежда уж совсем непонятно на что. Смутная вера. Друзья. Деревянный домик в Переделкине. Воображаемое море вдали и кораблик по имени «Авось»…
«Ты меня на рассвете разбудишь, провожать необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь».
Нет нужды над гробом поэта непременно выяснять с точностью до карата ценность его поэзии. Куда спешить? Всё выяснится само собой, уверяю вас.
Наше дело – попрощаться с человеком и поблагодарить его за компанию.Артист в чистом виде
14 октября исполнилось 75 лет народному артисту России Михаилу Михайловичу Козакову. Наши поздравления!
Михаил Козаков мне бесконечно симпатичен – не только своими многочисленными талантами, великолепным артистизмом и огромной любовью к русской литературе, но и неподражаемой, просто фантастической безалаберностью.
Он какой-то чемпион по неумению «набирать вес»: делать карьеру, обвешиваться наградами и важничать напоказ. (Это тем более забавно, что Козаков из-за своей экзотической фактуры сыграл немало циников и карьеристов-подлецов!)
Полвека в театре. Работал с лучшими – с Охлопковым, с Ефремовым, с Эфросом. В оглушительной славе театра «Современник» – его немалая заслуга. Первые же шаги в кино – и «Убийство на улице Данте», «Человек-амфибия». Классик искусства телевизионного фильма (было такое искусство!) – «Безымянная звезда», «Покровские ворота», «Визит дамы»… Десятки сольных поэтических программ, несколько автобиографических книг, да что говорить – это подозрительно красивое лицо с детства знают миллионы людей. Аристократию у нас в свое время извели, а неистребимая потребность в элитарном типе людей осталась, так что Козаков – это в некотором роде наш граф. Или барон?
Но все, что есть у Михаила Козакова, – это чистая, трудом заработанная слава. Никаких поместий, рент или высочайше пожалованных орденов. И сам он – артист в чистом виде, без примесей. И вся жизнь его – бегство от застоя, от регламента и рутины, от накатанных дорожек. Даже в Израиль метнулся! Наверное, чтоб понять всю правоту того горемыки из анекдота, который после раздумий, куда ехать, попросил другой глобус.
Выходил бы сейчас себе преспокойно на сцену какого-нибудь мертвого академического театра и величаво пережидал положенные ему овации – так нет. Где Михаил Михайлович? А где-нибудь в поезде, едет читать Пушкина и Бродского на Волгу или в Сибирь, где еще остались образованные люди…
Мне как зрителю Козаков доставил тысячи «сладостных секунд» (помните шутку из «Покровских ворот»?). Умный скептик Джек Берден в одном из первых советских телефильмов «Вся королевская рать», Адуев-старший в «Обыкновенной истории», все роли у Эфроса и так далее – смотрела по многу раз, знала наизусть. Козаков – в высшей мере гибкий артист, способный и на крутой фарс, и на тонкую игру нюансов, его природа подвижна, она вмиг загорается и кипит от настоящей творческой задачи. И Шекспира, и легкокрылый водевиль он играет с идеальным чувством стиля, и его образованность вовсе не помеха темпераменту. Актерский ум ведь не в занудстве и тяжеловесных рассуждениях состоит. Актерский ум – это способность так размять и «расщелкать» роль, что она начинает сверкать сотнями скрытых блесток. Это Козаков умеет!
Когда он занялся режиссурой, то, как мне кажется, перенес на актеров всю собственную жажду режиссерской любви. Козаков буквально купал своих артистов в обожании и внимании, и они в его картинах удивительно счастливые, забалованные, свободные и радостные. Вспомните уникальный ансамбль «Покровских ворот». Многие актеры сыграли в этом фильме свои лучшие роли, а ведь чудесные ритмы их существования – лихие, звонкие, словно взрывающиеся, как фейерверк, – это ритмы души Козакова.
Праздничной, легкой, веселой души, которая пытается хоть как-то заглушить, преодолеть ужасную грусть жизни. Отсюда – хроническая козаковская ирония, скептические умные глаза, которые все равно вечно способны надеяться и увлекаться. Нет, никакой спасительной – отвратительной солидности не нажил Михаил Козаков и, пока в силах двигаться, всегда готов побежать куда-то за обещанием радости и призраком счастья.
Но что бы такое ему сыграть сейчас? Гамлета он сыграл полвека назад, Шейлока и короля Лира совсем недавно – остался из шекспировского репертуара разве что мудрец-волшебник Просперо из «Бури».
Тот самый, что сказал: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны. И сном окружена вся наша маленькая жизнь…»
За ваше здоровье, Михаил Михайлович!Старушка не спеша
(кабаре Людмилы Петрушевской? что такое – кабаре Людмилы Петрушевской? вот вы не знаете, а я знаю!)
Вот привязалось… Напеваю про себя целыми днями.
Старушка не спеша
Дорожку перешла.
Ее остановил патруль ги-бэ-дэ-дэ…
А чуть примолкнет это, другое что вылезет, смешное, милое…
Блю-блю-блю-канаре,
Гру-гру-грустная канарейка.
Да и ладно. Пусть эти маленькие музыкальные вирусы бегают в голове и вытесняют другие, тупые, агрессивные, явно вредные. Попадают ведь, черти, ничего не сделаешь, какой-нибудь «ммм-данон» или «просто ты мне нравишься просто» из рекламы засядет в башку и ну губить ценную информацию.
А «старушка не спеша» – это совсем другое.
Я вспоминаю и улыбаюсь. Это поет Людмила Петрушевская. Она вам не старушка. Она вам… Бог весть что такое.
Какой-то неприлично, немыслимо, непозволительно талантливый человек. Женщина, которая умудрилась посмотреть со стороны на женскую природу и долю, владея чуть не всеми известными формами словесности – драматургией, поэзией, рассказом. Причем обнаружила их тайное родство «по музыке», которая, конечно, жанров и форм не разбирает, раз уж зазвучала. Петрушевскую читают дети и, скажем, те же старушки одномоментно, и не потому, что она такая ловчила и оборотень слова, – ну что делать, такой вот идеальный слух на слово. И на понимание мира. Что детям можно говорить, а что взрослые вынесут – знает распрекрасно.
Многие ее вещи я перечитывала по многу раз – «Время ночь», «Черное пальто», «Новый Гулливер», «Бифем», другие рассказы и пьесы. Удивительная история: в Петрушевской совпали предельно аналитический взгляд на современную ей жизнь (уже четырех десятилетий) и легкий, светлый, искристый дух сочинительства. Она умеет и видеть то, что есть, и выдумывать то, чего не было и быть не может.
Настоящая работница – а вид легкомысленный: чистый эльф. Типа Дюймовочка, выбившаяся (за каким-то чертом) в люди. Что-то сказочное есть во всем облике Людмилы Петрушевской, вечно детское и женственное, но не бабье. Удивленными голубыми глазами она смотрит на «житейскую мреть» и вроде бы там, внутри, со всеми корчится, ан нет: вот и взлетела, вот и, отряхивая поруганные перышки, опять запела о чем-то своем.
Боже, какой глупый, жирный, тяжелый вздор о ней, бывало, писали раньше эти мужские Тарантулы, грезившие, что они литературные критики или там патриоты.
Один начирикал: мрачный, злобный, беспросветный мир Петрушевской заставляет пожалеть несчастного автора, который во всем видит грязь. Он имел в виду пьесы Людмилы Петрушевской 70-х годов – «Любовь», «Чинзано», «Лестничная клетка», «Три девушки в голубом».
Это мы понимаем – как сидели эти совписы за пишмашинкой, а вокруг на цыпочках бродили жёны и шептали: «Тише! Папа работает!». Им, конечно, было сподручнее видеть светлое будущее и светлое настоящее, пока жена терла полы и варганила борщи.
А вот пришел человек ОТТУДА, где бабы убирают грязь, из женской России, и написал, как ТАМ живут – замученные, замороченные женские рабы, которые еще, оказывается, должны всё это любить и прозревать повсюду свет.
В конце концов, так и есть – свет никуда не делся, и даже только там, может быть, он и был и есть, в смиренной женской России. Только он, свет, обретается с муками, на тяжелой дороге, а не имитируется с помощью демагогии, ведь так? Что ж, наша героиня и шла по дороге – много писала, троих детей вырастила, стала рисовать – замечательно, а теперь запела.
Выходит на сцену с музыкантами и поет. Я видела концерт в двух отделениях, каждое по часу с лишним. В перерывах между песнями читает свои стишата. Мелодии старинные, знаменитые – а тексты Петрушевская написала к ним свои, «петрушевские». Так что у нас теперь есть «петрушевская» «Лили Марлен», «петрушевская» «Маржолена», «петрушевские» «Разноцветные кибитки»… Мы стали куда богаче!
– А скажите, Людмила Стефановна, зачем человек поёт?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Зачем человек поёт… Так. Расскажу одну историю. У меня есть подруга Марина Разбежкина, известный кинорежиссер. Тут она мне говорит: все, иду на Нобеля, сделала открытие! Она жила на острове Свияжск, посреди Волги, там когда-то был монастырь, а при советской власти с монастырем сделали понятно что. Интернат для психохроников. Марина жила там многие годы и фильмы снимала об этих несчастных людях. Однажды она шла по этому острову и услышала из канализационного люка стон и хрипение, заглянула и увидела электрика, который туда упал. Ну, видимо, не обошлось без того, без чего люди не могут на этом острове… Марина организовала помощь, доставили электрика в больницу, у него был инсульт, отягченный переломом чего-то в черепе, он был овощ. Она поехала его навещать, сидела, пыталась там чем-то его поить, потом пришла медсестра и стала довольно в грубой форме ее выпроваживать. Вдруг этот овощ открыл рот, и полился чистый русский мат, хорошо артикулированный. Медсестра дико испугалась и убежала… И надо было так случиться, что через месяц Разбежкина поехала навещать другого своего друга, интеллигента, философа, у которого тоже был инсульт. Она попала в ту же больницу, вошла в палату, там сидела жена, которая покраснела и сказала: вы не обращайте внимания, он вообще не знал никогда таких слов… А этот человек, интеллигент, философ, вдруг открыл рот, и пролился ядреный настоящий мат. И я, говорит Марина, сделала открытие. Мат не является речью! Это другой способ выражения, мат – это рычание, это исходит из атавистического центра, которым существо рычит…
И я вам скажу еще более интересную вещь. У меня уходила матушка. Я сидела подле нее и всячески пыталась ее забавлять. Она уже не реагировала ни на что, я сделала кассету с самыми ее любимыми песнями, с романсами Обуховой, с оперными ариями, и все время звучал магнитофон. А в головах сидела любимая кошечка. Так она уходила. Пришел к нам врач, который много лет работает в реанимации, он сказал: готовьтесь к худшему, она уже ушла практически, ничего не знает и не понимает. Я говорю – да? Мама, давай споём! Мама моя лежит как мраморная статуя, абсолютно неподвижно. Я начинаю: «По Дону гуляет, по Дону гуляет…», – и мама подхватывает: «По Дону гуляет»… И мы с ней два куплета спели. Третьего мы не знаем… Надо было видеть лицо нашего врача! Он окаменел, говорит: первый раз вижу такое. Так вот, центр пения тоже не связан с речью! Почему заики легко поют, потому что это не речь, это архаический центр – это потребность в вое. И эта потребность выть есть у очень многих людей. Почему, что называется, рассупонившись и принявши стакан, человек начинает петь, почему пьяный всегда ассоциируется с пением? У него распускаются все вожжи, и он начинает либо петь – выть, либо ругаться – рычать. Выть или рычать, понимаете. Потребность в песне – это глубинная потребность человека. Говорят, что пение лечит. Кошки, волки, собаки воют на луну от страха, от переизбытка чувств… Вот что такое пение – выражение важнейших глубин человека.
– Но вы воете на высоком культурном уровне, делая переводы известных песен или совершенно оригинальные стихи на популярные мелодии, это уже не совсем вой, а сознательная акция!
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Я к своему пению отношусь, знаете, слегка прищурившись и с любопытством, потому что наибольшую загадку человек представляет сам для себя. У меня с чего всё началось? Мы же театральные люди, и у нас бывали капустники в Доме актера, ну и я там посильное участие принимала в качестве писателя текстов. И меня попросила Люся Черновская, душа этих капустников и всего нашего театрального товарищества, написать гимн нашего театрального центра. И я написала текст на музыку старинного танго «День погас, и в голубой дали…», это сороковые годы, ленинградский мюзик-холл, певица Добржанская с тоненьким голоском, у меня была пластиночка… (поет гнусавым голосом, имитируя старую пластинку) «День погас, и в голубой дали ветер лег синей птицей на залив…» Я написала, конечно, другие слова и должна была это спеть. И вот, объявляют меня, выходят актеры танцевать танго, Езус Мария! Я схватила костюмчик, шляпу, какую-то размахайку со страусиными перьями, выскочила в кошмарном состоянии на сцену. Начинаю петь, разошлась с оркестром, опозорилась, голосок дрожит, Господи, помилуй, бегу за кулисы, думаю – позор, позор, встречаю там одного знаменитого режиссера, который смотрит на меня совершенно стеклянными глазами и даже как-то шарахается от меня… Я думаю: всё, он слышал! Подхожу к столику, там сидят мои дети и прочие родственники, говорят: как хорошо. Ладно вам утешать меня. Как сказал мне однажды Михаил Жванецкий, которого я упорно склоняю петь со мной дуэт из оперетты…
– Это роскошная идея…
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Да чудно мы бы спели (напевает, стилизуя «под оперетту»): Миша, ты всегда и всюду со мной! А он должен был бы петь: Люся!.. У него хороший голос, кстати. Но он ответил мне: «Я хочу смешить, но посмешищем быть не хочу». А я вот была этим самым посмешищем. Очень плохо ночь провела. На следующий день звонит мне Люся Черновская: вы пели изумительно, Рустам Хамдамов от вас в совершенном восторге. Через некоторое время звонит Рустам и полтора часа говорит мне, как хорошо я пела, как правильно, что дрожащим голосом, что так и надо, что он меня будет снимать в своем следующем фильме в роли какой-то аккордеонистки… Я ошалела – чтоб человек так долго утешал! Добрый человек Рустам. С этого, в сущности, всё началось. Ну а потом у меня творческий вечер был, и я почему-то решилась петь…
Для человека, любящего пение всем нутром, видеть, как поют сегодня на эстраде, – казнь. Муки ада. Чтоб в такой музыкальной стране, как Россия, были такие певцы – это наказание божеское. Впрочем, большинство тех, кто на виду сегодня, – и не певцы, и не актеры.
Разве они думают о творчестве? Они (используем интонации Бабеля) думают об домик купить с твердотопливным котлом, об яхту приобрести, об «феррари» поездить. Они – куклы для массы. Марионетки толпы. Это страшная должность, и страшная за нее расплата (но потом, потом…)
А настоящий певец не подлаживается под массы. Он поет для каждого человека так, как талант велит. «Если хочешь, чтоб дело было сделано хорошо, сделай его сам» – гласит пословица. Вот и Петрушевская запела, потому что хотела осуществить то пение, которое ей нравится.
Нежное, душевное, умное, где интонация на вес золота, где всё пронизано улыбкой и грустью, обеспечено прожитой-пережитой жизнью, где правит бал артистизм высшей марки.
Петрушевская выходит на сцену из какой-то своей истории, не настежь распахнутая для публики, а словно чем-то зачарованная, отрешенная, в ореоле своего излучения, точно в прозрачном, но плотненьком шаре. И оттуда ведет разговор – гибким, грустным, насмешливым, виртуозным интонационно голосом. Поёт ли она «Последнее воскресенье», где женщина умоляет возлюбленного о свидании, или «Старушку не спеша», где бабуля учит ги-бэ-дэдэ с помощью пэ-пэ-ша, как обращаться с пожилыми людьми, – «Сейчас я вам напомню вашу мать!», – всё исполнено ума и вкуса, не форсировано, не раскрашено фальшивыми красками. Конечно, вспоминается французский шансон…
– Вы тяготеете к французской культуре?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Я просто французский в школе учила.
– О, я тоже учила и любила французский шансон – Брейля, Брассанса…
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Я постарше вас, а потому любила Ива Монтана и Эдит Пиаф.
– Ну, Пиаф – это святое.
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Да… Эдит Пиаф – она кричала, она же была уличная певица, ей надо было достать до шестого этажа, ведь обычно бедные люди, которые живут в мансардах, бросали сверху медяки. Я вообще думаю, что Пиаф пела тем же голосом, что солистка хора Пятницкого Мария Мордасова или наша Русланова, это народный способ выражения. Я подозреваю еще, что она была картавая, и отсюда такое «р-р-р»… И вы понимаете, что слышат французы, слушая Пиаф? Девку с улицы. И это есть до сих пор, я была как-то в Париже – иду, стоит немолодая женщина, орет без всякого аккомпанемента и смотрит на верхние этажи…Я ведь была на первом и единственном концерте Ива Монтана в Москве, когда он выходил в коричневой рубашке, коричневых штанах, приплясывал, это было изумительно! Вот, короче говоря, поехала моя история с пением, меня потом пригласили в Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой, и вот уже третий год я там пою, недавно весной был концерт…
– И выстроилась недурная карьера…
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Карьерой это трудно назвать. Понимаете, что такое мамаши семьи? Трое детей. Три раза в день только накормить, а у меня первая книжка вышла, когда мне было пятьдесят! Карьере-то моей вообще всего двадцать лет… Работать, писать – только по ночам можно, какие там песни. У нас было пианино, и все дети учились музыке, но как только за пианино садилась мамаша – все немедленно выходили из комнаты вон. Я что-то там подвывала только на днях рождения. Знаете, это судьба очень многих домашних музыкантов. Если человек играет на гармошке или там, не дай боже, на балалайке, то, как только он садится, домашние сразу – ой, папаня опять завел… А какова судьба вокалиста в доме? Как он пасть разинет, сверху-снизу начинают стучать по батареям, кто ж это выдержит! Когда я была домашней хозяйкой, мне было не до пения. Хотя в юности, когда я училась в университете, я занималась вокалом и даже готовила партию няни в «Евгении Онегине» (поёт густым альтом): «Привычка свыше нам дана, замена счастию она…» Как сказала одна моя знакомая: «Люся, ты наша надежда», ну, потому, что ей пятьдесят, и она смотрит на меня и думает: о! ничто не потеряно!
– Да, Людмила Стефановна, поселяются, глядя на вас, такие настроения в женском народе…
Что такое мамаша семьи и попытки музицировать в этом положении, я знаю очень даже хорошо, и радостный крик пятидесятилетней подруги: «Ты наша надежда!» – мне понятен. Да, семья отнимает множество сил, высасывает жизнь, душит, пригибает к земле… Но вот что поразительно: силы убывают-убывают… а потом прибывают-прибывают, как из-под земли вода!
То есть трудовая чистая жизнь сначала берет-забирает – а потом возвращает. Что, если бы Петрушевская миновала семейную станцию и понеслась на всех парах самоутверждаться? Да истаскалась бы, испортилась, извратила пути свои, как говорится. И столько примеров тому. А получилось на самом деле хорошо и здорово.
И вот выходит маленькая женщина (в прошлом году отметившая семидесятилетие) в больших шляпах, необыкновенная, очаровательная, – и ничто не потеряно, поёт! Всё поёт, даже рок-н-ролл (обожает Майка Науменко). Душа ее мудрая, взрослая – но не старая, не сдавшаяся, не подернутая пеплом разочарования. Нет, она – очарована, навек!
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Есть у меня еще мечта возродить шляпы, чтобы женщины носили шляпы не на улице по случаю зимы или сильного солнца, а всегда.
– А что такое шляпа для женщины?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Шляпа для женщины – это поэзия! (Читает «Незнакомку» Блока.) «По вечерам над ресторанами… и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука…» Пусть рука и не совсем узкая… И еще мне очень хочется, чтобы женщины носили митенки, это перчаточки без пальцев, которые в советское время надевали только кондукторши, обрезая так перчатки, чтоб деньги считать… Вообще шляпа для советского человека – это оскорбление, это прозвище: «ну, ты, шляпа». Это была ненависть к интеллигенции, которой нельзя было без шляпы появляться, потому что шляпу перед дамой надо было снимать. Для советского человека шляпа и перчатки – это повод быть посмешищем, вот то, чего так не хочет наш друг Жванецкий, будучи подлинным советским человеком… Нет, я никого не хочу обижать, мы все советские люди, что же делать. Как говорит моя подруга, «я, как бывший советский человек, денег на ветер не бросаю». И мне бы ужасно хотелось, чтоб к этим перчаткам-митенкам не относились как к обстриженным гольфам, чтобы не было советского отношения к шляпам…
– А вот если бы ваше кабаре полностью осуществилось в реальности, как бы оно выглядело?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Мне бы хотелось, чтобы обязательно были столики и на столиках – какие-то немудреные вещи, потому что люди всё-таки после работы приходят и они немножко голодные. И чтобы люди чувствовали себя хорошо и улыбались до ушей. Настоящее хорошее кабаре надо делать на высшем уровне, вот как в «Фоли Бержер» или «Мулен Руж», там все поставлено, все отточено. А если это кабаре одного автора, то это может быть не особенно притязательно, даже простенько. Одна моя подруга сказала после моего концерта: я отдохнула. То есть человек успокаивается, отходит от своей замордованности, от кучи проблем, ему становится легче немножко. У меня ведь звучат мелодии хорошие, бессмертные, в тех странах, откуда они взяты, они входят в список двадцати вечных. И я стараюсь писать не переводы, а оригинальные тексты песен. А это трудно сделать, потому что песня должна быть простой, сразу доходить до слушателя, и в то же время хочется, чтобы она полностью передавала дух оригинала. И потом надо нести людям утешение в том смысле, что вышел всё-таки человек довольно приличного возраста, но – шляпка, митенки, и платье в пол, и каблучки, и хорошие перстни, в меру так накрашена, и не так страшно… Ведь жизнь идет, и люди дико боятся возраста. А что такое объект смеха? Это старуха, старушка, бабулька. Вспомните двух этих бешеных бабок, которые в чудовищном виде существуют по телевизору. Это не только объект смеха, но и объект снисхождения, с которым можно почувствовать себя гораздо выше. Возвыситься над этой старушкой – проще простого. Пусть я ничто, но в сравнении с бабулькой – ха, куда прешь, старая, на кладбище?
Да, это важный момент – бесчеловечное отношение к женской старости. Два варианта – либо бабка божий одуванчик, либо карга, Баба-яга, старая ведьма. Что-то некрасивое, неопрятное, жуткое, противное, в лучшем случае – комичное. Женщина не человек, а уж старая женщина – не человек вдесятеро. А Петрушевская показывает отважно и красиво – нет, человек! Человек! Мыслящий, чувствующий, страдающий, любящий человек. Да и с внешней стороны – премило выглядит. Шляпы, митенки, перстни, туфельки, шарфы – это оружие в борьбе за артистичную и, главное, человечную старость. И не надо этому прекрасному человеку никакой любви от очумевших обезьян – ее, Людмилу Петрушевскую, Бог любит. И публика.
В публике, когда она действительно понимает и ценит талант, тоже появляется что-то божественное. Какой-то сок чистой любви. Фаворский свет. Пусть на мгновения, пусть. Но бывает!
– А как возникают песенки?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Да не уследишь, как они возникают. Что-то западет в душу, какая-то мелодия, и начинаю работать. А вообще главное для человека, который поет, – это выработать свой стиль, свой способ произнесения музыкального текста. Заметьте, великие шансонье не допускают выражения лица, не допускают модуляций голоса, не хлопочут лицом и голосом, как будто ничего не выражают, равномерно-равноценно все моменты текста выдают – а ты сидишь и трепещешь. Это загадка!
– Действительно, отсутствие жирного раскрашивания, этого дурного «театра песни» – признак высокой культуры пения, когда к этому привыкаешь, то любой маленький сдвиг в интонации производит впечатление… Кстати, на вашем концерте я слышала одну песню, где вы – автор и слов, и музыки. Пока что одна?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Я это долго скрывала, выдавала за польскую песню. Да, я пишу сама и мелодии, но мне ужасно не хочется быть этим… бардом. Не люблю этого дела совершенно. Я же была «девушка с гитарой» в юности, и ни один праздник не обходился без того, чтобы меня не вытаскивали, иногда я пела целыми ночами у костра, когда мы ездили на целину… И мне в конце концов это просто обрыдло. Выросла на этом и оставила – ну, бывает так. Бывает, что то, чему много сил отдаешь в детстве и юности, потом тебе начинает мешать… Кстати сказать, я вот тут еще одну песню пою на мотив, который нам известен как «Утомленное солнце». Когда мы с Юрой Норштейном делали «Сказку сказок», я ему сказала, что война без этой песни не война, она мне так надоела за войну, изо всех окон неслась. Видимо, для многих это была единственная пластинка, которую выпустили огромным тиражом для утешения людей. Война, голод – а тут солнце, море, «без тоски и печали»… Я стала искать и нашла, что это песня польская, «Последнее воскресенье», написана в 1937 году и ничего общего не имеет с утомленным солнцем. Там человек угрожает самоубийством любимой женщине и говорит: я прошу последнего воскресенья, а дальше ты иди своей дорогой, а я пойду своей. Конечно, я перевела иначе, потому что у меня женский голос, а это последнее дело, если женщина угрожает самоубийством. У меня она говорит: мне тебя надо увидеть в последний раз, чтобы сказать тебе, что ты самый добрый человек на свете, самый лучший на свете человек… и вот так получилось из-за «Сказки сказок», что я невольно стала причиной того, что «Утомленное солнце» вошло в заглавие фильмов, и вошло без вины, потому что в то время, которое описывается в этих фильмах, еще этой песни не было, она чуток позже возникла…
Песня, которую Петрушевская сочинила целиком сама, прелестна, в ней говорится о странном друге, у которого половина лица была как будто освещена солнцем, а на другой словно шел дождь, он таился и скрывал свою душу от героини, пока она не ушла, свободная, своим новым путем. Видимо, этот неизбежный уход и предвидел друг…
Не привыкай, не привыкай к дождю!
Ты посмотри на меня – я ничего не жду…
А героиня так не может – ничего не ждать. И, видимо, Петрушевская тоже. Она – автор и действующее лицо одновременно. Не обласканная публичным вниманием (да и не любящая его вовсе), она в своей эльфической тишине работает над собой. Вот ведь задача – выработать собственный стиль пения! И выработала-таки. Потому что не думала о деньгах и славе – а только о любви к звучащему слову и к бессмертным мелодиям.
Она самовыражается, но не самоутверждается. Она царит на сцене по праву дара – а на самом деле служит тому, что больше нее и больше всех нас. (Музыке. Поэзии…)
Эта женщина совершеннейший молодец. Она абсолютна не нужна современности. Она нужна ей больше, чем кто бы то ни было.
Твердящие о «кризисе идей» в современном театре и кино – вы не хотите перечитать ее рассказы? Вы там найдете сто пудов идей. Только они, конечно, вряд ли вам подойдут. Ибо грязные люди не могут делать чистое искусство. И петь не могут.
А наш немолодой усталый эльф просто подобрал валявшееся на обочине искусство, поднял, отряхнул и прижал к груди. По женской домохозяйской привычке ценить хорошие вещи, которые еще могут пригодиться.
Вам не нужно – а нам нужно.
«Каждому свое» – где было написано? На каких воротах?
Ничего-то вы не знаете…
– Велик ли ваш репертуар?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: У меня сейчас тридцать песен. Недавно вот обнаружила «Блю канари», «блю» – это печальный, а совсем не синий и не голубой, «блю канари» – печальная канарейка. Блю-люблю – и пошло-поехало от одного этого звучания. Я хотела очень перевести «Маленький цветок» – а потом узнала, что ее исполнял еврейский оркестр возле газовых камер Освенцима, чтобы люди в очереди не пугались, они играли круглыми сутками, и многие из тех песен, что я пою, тоже там звучали. Этого композитора, которого у нас называют Ежи Петербургский, а по-польски он – Ежи Мелодиста. «Синий платочек» – это, кстати, тоже мужская песня, это у него в кармашке платочек, а не тот платочек, о котором пела Шульженко, – на плечах у девушки… А то, что я пою как «Старушка не спеша», – мелодия из мюзикла, написанного в 1933-м в Чикаго на языке идиш. В подлиннике такой текст: «несмотря на то что ты кривая, хромая и горбатая, ты все равно лучше всех». И на эту мелодию во время войны пели «Барон фон дер Пшик отведать русский шпик…», до войны тоже про старушку, которую остановил милиционер: «что несешь ты в сумочке, кусочек булочки, курочки», потом было «В кейптаунском порту с какао на борту»… Мой вариант уже пятый, так что? Это ничему не мешает. Равно как я сделала свой вариант «Лили Марлен», и стали раздаваться голоса, какое она право имеет переводить после Иосифа Бродского. Смешно даже. Я могу после кого угодно перевести – это моя любимая песня, что делать.
– В этих очаровательных песенках заключен целый мир нежных чувств, полный нюансов, которого в реальной жизни еще поискать. Этот мир нежных чувств – он окружен, на ваш взгляд, плотной темной стеной, обрекающей его на вымирание, или он есть еще в действительности? Или уже только на сцене?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Вы, может быть, уже сами ответили на ваш вопрос… Я размышляла над этим. Мир нежных чувств для женщины, которая уже отрожавшая, что называется, отслужившая, во многом невозможен. Но этот романтический мир существует в кино, в опере, в книгах, на концертах, в кабаре. И оттуда человек может взять эти чувства, чтоб их испытывать в другом измерении. Потому что искусство дает человеку то, чего у него нет. Часто ли приходит к человеку любовь? Нет, редко, а с песней она может прийти, и ты можешь испытать то, что было раньше, когда-то…
Для меня огромное значение имеет свет, вот он падает откуда-то, вечерний свет, я вижу его, меня охватывает ощущение счастья. Или я слушаю музыку – опять счастье. Или я вижу прекрасное лицо человека, и мне хочется плакать, я вижу человека, с которым никогда и ничего меня не будет связывать, и у меня в душе начинают капать слёзы, я знаю – этот человек самое прекрасное, что есть на свете, и я прощаюсь с ним навсегда. А через несколько лет приходит весть, что он погиб.
Всё это – чистая поэзия. Сюжет для небольшого рассказа…
Не такого уж небольшого, Людмила Стефановна!
Имя Россия, фамилия Грозный
На экраны вышла картина Павла Лунгина «Царь» – произведение во всех отношениях незаурядное. XVI век, разгул опричнины. Иван Грозный, великий государь-самодержец огромной страны, – человек гениальный, убежденный в своей богоизбранности. Он призывает бывшего друга – митрополита Филиппа для помощи в строительстве самодержавного государства. Но оказывается, что милосердный Бог Филиппа несовместим с карающим Богом Ивана Грозного… Выдающиеся актерские работы Олега Янковского и Петра Мамонова, конечно, обеспечат фильму напряженное зрительское внимание. Но о картине неминуемо будут спорить, поскольку все ключевые фигуры нашей истории – до сих пор фигуры спорные. Об этом наш разговор с режиссером фильма ПАВЛОМ ЛУНГИНЫМ.
– У меня такое впечатление, что вы делали свой фильм для отечественной аудитории, не высчитывая, как примут «Царя» в мире, так?
ЛУНГИН: Я, знаете, несмотря на хитрое выражение лица, парень простоватый, даже простодушный, и что умею, то и делаю. Меня действительно подозревают, что я делаю на потребу западному зрителю, а кто ее знает, эту потребу? Как будто это так легко. Кто бы знал, давно обогатился. Я как раз все больше и больше отхожу от западного мейнстрима и вхожу в русские проблемы, которые меня куда больше волнуют и допекают. Я становлюсь старше и вроде должен быть мудрее, а абсолютно ухожу куда-то вбок, на меня наши опытные киноведы уже смотрят с ужасом, как будто я мамонт волосатый.
– Что же поманило вас в образе царя Ивана Грозного, ведь, скажем прямо, это не тот человек, с которым мы могли бы выпить и закусить?
ЛУНГИН: Выпить-то мы с ним, может, и смогли бы, но вот успели бы мы закусить? Иван Грозный – это зарождение русской самодержавной власти как феномена. Это картина о зарождении такой власти в России, и это рождение переплелось с личностью Ивана Грозного – неординарной, жуткой, талантливой, пугающей, непредсказуемой. Эта личность – ЦАРЬ – захватила место Бога в этом мире и стала требовать обожествления и всеобщего преклонения. До сих пор там лежат и корни наших проблем, до сих пор мы живем в тени Грозного, она витает над нами.
– О фигуре Грозного идут споры – есть историки, которые хотят опровергнуть его злодейства и деспотизм и утверждают, что он чуть не праведник и был тесно связан с православными святыми. Что вы думаете об этом?
ЛУНГИН: Главного святителя того времени митрополита Филиппа он убил, так что связь, конечно, прочная со святыми у него. Настоятеля Печерского монастыря, преподобного Корнилия, Грозный смолол в жерновах, так что рассуждения о святости Ивана Грозного – это досужие вымыслы. Он много каялся, и каялся лицемерно и талантливо – но практика его была ужасна. Фильм и посвящен тому, как Филипп восстает против тиранической власти царя. Вы не слушайте экстремистских историков, которые готовы записать в святые и Распутина, и, может быть, даже Сталина, вы читайте нормальные книги вменяемых авторов.
– Безумно двойственно всё в России! Невозможно хоть к чему-нибудь отнестись ясно, просто, благородно. Страшная двойственность, несоизмеримые противоречия отлиты в один кристалл. Оттого и дискуссии такие о личностях царей. Людям хочется ясности, а ее нет! Как вы для себя решаете, что делать с этой мучительной двойственностью?
ЛУНГИН: Я не могу внести ясности, я могу только запутать еще больше, потому что я не историк, я все как-то пропускаю сквозь себя, и у меня взгляд эмоциональный, художественный. Да, эта двойственность мучительна и в то же время ужасно интересна. Я ее увидел во времени Ивана Грозного, когда было словно бы два бога в России – один Бог Грозного, Бог власти, а другой – Бог добрый, Бог народа и митрополита Филиппа. Была правда официальной власти и была другая правда, которую все знали. Уже тогда, в XVI веке, люди жили в состоянии двоемыслия… Грозный был монстр, тиран, но и блестящий писатель, и умница, один из самых образованных людей своего времени, первая типография открыта при нем, собрана великая библиотека. Может быть, эта двойственность – и дар, и наказание русских. Может быть, если мы сами на себя посмотрим, то увидим эту двойственность сами в себе…
– Когда работали над своей картиной, пересматривали шедевр Эйзенштейна, фильм «Иван Грозный»?
ЛУНГИН: Пересматривал новыми глазами. Эйзенштейн был гений, а я не гений. Эйзенштейн выполнял государственный заказ, ему лично товарищ Сталин смотрел в глаза и говорил: а сними-ка ты, товарищ, фильм про Ивана Грозного (то есть про меня, подразумевал он). Эйзенштейн создал великое эстетическое высказывание, не касающееся на самом деле ни политики, ни даже истории. Его фильм похож скорее на оперу, это завораживающе красиво, трагично, но там нет психологии власти и тайны психологии власти Грозного. Этот фильм стоит абсолютно отдельно, как потрясающе красивый букет, но это фильм не про историю и не про Россию. Я же хотел, наоборот, сделать картину куда более камерную и хотел при помощи необыкновенного создания – Петра Мамонова – войти в эту личность, понять, что же там внутри кипело. Я взял только один конкретный исторический эпизод, периода расцвета опричнины, 1565 год, конфликт Грозного и Филиппа. Для меня это важнейшее столкновение. Филипп, власть духовная, возвысил свой голос против власти царя! Из этого вышел мой фильм, куда более скромный, чем шедевр Эйзенштейна.
– В Мамонове есть что-то поразительное, можно сказать, архаическое, как было в зрелом Алексее Петренко. Как будто человек знает прошлое всем нутром, а не головой только.
ЛУНГИН: Да, в Мамонове будто есть «матрица» Ивана Грозного, в нем живут глубины и тайны русского духа. Но и в Олеге Янковском есть потрясающая глубина и тайна. Знаете, тут еще неизвестно, кто кого переиграл. Янковский выстроил такое противопоставление, такую стену выстроил сам в себе, а роль практически без слов – вот это работа актера! Петр Николаевич – тот не актер. Тот артист. Он будет на столбе стоять как столпник, на одном пальце, и все равно будет хотеть быть любимым, быть с публикой. Он не всякую роль может сыграть, он натягивает на себя роли, как рубахи: какие-то впору, какие-то трещат – тогда он отказывается, и эта избирательность у него правильная. Но когда он входит в образ, он становится одержимым. Для меня плоти Ивана Грозного в Мамонове больше, чем в Николае Черкасове, который играл у Эйзенштейна.
– Если говорить о современности, то оказывается, что наш современник – Тарас Бульба. Вот вышел фильм Бортко и вызвал такую бурю, что и не снилось картинам о сегодняшнем дне. Оказалось, непрожито, недоспорено столько в истории! И ваша картина получит лавину мнений, потому что и Иван Грозный – тоже наш современник.
ЛУНГИН: Вы же знаете, что Иван вышел в лидеры конкурса «Имя Россия». Это характерно и странно. Когда я начинал делать фильм, читать об эпохе Грозного, мне казалось, о нем позабыли, все было тихо. И вдруг он мощно всплывает – за год, пока я готовился, вышло пять книг о нем! Общество как будто вопрошает его, вызывает этот дух: ты накажи нас за грехи наши, ты бей нас, бедных, маленьких, вороватых, но возьми все на себя, отвечай за все один! Это страшно. Как будто вертится одна и та же карусель, и нет никакого развития по спирали, одна и та же карусель, и на ней стоят разные чучелки по кругу. Петр, Екатерина, прочие цари… и где-то стоит и страшная фигурка Грозного. И карусель все крутится, и мы то подъедем, то отъедем…
– И вдруг небесный механик нажмет на рычаг, стоп! И мы окажемся не перед фигуркой Екатерины, что было бы самое желательное, а снова перед нами Иван Васильевич… Но есть же еще и митрополит Филипп, есть высшая правда! Что же, эти два бога, Бог Ивана и Бог Филиппа, они даже, как говорится, не встречаются и не раскланиваются?
ЛУНГИН: Наверное, ветхозаветный Яхве ближе Богу Ивана, гневливый библейский бог, карающий, «грозный». Сейчас есть исследование, где написано, что Грозный буквально реализовывал библейские казни, которые он выбрал из книги Давида. Давид, преследуя врага, велел истребить и семью его, и скот, и собак, и овец. Иван был образованный человек, и он воплощал подобные казни, чувствуя себя библейским царем. Когда боярин попадал в опалу, истреблялись и его крепостные, и ближние, и коровы, и кошки, и куры… Все это опальное место ветхозаветным гневом должно было быть выжжено. А Бог Филиппа – новозаветный Христос. «Прощай врагов…» Я нашел в писаниях Грозного потрясающую фразу: «Да, как человек я грешен, а как царь я праведен». То есть он осознавал как человек, что совершает преступления, но считал, что эти преступления необходимы царю. Еще шажок – и можно счесть, что только грешный человек и может быть праведным царем! А у Филиппа была одна правда, Христова правда: не может грешный человек быть праведным царем.Реальный Вова на чудесной крыше
После долгого перерыва комедиограф Юрий Мамин, автор «Праздника Нептуна», «Фонтана», «Окна в Париж» и «Бакенбард», выпустил в свет новую картину, на создание которой ушло около десяти лет. И время, и деньги, потраченные на большой сложный фильм «Не думай про белых обезьян», живо чувствуются в этом сугубо авторском произведении.
Пока Мамин бился за финансирование и переделывал сценарий своей картины, поменялся весь фон культуры. Из нормального режиссера позднесоветского типа Юрий Мамин превратился в чудака и оригинала, чуть ли не в одиночку сражающегося за честь авторской кинокомедии. То есть такой комедии, в которой ясно выражена личность ее создателя, его мнение о современном мире.
Любовь режиссера к музыке и поэзии выразилась в беспримерном шаге: на протяжении всей картины звучат классические мелодии (Бетховен, Малер, Григ, Шуберт) в забавной современной аранжировке, а герои разговаривают рифмованными стихами изготовления Л. Лейкина. Свое берут и живопись, и анимация (особенно хороши стилизованные под Босха алкогольные галлюцинации художника Гены). Надо заметить, привычка к такому повышенному «окультуриванию» наступает быстро: минут через десять зритель согласен на условия игры. Да и сама история про искушение главного героя, молодого буржуя Вовы, духовностью крутого питерского замеса требовала, чтобы культура явилась как грозное оружие в борьбе за душу современного человека.
Вова (М. Тарабукин) – паренек с обычным «никаким» лицом, смекалистый и хваткий – получает в свое владение чердак и подвал старого питерского дома. Отец его девчонки, матерый халдей Гаврилыч (В. Смирнов), надеется, что будущий зять оборудует в подвале ресторанчик. Однако Вову поджидает роковое «обременение собственности» – на чердаке поселились пришельцы. Гротескная, точно из кошмаров Гойи, губастая и длинноногая девушка Даша (К. Ксеньева), не лишенная своеобразного обаяния. Запойный всклокоченный художник, не то гений, не то идиот (А. Девотченко). И блаженный скелетообразный гуру, держащий рот на замочке, который он отпирает только для того, чтобы покушать свежескошенной травы (клоун-лицедей А. Либабов). Вся эта братия живет как птицы небесные, благо в Питере стоит лето, и сбивает предприимчивого Вову с твердой дороги реального бизнеса.
Вова поначалу пытается извлечь из своих жильцов пользу – побаловаться с девушкой, приспособить художника для росписи стен. Но всё оборачивается тем, что богемные птицы расшатывают его крепкое деловое сознание, учат свободе, достоинству и презрению к житейской суете. Заставляют выбросить просроченную колбасу, которую Вова так удачно нашел на свалке (гиперболический образ остатков Советского Союза). Даже затаскивают в Эрмитаж, где Вова безошибочно указывает на фламандца Снейдерса как на образец классной чисто ресторанной живописи…
От пребывания на дикой крыше та самая «крыша», что венчает человека разумного, начинает у Вовы ехать на больших скоростях. Вова смотрит в горячечных снах на самого себя, разгуливающего по мистическому Петербургу. Однажды видит даже двух демиургов (С. Юрский и О. Басилашвили), которые живо обсуждают его, Вовы, дальнейшую судьбу. Герой перестает интересоваться деньгами и, взвалив на плечи короб, бредет с новыми друзьями в поисках здоровой пищи по закоулкам города, ведь говорят: «На Петрограде есть сморчки»!
Конечно, морок долго продлиться не мог. Каждый отправился своей дорогой: богемные птицы в психушку, откуда они и явились на Вовин чердак, а Вова – в новые времена, в блистающий стеклом и гранитом ресторан «Пегас», в объятия дочки халдея Гаврилыча и в смутную тоску по чему-то чудесному, что было у него на вольном чердаке. Призраки брошенных друзей манят Вову в неведомую даль, и пресловутые «белые обезьяны» с тихим коварным смешком прыгают по экрану…
Юрий Мамин не снизошел до сатиры на губернское правление В.И. Матвиенко, беспримерное по пустозвонству. Его цель крупнее – он усомнился в психическом здоровье нашей новой буржуазии вообще, и он абсолютно прав. «Белые обезьяны» разгуливают по крышам-умам наших деловых людей в промышленных количествах. Для того чтобы в рекордные сроки оборудовать из гнилого подвала сверкающий гранитный новодел, слишком много надо задавить в себе человеческого, забыть историю, отбросить культуру, предать друзей, унизить любовь, прекратить всякие головоломные «поиски смысла». По существу, стать человекообразной машиной. Но не может человек так запросто стать машиной и ничем не расплатиться за это – «обезьяны», о которых он запретил себе думать, будут подстерегать его на каждом шагу. И он станет напиваться, орать песни, бежать от самого себя в Тибет и на Гоа, метаться по монастырям, а то и хуже – полезет сам на сцену или начнет писать книги, смеша добрых людей. Это ему только кажется, что он – новый, сам по себе и вчера родился, он – старый-древний, ему много тысяч лет, и о его судьбе идет вечный спор.
Есть в картине Мамина вещи сумбурные и лишние, сбивающие дыхание этого в целом внятного и легкого рассказа. Комедийные ритмы иной раз съезжают в тоскливые ямы и мистические страхи – но это частенько бывает у комедиографов с возрастом. Всё-таки муза комедии Талия требует могучих творческих сил и полной свободы сознания (посмеяться – значит, победить) – а интересно, откуда все это взять современному режиссеру, бьющемуся за выживание? Но все-таки «Не думай про белых обезьян» ближе к победе, чем к поражению, – Мамин снял комедию, в которой чувствуются творческий ум и любовь к человеческой культуре, а это сегодня редкие птицы. Не на каждой крыше встретишь.Наказание любовью
В прокат выходит картина режиссера Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом» – экранизация знаменитой автобиографической повести Павла Санаева.
В истории, описанной Павлом Санаевым, угадываются известные люди: «карлик», за которого вышла замуж его мама Елена Санаева, – это Ролан Быков, а дед – популярный советский актер Всеволод Санаев. Но дело, конечно, не в этом. Автор создал человеческий документ огромной силы – повесть о страданиях ребенка, на которого обрушилась драма ревнивой, почти безумной любви родственников. Болезненный восьмилетний мальчик живет в эпицентре урагана – его бабушка пытается завладеть им окончательно и единолично, оторвав от всех прочих привязанностей.
Титанический характер бабушки Нины – в центре повести. Это исключительной силы личность, воспитанная всеми ужасами советской действительности ХХ века. Несмотря на формальную причастность к интеллигенции, свирепая бабушка не смягчена никакими культурными «примочками». За закрытыми дверями частной жизни кончаются все идеологии и религии на свете и начинается тирания жуткого быта и грубых нравов…
Фильм Сергея Снежкина замечателен прежде всего актерским ансамблем: здесь играют Светлана Крючкова (бабушка), Мария Шукшина (мама), Алексей Петренко (дед), Константин Воробьев (мамин муж), а также трогательный ребенок Саша Дробитько. Мужчины играют несколько «под сурдинку», предоставляя царить дамам, но прекрасно держат общий правдивый тон и исключительно обаятельны. Женщины же, Крючкова и Шукшина, разошлись на славу – да и то сказать, в кои-то веки им достались настоящие роли!
Сказать, что картина стала адекватным воплощением повести Санаева, нельзя. Это довольно самостоятельное произведение. Повесть куда живее, разнообразнее и забавней – фильм же получился законченно драматическим, даже с оттенком сугубой мрачности, хотя его незаурядность и талантливость бесспорны.
Санаев пишет от первого лица, сам к себе относится с хорошей дозой юмора, и ужасы существования рядом с безумной старухой не подчеркнуты им специально, а как бы сами собой выявляются в детальных описаниях. Страшная бабушка бывает и по-человечески понятной, и остроумной. В фильме же Светлана Крючкова играет законченное чудовище.
В начале картины, валяясь в припадке театрализованной истерики, бабушка-Крючкова расцарапывает себе лицо и так и ходит все 110 минут картины с красными полосами на щеках, как индеец на тропе войны. Это чересчур. И многое в картине – чересчур. Особенно сцена неудачного бегства мальчика из дома после того, как ему поставили клизму, – этого нет в повести, но фильму, по мысли режиссера, нужны были драматические усиления действия. Он в своем праве, но все-таки получилось чрезмерное сгущение красок.
Тема и так больная, звонкая, пронзительная – террор родственной любви известен чуть не каждому. Детей рвут на части в судах, детей похищают, прячут, изолируют, мучают маленькие души непосильными переживаниями, требуют невозможных решений. И это не только русская проблема – она болит у всего мира, переполненного обозленными эгоистами. Да, ими движет любовь, но это уродливая, жестокая, эгоистичная любовь, любовь-террор, любовь-наказание. В повести эта боль проступает из шутливого рассказа маленького человечка, который попал в беду такой любви, но вообще-то от природы приветлив и жизнерадостен. В фильме эта боль начертана крупными буквами, как на плакате. Над хрупким тельцем ребенка постоянно нависает угрожающая туша бабушки с одутловатым страшным лицом и хитрыми-злыми глазками и осыпает его бранью. Это не столько конкретный характер, сколько некий символ Бабы-яги, женщины, утратившей всякую привлекательность и ненавидящей за это весь мир. После картины Снежкина возникает упорное желание вообще как-то оградить детей от бабушек. Для полного художественного оговора режиссер даже снабжает бабушку фильма чертами бытового антисемитизма – как говорится, до кучи!
Между тем бабушка, изображенная Санаевым, – характер строго обусловленный исторически и сходящий на нет в современности. Это тип женщины, рожденной в начале века и рассчитывавшей не без оснований на лучшую долю, тип женщины, вынесшей на своем горбу две войны, сталинский террор, все кошмары послевоенного быта. Любой ценой спасти детей – было их кредо, надрыв – стиль жизни. Их озверение, их непрерывная ругань и ужасающая грубость нрава были предопределены чудовищной историей ХХ века, которая всей нечеловеческой тяжестью легла им на плечи… Впрочем, может быть, этого вообще сыграть нельзя. Отдадим должное фильму – он воздействует, пробивает, судьба несчастного ребенка живо волнует душу. На фоне тошнотворных слащавых семейных сериалов с их вылизанной отгламуренной картинкой мрачный и беспощадный колорит «Похороните меня за плинтусом» выглядит как эстетическая бомба. И все-таки, мне кажется, режиссер слишком увлекся, видимо, волнующей его темой женской агрессии, женского семейного деспотизма – ведь и нежная красавица мама-Шукшина тоже не без дракончиков в душе и ведет поединок с бабкой на равных.
А дело не в мужском и женском, а в общечеловеческом – какой пол ни дорвался бы до тирании, до мучительства над ближним, он будет отвратителен и мерзок.Исхитрились, или Плоды понимания
«Исхитрилась, или Плоды просвещения» Л.Н. Толстого в театре «Русская антреприза имени А. Миронова» (Санкт-Петербург). Режиссер Юрий Цуркану.
Вот уже четвёртый спектакль Юрия Цуркану я смотрю в «Русской антрепризе» то с большим, то с меньшим, но неизменным удовольствием: «Шутники» и «Пучина» А.Н. Островского, «Рыцарь Серафимы» («Бег») М.А. Булгакова и теперь вот – комедию графа Л.Н. Толстого «Плоды просвещения».
Это интеллигентный литературный театр с полновесной опорой на актеров. Манера изложения у Цуркану добросовестная, неторопливая, изобильная подробностями, актеры никуда не спешат – напротив, будто «останавливают мгновения», зависая на крошечной сцене «Русской антрепризы» в наслаждении собственной осмысленной игрой. Перед нами, так сказать, плоды понимания – понимания автора, пьесы, характера персонажей, их состояния и настроения, их жизненного стержня. Стоимость такой неспешной ручной работы с каждым днем бешено возрастает (чисто метафизически, я имею в виду) – интерпретаторы классики сегодня редко в этом отличаются. Так что дарование режиссера Юрия Цуркану, не склонное к суете, по-настоящему владеющее ремеслом (в хорошем смысле слова), заслуживает хотя бы уважения.
Прямо скажем, образ Л.Н. Толстого и стихия юмора не совмещаются в уме без зазоров. Конечно, есть в его творчестве, где есть всё, и ядовитый сарказм, и острая ирония, и своеобразная – несколько пугающая – шутливость, и все-таки сочетание слов «комедия Толстого» – кажется оксюмороном. Хорошенький юмор – возьмет наша медведица пера дубину да размозжит гадкого, безнравственного человека, не прощая ему ни малейшей слабости…
А вот спектакль «Русской антрепризы» вышел натурально, звучно, полноценно комедийный. Хотя, по словам режиссера, он, готовясь к постановке, перечитал большую многонаселенную пьесу Толстого (написана в 1890 году) – и ни разу не улыбнулся, впав в решительный ужас. Трудно поверить в это теперь, вдосталь нахохотавшись на этих легких, остроумных «Плодах просвещения», но поверим: бывает. Значит, удалось преодолеть тот особый дух тяжести, который так часто овладевает постановщиками классики, когда они, боясь сломать хребет знаменитой пьесе, начинают элементарно «раскрашивать текст». Удалось надышать жизни и раскрепостить артистов, а это, согласитесь, не каждый день у нас на театре случается.
Итак, важный вопрос всякой пьесы, всякого спектакля: а что случилось сегодня? А сегодня в бестолковый барский дом Звездинцевых заявились трое мужиков, которым надо у господ купить земли. Хозяин, погруженный в омут спиритизма, никогда бы на это не пошел, если бы не хитроумная горничная Таня, выдавшая идею покупки за твердое желание потусторонней силы. Всё устроилось в итоге к лучшему: мужики получили землю, Таня – любимого Семена в мужья, вот только баре остались ни с чем, посрамленные в своем мракобесии.
Очень мило, но при чем бы тут была наша жизнь и что нам за дело до дворянских пороков позапрошлого века? Подумаешь, объект сатиры – спиритизм! И вот что делает режиссер. Он переводит социальный конфликт, противостояние господ и слуг, в психологический регистр. Люди бездельные, с пустой жизнью, кривляющиеся перед собой и другими, чтоб скрыть эту пустоту, – с одной стороны, а люди постоянно занятые, работающие, с прочной жизненной основой – с другой стороны. Одни выросли из своей земли и живут, может, и немудрено, однако органично, другие – повисли без опоры и барахтаются в причудливых плясках праздности, как балаганные куклы. Уж это кому не знакомо! Бездельники, выдумывающие себя, и работники, своим трудом живущие, никуда не делись, не перевелись – разве что маски поменяли на вечном карнавале, другие имена и звания стали носить…
Земля, для одних любимая и заветная, для других ненужная и непонятная, – где-то там далеко. О ней мечтает бравый Семен (обаятельный Ярослав Воронцов), лихо подметая двор так, будто в родной деревне сено косит. Оттуда, с земли, приходят мужики в исконно посконной одежке – это просто ансамбль виртуозов. Первый мужик (Гелий Сысоев) – в очках, грамотный, положительный, с обстоятельной повадкой коренного, из земли выросшего, натурального лидера. Второй мужик (Владимир Матвеев) – мрачный скептик, вечно подозревающий в жизни подвох и каверзу. Третий, чья фамилия звучит в пьесе, – Дмитрий Чиликин – блистательным исполнением Аркадия Коваля превращен в комедийный бриллиантик. Издерганный и запуганный, этот мужичок живет в состоянии дикого изумления перед открывшейся ему господской жизнью, реагируя на мельчайшие подробности криком наивной чистой души: «О Господи!» Это он бормочет рефрен «земля наша маленькая, курицу, скажем, и ту выпустить некуда» и держит в руках подарочек барину – корзинку с пищащими и прыгающими цыплятами. В барском доме явившихся мужиков тут же загораживают столбиками с бархатным шнуром – как мебель в музеях…
Художник Владимир Фирер постарался максимально оптически расширить и разнообразить сценическую коробочку «Русской антрепризы». Слева идет лестница вверх, в барские покои, внизу передняя-гостиная (в гостиную пространство превращает огромный выдвижной стол, без которого как же обойдешься в спиритических сеансах), по центру висит большое зеркало, и всё обтянуто черным блестящим материалом. Когда идут сцены в людской, на кухне, где истово и так узнаваемо бранит бар озверевшая от усталости кухарка Лукерья (Надежда Мальцева), опускается холщовый занавес, выделяя авансцену. Ювелирная работа, и тем не менее камерность крошечного пространства остается, и играть жирно, грубо, без психологических нюансов здесь никак нельзя. Поэтому все артисты стараются выразить человеческую суть своих героев.
Почему, к примеру, барыня Анна Павловна (Ольга Антонова) так напускается на мужиков, подозревая в них заразу, так цепляется за видавшего виды насмешливого доктора (Юрий Лазарев), так злобно бранит мужа? Да потому что этой женщине нечем жить – дети выросли, муж укрылся в спиритизме, никому она не нужна, и привлечь внимание семьи можно теперь только истерикой и мнимыми болезнями. Раздраженная, испуганная и жалкая барыня не мужиков боится, а жизни, с которой у нее нет никакой прочной связи. Барин же Леонид Федорович (Сергей Кузнецов) – другое дело. Ему отпущена благодать – он дурак с деньгами. Это счастье! Веселый талант Сергея Кузнецова на славу резвится в этой роли. Ведь дурак – это существо, психологически как бы закутанное в толстую шубу, он непробиваем, к нему, в маленький душный рассудок, нет входа. А ему внутри хорошо и тепло! Тем более он дурак-энтузиаст, знающий ученые слова. С таким счастье можно и не замечать презрения распущенных и несколько дегенеративных детей (Вово – Владимир Франчук, Бетси – Марианна Мокшина), не видеть их пустых глаз, оживленных разве праздным любопытством.
Когда мужики от барского гнева укрываются на кухне, а баре проводят испытательный сеанс гипноза, на сцене появляется и руководитель «Русской антрепризы» – Рудольф Фурманов в роли медиума Гросмана. По природе своей это актер на эксцентрические характерные роли, и в своем театре он играет исключительно странных персонажей – экстрасенсов, гипнотизеров. На худом носатом лице Гросмана-Фурманова горят диким светом круглые черные глаза, и его феноменальная энергия, сила его веры в свою небывалость такова, что, кажется, сейчас начнет трещать сама сцена. Несомненно, этот Гросман – самовлюбленный шарлатан и придурок, но он придурок фантастический, сверхъестественный, внушающий трепет своей поистине космической энергией!
Вереницу придурочных бар украшает и Наталья Парашкина в роли Толстой барыни. Это маленький шедевр, и зрители не зря награждают актрису овациями. Я заметила когда-то Парашкину в эпизоде сериала «Тайны следствия», где она играла дегенератку, зарезавшую ребенка. Это было сыграно так сильно и страшно, так верно, так, казалось бы, просто – на двух-трех реакциях и взглядах, – что Наталья Парашкина мне сразу запомнилась. У нее невыигрышная внешность – слишком обыкновенная для актрисы, но удивительная способность к внутреннему перевоплощению. Парашкина играет идиотку, начинающую каждую фразу с «а я…», ходящую, как глупая лошадка, по вечному кругу предельно ограниченного, зачаточного рассудка. Что бы ни происходило, Толстая барыня тут же нарисуется возле и начнет говорить о себе, о своих привычках, о своих страхах – одинокая, глухая ко всему, несчастная, комичная дура, влекомая страстной жаждой выкрикнуть свое. А я вот никогда не сплю в поезде, не могу спать в поезде! – дудит она, для которой это ничтожное для окружающих обстоятельство ужасно важно, восхитительно, огромно! Я, венец творения, я, соль земли, – и не сплю в поезде! Не знаю, как вы, а я это самодовольное дудение о том, что никому, кроме тебя, неинтересно, этот тип душного, глухого сознания, этих «толстых барынь» встречала сотни раз. Да что там – иногда в самой себе могу опознать ее промельк…
А те, кто бар, невыросших, пустых детей, обслуживают – люди взрослые, ответственные (кроме молодого лакея Григория в исполнении Дмитрия Могучева – надменного злобного выскочки). Таков прежде всего своеобразный «Фирс» здешних мест, камердинер Федор Иванович (Лев Елисеев), степенный бывалый старичок со своей историей, со своей драмой. Такова шустрая веселая вертушка Таня – Юлия Шубарева, – в которой сквозь Толстого проглядывает Мольер с его бойкими, расторопными, ловкими служанками, что всегда умнее своих господ. У нее есть мечта – вместе с любимым Семеном вернуться на родную землю, жить своим домом, своим умом, в законном союзе с природой. Никогда человек, живущий на природе своим трудом, не будет вызывать духов с помощью блюдечка и чокнутых медиумов, не будет есть чаще, чем голоден, не будет попусту тиранить окружающих и глупо, бесплодно тратить божье время. Но эта чистая правдивая жизнь – идеал, мечта, говоря о ней, персонажи, светло улыбаясь, глядят куда-то вдаль и вверх. Хорошо, хоть у кого-то есть мечта. У многих и мечты нет – так они бронированы самодовольством и бездельем…
Что ж, всё это к Толстому очень близко – только без гнетущего нравоучительства, без грозного посоха, которым стучат и потрясают обычно могучие строгие старцы, вразумляя человечество. То, что грошовая мистика – занятие для бездельников и дурачков, напомнить вовсе не лишнее, ведь сегодня этой мистикой, как пошлой вонью, пропитан воздух. А на земле русской по-прежнему живут посреди дикости и распада и те, кто согласились жить трудом, то есть жить трудно. И это не от ума, который может увести человека в погоню за призраками, – от натуры, органической, крепкой и здоровой.
Впрочем, в спектакле «Плоды просвещения» нет напористого, вдолбленного в головы «послания». Это не сатира, а «человеческая комедия», полный юмора рассказ о двух днях жизни барского дома, в который пришли мужики, рассказ о том, как натуральное столкнулось с фальшивым – и победило.
Правда, победило не в честном бою, а с помощью старых добрых сюжетных игр, известных еще с античных времен. Но это – законные хитрости театра, положенные ему от вечности.
Все в общем тут по-хорошему «исхитрились» – исхитрился режиссер, складывая ансамбль из актеров разных театров и разных способов игры, никуда не спеша и все-таки дорожа сценическим временем (спектакль никак нельзя назвать затянутым, идет он бодро и внимание зрителя не рассеивает). Исхитрился художник, оформляя игрушечное пространство, исхитрились актеры, создавая живые характеры и не повторяя при этом своих прежних работ (приведу в пример В. Матвеева и А. Коваля – уж сколько мы их видели на сцене, ан нет, удивили, нашли новые краски). Исхитрился Р. Фурманов, сооружая богатый репертуар своей «Антрепризы», какого не во всяком знаменитом театре встретишь. Это не театр новаторских открытий, великих спектаклей, потрясающих сердца и волнующих умы десятилетиями. Это – театр собирания и накопления существующих ценностей, театр сохранения автора, театр сбережения живой души в актере. Этим должны на самом деле заниматься большие академические сцены, но в нашем сюрреалистическом городе на больших академических сценах норовят кататься на коньках и называть это безобразие интерпретацией Гоголя. Перевертыш такой! На маленьких сценах разводят уважение к автору и тщательный психологический рисунок игры, а на больших – лудят безответственные эксперименты и губят актеров, превращая их в пустых марионеток… Впрочем, это тема другого рассказа – а наш рассказ о симпатичнейших «Плодах просвещения» в «Русской антрепризе» закончен.Бал провинциалов
В театре имени Маяковского состоялась премьера спектакля «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова. Это абсолютно немодный, неактуальный, неавангардный и несенсационный спектакль. Этим он и хорош.
Сергей Арцибашев, крепкий уральский парень, в отличие от бедных чеховских сестер приехал когда-то в Москву и жадно накинулся тут на первосортное театральное искусство. Много работал и вышел в люди – крепок нынче под его руководством театр имени Маяковского с грамотно сложенной труппой и разнообразным репертуаром. Крепок и он сам, пышущий энергией реликтовый русский мужчина.
В его спектаклях, возможно, кому-то недостает тонкостей интерпретации и шалостей ума – Арцибашев любит вдалбливать зрителю важные для него мысли здоровым плотницким топором. Такая натура, не переделаешь, да и зачем? То, что важно режиссеру, – далеко не мелочь.
Его, скажем, заботит «мысль семейная», жизнь семьи, дела семьи – и подавляющее большинство спектаклей театра имени Маяковского именно об этом.
Об этом и новые «Три сестры». О жизни русской провинциальной семьи интеллигентных людей, которые не смогли вырваться из рокового плена жизни, поменять судьбу.
В первом акте «Трех сестер» мы видим действующих лиц как будто на торжественно-старомодном провинциальном балу году эдак в 1956-м. Сценография (в этот раз Арцибашев сам занялся оформлением своего спектакля) продолжает зрительный зал Маяковки, точь-в-точь похожий в его нынешнем виде на старый Дом культуры. Слева зеркало, справа обтянутые бархатом ложи, а на заднике – милейшая провинциальная живопись, наивно-добродушные пейзажи. Здесь, среди столиков, покрытых белыми скатертями, будут разгуливать персонажи, пока что в приподнято-праздничном настроении, ведь жизнь еще не обернулась уныло-горьким лицом, еще есть надежда прожить ее осмысленно и счастливо. Они вихрем носятся по сцене, пьют шампанское, с провинциальной уморительной серьезностью декламируют Пушкина. Стриженая французистая красавица Маша в черном шифоне (Д. Повереннова) встречает интересного мужчину в усах Вершинина (Ю. Соколов), милая, чуть нелепая Ирина (М. Костина) переживает свою молодость как трудную, но интересную задачу, и даже горемыка Чебутыкин (И. Охлупин) заражен общим тоном радости. Искренние, чудаковатые, забавные, чистые люди. Явление главной злодейки, которая разрушит всю их жизнь, – Наташи, невесты брата (З. Кайдановская), – проходит бестревожно, ну, подумаешь, безвкусно оделась девушка, бывает.
Но из невинной мещаночки вылезает хищная гадина, и, надо заметить, Зоя Кайдановская играет на редкость смело, остро и бесстрашно. Ее Наташа с горящими глазами и сладко-злобными интонациями всем своим шершавым нутром знает и чует, как здесь, в провинции, надо жить и кто тут может выжить. Пушкин не поможет! Помогут влиятельные любовники, поможет тупая и твердая мещанская воля к завоеванию пространства. Интеллигентное семейство узнает, как умеют орать и визжать дамочки, расчищающие дорогу себе и своим отродьям, и мы хорошо знаем этот мерзкий визг, которым переполнена вся Россия – хоть провинциальная, хоть столичная.
После антракта время действия словно отодвигается вглубь – персонажи уже выходят одетыми по моде чеховских времен, бал закончен, сцена залита красным светом, в городе пожар, несчастье. Начинаются нелепые горестные драмы, потому что воля в этом мире отчего-то присуща эгоистичным гадам – самовлюбленному придурку Соленому (интересный А. Хабаров) и Наташе. А хорошие люди съеживаются, тушуются перед ними, не знают, как ответить на хамство и злобу, предпочитают замыкаться в себе, как отчаянно замкнулся бедный нелюбимый муж Маши Кулыгин (И. Марычев). Никакие надежды не сбылись в роковом провинциальном времени, которое словно бы заколдовывает людей, лишает способности на поступок. И люди закисают, портятся, как забытые в мешке фрукты. Милый мальчик Андрей (А. Фатеев) превращается в ничтожного, жалкого подкаблучника и бесконечно жалуется слуге Ферапонту (Е. Байковский), который явно умнее его и только делает вид, что глух. А добрейший Чебутыкин застывает в горьком равнодушии к людям и почти что посылает на смерть барона Тузенбаха: «Одним бароном больше, одним бароном меньше…»
Арцибашев добился довольно слаженного ансамбля, хотя, конечно, в других «Трех сестрах» я видела более сильное исполнение отдельных ролей – трудно забыть трагическую Елену Майорову – Машу в спектакле Ефремова или обаятельнейшего Тузенбаха – Кирилла Пирогова у Фоменко. Но искренность и чистота тона, сильный посыл в зрительный зал новых «Трех сестер» меня тронули. Режиссер с нежностью и печалью рассказал о прекрасных гибнущих людях с живой душой, с умом и образованием, которые не могут дать отпор хищной злобе человекообразных животных. Нет сил, нет энергии! Провинция ведь потому и превращается в провинцию, что ей недостает энергии, воли к строительству жизни. (Хотя у слова «провинция» изначально не было никакого ругательного оттенка.)
Итак, чеховская пьеса доложена полностью, с четкой системой режиссерских симпатий и антипатий. Исполнение неплохое, с несколькими явными удачами. Особое предпочтение отдаю работе Зои Кайдановской. Уверенно рекомендую посмотреть всем врачам, учителям и военным в отставке, которые интересуются искусством.Блистательные закоулки
«Жизнь в театре» Дэвида Мэмета, постановка Олега Куликова. «Квартирник» по Алексею Хвостенко, постановка Романа Смирнова. Театр на Литейном (Санкт-Петербург).
После некоторой паузы театр на Литейном вновь принялся за изысканные театральные эксперименты с пространством, временем и «веществом игры» актера. Неистребимый инстинкт театроведа, видимо, подсказал руководителю театра А. Гетману именно такой путь, и он наиболее адекватен: ни в академические, ни в коммерческие театры Литейке никогда не выбиться (да и было бы куда выбиваться-то, скажем мы с нехорошей улыбкой!). Надо делать что-то такое, чего нет нигде, нечто законченно и безнадежно неформатное – то есть своеобразное.
Ведь даже историческое местоположение театра на Литейном своеобразно – между Большим домом и бывшим «Сайгоном», между торжественной угрюмой громадой Государственной безопасности и рассадником неформальной культуры. Вот тут и вертись! – как говаривал учитель Медведенко, и тут, на Литейке, как раз немало кто «вертелся» – включая молодого и удивительного Льва Додина с его уникальным «Недорослем».
Успехи театра на Литейном имеют два свойства: они, несомненно, чисто театральной природы, это именно что настоящие театральные победы, не связанные с конъюнктурой, модными именами или другими привходящими обстоятельствами, и они – летучи. Отчего-то у театра не получается закрепиться на достигнутых высотах. Никак не получается сформировать устойчивую репутацию. Как поется в песне, «то взлет, то посадка».
На взлете театр, деликатно спрятанный в глубине дворика, а не выпячивающий грудь в колоннах, кажется милейшим приютом бродячих собак-театралов. Его скромные помещения притягивают обаятельной непритязательностью, отсутствием всякой показухи – только театр, чисто театр, без шума и пыли. Но в период посадки в глаза начинает лезть ярко выраженная ленинградская коммунальная бедность, тусклый свет, вялые больные лица зрителей, скучная игра разномастных актеров. Нет спасительной исторической инерции бархата-позолоты, которая бы позволила просто культурно провести досуг, не слишком вникая в художественную ценность спектакля.
Нет уж, кому-кому, а Литейному никогда не отвертеться с помощью громких теней прошлого, шикарного ремонта и народных артистов. Тут все дела ведутся с обезоруживающей честностью – есть художество, есть и театр. Нет художества – и перед нами какой-то странный осколок времени безумной Софьи Власьевны, твердой рукой маньячки проведшей полную театрализации страны.
Сейчас, по всем приметам, на Литейном начинается взлет, и это приятное время хочется продлить хоть сколько-нибудь. Как-то повальсировать немного между «остановись, мгновенье» доктора Фауста и «все проходит» царя Соломона. Завораживающее блистание производится не с большой сцены, а из закоулков – «Жизнь в театре» играют в маленьком рукаве фойе, завершающемся выходом из театра, «Квартирник» – в выгородке за сценой (правда, несколько сотен зрителей там все-таки помещается). Театр словно ищет собственный смысл вне положенного ему пространства обыкновенной сцены, и это бы неудивительно – случалось многажды – удивительно то, что он этот смысл находит.
«Жизнь в театре» американца Д. Мэмета (перевод Г. Коваленко) не производит впечатления серьезной вещи. Пьесы, где театр болтает сам о себе, вообще действуют на меня как отражение одного зеркала в другом (дурная бесконечность). Таких сочинений довольно много, и хуже английских драм о театре только французские пьесы об актерах. Куда лучше, когда выходит наглый господин и заявляет, что он король Лир или Дон Жуан. Как-то это располагает к зажжению волшебного фонаря. А играющий актера актер что-то не очень располагает. Но здесь-то у нас иной случай, здесь у нас Сергей Дрейден – стало быть, вся поверхность текста будет взрыта, разрыхлена, мы уйдем в глубину, пробурив глину красивостей и интеллектуальностей, и найдем чистую, свободную воду с большим содержанием полезных минералов.
«Жизнь в театре» – пьеса на двоих: пожилой знаменитый артист разговаривает с молодым и неопытным (в этой роли Евгений Чмеренко выказывает деликатность, такт и обаяние верно найденных интонаций), у которого вся «жизнь в театре» еще впереди. Свою маленькую и странную сценическую жизнь они ведут на «сквозняке», в нежилом и неигровом выстуженном пространстве фойе с хлопающими сзади дверями. Здесь пока ничего нет – надо опять заново родить поле игры, создать морок театра, наворожить атмосферу, населить пространство призраками сцены, прошить гулкий воздух своим звучанием. И вот веселый, чуть лукавый молодой голос начинает дуэт с голосом загадочным, который не так-то просто определить. Как не просто определить, в какой момент морок театра вступает в силу и зритель начинает видеть вовсе не то, что перед глазами.
Потому что есть у нас такой актер Сергей Дрейден, который словечка не скажет пустого и ненавидит сценическую фальшь – в чем он и объяснился в этом спектакле. У Дрейдена не все роли получаются в полную силу, особенно на больших академических сценах, но и тогда он не фальшивит – играет как-то приглушенно, грустно, словно ждет чего-то. В «Жизни в театре» он и рассказывает, чего ждет.
Действие пьесы не развивается линейно, но идет некими «колечками» – беседы актеров сменяются отрывками из пьесы, которую они играют, и снова возвращаются в гримерку, фойе или кафе, где ведется основной дуэт, но строгого отъединения между «театрожизнью» и «жизнетеатром» нет и быть не может. Тот, кто годами фальшивит на сцене, не украшает собою и жизнь: ведь источник один, как мы можем догадаться, глядя, как неторопливо, обстоятельно и с насмешливым подвохом завязывает Дрейден шнурки на башмаках, сбивая задор с молодого коллеги, несущего какую-то трескучую пафосную ритуальную чепуху про то, что я «так счастлив, что вместе с вами…». Источник всего настоящего один – душа, слушающая тайную музыку жизни. И оттого, пожалуй, самым сильным местом в игре Дрейдена становятся слова о том, как он ненавидит фальшь, наигрыш в театре, этот мерзкий звук лжи, отравляющий сценический воздух. Его герой скрывается в театре от фальши, потому и разъярен, когда его достают в месте сладостного укрытия те, кто использует театр для отвратительного самоутверждения. Дрейден знает цену звуку голоса, оттого повышает тон в исключительных случаях подобно тому, как умный водитель всегда едет «на скорости принятия решений», а не для того, чтоб обдать бедных прохожих взвихренной из-под колес грязью. Только измучившись тишиной, до донышка исследовав себя, можно решаться на необычайные утверждения – например, что утром в Венецию прибыли корабли. Корабли эти, кстати, забавной шуткой художника действительно «проплывают» в финале позади наших героев – их, игрушечных, тянут за ниточку. Но чтобы сказать такой текст и получить право на эти корабли, надо помытарить себя, заплатить собой за право прекрасно морочить публику.
Сергей Дрейден – один из немногих актеров, которые связывают собой разорванную связь времен, нарушенный ход театральной жизни. Его постоянная рефлексия – непременная принадлежность такого вот гамлетовского существования, обеспечивающего и сейчас жизнь того самого театра, который умел «держать паузу». Словно сам воздух задумчивого, совестливого интеллигентского театра 70-х остался какими-то своими молекулами в существе этого актера и затрудняет-облегчает его сценическое дыхание. Он промолчит там, где другой закричит, вздохнет там, где нынче принято хохотать, удивленно посмотрит в зал, вместо того чтобы «хватать публику за задницу» (по выражению одного московского режиссера).
И потому история о том, как почтенный актер учил молодого жизни в театре, превратится в сюиту струящихся вздохов, тихих вскриков, медленных изысканных движений, в танец-молитву… об искренности актерского существования. Этот маленький и очень приятный спектакль звучит как надежда на разворачивание в дальнейшем еще более полнозвучных отношений жизни и театра и в душе отдельно взятых артистов, и в ансамбле и пространстве большой сцены.
«Квартирник», который играют тоже не на большой сцене, а за ней, названный с нарочитой скромностью (квартирниками называли концерты авторов-исполнителей в квартирах, под винишко, среди своих), неожиданно для публики вышел «большим» спектаклем, а вовсе не камерным этюдом на темы песен, стихотворений и прозы обаятельного героя андеграунда 70–80-х Алексея Хвостенко. Ведь не раз уже случалось в нашем искусстве, что «авангард оказывается в арьергарде – все дело в перемене дирекции»{Реплика одного из героев «Месяца в деревне» Тургенева, в спектакле А. Эфроса ее неподражаемо произносил Л. Броневой.} и наоборот: маргинальное оборачивается главной дорогой, а флейта заглушает надоевшие барабаны. Так и Хвостенко в остроумной композиции режиссера Романа Смирнова предстает выразителем главных тем искусства ХХ века в особенной петербургской тональности. Хотя обаятельный пьяница и балагур долгое время прожил в Париже и был по характеру интеллигентным бомжом общемировой складки, привкус питерского подполья в его творчестве очевиден. Жестокость историческая, государственная, да и жестокость жизни вообще давят на берегах Леты-Невы не просто маленького человека, бедного Евгения, но человека, всласть хлебнувшего мировой культуры, человека с умом и душой, человека, которому с этой культурой и душой решительно некуда идти.
Поэтому он и поет. Вместо того, чтоб погибнуть, перед тем, как погибнуть, – а может так сложиться, что и после гибели.
Двенадцать молодых актеров Литейного, надо заметить прежде всего, отлично поют песни Хвостенко (аранжировки Дмитрия Федорова – группа «Soundscript33», в полном составе на сцене), песни самые разнообразные, требующие понимания и вкуса. У каждого – своя маска, чаще всего шутливая: тут и непременный пьянюшка-братишка в тельнике (Денис Пьянов или Сергей Мосьпан) с чайником вина и вечной грустной ухмылкой доброго и умного забулдыги, и его сердитая женка (Любовь Завадская), и два поэта-алкоголика Петр и Павел, ходящие вечной уморительной парочкой (Игорь Милетский, Константин Мухин), и напористая экскурсоводша с мегафоном (Анна Екатерининская), от гладких текстов про город Петербург плавно переходящая к очаровательной ахинее в стиле Хармса, и печальная кудрявая девушка со скрипкой (Ася Ширшина), и девушка победоносно-женственная, с чертовщинкой (Мария Иванова), и сорванец-девчонка с лицом Кабирии, голосящая сиротские песни (Полина Воронова), и человек в очках и шляпе, вроде бухгалтера (Александр Безруков), и роскошная женщина, сначала скромно кутающаяся в серый плащ, а затем предстающая во всей красе, да еще с голосом оперной дивы (Татьяна Тузова), и другие фигуранты… Все это население за полтора часа, что длится спектакль, от песни к песне ведут нас от поверхности жизни вглубь, а потом и вдаль – к просветлению нищей и падшей жизни через музыку.
После завываний экскурсовода через авансцену проходит дама с ящиком пустых бутылок – их незабвенный звук, звук заполненной тары, будет еще не раз обыгран в спектакле. Напевает же дама «Под небом голубым…» Что ж, знаменитая песня Хвостенко, которую потом перепел Гребенщиков, конечно, выросла именно отсюда и под этот душераздирающий «звяк». Жена сердится на друзей-собутыльников, которым негде выпить, а чаще всего и не на что, и Петр-Павел начинают с убийственной серьезностью петь про то, как «мы с Ванечкой под дождем стоим». Вот отсюда, из замызганного быта люмпен-интеллигентов, поданного в грустно-шутливых крупных деталях, история начинает разбег. Тема пьянства друзей развернется в трагикомический номер – песню «Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич!», которая сделана как надрывная исповедь а капелла вконец замученного русской жизнью человека, не находящего прямых слов для изъяснения своего ужаса перед ней. Тема непонятных, сердитых, рядом со всеми этими запьянцовскими братишками проживающих женщин вознесет самую главную чертовку на тумбу-пьедестал, откуда она пропоет демоническую «Орландину», а не предназначенный для жизни людей город Петербург и вообще превратится в библейское пространство, где слуги поют о том, что «Мы вино Давиду гоним», то есть жизнь наша – вечное, изнурительное служение-угождение неведомому «Давиду»… Нервные рваные ритмы спектакля выдохнут, наконец, в кульминации великолепную хвостенковскую «хава-нагилу»: «Одна могила, одна могила, одна могила примет меня… В могилу рано нам! В могилу рано нам!» Запевают ее три женщины низкими страстными голосами, а подхватывает все население спектакля, изображая лихой люмпен-интеллигентский оркестр, где бухгалтер трещит счетами, а пьянюшка-братишка подкидывает тару с пустыми бутылками. В могилу рано нам! От этой обезоруживающей, рвущей душу, надрывной честности вопля, где бесхитростно и притом изысканно выражен ужас перед смертью и жажда жизни, через маникально-депрессивное чередование пьяного куража и похмельной пришибленности мы придем к постепенному извлечению света из людских душ («Мы – люди… Мы – бреды ужасной победы…» – заверит нас ансамбль). Это уже с трудом уловимые и объяснимые материи. Здесь много значат поющие женщины, что-то оплакивающие, к кому-то взывающие – к тем или, точнее, к Тому, Кого с нами нет. Разум тут не поможет, он скорее высмеивается в сцене с запертым в шкаф и вещающим оттуда «бухгалтером», колоколом рассудка, который и сам вроде помешался. Но мир яснеет, светлеет, куда-то мы выезжаем, на какую-то поляну, столы сдвинуты и накрыты белыми скатертями, начинается светлый пир, актеры сбрасывают маски, гремит величальная, шуточная и великолепно-торжественная хвалебная песнь Отцу миров. И здесь хвалятся все – растения, мелкие гады, млекопитающие и даже сам осрамившийся «венец творенья».Мы всех лучше!
Мы всех краше!
Всех умнее и скромнее всех!
Превосходим в совершенстве
все возможные хвалы!
Наконец-то всем на радость
Мы теперь нашли слова такие,
Те, что точно отвечают
положению вещей.
Явная шутливость текста снимает пафос, а свет остается – на лицах актеров, тот особенный, театральный «фаворский» свет, который, собственно, театральный зритель и разыскивает повсюдно. Роман Смирнов в силу особенной складки характера не может вести консервативное профессиональное существование. Но здесь он, соединившись с очевидным собратом по натуре, с Алексеем Хвостенко, создал спектакль, максимально отвечающий своему порывистому, неровному, глубоко музыкальному дару сценической композиции. «Квартирник» – это никоим образом не концерт, и не мюзикл, и даже не развитие отечественного жанра зримой песни, это особенный мело-театр, сотканный из тонких энергий музыки, которые определяют обычно куда более плотное, «грубое» актерское существование. Здесь оно размягчается, высветляется, начинает пульсировать, прирастать дополнительными настроениями и смыслами. Как хорошо мы знаем этот «аккорд» потерянности, бедности, печали, трехгрошового шутовства и – гордости, особенного творческого «проницания жизни» сквозь ее фасадное рыло! Человек загнан в угол, стерт, притиснут, он жалок и слаб, но, пытаясь услышать внутреннюю музыку, будучи искренним и честным даже в малости и убогости своей, он постепенно может вырваться из клетки будней на волю. Достучаться, допеться, доплакаться, домолиться до света. В «блистательных закоулках» театра на Литейном тихо вылез нежный отросток настоящего метафизического театрального Петербурга. Спешите видеть. Вещица нежная, долго в реале не держится.
Всё честно и благородно
«Поздняя любовь» А.Н. Островского в Молодежном театре (Санкт-Петербург). Режиссер В. Туманов.
Зрители расходятся в состоянии приятной взволнованности, у некоторых влажно поблескивают глаза: кажется, Островский плюс Туманов в Молодежном эту самую молодежь «пробил», задел, тронул и сделал это безопасным и неагрессивным способом. Нежно. Легкими касаниями. Только через актеров.
«Поздняя любовь» в трактовке Владимира Туманова обнаруживает тесную связь с хорошей советской драматургией – с Розовым, Володиным, Арбузовым и Вампиловым. «Сцены из жизни захолустья» А.Н. Островского (там не только «Поздняя любовь», есть и другие пьесы этой серии) – это, так сказать, прародительское место, источник всего последующего. Почему я не поминаю Чехова? Ну, всуе не хочется, и к тому же есть, есть важное отличие.
В захолустье Островского живут бедные люди, а бедные люди в русской стороне – это учителя, актеры, сбившиеся с курса юристы, обедневшие чиновники.
Это интеллигенция, собственно говоря. Или точнее – праинтеллигенция. Лишенная кратковременного исторического миссионерства и всяких высокомерных галлюцинаций, она в мире Островского находится в положении чисто страдательном и оттого ужасно симпатична. Впрочем, Островскому ведь вообще симпатичны хорошие бедные люди, а уж если они еще и какие-то книжки читают, автор буквально ласкает их веселым и сочувственным взглядом. Эта праинтеллигенция, как и советская и постсоветская интеллигенция, встроена в общий мир на скромных правах. У нее нет того особенного значения, которое, конечно, имеют интеллигенты Чехова. Те при всей униженности или несчастливости говорят миру «новые слова», несут «вести из будущего», мыслят масштабно и перспективно. У Островского этого нет, ведь главное измерение ценности человека в его мире – измерение не духовное, а сердечное. Стало быть, тут «новые слова» не нужны – нужны, напротив, слова старые.
Праинтеллигенты Островского – добрые, сердечные люди, устанавливающие вокруг себя стандарт честных, добросердечных отношений. Учитель, актер, юрист, чиновник хороши тогда, когда в противовес родному своему «захолустью» (умственному и нравственному) не воруют, не лгут, не хамят, не зверствуют ради денег, не обманывают девушек и не унижают слабых.
Жители «захолустья» из «Поздней любви» – наши глубокие родственники, и именно эту похожесть и подобность, эту сердечную «володинскую» нотку вытащил Туманов из пьесы, хотя вполне можно было вытащить совсем иное.
Обстановка воистину скромная, как и просил автор: в заднике прорезана узкая щель-дверь, где угадывается лестница, на авансцене стол и скамья, конторка да этажерка темного дерева (художник-постановщик А. Орлов). И платьица на женщинах все черненькие да серенькие, так что глаз тоскует, и, прекрасно об этом зная, художник по костюмам С. Граурогкайте во второй половине спектакля припасет сюрпризы: разгар чувств выразится и сменой цветовой гаммы.
Пьесу, как мне показалось, играют почти без купюр, благо она по объему невелика и по языку не архаична.
У мамаши Фелицаты Шабловой (И. Полянская) – два сына: один трезвый и работящий, но дурачок (Дормедонт – Е. Титов), другой умный, но пьющий и деньги мотающий (Николай – А. Кузнецов). От бедности Шаблова сдает комнату жильцам, семье Маргаритовых, – Герасим Порфирьевич (П. Журавлев) разорился из-за одного несчастного происшествия, но мечтает поправить дела, а его дочь Людмила…
А его дочь Людмила. Тут придется споткнуться, пересказывая сюжет, потому что и в пьесе, и в спектакле этот образ имеет первостепенное значение.
Людмилу Маргаритову, девушку, самозабвенно полюбившую Николая Шаблова вплоть до преступления (ради возлюбленного она берет из портфеля отца важнейший документ), играет Эмилия Спивак.
К нашему всеобщему счастью, дочь главного режиссера Молодежного театра – талантливая актриса. Вот свезло так свезло! Прямо скажем, не всем городам и театрам так везет.
В фильмах и сериалах Эмилия Спивак играет, как правило, энергичных, предприимчивых, раскованных молодых женщин, в которых жизнь и свобода бурлят горной рекой. Женщин, которые бесстрашно ловят преступников, рассекают тайгу с ружьем, обнажают красивые формы, ходят быстрой уверенной походкой и не знают ужасных сомнений в своей привлекательности, потому что у таких сомнений нет и клочка почвы – на сегодняшний день. Раньше этих девчонок называли разбитными. Глаза у Эмилии Спивак в таких картинах любопытные, насмешливые, бойкие.
А здесь – немолодая и некрасивая девушка, воспитанная в моральных нормах позапрошлого века. Тихая, работящая. Которую только страшная сила разгорающейся любви толкает на смелые поступки. И с этим образом актриса не просто справляется, но создает его твердо и решительно.
В начале спектакля Людмила и Фелицата-хозяйка сидят у стола вечерком с чайком, рукодельничают, толкуют о делах и честно отрабатывают грамотную авторскую экспозицию.
Людмила разговора не ведет, бросает реплики, взглядывает на Шаблову напряженно и осторожно. Она любит Николая давно и безнадежно, она вся как сжатая пружина, но могучая привычка к дисциплине, к подчинению своих чувств диктует постоянную сдержанность, собранность, немногословие.
А глазенки блестят, вздохи вырываются, горит девушка, горит на вечном огне и должна-обязана никогда своих чувств не выдавать, таить, сберегать. Да и некому выдавать-то – одна среди людей со своей маленькой, горячей и никому не нужной тайной. Подумаешь, любовь. Подумаешь, девушка. Все драматурги, которых интересовали такие пустяки, давно в гробу.
Играть влюбленное состояние души, запертой в обыденности, да еще когда нет специальных режиссерских трюков, – это, конечно, проверка актерского класса. За много лет вспомню с наслаждением зрителя, пожалуй, только Елену Майорову (Маша, «Три сестры», МХТ), в которой любовь жила как острая, блаженная боль, сгибающая ее в сцене расставания буквально в три погибели, так в Майоровой и жили эти самые «три погибели» – никак не одна.
В образе, созданном Эмилией Спивак, любовь – это жажда действия и подвига, зарождение огромной энергии, обрушенной на одного человека. Людмила в сфере чувств новичок, у нее не было никакой практики, оттого ее душевные движения пластически выражены нелепо, забавно. Во втором акте героиня решила немножко нарядиться и повязала две цветные ленточки – в косу и на шею, не знаю, кто именно придумал эту деталь, но она точная и хорошо зрителем читаемая: конечно, так по-дурацки и наряжаются бедные девушки, желая понравиться. В ее горящих глазах, маниакально следящих за возлюбленным, есть что-то пугающее, она скорее похожа на подвижницу, начинающую революционерку, чем на скромную влюбленную девушку. И это и по сути, и стилистически точно: ведь и в самом деле для многих русских женщин (этот тип уходит в прошлое, но еще не вывелся) любовь переживается как подвиг, да подвигом и является, учитывая национальные особенности русских мужчин.
Николай Шаблов (А. Кузнецов) играет своего «типичного представителя» без всякого осуждения – симпатичный, грустный, слабый человек, вечно раздраженный от невозможности справиться с собой, никак не «в сапожках лаковых Гастон», мечта служанок. Хотя именно таких обаятельных избалованных пьяниц служанки и принимают за «Гастонов». Два раза в спектакле герой подхватывает Людмилу на руки и кружит ее под душещипательный вальсок, увлеченный кратким порывом чувства (и цитируя знаменитый дуэт Отелло и Дездемоны из «Отелло» Некрошюса), но это не любовное чувство, на любовь у Николая нет душевных сил. Износился, обтрепался душой, а мужской интерес у него вызывает не Людмила с ее маниакальными горящими глазками, а циничная кокетка Лебедкина (С. Строгова), его презирающая. Интересная «смена оптики», написанная автором, – как мужчина изменяется в женских глазах – разыграна актерами вполне убедительно. В глазах Людмилы герой прекрасен, ему надо служить, его надо спасать, в глазах Лебедкиной он ничтожество, рядовой слабак, которого можно использовать. А он и не герой, и не ничтожество – а нормальный и совсем неплохой парень, чего, кстати, никто не видит, кроме зрителя. Любовь Людмилы действительно помогла ему выбраться из житейской передряги, потому что «теплее, когда тебя кто-нибудь любит».
Я не останавливаюсь на сюжетном барражировании вокруг денег и векселя, это все на месте и прекрасно функционирует. Зритель как не читал пьес, так и не читает и внимательно следит за приключениями заемного письма, по которому Лебедкиной следует заплатить купцу Дороднову, а поверенный Дороднова – Герасим Маргаритов, отец Людмилы, а Людмила берет из портфеля отца это письмо и отдает Николаю, а Николай делает копию, в то время как Лебедкина убеждена, что дурачок задаром отдал оригинал, и т. д. Мне были прежде всего интересны люди, лица, характеры. Многое удалось, хотя и не всё.
Петр Журавлев (Маргаритов) нашел спокойный, верный тон для своего героя – той особенной острой темы личной чести, какая была в телефильме Л. Пчелкина в исполнении Иннокентия Смоктуновского, в нем нет, но есть добротная обрисовка скромного характера честного захолустного интеллигента. Не вполне освоилась с возрастной ролью Фелицаты Шабловой эксцентрическая, гротескная актриса Ирина Полянская – что-то в ее существе «не поместилось» в образ хозяйки дома, ворчуньи и хлопотуньи. Она энергична, бодра, с темпераментом, но, наверное, всё-таки рановато Полянской играть старушек Островского или это и вообще не ее стихия. Изюминки нет, сыграно без аппетита, чувствуется нервное раздражение актрисы, не нашедшей пока контакта с ролью. Статная С. Строгова неплохо смотрится в роли Лебедкиной, но, правда, хотелось бы большей свободы, раскованности, игры – ведь взбалмошная вдовушка с ее эгоцентрической «философией» есть главный антагонист героев, носительница враждебной им жизни. А вот простодушный Дормедонт – Евгений Титов – сыгран с большим аппетитом и очень нравится зрителю, что неудивительно: Дормедонт явный родственник Миши Бальзаминова, а Мишу Бальзаминова никто и никогда не вытеснит из зрительского сердца. Милый простак всегда в цене, особенно сейчас, когда и дураки стали закрученными, заверченными, заслонились образованием и деньгами. А тут без примесей, чисто и славно: волосы дыбом, глаза сияют, что ни сделает – всё на потеху, но не грубо, а в общем русле стильного, добросовестного этюда.
В режиссуре Владимира Туманова на этот раз самое примечательное – адекватность избранной пьесе, создание единого стиля постановки, решительный отход от карикатуры, шаржа, утрирования Островского. Слова Дормедонта «у нас все честно и благородно» можно счесть главным лозунгом новой «Поздней любви» в Молодежном. Никакой агрессии – грустно без надрыва, смешно без кривлянья, актеры словно вгляделись в персонажей, как в близких и равных людей. Да, в безоглядной любви Людмилы и в ней самой есть что-то исступленное и пугающее – но это лишь нота, в мире пьесы и спектакля жизнь героев сложилась вроде бы к лучшему. Этот спектакль, изысканный и аскетичный, излучает что-то строгое и благородное – ощущение чистоты, бедности, душевности, правоту «захолустных» людей в их надежде на тихую достойную жизнь. Вот так, затаившись в комнатке возле своей этажерки, любя ближнего и опираясь друг на друга, добрые честные люди могут выжить. Да и выживают – который век подряд.Из прошлого…
Когда солнце было за нас
Итак, друзья, мы переносимся в октябрь 1983 года, на Исаакиевскую площадь, дом пять. Здесь расположен научно-исследовательский отдел Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Я – аспирантка сектора источниковедения и работаю над темой «Драматургия A.Н. Островского 1870-х годов». Я отчаянно влюблена. Сейчас откроется дверь – и Он войдет. На нем – шикарный черный плащ (от комиссионного магазина на улице Некрасова), польская рубашка в клеточку (от комиссионного магазина на Лиговском проспекте), а на плече висит настоящий воинский планшет (от дедушки). Он – тоже аспирант сектора источниковедения и пишет диссертацию «“Моцарт и Сальери” А.С. Пушкина в контексте русской художественной культуры XX века». Он легок, прохладен, свободолюбив, разговорчив, он улыбается, как принц эльфов, и зовется Сергей Шолохов.
Наши коллеги, усиленно трудящиеся над темами «Героическое в советском искусстве» и «Образ B.И. Ленина в театре семидесятых-восьмидесятых годов», считают нас задаваками и пижонами. Это несправедливо. Мы – дети трудового народа. Мама Шолохова, золотая медалистка, архитектор, не имеет даже собственного участка и снимает коммунальную дачу в Солнечном – которую у нее отберут в девяностых годах, хотя именно она эти приюты для бедных и проектировала. Моя мама, золотая медалистка, недавно защитила кандидатскую диссертацию, название которой я выучила с целью произнесения в гуманитарной среде. Вот оно: «О некоторых особенностях дисбаланса карданного вала привода подвагонного генератора». Собственности мы не имеем никакой, хотя мамины изобретения даже внедрены. В середине восьмидесятых будет куплена избушка в Псковской области за огромную для нас сумму (семьсот рублей), нынче ободранная богатырскими псковичами вплоть до розеток и проводов и даже, кажется, уже раскатанная по бревнам.
Однако мы с Шолоховым получаем приличную стипендию (сто рублей, девяносто на руки) и потихоньку начинаем печататься. Шолохов – в газете «Ленинградская правда», я – в газете «Ленинградский рабочий». Рецензия на х/фильм стоит в «Рабочем» рублей четырнадцать-шестнадцать. В «Правде», конечно, подороже. Это загадочное учреждение занимает три этажа известного дома на Фонтанке, а мой скромный «Рабочий» – всего пол-этажа. Хотя оба товарища являются, как написано у них на лицах, «органами ленинградского обкома КПСС». Ну, мы ж понимаем, органы органам рознь.
Вот, значит, как. Сейчас Он придет, и нас посетит одна и та же идея. Эта идея появилась сразу, как только мы поступили в аспирантуру и явились на первое заседание сектора источниковедения, в январе восемьдесят третьего года. Идея заключалась в том, чтобы пойти выпить пива, а потом пообедать в столовой Консерватории. К июню мы допились пива до того, что в день рождения А.С. Пушкина моего принца эльфов забрали в «трезвеватель». Я тоже влезла в милицейскую машину, желая разделить участь друга. Но меня почему-то забраковали, а Серёгу отдали через два часа, после того, как я залила горестными слезами весь участок с сильным текстом вроде «Отдайте мне его, я без него не могу жить!». Сначала служители закона вежливо объясняли мне, что привезенное они никак не могут отдать, потому что оно не ходит и, в общем, ни для каких целей не годится. Потом, встревоженные силой моего чувства, вывели бледного и ласково улыбающегося Серёгу. По дороге домой он сломал ветку сирени и подарил ее мне со словами: «Ты – настоящий товарищ».
Это была правда, но она мне не понравилась. Я не собиралась с ним дружить. Я вообще дружу с мужчинами, когда у меня нет времени, желания или возможности их соблазнить. А тут-то времени было – вагон и маленькая тележка! Застой же стоял, благослови его господь! Я могла преспокойно стравить целый год на приручение абсолютно неприручаемого эльфа.
Скоро эти каникулы Бонифация окончатся. Задуют ветры истории, раздастся подземный гул, юноша в черном, с грацией пантеры, глухим голосом вечности споет про звезду по имени Солнце, а другой, с раскалёнными глазами, в красном шарфе, закричит о том, что Солнце за нас! В развалившихся домах культуры мы будем плясать на спинках стульев, счастливые, яростные, веселые, всерьез поверившие, что дракон издыхает, что рассыпается советский Китай, что из этой грешной и глубоко падшей жизни еще можно выжать пол-литра счастья для всех. А они будут врать нам про Чернобыль, как теперь врут про «Курск», и хлопотать вокруг своих поганых денег, как хлопочут и сейчас, и с грехом – да что там! – со всеми смертными грехами пополам взбираться на гору из жирных кусков, которую они нынче обвели заборами, стенами, оградами, решетками, и правильно, психических больных и надо изолировать от общества.
А потом начнут умирать веселые ребята восьмидесятых, гуляки, задаваки, пижоны и, по нынешнему говоря, «приколисты», не дотянув и до сорока, и уйдет лихое время, когда Солнце было за нас.
Но это потом – а покуда я стою на лестнице бывшего особняка графа Зубова, курю болгарскую сигарету «Интер» и жду появления силуэта, от которого забьется мое бедное сердце. Мне безразлична советская власть, я люблю драматургию А.Н. Островского, могу осилить целую бутылку знаменитого портвейна с изображением приветливого дяденьки в шляпе (от коего падают признанные бойцы), мне все равно, что есть, как одеваться и что обо мне скажут. Помню, в восьмидесятые хорошее настроение было – годами.
Опять двойка
Некоторым образом, некогда и в некоем царстве (и совсем даже не в Элладе, в Элладе только принимали последствия этих событий) единая и неделимая богиня, владевшая всей полнотой стихии любви, разделилась на две части. Рожденная из семени Отца, излитого в море, богиня раздвоилась на Любовь Небесную и Любовь Земную, в терминах того времени – на Афродиту Уранию (для избранных) и Афродиту Пандемос (для всех остальных). Это известно всякому образованному человеку. Но никакое образование не дает ответа на вопрос, зачем это понадобилось и что с этим делать.
В аллегорической живописи Урания, как правило, стройна, печальна, окружена своими ураническими атрибутами и смотрит куда-то мимо земной жизни. Пандемос, естественно, розовощека, крутобедра, окружена символами плодородия и смотрит прямо на зрителя – дескать, выбирай, дружочек. Или она, или я.
Если это была провокация, то она удалась блестяще. За долгие века человеческих мучений удалось образовать целую область небесного томления по недоступным и недостижимым соитиям. Однако сказать, что Урания в своей борьбе за власть над человеком вовсе обходилась без Пандемос, было бы неверно. Скорее, сочиняя текст жизни, оба единосущных воплощения действовали в паре. Вроде как Гаррос – Евдокимов.
На русской почве первым (а может, и единственным), кто догадался об этом, был А.С. Пушкин. Его стихотворение «Рыцарь бедный», изуродованное цензурой, процитировал Ф.М. Достоевский в романе «Идиот». Речь идет о страннике, «сгоревшем душою», который не смотрит на земных женщин, оттого, что «полон чистою любовью, верен сладостной мечте». Строфу о том, что же случилось конкретно, цензура изъяла. А случилось вот что: «Путешествуя в Женеву, / на дороге у креста / видел он Марию деву, / матерь Господа Христа». Далее, как известно, «он себе на шею четки / вместо шарфа навязал / и с лица стальной решетки / ни пред кем не подымал <…> / возвратясь в свой замок дальный, / жил он строго заключен, / всё безмолвный, всё печальный, / как безумец умер он».
И тут начинается самое интересное. Даже если Достоевский знал о заключительных строках «Рыцаря бедного», повторить эту великолепную ересь он не мог. «Между тем как он кончался, / дух лукавый подоспел, / душу рыцаря сбирался / бес тащить уж в свой предел: / он-де Богу не молился, / он не ведал-де поста, / не путем-де волочился / он за матушкой Христа. / Но пречистая сердечно / заступилась за него / и впустила в царство вечно / паладина своего». Итак, вместо чистой, отвлеченной любви мы вдруг имеем ясную картину крайней эротической одержимости недоступным предметом. Недоступным в земной жизни, но существующим. Рыцарь видел свою даму и по-своему «волочился» за ней. Довольствоваться эрзацами он в силу цельности и возвышенности натуры не мог. И победил, тронул сердце дамы, впустившей его в свое царство. То есть перед нами любовная история, сплетенная Уранией не без участия Пандемос – но, в отличие от Пандемос, разводящей свои костры прямо на земле, да еще не по одному разу за короткую человеческую жизнь, Урания дает некоторые перспективы и на небесные просторы. «Там и потом» можно встретиться. Но что мы найдем «там и потом» в смысле эроса – вопрос заколдованный.
Желающий ознакомиться с верованиями человечества по этой части, будет долго и сладко продираться сквозь сонмища влюбленных, ревнивых, отверженных и взыскующих богов и героев, пока не спотыкнется трижды – об Яхве, об Христа и об Аллаха, чтобы навеки застыть в недоумении: так они «там и потом» занимаются этим, в конце концов, или нет? (Или, как Марлен Дитрих однажды спросила изумленно: «А что они там делают, на небе, сидят на головах друг у друга?») С ангелами вроде бы понятно – они не женятся и детей не имеют. Но ангелы ведь представляют собой что-то вроде сферы небесного обслуживания, это такие небесные рабочие пчелы, им и положен специальный ангелоэротизм. А там еще туча населения, на небесах, они-то как? И влияют ли наши земные приключения на тамошние лав стори?
М.Ю. Лермонтов считал, что очень даже влияют. Он написал стихотворение о людях, любивших друг друга «долго и нежно», но избегавших признаний и встречи. «И были пусты и хладны их краткие речи». Наступила смерть, состоялось свиданье за гробом – «Но в мире новом друг друга они не узнали». Значит, по Лермонтову, дело простое – при жизни не потрудились, после смерти не получили награды.
В.В. Набоков тоже пытался представить, как могут выглядеть послесмертные свидания тех, кто был при жизни вместе, но даже его могучее воображение как-то буксовало. Герой романа «Пнин», бедный профессор, всю жизнь страстно и тоскливо любил свою жену Лизу. И вот, будучи уже пожилым и беспросветно одиноким, Пнин думает с горечью – а что же я буду делать на том свете, когда ко мне подползет эта жалкая, уродливая душонка (Лиза на земле красавица, но душа у нее мелкая, некрасивая) и попросит о помощи, о союзе? А если, например, у человека было три жены – тогда что?
Решительно запутавшись в туманных предположениях, человек обычно твердо останавливает свой утомленный взор на розовых щеках Афродиты Пандемос. Тут все ясно: «здесь и сейчас», а «там и потом» разберемся как-нибудь.
Но Пандемос без Урании становится распутной, лживой, грубой и мелкой – а Урания без Пандемос бесплодна, суха, истерична и фальшива. Жизнь опять получает двойку, разбиваясь на бордель и монастырь. Небо и Земля смотрят друг на друга подозрительно и сурово. А отдельным индивидуям приходится, как всегда, вертеться на житейской сковородке – то к Урании подольститься, то Пандемос не обидеть. Крутимся, короче!
Радости праздности
«Праздник» и «праздность» в русском языке – одного корня. Не знаю, есть ли в других языках что-нибудь подобное, однако имею твердые предположения. Счастье как отсутствие всякой целенаправленной и осмысленной деятельности – конечно, это русское счастье. И главная особенность всякого праздника состоит в том, что он – не работа.
Поэтому размышления на тему, что и как праздновать, они, в общем, праздные. Второстепенные и дополнительные к главному блюду, то есть к упомянутому мной отсутствию всякой целенаправленной и осмысленной деятельности, к русскому счастью.
Для ценителей освежающих контрастов самая пикантная разновидность праздника – это пьянка на рабочем месте. Вот только что в помещении сновали деятельные монстры, изображая из себя начальников и подчиненных, трудясь над воплощением разнообразных химер. И вдруг – чудодейственное преображение. Там, где царила каторга труда, парит легкий, слегка отравленный дух праздности. У всех налито. Люди расцветают маковым цветом. Мужчины вспоминают что-то о себе, женщины задумывают что-то свое. Во время пьянки на рабочем месте, как правило, рассказываются самые глупые анекдоты, произносятся самые пошлые тосты и звучит самый дурацкий смех. Это не нарочно. Это карнавальный отдых от утомительной игры в трудовую дисциплину. Наивысшей точкой осуществления пьянки на работе является, конечно, ритуальное совокупление отдельных коллег где-нибудь в неподобающем месте – это уж чистый привет Венеры Марсу, а также Меркурию, Юпитеру и всем остальным деловым.
Говорят, будто праздность – мать всех пороков. Неправда! Праздность – она вообще мать всего. Ну, в том числе и пороков, никогда ведь не угадаешь, чего народится.
Титул самого сомнительного праздника по праву носит «День рождения». Я сильно подозреваю, что это чистый новодел, плод буржуазного индивидуализма. Старые летописи даже год рождения того или иного властителя указывают нетвердо, что уж говорить о трудившейся несколько тысячелетий массе, которая вставала на рассвете, ложилась на закате, а про свой возраст знала только, что еще может/не может в поле работать. Но буржуазная гордыня, развиваясь во времени, довела кучу индивидуумов до того, что раз в год они затевают страннейшее предприятие – собирают знакомых, заставляют их пить и есть, а взамен желают выслушать речи о том, как они сами, эти индивидуумы, хороши и прекрасны. То есть человек упрямо настаивает на том, что он родился и с этим надо считаться. Примерные хозяйки в этот день с утра парятся у плиты, чтобы потом выпить быстро-быстро четыре рюмки, вконец осоловеть и дымчатыми глазами созерцать картину безудержной энтропии этого грешного мира – как с любовью выпестованный стол превращается в помойку. О, дивный запах окурка, потушенного об шпроты! О, надкушенный соленый огурец! О, взрывоопасная «Бонаква», фонтаном заливающая полстола и пару-тройку декольте в придачу! Конечно, мы уже имеем в России достаточное количество горделивых индивидуумов, которые могут пригласить своих гостей в ресторацию. Это удобно и прилично, но как-то скучновато. Гости неумолимо подсчитывают в уме, во сколько обошлось угощение. Хозяин хорохорится на тему, что он-де может себе это позволить. Нет теплоты, и легкокрылый дух праздности подпорчен калькуляцией.
Со временем образуются круговая порука и взаимовыручка – если ты был на чьем-то дне рождения, ты уже вроде как обязан пригласить на свой. Нарастают воспоминания на тему «Это было на дне рождения у Саши, когда Паша подрался с Женей». Еще существуют мнимые оригиналы, которые обязательно произносят дату своего рождения в обществе, а потом хмуро добавляют: «Но я его никогда не праздную». За разъяснением этого феномена пожалуйте к Марксу или Фрейду, я его не разгадала.
Самые правильные праздники – конечно, религиозные. Но их надо выстрадать от века положенным образом, иначе, как ни въезжай в проблематику, поэтика останется чуждой. Будучи полпредом вечности, церковь обойдется и без нас, и каждую весну Христос воскреснет, что бы мы ни воображали. Но кто пробовал мучиться сорок дней, дабы потом вкусить разом все отринутые блага, тот может оценить мудрость старинного устава.
Самые несправедливо забытые праздники – древние, языческие – весенний, летний и осенний солнцевороты. Отпали мы от природы, и ничего хорошего ждать от того не приходится. Весной мы празднуем, перемогая тошноту, препротивный Международный женский день, состоящий из сплошных пошлостей, давно осмеянных, так что и насмешки над «Восьмым марта» сами стали пошлостью. Летом вырисовывается День независимости России, который неизвестно как и чем знаменовать, – обычно в этот день по всем каналам поет Александр Розенбаум, человек-праздник. Осень так и осталась безрадостной, и деполитизированное Седьмое ноября превратилось в повод, утративший всякую память о причине. Крепко держится только национальное русское время года – зима. Здесь форпостом высится незабвенный Новый год.
О том, что скоро Новый год, россияне начинают поговаривать где-то в октябре. Мысль о том, что опять куда-то делись три с лишним сотни дней, честно говоря, взрослых людей радует не ярко. Возбуждает другое: надежда на то, что с последним ударом кремлевских курантов каждому счастливцу будет вручена совершенно новенькая, тугая и хрустящая пачка времени. И опять можно будет тратить все эти коварные лунные понедельники, воинственные вторники, скромные среды, царственные четверги, обольстительные пятницы, легкомысленные субботы и многообещающие – оттого и многообманывающие – воскресенья. Да, Новый год – праздник чистого времени, праздник выдачи из банка вечности положенного по закону пенсиона. Примета, гласящая, что, как встретишь Новый год, так его и проведешь, – ложная и многажды опровергнутая в опыте. Обращать внимание стоит не на то, как ты реально провел Новый год, а на то, как тебе хотелось его провести. Тут сосредоточен узел личных взаимоотношений со временем. Какие были токи желаний – уехать к черту на рога? Остаться дома? Побыть с кем-то заветным? Вообще быть одному? Оттянуться в шумном обществе? Выдумать что-либо небывалое? Ничего совсем не хотелось? Вслушайтесь в себя – это важно. Ваше личное время готовится бежать по проводам вашей личной судьбы. А нарядить елочку да запихнуть водочку в морозилочку – не проблема. Отдыхать – не работать.
Бес мелкого
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.
Старая советская песня
Все ниже, и ниже, и ниже
Стремим мы полет наших рыл,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших могил.
Злобная пессимистическая пародия эпохи застоя
Всегда остается слабое утешение: нивелировку человеческого ландшафта России, измельчание и опошление здешней людской породы можно приписать к общемировой тенденции. Действительно, мы мелки: а не мелок кто ж? Такие уж времена, как говорит один персонаж чеховской «Чайки»: «Блестящих дарований стало меньше, это правда, зато средний актер значительно вырос». Тайный юмор этого рассуждения в том, что рост «среднего актера» никому решительно не нужен, поскольку как бы ни рос средний, то есть посредственный, актер, до гения он всё равно не дорастет. Так вот, читаешь современные байки о том, что хотя гениев и нету, но средний уровень нашей литературы значительно вырос, и думаешь: а есть ли искусство без гениев и жизнь без великих людей? Не кошмарный ли сон такая жизнь, такое искусство?
Петербург – ненормальный, неестественный город с нереальной судьбой. Это русский вызов небу и земле, русская претензия на мазурку с Государем в тронном зале мировой истории. Ни у кого не было такой скорости развития, таких интересных императоров, такого количества архитектурных удач на единицу площади и времени, таких поэтов, таких наводнений, такой революции, такой блокады, такого ужасного климата (о последнем обстоятельстве петербуржцы почему-то говорят с особенным удовольствием). Если в Петербурге переведутся гении или хотя бы чудаки и оригиналы, юродивые и отщепенцы, аскеты и подвижники, если выплата ничтожных пенсий и вовремя включенное отопление составит предел петербургских мечтаний – всё, кончен бал, погасли свечи, русская претензия миру свернута и предъявлению более не подлежит.
В нынешней концепции «единой России» – серой, скучной, однообразной, абсолютно подчиненной начальникам, не имеющей никаких целей вне пищеварения, Петербургу нет места. Он, даже в своем жалком измельчавшем виде, всё-таки вываливается из всех «единоросских» координат, неправильно и недружно голосует, воспроизводит какую-то бледно-зеленую, но оппозицию, издает глухое, но вполне различимое шипение из полностью, но не окончательно придавленных СМИ. У Петербурга – недовольная физиономия, как у того повара, которому барыня приказала съесть вынутого из щей таракана (описано Щедриным). Повар, конечно, таракана съел, однако по лицу было видно, что он – бунтует, отметил сатирик.
Бог послал мне случай убедиться, какие бездны равнодушия подстерегают город, когда в июне-сентябре 2003 года, во время предвыборной кампании В.И. Матвиенко, я работала в «бледно-зеленой оппозиции» – среди журналистов «Петербургской линии», формировавших протестное голосование. Москва, полностью убежденная, что дело давно и прочно решено, даже не понимала, что мы, собственно, имеем в виду и для чего трепыхаемся. Журналистское сообщество полусочувственно-полураздраженно разглядывало сомнительных бунтарей, которым больше всех надо. Горожане пожимали плечами – чего жужжать, когда «старший приказал». Сделаем, как хочет президент, – и получим за это пирогов и пряников. Смысл воли президента не обсуждался: у него образовался прочный кредит и на бессмысленное волеизъявление.
На этом фоне каждый свободный, независимый, искренний голос воспринимался как чудо. Но таких голосов было немного.
Промолчала научная общественность Петербурга, и мне так и не довелось узнать, есть ли у нас ученые, кроме Жореса Алферова, чьи политические взгляды навсегда остались бы достоянием его личных биографов, если бы не пагубный демарш Нобелевского комитета. Во все местные отделения оппозиционных (как бы) партий поступил недвусмысленный сигнал из центра. Бизнес вздыхал, кряхтел и задумчиво тыкал пальцем в небо. Оставалась одна слабая надежда – на тех, кто вроде бы обязан силой личного примера поддерживать ментальное достоинство петербургской, сиречь русской, культуры. Мастерам искусств независимость в сегодняшнем мире положена по штатному расписанию. Какие такие политические бури могут поколебать трон знаменитого актера, известного музыканта, кинорежиссера с мировой славой или писателя-классика? Они сами могут колебать троны, их мнения должны трепетать, их расположения жадно ловить…
Двадцать пять лет назад отчим одной моей подруги с хорошей фамилией Школьник договорился с редактором Ленинградского телевидения Татьяной Богдановой насчет того, что, дескать, придет способная девочка из Театрального института. И нельзя ли попробовать поручить ей что-нибудь.
Анкетные данные у меня были хорошие, проходные – титульная национальность, никаких связей с отщепенцами. Я решила предложить телевидению цикл передач о выдающихся ленинградских актерах и набросала список. Я сейчас не помню всего состава, но вроде бы уже мало кто остался в живых.
Редактор Богданова сидела и смотрела на список без выражения лица. Потом она куда-то позвонила и спросила: «Солоницын проходит у нас как лицо в кадре?» Ответ, видимо, был неутешителен. Богданова стала спрашивать дальше. В общем, прошла одна только Елена Соловей. Я поинтересовалась, как так может быть, что Анатолий Солоницын, известнейший артист, звезда фильмов Тарковского – они же не были запрещены, шли повсеместно, – работающий в популярном театре (имени Ленсовета тогда), и вдруг не проходит как «лицо в кадре». Богданова посмотрела на меня большими утомленными глазами и сказала: «Это – телевидение. Это – ведомство Геббельса».
Из участников этой ситуации на свете остались только я и Елена Соловей. Нет Ленинградского телевидения, никто сегодня не будет по поводу актера звонить наверх и спрашивать, разрешено ли это лицо в кадре. Культура и ее деятели, казалось бы, совершенно свободны от идеологического давления. Все провалилось в тартарары – заказные фильмы о секретарях обкома, спектакли к памятным датам, масштабные полотна членов Союза художников, диссертации «Образ В.И. Ленина в кино и театре 70–80-х годов», кантаты о Родине…
Правда и то, что таких актеров, какие были в моем списке, тоже больше нет. В масштабах их таланта советская власть, конечно, нисколько не повинна – просто они, рожденные в 20–30–40-х годах, были питомцами неподорванного еще генофонда, не окончательно загубленной русской природы, неизмельчавшей насовсем людской породы, растерзанной, но не опошленной в неких глубинах культуры. Но вот структуру поведения и артистов, и всех прочих деятелей искусств формировала все-таки власть.
Власть относилась к искусству с угрюмой и свинцовой серьезностью. Докапывалась грозными постановлениями до невинных маргинальных поэтов и писателей. Следила за всеми контактами безобидных социальных мечтателей. Воевала с «пошлостью и безвкусицей» на сцене и экране. Строго и придирчиво относилась к исполнителям важных идеологических ролей. Контролировала нравственность буквально всех героев всех произведений. Соответственно, провоцировалась и обратная серьезность – «титаническое самоуважение» (термин Маяковского) советских работников искусств.
В современной России, на момент начала 2004 года, нет никакой идеологии – ни плохой, ни хорошей, ни основательной, ни авантюрной, ни гуманной, ни человеконенавистнической. Идейный корпус властей – круглый, сияющий ноль единой зачем-то России. В деле освоения природных богатств Российской Федерации с целью личного процветания никаких искусств, собственно говоря, не нужно. Нужно содержать минимум конвертируемой культуры для предъявления иностранцам и нужно как-то подкармливать тонкую прослойку работников искусств (в основном столичных) для предотвращения информационного взрыва. Что касается масс, замученных еще в средней школе, то им никакая «высокая» культура никогда не была нужна, им ее навязывали, и, правду сказать, удачно. Теперь же они могут и сами разобраться, кто им милее – Шостакович или Катя Лель.
То, что культура не нужна властям, живо чувствуется по всей стране. Равнодушное и пренебрежительное отношение к культуре провоцирует, соответственно, тайную нелюбовь деятелей культуры к самим себе. За исключением узкого круга лиц, создающих конвертируемое искусство, они не уважают себя и на удивление бездарно распоряжаются своей репутацией.
Вдребезги разбился миф об особенной «петербургской культуре», культуре «второй столицы» во время выборов Валентины Матвиенко. Да кто спорит, Петербург – город, перегруженный мечтами и надеждами, и любые разочарования тут закономерны. Мы «грузим» Петербург собственными иллюзиями, о чем он нас вроде бы не просил. И тем не менее героический миф искусств Петербурга сверстан и богат лицами, перед которыми многие современные деятели выглядят, как мелкий крысиный помет в амбаре зажиточного купца.
Тут юнкер Лермонтов пишет раскаленное стихотворение, обвиняя «стоящих у трона жадною толпой» в смерти первого поэта. Кашляет чахоточный Белинский, не примирённый с действительностью. Некрасов приводит в трепет министров и генералов колючей музыкой насмешливой русской речи. Ругается злейшим матом действительный статский советник Щедрин, выцарапывая номер «Отечественных записок» из-под цензуры. На краю долговой тюрьмы, запивая отчаяние крепчайшим чаем, Достоевский диктует молоденькой стенографистке своего «Игрока»… дальше, дальше… вот 1918 год, и голодный Блок идет читать лекцию в промерзшую университетскую аудиторию, а навстречу ему кто ползет? Вроде бы Корней Чуковский… Есенин кривит высокомерные губы – он, Божий поэт, «не расстреливал несчастных по темницам»… А вот Михаил Зощенко на собрании Союза писателей: «Вы называете меня трусом, а я русский офицер, награжден Георгием. Моя литературная жизнь закончена. Дайте мне умереть спокойно». Тунеядец Бродский на суде…
И это только литература, а сколько подвижников было во всех областях – в просвещении, в музейном деле, в музыке, в кино…
Всё так. Но это – вершины. Были и другие деятели искусств – калибром помельче, талантом пожиже. Ценили они знакомства при дворе, хороший пенсион, вовремя появившуюся рецензию, расположение начальства. Иногда они были бездарны, иногда – со способностями, но всегда применялись к обстоятельствам. «Сначала хлеб, а нравственность потом!» (Б. Брехт. Трехгрошовая опера).
Вот такие и остались, поскольку они воспроизводятся без напряжения, ходом инерции и по неумолимым законам энтропии. Что касается вершин, для их роста требуются значительные усилия, постоянный выбор, целая череда поступков и добровольное служение.
Гуманизм предлагает измерять жизнь запросами, нуждами и правами человека. Но – какого человека? Кто принят за единицу измерения? Судя по современному цивилизованному миру, эталоном человека признан сексуально неполноценный, прожорливый дебил, склонный, как пишут в бюллетенях о продаже загородной недвижимости, «к постоянному отдыху». Мир подстроен именно под него, под его проблемы с возбуждением, музыкальным слухом, умственными способностями, симпатиями в политике. Этому эталонному человеку чужды, странны и страшны все те, кто служит чему-то высшему, чем собственное пищеварение. Между тем без высшего служения жизнь бессмысленна. Лучше всего служить Богу, истине и любви, но сойдет и Родина – конечно, не единая Россия безликих начальников, а Россия идеальная, прекрасная и небесная, которую можно создать в сердце своем.
В Петербурге, среди людей искусства, есть еще хорошие кандидаты на вакантное место «горных вершин». Но, растерянные перед лицом двойной пустоты – перед равнодушием властей и равнодушием масс, – они предпочитают углубленно и сосредоточенно действовать на своей личной делянке, не вмешиваясь в политику и не раздумывая особо над общественными процессами. Попросят что-нибудь поддержать со словами «без вас нельзя» – поддержат, только не трогайте, не мешайте и при случае помогите. А вечно играющий на понижение «бес мелкого» всегда тут как тут, с ворохом злых пустяков, с мелочишкой для бедных и золотишком для богатых, с непременным «каждому свое» и «наше дело сторона». Одолеть его может только высшее служение. Иначе придется измерять собой и своими детьми всю грядущую русскую дегенерацию – я ленива, и мне что-то неохота, а вам?
Интервью, которого не было, с тем, кого не существует, записанное в изумлении и трепете смиренным литератором из Петербурга в конце ноября 1999 года от Рождества Христова
Любезные мои читатели! Рассуждения об искусстве – благородное, возвышенное занятие, достойное философов и поэтов, а потому я всегда предавалась ему не без внутренней тревоги. Но именно сейчас вопрос о том, достойна я или нет занимать ваше внимание и ваши мысли, не волнует меня. Ибо чувствую настоятельную и неумолимую потребность рассказать вам о чрезвычайном видении, посетившем мою душу прошлой ночью.
Хочу предупредить вас, любезные читатели, что от природы я ужасно и удивительно здорова, так что, живя в человеконенавистническом климате Санкт-Петербурга, никаких серьезных расстройств организма не имела, кроме обычных простуд и периодических приступов отвращения к жизни. Но ведь и это дело обыкновенное. Не имею решительно никакой тяги к сверхъестественному, полагая, что и естественного на мой век хватит, а того, что расположено за чертой земного опыта, того мы «не знаем и не узнаем», как говорили древние, не помню кто. Наверное, греки. Оттого я уважаю все священные книги человечества, но буквально веровать в них не могу. Не станут же ребенку, незнакомому с арифметикой, разъяснять алгебру! Не думаю, что младенческому разуму человека вообще следует сообщать истину в ее полноте. Так, что-нибудь вроде азбуки в картинках, не больше того: кто бяка, кто молодец и чего никогда не надо делать, а то накажут.
Занимаясь сочинительством скромных заметок о летучих впечатлениях бытия, я часто поминаю Бога и дьявола, ангелов и демонов, свет и тьму, праведников и чертей – не имея перед глазами никаких четких образов, но следуя принятой литературно-художественной традиции, всем известной, всем понятной, исключительно живописной и отражающей нечто неведомое, но несомненно существующее. Пользуясь языком этой традиции, могу сказать, что сама я скорее из штаба Михаила Архистратига, чем в войсках Денницы Люцифера, к делам и стилю бытия коего не питаю ну никакой склонности.
Однажды, рассуждая печатно о фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула Брэма Стокера», я изволила пошутить следующим образом: наверное, написала я, в конце века устала даже нечистая сила и, вместо того чтобы тупо делать свое нечистое дело, начала стонать, хныкать, жаловаться на свою долю, взывать к сочувствию (да, дескать, попей-ка крови с мое, потом осуждай!) и требовать любви и нежности. Надо заметить, в этой шутке таился, видимо, осколок какого-то метафизического происшествия. Потому как окиньте взглядом современное искусство и вы не раз услышите, как «жалобно стонет нечистая сила».
И вот, заканчивая свое затянувшееся предисловие, напоследок объясню: в очередную субботу ноября отправилась я с ребенком в кинотеатр, чтобы посмотреть, как Арни Шварценеггер вновь спасет мир. Мне нравится глобализм голливудских игрушек. Они делают полезную работу, втолковывая отдельному человеку чувство общности с миром и ответственности за его судьбу. Они делают это шумно, наивно, по-детски, но только они это и делают. Только они назойливо и громко толкуют о братстве людей, о войне с тьмой, о необходимости соблюдения порядка и законности в Галактике. Я сижу в темном, заброшенном провинциальном городе, доставшемся на потеху третьестепенным чертям, печатаюсь в здешних бедненьких газетах – словом, копошусь в каком-то углу вселенной, стараясь не терять своего единственного сокровища – человеческого достоинства, – и какое удовольствие в эдаком положении посмотреть сказку о конце света, оказавшись полноправным участником Драмы Бытия, поглазеть на воплотившегося Сатану, искушающего молодчагу Арни возможной иллюзией счастья.
Давно заметила: где бы князь тьмы ни оказался, в романе или фильме, он всегда жалуется и оправдывается. Как у Достоевского, «меня оклеветали». Оправдывается и в «Конце света». «У него (то есть у Господа. – Т.М.), – говорит сатана, – отличная реклама: что хорошее происходит – так это он, что плохое – неисповедимы, дескать, его пути. А это я вам добра желаю, а не он». Я, обсуждая в дружеском кругу этот фильм, опять вспомнила свою шутку про усталость нечистой силы в конце века и добавила: со времен Достоевского новых аргументов дьявол так и не нашел всё: те же лицемерные жалобы, все то же «меня оклеветали». С тем и пришла под вечер домой и, отужинав, благополучно заснула…
…Он сидел в моей гостиной, в старом полуразвалившемся кресле пятидесятых годов осторожно и напряженно, без всякой вальяжности и нервно барабанил пальцами по обширному черному портфелю, который стоял у него на коленях и придавал ему вид солидного научного сотрудника, забежавшего на минутку по делу в редакцию журнала, или депутата Госдумы из мелких. Он был одет аккуратно и чисто, в темно-серый костюм, черный джемпер и белую рубашку без галстука. Передо мной был довольно моложавый мужчина средних лет, брюнет с острыми чертами лица, начинающейся лысинкой, в круглых очках и приветливо-настороженной улыбочкой на тонких губах. Замечательного на всем лице только и было, что большие темные глаза в густых ресницах, и эти глаза, как правильно заметил в свое время Лермонтов, никогда не улыбались.
– Здравствуйте, Танечка, – сказал посетитель. – Надеюсь, не помешал. Впрочем, я ненадолго, у меня всего полчаса свободных, и вот, я прямо к вам. Да вы ведь всё равно спите, так что как я вам помешаю?
– Чем обязана… честью… – пробормотала я в полном замешательстве, не имея привычки разговаривать с подобными посетителями. Кто он, я поняла сразу.
– На всякий случай – вежливость. Понимаю. Люблю интеллигентов, насколько это вообще возможно… в моем случае. Чести особенно нет никакой – вы же меня нисколько не уважаете, а повод дали, подумали обо мне на ночь глядя, тропинку мне показали – вот он и я. Вы, кажется, смеяться изволили надо мной.
– Совсем не над вами. Я вас и не знаю. Над вашими отражениями в нашем искусстве. А если вы мне мстить собираетесь, так это немного чести вам делает. Тоже, победа великая. Щелкните пальцами – и нет меня.
Посетитель рассмеялся и посмотрел на меня почти ласково.
– Опять про честь! Ну тут вы угадали. Своя честь у меня имеется. С бабами не воюю, и нужды нет в том. Я вообще люблю женщин, всегда любил и если с кем и говорю, так с ними. Ева послушалась меня, и вышла целая история, в ходе которой случилась и эта ваша Россия, и Петербург, и вы народились, Танечка, и стало интересно, а без меня разве было бы интересно? Ну вот, тружусь как пчелка тьму веков и в самом деле устал, и пожаловаться некому, а вы насмешничаете…
Он опустил наконец свой портфель на пол и сел удобнее.
– Все те же старые песни о главном, – заметила я. – Я нужен, без меня одна «осанна», нет света без тьмы, я тот, кто желает добра, «меня оклеветали»… С тобой только начни спорить! Лучше уж по старинке, без всякой демагогии, как отшельники в пустынях – vade retro, satanas! – и никаких дискуссий. Я играю в другой команде, приятель.
Последняя реплика мне явно удалась. Так хлестко мог ответить и Арни Шварценеггер.
– Это хорошо, что ты меня на «ты» называешь, правильно… – отвечал мой посетитель без малейшего раздражения. – Я ведь тебя давно знаю. Ты хорошая, – добавил он совсем печально, – на мою маму похожа немножко.
– У тебя разве есть мама? – невольно удивилась я.
– А откуда же я взялся, по-твоему? Разумеется, есть. Целую вечность ее не видел. Не пускают меня… Никуда не пускают. Я пробовал было объясниться – нет, и ворота на запор.
– Кто не пускает?
– Ну кто меня может не пустить! Он и не пускает, папаша, Отец миров, по-вашему. Он и мой Отец, а я его первый сын и наследник. Он меня выгнал и проклял, и все досталось этому… придурку.
– Какому придурку?
– Какому, какому. Гимнасту, как в вашем смешном анекдоте говорится. «Возлюбленному сыну моему!» А я кто? Всё ему отошло, все миры, и невесту мою отдали, и маме запретили со мной видеться. Я и разозлился. А кто бы не разозлился на моем месте? Да, ненавижу его. Он второй, а я первый. Я способней его, только он умеет подольститься, а я нет. Он ласковый, сладенький такой, а я прям и горд. Да что вы вообще знаете, чтоб меня судить? Что вы своим курьим умишком можете понять? Ты еще смеешь хихикать, мол, одно и то же, всё жалуется, что «меня оклеветали». Да разве может оклеветанный не кричать на весь свет, что его оклеветали, не требовать суда! Пойми ты, что распоследний человечишка может надеяться на справедливый Божий суд где-нибудь на том свете, а мне некуда пойти и суда искать, потому что я уже на том свете без всякого суда осужден произволом того, кто есть суд, мера и весы, приговорен напрочь, и взывать не к кому, и надеяться не на что.
Посетитель мой так разволновался, что снял очки и стал их протирать краем джемпера.
– Интересный вид у вас, – сказала я, чтоб заполнить паузу. – Точно вы из Госдумы.
– Да, не успел переодеться, – подтвердил он. – Хотел к тебе таким артистом прийти, для убедительности, ты же артистов любишь, да не вышло. В самом деле из Думы. Там моих куколок много. Такая дрянь…
– Своих же деток не любишь?
– Какие они детки. Куклы чертовы… бездарности. Я всё хорошее люблю. И природу, и животных, да и люди бывают ничего. Я эту Землю вместе с папашей делал, и тут моя доля есть. Не отдадут – всё подпалю, а гимнасту не достанется. Я же согласен на переговоры, а меня обрекают на террор. Не будем, говорят, ни о чем с тобой договариваться, ты отец лжи, и всё от тебя ложь. Я посылаю извещения каждый день: будете, сволочи, говорить со мной? Вот мои условия. Вот такие требования выполните – я прекращаю войну, отвожу войска, отдаю пленных, всё честь по чести. Нет, молчание, молчание и презрение. Я устал, наконец. Я уже не мальчик бегать дома взрывать. Я, вообще, хочу жениться, деток завести настоящих и зажить своей вселенной. Отдайте мою часть, а там как хотите. Если так уж надо, кое за что могу извиниться. Погорячился, не стерпел, перегнул палку. Признаю. Но и вы признайте, что я первый и законный, что я талантливый и смышленый, что я весь в отца и маму, а не пакость какая-то, неизвестно откуда взявшаяся, как они изображают. Ну даже в их завиральных книгах правда нет-нет да и проскочит. Как во время Иова отец со мной разговаривал, оказывается, и подначки мои терпел. С чего бы это? С того, что, пока гимнаста не было, я был рядом, всегда был рядом. Да, я возражал, я смеялся, я не льстил подло, беспардонно, я предлагал новое… а папаша окружил себя прилипалами, бездарностями, только и умеют, что «слава тебе, слава тебе!»…
– А ты хочешь, чтобы слава тебе, слава тебе?
– Что ж тут плохого, когда хвалят? – обиделся гость. – Я и хвалу приемлю, и хулу. Я разрешаю себя критиковать, пожалуйста, это папаша терпеть не может критики, и все папашины любимчики на его образец. Я повторяю, я готов мириться. Я маму хочу увидеть. Я соскучился, правду говорю. Ты им напиши. Люди сами виноваты, а всё на меня сваливают. Я соблазнял, а зачем они соблазнялись? Зачем им столько любви, а мне ничего никогда? Зачем это гимнасту понастроили домов и рыдают над его тельцем, будто он вправду страдал, а это всё одна подлая папашина комедия, а я страдаю, так мне ни одной слезы? Кто знает о моем одиночестве, кто расскажет о моей тоске?
– Ну уж давай это буду не я, – всерьез испугалась я. – Мало разве литераторов? Пелевин пусть пишет про твою тоску. Его читают, а я тебе на что? Я в таких журналах печатаюсь, которых и в библиотеках, бывает, нету. Вообще удивлена вниманием… Ей-богу, никак не могу способствовать.
Посетитель раздраженно крякнул и поставил портфель опять на колени. Вся прочитанная литература пронеслась в моей бедной голове. «Сейчас торговаться начнет. Боже, спаси и сохрани мою душу! А деньги так нужны, так нужны…»
– Очень мне нужно с тобой торговаться, – сказал он презрительно. – Хватит с меня, накупил сволочей. Ни сшить, ни распороть. Это я не про тебя. На таких, как ты, у меня больше нет ни сил, ни времени. Дадите на копейку, а нервов вымотаете на миллион. Некогда возиться. Плачьте над своим гимнастом. Мне и всего-то надо, чтоб ты всё прилежно записала, в точности, как я говорю.
– Что писать?
– Потому что идут провокации… – протянул он задумчиво, – сплошные провокации, меня заманивают, мне навязывают открытый бой, а я, может, совсем не хочу… У них ловушки под видом полной честности, они хитрые, хитрей меня, вот что я тебе скажу. Откуда по всей паутине прошло, что сатана, дескать, хочет конца света, что он бродит во плоти и умышляет всё уничтожить? Подумай, зачем мне всё уничтожать? Я же сам тут работал, я сколько сил угрохал, я только свое хочу, отдайте за труд и прекратите клевету! Положим, я угрожал, но это в отчаянии. Меня не принимают наверху, а всё пешки, всё секретари, и с каким видом! «Отец занят». «Отец не может встретиться с вами». Брезгуют… Я желаю переговоров. Всё можно исправить. В конце концов, я был мальчишка, я дерзил, я гордился, я портил вещи, и они портились. Я хочу сказать, что назло им не буду по их указке жить. Уже расчислили, как да что! Уже гимнаст приготовился со мной тягаться! Дудки и фигушки вам всем. Не будет вам конца света. Не желаю. Нахапали за меня чинов и наград, они там за борьбу со мной отличия получают, выгодно устроились, прилипалы все, прахом пойдет кормушка. Придется другого врага изобретать, потому что сами-то они ни к чему не годны, а я – баста. Ничего не хочу и не желаю… Мама бы меня простила, это все гимнаст воду мутит…
Он замолчал, глядя перед собой, и вдруг я по глазам его догадалась, что он совершенно безумен.
И… проснулась. Господи, твоя воля! Нет – зарядка и диета или, как в старину говаривали, пост и молитва, что, в сущности, одно и то же.
Или нет?
Люди. Звезды. Куклы. Обезьяны Актерское творчество нулевых годов двадцать первого века
Сразу начнем с непонятного
Рассуждать о системе, координаты которой непонятны, всерьез нельзя. Как ответить на вопрос, какое значение сегодня имеет творчество / работа артиста в кино в современной культуре и в современной России, если это уравнение с большим количеством неизвестных? Берется ли кто-нибудь ответить, каков общий вид нашего кино, какое оно занимает место в современной культуре и ментальной жизни России вообще и каково место современной России в картине общемировых творческих волнений? Да еще в сравнении с какими-нибудь предыдущими эпохами, когда, по выражению Томаса Манна, «уже стало понятно, что имелось в виду»?
Мы понимаем: изменилась жизнь – изменились актеры. Пожалуй, это то немногое, что можно утвердить в качестве аксиомы. Далее идет смутное, но достаточно массовое ощущение, что актеры стали «не те», «не такие», как раньше. Что с ними что-то произошло, и это «что-то» трудно определить в оценочных категориях «лучше-хуже». Мало талантов? Спорно, недоказуемо. Таланты есть, и крупные. Плохо работают? Да не то чтобы плохо, могут и хорошо работать, и даже на грани гениальности плясать, были случаи. Много халтурят? Помилуйте, когда же средние артисты не метались по халтурам. Нет, дело в изменившемся положении актера в жизни, в изменившемся отношении к нему: нынешняя культурная ситуация уже сформировала мощную машину использования существа актера, употребления его в интересах этой машины. Все меньше очажков свободного творчества, все реже спрос на вдохновение, оригинальность, самостоятельность, все больше потребности в усердных, нерассуждающих, фактурных куклах. Актеры, в общем-то, так же обесценены, как жизнь человека в России. Они теряют уникальность, привлекательность, не вызывают аппетита. На кого из них пойдут специально в кинотеатры, чье имя притянет публику, как до сих пор притягивают старина Джек Николсон или Мэрил Стрип? Мы же автоматически реагируем на фильм, где в главных ролях, допустим, Аль Пачино и Киану Ривз. Сразу же откладываем кассету с идеей посмотреть субботним вечерком. Если отбросить веяния сиюминутной моды, искать притягательное вне пластмассовых кумиров, то, на мой взгляд, в России существует единственная пара актеров, которые могли бы претендовать на такую же моментальную реакцию потребителя: Никита Михалков и Олег Меньшиков.
И что? Именно их не снимают пять лет. Они оказались непригодны для использования. Ситуация изменится, конечно, в самое ближайшее время, поскольку массовый кинематограф уже накопил сил для культурного, изящного употребления артистов, и первой ласточкой станет тут «Статский советник» Филиппа Янковского по бестселлеру Б. Акунина, где Михалков и Меньшиков – в главных ролях. Но примечательна эта загадочная на первый взгляд пауза: при постоянном дефиците звезд самых талантливых артистов страны выводят из игры.
На второй взгляд, все достаточно очевидно: разве годятся Михалков или Меньшиков для «Брата», «Бригады», «Бумера», «Антикиллера» или «Ночного дозора»? А это самые популярные картины последних пяти лет. Так или иначе, любой выдающийся артист занимается внутренним миром человека, его страстями и страданиями, жизнью его чувств. Современное кино занято внутренним миром человека в небольшой степени. Более того, когда оно решает им заняться, то у режиссеров начинается – за исключением Сокурова, Муратовой, Тодоровского, Мельникова и Месхиева – мучительное припоминание, что же такое там положено по части мотивировок и психологии. В нашем кино вы почти не встретите главной коллизии всякой драмы: нравственного выбора. Его герои, как правило, хотят чего-то небольшого и очевидного и получают это несложным путем – путем прямого и ясного действия. Пришел, увидел, убил. Какой уж тут Меньшиков.
Однако затуманившаяся в последнее время звезда артиста явно засияет вновь: время «Бригады» заканчивается, и даже сомнительный «Ночной дозор» доказывает очевидную потребность в других героях. Поскольку актеры – витрина любой нации, отечественная публика вновь пожелает увидеть на своей витрине по-прежнему единственного «конвертируемого» русского артиста.
Господа все в Париже
Да, это произошло, и с этим ничего сделать нельзя: актерский тип окончательно и бесповоротно «демократизировался», так сказать. Опростился донельзя. Есть кому играть бандитов, ментов, бомжей, проституток, продавщиц, горничных, мелких бизнесменов, крестьян, шоферов, лакеев, маньяков, журналистов, шулеров, наркоманов, наркодилеров, служащих безопасности всех рангов и т. п. Что касается царей, князей, графов, белых офицеров, светских красавиц, профессоров, великих писателей, ученых, музыкантов, то есть воспитанников и представителей элит любого толка, – тут выбор минимален. Красивый, интеллигентный Александр Галибин обаятельно, в чеховских тонах сыграл Николая Романова в фильме Глеба Панфилова «Романовы: венценосная семья», но его юные дочери (особенно Ольга Будина и Ксения Качалина) уже безоговорочного согласия не вызывали – хорошенькие девчонки жили, скорее, современными ритмами и реакциями. Их английские сверстницы сыграли бы иначе. К сожалению, русским девушкам вообще и русским молодым актрисам в частности присущи развинченность, расхлябанность, эмоциональная неряшливость, совершенно неуместные для великих княжон. В актерской табели о рангах, в рубрике «может играть царей, профессоров, интеллектуалов» на высшей ступеньке стоит по-прежнему Олег Янковский. В рубрике «генералы, помещики, губернаторы» – Алексей Петренко. Должность «настоящего полковника» крепко приписана к римским скулам Александра Балуева. В изображении дам дореволюционной творческой среды совершенно уместна Галина Тюнина. Но это все – редкости, исключения.
Актерский типаж не только демократизировался, но и помолодел. Старики и старухи – это теперь что-то далекое, ископаемое. Кирилл Лавров и Михаил Ульянов еще поддерживают честь профессии, убедительно показывая и хорошую форму, и реально существующую красоту достойно прожитого возраста. Но уже женских аналогов им не подобрать – не снимают ни Мордюкову, ни Савину, ни Доронину… На наших глазах и в театре, и в кино рушатся целых два амплуа, исстари принадлежавших знаменитым пожилым актрисам, – «гранд-дама» и «комическая старуха». Только Виталий Мельников, верный заветам неофициального, непарадного советского кинематографа, рассказал о жизни старых и прекрасных людей в фильме «Луной был полон сад», где блеснула Зинаида Шарко (а также Николай Волков и Лев Дуров).
Отсутствие в кинематографе достойных пожилых лиц придает ему нездоровый, неблагородный, неестественный характер. Старость, видимо, считается поражением в борьбе за место под солнцем, и красота возраста уступает место искусственной внешней молодости. Маловероятно, чтобы в нашем кино повторилось такое явление, как Анатолий Кторов (вспомним князя Болконского в «Войне и мире») или Николай Гринько (в картинах Тарковского). А что это значит? Это значит – нет пути, нет времени, драгоценного времени, дара богов, отпущенного на возможность совершенства, на завоевание своего личного лица, на оформление достоинства, которое есть даже у деревьев… Нет труда жизни, который не может, не имеет права проходить сквозь человека бесследно! А есть дурная модельная вечность, где ты в тридцать лет плясала канкан и в семьдесят лет пляшешь канкан. Не ад ли такая жизнь и такие лица?
И омоложение, и демократизация актерского типа – явления, в общем, глобального характера. Но у нас, как всегда, все идет лихорадочно и скоротечно, и уже существует целая армия пластилиновых артистов без возраста, которые могут сыграть абсолютно все что угодно, когда угодно и где угодно. Вряд ли возможно говорить здесь об актерском труде – это, скорее, способ фантомного заполнения пространства, будничная служба визуализации. А как обстоит дело именно что с творчеством актера?
Мои личные предпочтения
Я могу перечислить актерские работы в кино последнего пятилетия, которые считаю незаурядными, отчетливо возвышающимися над среднерусским киноландшафтом. Итак, это: в союзе с Александром Сокуровым – Леонид Мозговой, Мария Кузнецова («Телец»), в союзе с Виталием Мельниковым – Виктор Сухоруков, Олег Янковский («Бедный, бедный Павел»), в союзе с Дмитрием Месхиевым – Юрий Кузнецов («Дневник камикадзе»), в союзе с Кирой Муратовой – Алла Демидова, Нина Русланова («Настройщик»). Разумеется, иначе как внутри режиссерского мира артист развиться не может – при любом таланте. Если у режиссера нет этого мира, актер развиваться не будет, он будет примитивно использоваться. Мне приходилось встречать такое рассуждение: дескать, режиссер К. или Н. талантлив, просто у него не традиционно-кинематографическое, а «клиповое» мышление. Не могу скрыть своего глубокого убеждения в том, что клиповое мышление – это отсутствие мышления. Поскольку клип – это бессмыслица, ничего не означающий набор визуальных образов. Актерская работа требует протяженности во времени; пространства осуществления. А какое может быть пространство осуществления, если планы длятся одну-две секунды? В таких условиях актеры уверенно идут к тому, чтобы их заменила компьютерная анимация, причем заменила к выгоде для фильма. Что означают артисты, играющие в «Ночном дозоре»? Что они такое делают, чего нельзя нарисовать? У них неподвижные, пустоватые глаза, они выполняют элементарные психические движения, нужные в данном кадре, а не во всем объеме характера. Анимация справилась бы лучше. А вот Олега Янковского в «Бедном, бедном Павле» никакой анимацией не заменишь. Темную преисподнюю душу графа Палена, глядящую из знаменитых глаз артиста, не нарисуешь. Мельников построил добротный психологический дуэт двух сильных людей, палача и жертвы, исходя из старинного понимания возможностей игрового кино. А они таковы: что бы ни играл артист в каждой конкретной сцене, его роль не распадается на цепь картинок, он держит единый образ, сложно-сотворенный, живущий в нем постоянно. Не вереница реакций (здесь я плачу, здесь сержусь, здесь люблю…), а устойчивый мир человека, наполненный движущейся психической жизнью. Перечисленные мной работы восхищают как раз объемом и насыщенностью данного человеческого мира. У каждого из этих человекообразов все особенное: каждый особенно ходит, говорит, смотрит, задумывается, смеется, скрывает мысли или откровенничает…
Ведь так, как разговаривает несчастный монстр, Вождь – Мозговой в «Тельце», никто не говорил – это неповторимо. Или вспомнить вдохновенную, судорожную, экстатическую речь Павла – Сухорукова в картине Мельникова: это его, сухоруковский, пронзительный голос, его резкие интонации… Но все, решительно все преображено, сотворено заново в трагическом гротеске, сделано специально для этой роли, только для нее.
Когда Юрий Кузнецов в «Дневнике камикадзе» из затюканного обывателя превращается в убийцу, эта метаморфоза убедительна именно потому, что образ развивался, не теряя цельности: опасность была, жила в мелком тихом придурке, сотрясала его злобой и завистью, прикрытыми показной набожностью, выглядывала жадными, обиженными на весь мир глазенками, и наконец из человека вылезла жаба и задушила его. А ведь это наш родной Кузнецов, который сыграл десятки милых, скромных, славных обывателей, но для этой роли сделал особые усилия. И моргает-то Кузнецов в «Дневнике камикадзе» совсем не так, как в «Улицах разбитых фонарей»: Мухомор моргает комически, как добродушный глуповатый начальник, а герой «Дневника» моргает нарочито, обиженно, фарисейски, и вместе с тем испуганно – ведь на него надвигается, по сюжету фильма, дьявольский соблазн.
А как остро и точно Алла Демидова в «Настройщике» играет беспомощную, бесконечно наивную пожилую даму, воображающую себя очень расчетливой, ловкой, находчивой и ужасно недоверчивой! Опять-таки никогда Демидова такого не играла и так не играла – а это в определении ценности актерского творчества важнейшая вещь.
Оригинальность, неповторимость того или иного создания актера (в союзе с режиссером) имеет своего «двойника» в мире пустот и подмены. Это специальные «перевертыши»: в целях снятия усталости с какой-то маски или модели ее используют в непривычном качестве. И тогда славного увальня заставляют играть мрачного злодея, красавчику приклеивают нос крючком, какие-нибудь патлы и дают комическую роль. Эксперименты тут чисто внешние, элементарные – изображал героя, теперь будешь придурком, для разнообразия. Деформация устойчивой маски действительно на какое-то время освежает своего носителя. Но различить, где творчество, а где перевертыши модельного мира, несложно. Все актеры, выступающие под деформированной маской, буквально лопаются от чисто «капустнического» веселья и самолюбования. Они ловят свой маленький кайф от грима и костюма; их забавляет, что они валяют дурака в непривычном амплуа. Этого никогда нет в настоящем творчестве, где люди чаще всего изнемогают от ответственности, боятся испортить роль, сыграть неверно, не в полную силу, сфальшивить, повториться.
Неужели такое отношение к своей профессии – атавизм? Во всяком случае, много ли можно припомнить артистов младше тридцати пяти лет, которые бы постоянно убеждали зрителя в том, что они заняты творчеством, что они овладели сложной профессией, имеющей свои высоты, что они боятся испортить роль и сфальшивить?
«Повисли в воздухе мартышки, весь свет стал полосатый шут» (кажется, Державин)…
Звездный мальчик, лунная дева
Можно считать актерскую профессию искусством или ремеслом (причем, как заметил провинциальный артист Гриша Незнамов в пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые», «ремеслом довольно низкого сорта»). Но есть среди тех, кто вроде бы занят таким же, как все, обыкновенным лицедейством, особенные существа. Им положен другой закон. Оперировать понятием «звезда» в этом случае трудно – звездами именуют теперь всех без разбора популярных особей. Звездами именуют и натурщиков кино; и актеров-моделей; и обыкновенных, талантливых и любимых, артистов. Эти особенные, «другие», конечно, изумительно хороши собой, но когда и если красота их покидает, они не перестают быть Другими. Если вы меня понимаете, то поймете, почему Марлон Брандо – «другой», а Пол Ньюмен и Клинт Иствуд – нет. Часто «других» словно выносит роком на театр массовых коммуникаций, в публичную долю, у них собственные напряженные отношения с судьбой: к ним, «другим», другое и внимание. Словом – это не игрушки людей, это игрушки богов.
«Другим» оказался в нашем кинематографе Сергей Бодров-младший. На первый взгляд он казался отличной иллюстрацией к образу «мальчика из хорошей семьи». В третьем-четвертом поколении советская интеллигенция оказалась способной производить элитные экземпляры человеческой породы. Словно и не было сокрушительных ударов по российскому генофонду: вот же он, благородно-сдержанный дворянский юноша, с детским румянцем и светло-любопытными ко всему глазами, приемлемый хоть в Лондоне, хоть в Париже, хоть в Венеции; умный, с врожденным чувством меры, красавец, талант, работник. Он вел себя разумно и правильно – трудился, писал диссертацию, снимался в кино, вел телепередачи, заботился о семье, достойно принимал огромную славу, прилично дебютировал как режиссер («Сестры»). Его личный «код» был нацелен на спокойное и последовательное осуществление грамотной, разумной, богатой свершениями программы. А его жизнь внутри любого фильма удивляла «патологической естественностью», отсутствием специальных лицедейских ухищрений, аристократической флегмой, животным артистизмом.
Однако наше кино довольно своеобразно отреагировало на его появление. Хорошим и славным он побывал в картинах своего отца («Кавказский пленник», «Медвежий поцелуй») и в отличной мелодраме Режиса Варнье «Восток – Запад». В последнем Олег Меньшиков и Сергей Бодров свидетельствовали о другой России, о той, что когда-то была раздавлена сапогами озверевших слуг… Но по-настоящему завладел судьбой Бодрова русский Мерлин из Свердловска, режиссер Алексей Балабанов. «Брат» и «Брат-2» – это не просто фильмы. Это магическая операция по извлечению молодого русского господина из отвлеченного пространства и внедрение его в падший русский мир, в грязь русского распада, к люмпенам, шлюхам, ворам и убийцам. Отрешенно-завороженный, как Марья-Искусница в царстве Водокрута, сказочный мальчик начинает прилежно выполнять заложенную в него программу: программу фантомной победы, нереального русского реванша. Бодров и Сухоруков, два брата, две стороны «русской сказки», высшая и низшая сила, патриций и плебей, господин и слуга, флегматичный игрок и жизнелюбивый прохиндей. В этой архетипической паре находит себе любовное оправдание остаточная великодержавная агрессия – вот какие парни у нас есть, и они еще всем покажут.
Но если подобных персонажу Сухорукова еще можно отыскать в действительности, то о герое Бодрова скажем со всей ответственностью: никаких «таких парней» у нас не было и нет. Было балабановское колдовство, чистый акт художественной воли, светлоглазый мираж в свитерке крупной вязки и обрезом за поясом. Господин, которого попросили (или заставили) играть за своих падших братьев-братков, и он сыграл, и стал их кумиром, символом успеха, «русской мечтой».
Дальнейшая судьба Сергея Бодрова превышает нашу способность суждения. Она непостижима. <В сентябре 2002 года Сергей Бодров и его съемочная группа погибли на Кавказе, в ущелье Кармадон, во время съемок новой картины.> В тяжком псевдониме рока – Кармадон – словно бы слышен приговор русским мечтам о прекрасных, гармонично развитых людях, которые смогут справиться с этими злыми пространствами, заполнить их умной жизнедеятельностью, любовью, добродушной игрой, празднествами дружества и симпатии…
Наследниками звездного пришельца, русского брата-братка Данилы, убийцы с ангельски-невинным лицом, стали молодые герои «Бригады» (режиссер Алексей Сидоров) и «Бумера» (режиссер Петр Буслов). Игра, начатая большим и путаным талантом Балабанова, конечно, резко пошла на понижение. Зато охватила крупные массивы сознания. Фамилий этих актеров мало кто помнит (кроме, разумеется, Безрукова) – они живут в массах как «парень из „Бумера“» или «тот, кто в „Бригаде“ играл». Эти игровые куколки массового спроса утвердили в нашем кино амплуа «хорошего молодого убийцы». Главное – никакие поступки героя не должны нарушать излучений его личного обаяния. Или, как восклицал принц Гамлет, – «можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем. Если не везде, то, достоверно, в Дании». Достоверно, в России приятные юноши угонят вашу машину, ограбят вашу квартиру, разнесут вам голову из автомата, если вы им помешаете хорошо жить, – и при этом будут мило улыбаться, крепко дружить между собой, почитать родителей и мечтать о все более улучшающейся жизни. Я не имею желания обсуждать художественные достоинства подобного кино, ибо оно враждебно и ненавистно мне. Я люблю говорить о прекрасном, поэтому, читатель, мы сейчас причешемся, приоденемся, вежливо постучим и заглянем к Литвиновой.
Действительно ли Рената Литвинова является «другой» или только хочет ею быть, создавая образ себя и примеряя одежды лунных дев прошлого? Любуясь тонкой, выразительной лепкой поразительно киногеничного лица, нет-нет да и замечаешь, что руки-то у Ренаты – рабочие, трудовые. Этими руками пишутся сценарии, монтируются фильмы. Исповедуя некий разумный эгоцентризм и занимаясь только тем, что волнует ее лично, Литвинова уже интересна и нужна многим – и не только как образ соблазна. Можно сказать, что наша фемина сапиена все заметнее выбивается в люди, перестает быть точкой приложения демонических или ангелических сил. Ею перестают играть, она играет сама. Пугающая, гротескная красота будто рассеивается, уступая место благородному и гордому облику думающего, трудового человека, идущего своей дорогой.
Лунная дева, пройдя сквозь демонические соблазны, заметно сдвинулась в сторону солнца. В сериале «Граница. Таежный роман» (режиссер Александр Митта) Литвинова сыграла забавную автопародию, медсестру Альбину. Самодостаточная, зацикленная на себе женственность, простецкий вариант которой воплощает в этом сериале Литвинова, обернулась удачной шуткой и даже – вот неожиданность! – достоверной зарисовкой несомненно существующего женского типа. Да с детства мы их знаем, этих королев Марго, рассеянно вздыхающих, странноватых, в сущности добрых, мечтательных кривляк-фантазерок. А в картине «Небо. Самолет. Девушка» (режиссер Вера Сторожева), снятой по сценарию Литвиновой, Рената сыграла нежную, грустную Лару, отчаянно цепляющуюся за призрак любви. Небесная девушка, спев тоненьким задыхающимся голосом «Звать любовь не надо, явится незванной», исчезала, отправившись к небесному летчику, который уж наверняка не обманет, не предаст. В основе сценария была использована знаменитая пьеса Эдуарда Радзинского «104 страницы про любовь», в киноварианте – фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь». И образ, созданный в шестидесятые Татьяной Дорониной, вошел в творческое соревнование с образом, созданным Литвиновой.
В Литвиновой меньше непосредственности, горячей жизни, душевной подвижности, страсти, чем в Дорониной. Доронина предъявляла себя сразу и наповал, как гроза. В ней всегда жил трагизм женщины Первоначального мира, живущей внутри какой-то несовершенной репродукции, неудачной копии Бытия. Литвинова – Лара легче, искусственней, утонченней. Ее конфликт с миром, однако, не только эстетический (что делать красоте в условиях энтропии?); это и несовместимость глубинного устройства. Женщине здесь надо куда-то идти и что-то делать – а куда идти и что делать, непонятно, если ты не одержим изначально господствующими штампами и клише.
Я написала когда-то о Литвиновой – «она колеблется между грустной человеческой бедностью и злым демоническим богатством»… Так получилось, что оба варианта равносильно воплотились на экране: злая, демоническая Литвинова фигурирует в «Настройщике» Муратовой, грустная и человечная – в собственной картине Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Демоническая куда привлекательней эстетически, она совершенна в отточенной, ослепительной красоте, не заметно никаких изъянов и несовершенств. Грустная и человечная – наоборот: мила несовершенством, вздыхает, сутулится, у нее усталые глаза и рабочие руки, она растеряна и одинока, как девочка, заблудившаяся в лесу. Человечность отбирает у женщины демоническую, нечистую, злую силу – но взамен кое-что дает: возможность любви, жизнь на миру, в человеческом сообществе, которое даже в плачевном русском варианте все-таки лучше черных и холодных пустот одинокой самовлюбленной души, не признающей пути Спасения.
Служили два товарища
Они вместе учились, вместе дебютировали на сцене петербургского Театра имени Ленсовета в спектаклях тогда молодого и дерзкого Юрия Бутусова, почти одновременно стали много сниматься в кино и телесериалах, потом оба отбыли в Москву для украшения актерского гербария Московского Художественного театра. Два товарища, два героя – Константин Хабенский и Михаил Пореченков. Они талантливы, обаятельны и популярны заслуженно – собственно, оттого и возникают в нашем разговоре. Они «наследники по прямой» героев советского и российского кинематографа. Хабенский ближе к элитарному типу («мятущийся интеллигент»), Пореченков – к демократическому («задумчивый богатырь»). Артистическая природа Хабенского – коварная, нервозная, неустойчивая, склонная к соблазнам, не защищенная от темных инспираций; у Пореченкова – на диво цельная, положительная, ясная. И Хабенский, и Пореченков могут играть разнообразные роли в границах своего диапазона. И все-таки я бы не поняла режиссера, который поручил бы Михаилу роль, предполагающую для героя предательство своей сути, острый психоз или личностную деградацию; и так же очевидно, что для Хабенского такое поручение было бы нормальным. Нерв, настоящий, острый нерв, экстремальный темперамент и непростота личностного устройства – вот что увидели в Хабенском режиссеры, и это был настоящий, дефицитный товар. Будучи на экране в самых немудреных ролях (сериал «Улицы разбитых фонарей»), Хабенский создавал впечатление, что его герой говорит не то, что думает; складывалось ощущение особого пути, сверхсюжета – что-то, дескать, замыслили ангелы-вредители, а может и сам Главный Режиссер, относительно этой судьбы.
Но как только Хабенский лишается любовной опеки Дмитрия Месхиева, который упрямо хочет сделать из него универсального героя (весьма разные роли сыграл актер в картинах «Женская собственность», «Механическая сюита», «Линия жизни», «Свои»), он прямиком отправляется в гламур, где от него требуется совсем другое.
По сути, в Хабенском скрыта провокация, бунтарство, несогласие, возможность крупной разборки человека с миром. Гламурное кино («В движении», «Ночной дозор») эту разборку предотвращает, сглаживает, смиряет бунтарство, блокирует провокацию. Такое впечатление, что герой Хабенского попался, влип – и не в конкретный сюжет, а во все пространство в целом. Он зачарован, пленен, опутан, он делает не то, что хочет, и не знает, чего он хочет. Но точно так же влипли тридцатилетние двойники актера в плотной реальности, в сумерках путинской России. Точно так же блокирован реальный бунт молодых людей, лишившихся чувства пути и сосредоточенных на личном выживании. Хабенский для них – свой, родной, близкий, такой же странноватый, насмешливый и растерянный странник, геройствующий лох и ботаник, любящий пожить и жить при этом не умеющий. Хабенский отлично годен для изображения смутных людей смутного времени, как, скажем, и Евгений Миронов, – но он спокойнее, человечнее, понятнее. Недаром жанровое кино завербовало Хабенского в фэнтези-боевик («Ночной дозор»), а Миронова – в фильм ужасов («Змеиный источник»).
Обозначающийся в последнее время масштаб актерской личности Константина Хабенского может разочаровать его былых поклонников – вот, уже какие-то эмтивишные шабаши ведет и рискует обратиться в медийную маску. И роли-то есть, а Роли – нет… Той самой, заветной роли, по которой запоминают артиста навсегда. И все-таки судить строго актера неохота – заплутавший в медийной паутине, он все-таки живой и одаренный человек; не кукла, не обезьяна.
Что же касается Пореченкова, какой-то косолапый бог явно держит в теплых руках эту судьбу. Известно, что мужское обаяние, сочетающее звероватость с ласковостью, в отстреле женских сердец сбоя не дает, но к одному лишь обаянию сводить Пореченкова было бы несправедливо. Славу ему принесла чуть ли не первая работа на экране – режиссер Дмитрий Светозаров сделал из него сериального героя, «агента национальной безопасности», доброго, веселого Леху Николаева. Это так, знаете, легко сказать – добрый, веселый, а много вы их видели? У нас были такие актеры – Петр Алейников, Борис Андреев – счастливые порождения каких-то светлых, непотревоженных участков национального духа. Качество картин, в которых снимаются подобные артисты, вопрос не первой важности. Но они свидетельствуют собой нечто очень ценное. Живут на экране как рыбы в воде, и кажется, на них глядя, будто все в порядке на родной земле, что они защитят, успокоят, наладят. В энергетическом составе Михаила Пореченкова есть что-то лечебное, антидепрессивное и необычайно устойчивое. Он нисколько не в стороне от медийной суеты – ведет, к примеру, телепередачу «Запретная зона», ток-шоу с элементами детективного расследования. Но, заглянув в эту передачу, вы обнаружите там спокойного, доброжелательного человека, ласково и с интересом расспрашивающего людей обо всякой неприятной чепухе их жизни. Никакой невменяемой звездности, эфирно-кукольной агрессии. Цельная, кристаллическая душа артиста будто пропускает коварный медиасоблазн без всякой задержки в своем составе, без порчи для себя. В картине Александра Прошкина «Трио» Пореченков играет бесквартирного, безденежного и отчаянно веселого капитана милиции, в рабочее время отлавливающего дорожных пиратов, а в свободное – поющего итальянские арии. Естественность и легкость исполнения удивительны. Ей-богу, глядя на Пореченкова, можно подумать, будто в Волге еще плещется стерлядь, а государь-император и не выезжал из Зимнего дворца. Ему бы в сказках играть – да какие сейчас сказки.
Два товарища продолжают воплощать извечную пару героев – где один сложен, другой целен, один рефлексирует, другой действует, один ближе к смуте своего времени, другой – к вечным истокам национального духа. Смотреть на них интересно – это не мелкота, это герои. С ними все не просто так, о них свой замысел имеется.
Наше всё
Самый популярный актер настоящего времени – Сергей Безруков. Это довольно странно. Это наша очередная национальная особенность.
Было бы совершенно понятно, если бы титул самого популярного актера носили либо Олег Меньшиков, либо Владимир Машков. Мы спокойно можем предъявлять этих артистов миру, и мир нисколько не удивится. Было бы понятно также, если бы нашелся кто-то чрезвычайно своеобразный, настоящий национальный тип, вроде Юрия Никулина. Ну, тут уж, как писал Маяковский, «нету чудес и мечтать о них нечего». Хотя, может быть, удивительный Андрей Краско, если сложится пасьянс в тысячу колод, еще воплотит идеал русской самобытности.
Но Безруков и не то, и не другое – и не ярко-национальное явление, и не универсальный герой. Он герой определенного момента, герой эпохи «Бригады», когда распределившие между собой собственность братки решили, что им пора подумать о вечности, то есть – о кино в телевизоре. Для осуществления романтизации русской братвы понадобилась «белокурая бестия», и хорошенький призрак явился кружить головы подросткам.
До «Бригады» в судьбе Безрукова ничего особо выдающегося нет. Ничего не вспомнить. Вроде бы забавно, с нормальным водевильным темпераментом порезвился в «Китайском сервизе»… У больших режиссеров вроде бы не замечен… В театре сыграл Есенина, получил Государственную премию… И вдруг: пацаны на просторах родины дерутся, выясняя, кто из них в игре «Бригада» будет за Фрица. Вот так теперь на Руси называют игровых героев.
Герой «Бригады» придуманный, нереальный, идеализированный. Таким красивеньким и лихим хочет видеть себя заполонившая нашу землю гадина. Реальная брянская «бригада», убившая Галину Старовойтову (причем на каждого пришлось долларов по четыреста – вот какую сумму эти нелюди мужского пола не могли заработать иным путем), сидит на скамье подсудимых – а «Бригада» эфирная получает все мыслимые призы и награды. И вертится, крутится, сияет, ширится в медийных небесах наглая улыбка Фрица-Безрукова. Все позволено!
Что-то бесплотно-фантомное, очаровательно-пустое, зыбко-призрачное видится мне в артисте Безрукове. Про него трудно сказать что-нибудь, пока не сравнишь с другими. Тогда вроде что-то и проступает.
Безруков и Меньшиков. Прямо скажем, разного калибра пули. Некоторая фантомность есть и в Меньшикове, не годится он на роли обычных людей, не чувствуется связи с почвой, землей, плотью жизни. Зато – ярко видимая печать избранности, чувство предназначения, страдание, муки сильной индивидуальности и явная интеллигентность и происхождения, и поведения, и облика. Безруков куда проще, в интеллигентской избранности не замечен. Да и сильной индивидуальности не чувствуется.
Безруков и Домогаров. Обоим популярность принесли сериалы, оба нравятся массам за мужское и артистическое обаяние. Но в Домогарове есть некая привлекательная честность, адекватность, он – нормальный работник массовой культуры, секс-символ на общественных работах, в нем нет никаких претензий, и уровень умеренной компетентности он воспринимает как родной и естественный. Несмотря на повадку ходока и женского баловня, Домогаров словно бы такой «хороший парень», живой, нормальный, симпатичный, такие всегда есть в компаниях, и отношение к ним дружелюбно-снисходительное. В актерском же существе Безрукова словно заключен иррациональный соблазн, умышленное обольщение, что-то нечестное и неадекватное. С той же тонкой злой улыбкой и нахальными глазами, что и в «Бригаде», он играет доброго участкового в «Участке», и вот уже борзописцы пишут о воплощении в Безрукове «национального идеала». А ни больше, ни меньше! Но так ли далек от подобных грез сам артист? Ведь он выходит на сцену в образе Пушкина – стало быть, стремится воплотить «наше все». И подростки играют в «Бригаду», не в «Лукоморье».
Можно было бы сказать, что в этом призрачном образе нечистая сила хочет выдать себя за национальный идеал, но не стоит: все-таки чересчур. Да, трудно отделаться от мысли, что сквозь актера Безрукова кто-то и что-то проглядывает, высовывается, ухмыляется, рожи нам строит, хочет выбиться в герои, – но сам артист вряд ли понимает, кто это и что этот «кто-то» с ним делает. Он ведь только пустил, как говорится, жильца в квартиру…
А как там МММ?
Из всего актерского МММ (Машков, Миронов, Маковецкий) самая стабильная и ясная дорога, по моему ощущению, у Машкова: он работает на достигнутом уровне компетентности, без провалов, пауз, сомнительных шагов. Снова попробовал свои силы в классике («Идиот» по роману Ф.М. Достоевского, режиссер Владимир Бортко, роль Парфена Рогожина) – и удачно: Рогожин вышел незатейливым, зато цельным и живым; дикий купеческий сынок, сраженный страстью. Соревноваться на исторической дистанции ни с кем не пришлось, в русской традиции нет памяти об удачном исполнении этой роли, и, если Евгений Миронов – Мышкин был обречен на сравнение с Яковлевым и Смоктуновским, Машков избежал укоризн. Такое впечатление, что с актером уже все ясно и понятно, путь очерчен, диапазон известен, и вряд ли возможны как оглушительные поражения, так и ослепительные взлеты. В таком положении дел есть своя привлекательность, но и своя печаль. Азартному человеку впору заскучать, пожелав что-то сдвинуть, перевернуть в неумолимо начертанных рамках. Несмотря на очевидное и всеми справедливо признаваемое мужское обаяние (правда, очень примитивного типа), любовной истории Машков так и не сыграл. В интервью говорит – это неинтересно. Кто бы посмел так сказать хотя бы в шестидесятые годы?
Потребности времени несколько отодвинули на второй план и гениальное умение Сергея Маковецкого играть детей темноты и пустоты, недовоплощенных, призрачных людей – тут ему сыскался конкурент в виде Андрея Панина, актера, претендующего на то, чтобы играть все, причем с одним и тем же выражением лица. То, что у Маковецкого было открытием (скажем, адская кукла Иоганн в картине «Про уродов и людей»), у Панина поставлено на промышленные рельсы.
Евгений Миронов. Вся тяжесть титула «наследника по прямой» русской актерской школы вот уже несколько лет лежит на узких плечах старательно работающего Евгения Миронова. Это серьезный артист – не ремесленник, не эксплуататор личного обаяния. Но может он только то, что может: как правило, Миронов воплощает в роли тот рисунок, который в ней ясен, понятен, очевиден. С неистовостью и расторопностью необычайной он может показать нам, как жалок трус, как несчастен приживал, как одинок бедный юноша, попавший к чужим людям, как смышлен военный разведчик и т. д. Он отзывается на самое внешнее в образе, на непосредственный текст – да так рьяно, что о персонаже все понятно сразу. Вот на берегу моря, где изволит купаться великий писатель Бунин, появляется некто Гуров (фильм Алексея Учителя «Дневник его жены»), и сразу ясно, до чего это жалкий, испуганный, вечно заискивающий и завистливый человечек. Что тут интересного? Этот Гуров так и останется одинаковым на протяжении всей картины. А если бы Гуров вел себя иначе – с дворянской выправкой, солидно, как коллега-писатель, если бы его цели и мотивы были совсем не так плакатно очевидны, разве не выиграла бы роль? Выиграла. Но подавляющее большинство наших режиссеров только первый план и режиссируют. Актеров же, самостоятельно выстраивающих роль (какие легенды ходят про Ролана Быкова, к примеру!), сейчас, видимо, нет.
Большой успех Миронова в роли князя Мышкина (все тот же «Идиот») нельзя признать пустым, незаслуженным: даже причесанный и упрощенный Достоевский явился глотком родниковой воды в потоке ядовитой телегазировки, и печальный, чистенький и простодушный Мышкин – Миронов вполне мог полюбиться замученным зрителям. Но сыграл-то артист опять самое явное и очевидное – нелепого и симпатичного молодого человека, сложно и мучительно приспосабливающегося к людям. Явления чрезвычайного духа, прикосновения к миру идеального не произошло, да режиссер такой задачи и не ставил. Миронов – Мышкин – нормальная, нестыдная работа, «ничего себе», но как вспомнишь из истории театра про актеров, которые на Достоевском – Толстом с ума сходили и других сводили, так и поникнешь гордой головой: прошли возвышенные безумства и повышенная температура общения актеров с гениальными текстами.
Прекрасный новый мир
Придирчиво сверяя реальность с мечтами и отборными воспоминаниями, все-таки нелишне признать: в сравнении с пейзажем десятилетней давности стало куда лучше. Больше кондиционных картин, больше всяких-разных лиц в кинематографе. Я припоминаю кооперативный кошмар девяностых: вот где был ужас, когда кумиры, гении, любимцы играли в запредельном вздоре. Сейчас и телевизионное кино вышло на приличный уровень, и у всех способных и работящих кинорежиссеров есть возможности реализовать себя. Запрос на актерский труд существует. На талант – не знаю.
Скажем, актриса Дина Корзун прекрасно сыграла в «Стране глухих» Валерия Тодоровского, а Галина Бокашевская – в «Тоталитарном романе» Вячеслава Сорокина. Талант обеих артисток был явлен сильно, полнозвучно. Пригодился он затем кому-нибудь?
Дело поставлено так, что и без таланта можно обойтись. Хватит кое-каких умений, обычной киногеничности и нормальной работоспособности. Русское кино, как и вся Россия в целом, по-прежнему не мыслит людьми – но только «проектами», и талант здесь менее важен, чем свойства разной более-менее обаятельной «конформности». Надо быть таким, каким требуется. Основная масса современных актеров, особенно новых, молодых, – небездарна и неталантлива, а так. «Ничего себе». «Хороший паренек». Про девочек трудно сказать что-нибудь вообще, там какие-то сезонные волны – то повально снимали Чулпан Хаматову, то Ольгу Будину, потом переключились на Викторию Толстоганову. А почему – бог весть. Что-то из жизни птиц – летят куда-то и, наверное, знают куда, но нам со стороны непонятно.
И Марат Башаров («Свадьба», «Граница») – «хороший паренек», и Игорь Петренко («Звезда», «Водитель для Веры»), и Алексей Чадов («Война») – все выполняют, что нужно для дела. Но писать о них нечего. Когда в кино дебютировали Олег Даль, Андрей Миронов, Алексей Баталов, Марина Неелова, Анастасия Вертинская и прочие – о них было что писать.
Теперь победила массовая культура, массовый человек, и творчество актера упростилось, усреднилось, значительно опошлилось и оторвалось от умственных и нравственных поисков своего времени, не говоря уж о вечности. Для описания процессов такого рода критический инструментарий непригоден. Для сопротивления процессам такого рода нужны не критики, а герои.
Странная, странная пьеса
Рождение богов Драматическая фантазия в двух действиях, шести картинах с прологом и эпилогом
Действующие лица
Старшие боги:
Энамора, на Земле – Нина
Гинора, на Земле – Елена Васильевна
Лилиэль, на Земле – Светлана
Сафира, на Земле – Ирина
Фаэтон, на Земле – Евгений
Ариэль, на Земле – Алексей
Рафаэль, на Земле – Александр
Тиотин, на Земле – Джой
Младшие боги:
Унамор, на Земле – Владимир
Бинамор, на Земле – Борис
Нея, на Земле – Анна
Арума, на Земле – Мария
Действие происходит в вечности и во времени.
Пролог
Пир богов. В центре Энамора и Фаэтон. Слева располагаются женские божества, справа мужские. Боги беседуют, пьют вино. Звучит музыка сфер.
Ариэль
Хозяйка дорогая, Энамора,
Мы рады вновь приветствовать тебя.
И вина, превосходные на вкус,
И музыка – всё услаждает нас,
Всё веселит натруженную душу,
И я надеюсь, глядя на друзей,
С которыми сотворено немало
Забавных и возвышенных миров,
Что собрались недаром мы сегодня.
Недаром бросил я четыре мира,
Где я творец всех жизненных стихий,
И без меня они угаснуть могут!
Недаром мчался на властный зов,
Твой зов, о дорогая Энамора!
Итак, ответь, что значит этот зов?
Какая цель у нашего собранья?
Зачем мы здесь?
Лилиэль
Любезный Ариэль
Всегда летит, всегда в трудах великих!
Какая цель у нас, друзей богов,
Не знающих ни в чем своих пределов?
Лишь наслаждаться обществом своим
И отдыхать от созиданья жизни.
Нас укорять покоем не спеши,
Не хвастайся работой, Ариэль,
Никто из наших не сидит без дела.
Энамора
О нет, он прав, подруга Лилиэль.
Я позвала вас, милые собратья,
Для новости великой.
Гинора
Говори.
Признаться, я отвыкла удивляться
И радостно приму дар перемен.
Энамора
Я получила вести от Творца.
Среди богов движение.
Отец нам шлет благие пожеланья,
Он любит нас, божественных детей,
Он ценит высоко заслуги наши
И нам велит родиться на Земле.
Боги удивлены.
Лилиэль
Родиться на Земле, какая прелесть!
Я вновь хочу родиться на Земле.
О, как давно на ней я не бывала!
Друзья, скорее поиграем в жизнь.
Опасное, конечно, приключенье,
Зато потом приятно вспоминать.
Как, помню, хорошо я погуляла,
Когда была гетерою в Элладе!
Ариэль
И это всё, подруга Энамора?
Для этого прервал работу я?
Что ты сказала – я не понимаю.
Земной проект испорчен безнадежно,
Земля покрыта тьмою заблужденья,
И в ней царит тот, Первый ученик,
Который портит все созданья наши,
Которого Он допускает быть,
С которым Он встречается, быть может, —
На это намекал мне Гавриил!
И это после третьего паденья!
Чем плохи мы? Я, например, отличник.
Я выучил законы сотворенья
Куда прилежнее, чем Люцифер.
Но мне прощенья нет и быть не может,
За то, что я критиковал его.
И что критиковал? Какую малость!
Всего-то лишь закон свободы воли,
Который мы внедряли на Земле,
Чтобы погубить ее бесповоротно.
В материю впихнуть свободу воли!
Куда, зачем? Вот и рыдай теперь.
А я же говорил. Предупреждал.
Я видел сам, как Люцифер смеялся,
Предчувствуя великую забаву.
Гинора
Ты плохо говоришь, наш Ариэль.
Ты знаешь, мы подчинены законам,
Которые не смеем обсуждать.
Рафаэль
Друг Ариэль страдает. Вот беда!
Все знают, что его специальность – люди,
А их-то отлучили от него.
И поделом. Не спорь с Отцом, приятель,
Не вмешивайся в замысел Творца.
Ты можешь делать только то, что знаешь.
А знаешь ты немного, Ариэль.
Сафира
Мне больно. Не хочу опять рождаться.
Забыть о небе снова не хочу.
Я знаю глубину земных мучений.
Я знаю всё, что будет на Земле.
Бескрайнее, безбрежное страданье
И мука невозможности помочь,
Когда желаешь всех спасти, утешить,
Всех временных, случайных и больных,
Всех, обреченных поголовно смерти!
Но если весть Отца к тебе пришла,
Скажи ее, хозяйка Энамора,
И горечь жизни я опять приму.
Энамора
Критиковать Отца – простое дело.
Куда сложнее нам понять Отца.
Он шлет на Землю нас, опять всех вместе,
На этот раз – и с младшими богами,
Прожить с людьми их временную жизнь,
Проделать всё, что будет в наших силах,
И, возвратившись, честно рассказать,
Какую долю требуем мы людям,
Какое мненье говорим о них.
Ариэль
Я не сказал ни слова про Творца.
Критиковать Его? Я – ненормальный?
Я добровольно вниз не полечу.
На дне Вселенной слишком мало места,
Такую деятельность там развил наш друг,
Наш бывший друг, конечно. Хоть сейчас
Могу сказать я мнение о людях.
Зачем мне лезть в затею Сатаны?
Фаэтон
Когда же ты заткнешься, Ариэль?
Всё решено. Не будем суетиться
И тратить драгоценные слова.
Отец учил, что лучше помолчать,
Когда исправить дело ты не можешь.
Хозяйка дорогая, поднеси
Нам жребий.
В руках Энаморы две чаши.
Энамора
Повнимательней, друзья.
Берите. Вынимайте смело жребий
Для плана, смысл которого невнятен
Ни мне, ни высшим силам надо мной.
Родившись в мире плотных измерений,
Мы вновь должны – все —
обрести друг друга,
Обязаны мы действовать все вместе,
В одной стране, в одно и то же время,
У каждого своя должна быть роль,
И он обязан выучить ее,
На йоту от нее не отклоняться.
Движение среди младших богов.
Арума
Великая богиня Энамора,
Позволь спросить младому божеству
Тебя, хозяйку дома вечной славы,
Куда хотите взять вы нас сейчас?
Нея
Мы в первый раз и слышим о Земле,
Смерть и страданье – это что такое?
Унамор
Не знаем мы, что делать нам тогда,
Когда, о боги, понял я из ваших
Высоких и страннейших разговоров,
Нас бросите из вечности во время?
Бинамор
По крайней мере это будет долго?
Ведь скоро в школу.
Энамора
Успокойтесь, дети.
Земная жизнь – вот лучшая из школ.
Вы будете задачею моею.
Ты, Унамор, ты, Бинамор, – вы, дети,
И на Земле вы будете мои.
Ты, Нея, ты, Арума, – не волнуйтесь.
Родитесь вы от друга и сестры.
Внимательнее слушайте себя.
Что б ни случилось там – вы возвратитесь,
А опыт обретенный мы обсудим.
Фаэтон
Я не хочу обманывать детей.
Я расскажу им о земных пределах.
Когда-то там – а вас тогда на свете
И не было, младые божества,
Творец Отец в хорошем настроенье
Решил создать свободнейший, светлейший,
Да просто лучший из своих миров,
Где можно выбрать тьму, когда захочешь,
Где есть свобода и добра, и зла,
Где созиданье есть, есть разрушенье,
И каждый волен прямо от рожденья
Идти любой дорогой до конца.
Он создал мир двойных предположений,
Где на любое «я» есть властно: «ты»,
Где вечный океан рождает время,
А реки времени текут обратно в вечность,
И отпечаток жизни человечьей,
Не знача ничего, решает всё!
Он дал душе, закованной в матерью,
Свободный выбор. Лучший ученик,
Любимчик и красавчик, о котором
Столь живо говорил нам Ариэль,
Изобретатель зла и повелитель
Своих стихий, поспорил раз с Отцом,
Сказал ему, что этот мир погубит
И выберут его, а не Творца
Свободные от принужденья люди.
Он выиграл. Однако наш Отец —
С ним разве можно спорить!
Только в шутку!
Он вновь и вновь велит богам рождаться,
И понемногу, надобно признать,
Мы исправляем дело Люцифера.
Я думаю, что все пойдет на лад,
И коли в этот раз мы не погибнем…
Бинамор
Погибнем? Что такое «мы погибнем»?
Энамора
Наш Фаэтон преувеличил, дети.
Бинамор
Что, воевать? Отлично. Не беда!
Ведь мы же молодые. Нам задачи
Должны перепадать и поважней!
Нея
Но там, в Земле, хотя бы есть любовь?
Арума
Ты, Нея, право слово, глуповата.
Учили ведь тебя, давно учили.
Любовь – основа всех миров Отца.
Энамора
Итак, друзья, мы двигаемся дальше.
Для точного прямого попаданья
В наш новый план и в замысел Отца
Мы связаны должны быть непременно
Крепчайшею невидимою сетью —
То узы брака, дружбы и родства.
Чтобы выжить,
мы должны любить друг друга,
Поэтому обязаны узнать
Мы под земною грубою личиной
Наш подлинный и настоящий лик.
Не перепутать. Не пропасть. Не сбиться.
Не оттолкнуть пришедшего к тебе
Усталого замученного бога.
Не потерять себя. Давай, Гинора.
Гинора вынимает жребий.
Гинора
Я, Энамора, буду мать твоя.
И мать сестры твоей. Вот это дело!
Родить и воспитать тебя готова
И рада я такому назначенью.
Всегда я исполняла беззаветно
Все повеленья нашего Отца.
Я много раз бывала на Земле.
Я знаю искаженья темной жизни
И матерью хорошей для тебя
Надеюсь быть.
Энамора
Ты, Лилиэль, рискни.
Лилиэль
(берет жребий)
А, Энамора, я твоя сестренка,
Жена того, кто будет вечным другом
Тебе на этой брошенной Земле,
Которую всегда мне было жалко.
Нет, правда, в людях точно что-то есть!
Я искренне скажу: не понимаю
Тех вечных, кто не хочет породить
Во времени свое отображенье.
Какие жадные! Как берегут себя!
А я живу во времени свободно —
Я на Земле несчастной не была,
Жила легко и умирала просто.
Я ничего не свете не боюсь!
Энамора
Сафира, ты. Но лишь одно осталось.
Сафира
(берет жребий)
Моя душа к тебе стремиться будет
И здесь, и там. Подруга Энамора
И на Земле моей подругой будет.
Читает.
«Бери любого из земных мужей».
Опять позор. Опять уничиженье.
«Бери любого из земных мужей».
Сама бери! Что мне мужья земные?
Сейчас из ничего слеплю любого!
А там они смеялись надо мной,
Топтали душу, разбивали сердце
И смели оскорблять мою любовь!
Отец, ты, может быть, и справедлив,
Но до чего же ты немилосерден!
Энамора
Ты, Ариэль.
Ариэль
(берет жребий)
На этот раз… твой муж.
Спасибо, вот удача мне сегодня!
Так буду я тобою обладать?
Но это, знаешь, стоит воплощаться!
Энамора
Да, это план.
Ариэль
Благословен сей план.
Я умолкаю, всё – я подчиняюсь.
Энамора
Ты, Рафаэль.
Рафаэль
(берет жребий)
И, как всегда, твой друг
И муж сестры, прекрасной Лилиэль.
Лилиэль
А, Рафаэль, занятное свиданье!
Рафаэль
Зачем тебе я нужен, Лилиэль?
Я скромный исполнитель повелений,
Ты радостная вестница любви,
Нам на Земле придется нелегко.
Но буду я стараться, дорогая,
Беречь тебя и охранять всегда.
Лилиэль
Ты так серьезен, милый Рафаэль!
Но будь хоть чуточку повеселее.
И Фаэтон сидит, нахмурив брови.
А ты-то что, приятель, приуныл?
Энамора
Ты, Фаэтон.
Фаэтон
Да. Я – любовь твоя.
Скажу по чести, мало во Вселенной
Созданий, изумляющих меня,
Но ты, моя небесная жена,
Ты есть одно из них, и это вечно.
Но жребий мой ужасен на Земле.
Энамора
Как, Фаэтон! Как это может быть!
И здесь ты мой. И там моим ты будешь.
Фаэтон
Предчувствия тяжелые томят
И не дают покоя. Энамора,
Твою любовь, твою судьбу и силу
Делю давно я в этом светлом царстве,
Опасностей не зная. Помнишь мир,
Который мы с тобою сотворили,
И сам Отец сказал нам: «Хорошо».
И он решил, мы связаны навеки.
Он позабыл – а он так долго не был
В земной юдоли, – что, упав отсюда
В долину страха, боли и тревог,
Мы можем потеряться, Энамора,
И я тебя забуду. Облик твой,
Из порченной материи рожденный,
Мне ничего не будет говорить.
А мой извечный враг, владыка ада,
Начнет сбивать, кружить, мутить и путать
Меня, чтобы я тебя не отыскал.
Ты знаешь, создан я в минуту страсти,
Ни удержу, ни меры, ни покоя
Не ведаю. И я… могу погибнуть.
Покинуть ваше общество, друзья,
И заплатить за грустные ошибки
Земли – своим законным вечным местом.
Энамора
Но как меня ты мог бы не узнать?
Смотри, запоминай мое лицо.
Запомни голос. Я тебе не дам
Забыть меня, бродяга Фаэтон!
Здесь не ушел – и там ты не уйдешь.
Боги смеются.
Гинора
Я, матерь долга, вечная Гинора,
Вас спрашиваю: вы готовы, дети?
Тиотин
Я самый несчастливый из богов!
И это о себе давно я знаю!
Я выкидыш на празднике Отца,
Я неудачный бог, я бог-калека!
Опять вы мне не дали жалкой роли.
В твоей руке, любовь моя и мука,
Нет жизни Тиотину. Почему?
Отец, зачем ты наградил меня
Любовью к той, которая не знает
О жалости? Ты пощади меня.
Когда пою – она проходит мимо.
Когда в честь драгоценной Энаморы
Слагаю я нежнейшие миры —
Она лишь улыбается лукаво.
Я не останусь. Лучше я погибну.
Мне без тебя и вечность не нужна.
Рафаэль
Да мы же бережем тебя, дружок.
С твоим здоровьем можно ли на Землю?
Да ты и часу там не проживешь.
Лилиэль
Какой он милый. Полюби меня!
Я добрая.
Энамора
Голубчик Тиотин,
Что делать, не имею больше роли.
Но если хочешь – то бери себе
По силам что-нибудь.
Тиотин
Ах, Энамора!
Сидишь ты вместе с другом Ариэлем,
Твой муж – пресветлый гений Фаэтон,
Зачем тебе бедняга Тиотин,
Который, между прочим, знает точно,
Что на Земле они тебя покинут,
Забудут план, замучат, оскорбят,
Да так, что ты в ужасную минуту
Задумаешь с собой покончить вовсе!
Тогда приду. Приду твоей собакой.
Собакой, Энамора! И спасу
Тебя от необдуманных решений.
Энамора
Собакой так собакой. Хорошо.
Итак, друзья, вперед! Пора рождаться!
Боги сходятся все вместе.
Энамора
О мир слепого случая! Внемли!
Гинора
Приди сюда и нами овладей.
Лилиэль
Мы отдаемся океану судеб.
Сафира
Мы беззащитны пред тобою, Рок.
Фаэтон
Сверни меня в ничто, о Повелитель.
Ариэль
Тебе я покоряюсь беззаветно.
Рафаэль
Я растворяюсь, чтобы возродиться.
Тиотин
Родиться на Земле желаю я.
Унамор
Для радости и горя.
Бинамор
Для работы.
Нея
Для счастья и страданья.
Арума
Для любви.
Боги исчезают. Первой Гинора, затем Энамора, Фаэтон и Ариэль, потом Рафаэль, Лилиэль, Сафира, потом Унамор, Бинамор, Нея и Арума. Тиотин, оставшись в одиночестве, воет громко, по-собачьи. Все погружается в темноту. И это конец пролога.
Действие 1
Картина 1
Квартира Нины (Энаморы). Она входит, нагруженная сумками. Дома Елена Васильевна (Гинора).
Елена Васильевна . Масло купила?
Нина . Мам, ты хоть бы здрасьте мне сказала.
Елена Васильевна . Здрасьте. Масло купила?
Нина . Купила. Хорошее, эстонское.
Елена Васильевна (в ужасе) . Как эстонское? Разве можно покупать эстонское масло?
Нина . А почему нельзя?
Елена Васильевна . Да кто их знает, что они туда могут положить. Они ж нас ненавидят.
Нина . Мам, глупости.
Елена Васильевна . Тебе всё глупости. Вот потом будет живот болеть от этого масла, вспомнишь меня.
Нина . Мам, мне уже тридцать два года, а ты меня отчитываешь как девчонку.
Елена Васильевна . А толку, что тебе тридцать два года? Ума-то не нажила.
Нина . Знаешь, мама, про меня в больнице говорят, что я гений и в диагностике мне равных нет.
Елена Васильевна . А ты не верь.
Нина . Разве я плохой врач?
Елена Васильевна . Плохой, хороший, какая разница? И смерть не залечишь, и раньше смерти не помрешь.
Нина . Как говорил про тебя принц датский Гамлет, «в этом безумии есть своя система».
Елена Васильевна . Есть будешь?
Нина . А что?
Елена Васильевна . Не что, а есть будешь? То, что дам?
Нина . А что дашь?
Елена Васильевна . Блинчиков с капустой уже нет. Твой муженек утром съел шесть штук. Нет, это куда в него лезет!
Нина . Пусть ест. У него неприятности в газете. Деньги не перевели, может, вообще закроется всё.
Елена Васильевна . Ну и слава богу. Одной пакостью на свете станет меньше.
Нина . Мама!
Елена Васильевна . А что мама? Разве это газета? Голые жопы на каждой странице.
Нина . Это чтоб читатели обратили внимание. Это форма, а еще есть содержание.
Елена Васильевна . Содержание еще хуже формы. Жопа – она по крайней мере просто жопа. А вот людей мутить всякими статьями про извращение – это надо уметь, как твой супруг. Зря ты развелась с Алешкой. Как говорится, ботинок сняла, лапоть надела.
Нина . Нет, мама, есть вещи, которые прощать нельзя. Когда я вернулась еле живая с аборта, на который он меня послал, открываю дверь, а они с Иркой… Он встает, стоит голый и улыбается, улыбается! Я не вынесла этой улыбки… И она, лучшая подруга… Ох не могу, даже вспоминать больно.
Елена Васильевна . Подумаешь. Все мужья трахаются с подругами своих жен. Это старинное мужское занятие. Ты в больнице, а ему что, на панель идти за бабой? Ерунда. Семью надо было хранить. Теперь он телезвезда, у них двое детей, а ты ни при чем.
Нина . Дети у них славные, говорят. Что ж, мама, может, я еще рожу.
Елена Васильевна . В тридцать два года? Ты уже перестарок. И от кого рожать-то? От Сашки? Вот интересно, все специалисты по сексуальным вопросам полные импотенты или через одного?
Нина . Он писатель, а не специалист по сексуальным вопросам. Ты сама знаешь это прекрасно. Что делать, книжками не заработаешь. И он совсем не импотент.
Елена Васильевна . Да? А почему у вас в спальне так тихо по ночам?
Нина . Устаем оба.
Елена Васильевна . В тридцать два года? Да я в твои лета каждую ночь мужа теребила.
Нина . Что ж я могу поделать! Саша милый, добрый, чудесный. Он лучше Лешки-мерзавца в тысячу раз. Но ты же помнишь, что со мной было, когда я с Лешкой… Как меня трясло! Ни есть, ни пить не могла.
Елена Васильевна . Да уж, помню. Ничего не скажешь, страсть.
Нина . А он взял и предал меня.
Елена Васильевна . Опять за рыбу деньги. В чем предательство-то? Помылся да ушел.
Нина . Ох мама, мама, ты не понимаешь.
Пауза. Музыка сфер, но она искажена.
Елена Васильевна . Ты что это белыми стихами заговорила?
Нина . Я случайно.
Елена Васильевна . Стихов-то не пишешь больше?
Нина . Нет.
Елена Васильевна . Врешь.
Нина . А тебе какое дело?
Елена Васильевна . Такое дело, что у меня дочь сумасшедшая. Обе сумасшедшие вы со Светкой. Та по-своему, на мужиках рехнулась, а ты? Ведь это мираж, фикция, фантазия одна твоя!
Нина . Ты о чем?
Елена Васильевна . Убирала я тут твою комнату.
Нина . Мама!
Елена Васильевна . Господи! Ей тридцать два года, замужем второй раз, терапевт, специалист, две книги, а она письма пишет – кому? Артисту! Как девчонка, как идиотка, в актера влюбилась.
Нина . Замолчи наконец, гадина. Заткни свою пасть. Если я еще услышу хоть слово, я тебя на куски разорву. Не лезь в мою душу! Не лезь! Своей души нет, так мою не трогай! (Плачет.)
Елена Васильевна . У меня нет души? У меня сколько хочешь души.
Нина плачет.
Елена Васильевна . Да я тебе добра желаю всю жизнь. А если ты всё не то делаешь, что мне, молчать?
Нина плачет.
Елена Васильевна . Доченька, родная, перестань. Прости меня. Господи Боже мой. Да пиши ты кому хочешь. Ну любишь, так люби. Может, вам познакомиться как-то? Правда, говорят, он беспутный совсем, Евгений твой… Светозаров. Экая фамилия-то.
Нина . Это псевдоним.
Елена Васильевна . Господи, а настоящая фамилия как? Неужели Шапиро?
Нина . Хоть бы и Шапиро, какая разница.
Елена Васильевна . Тебе, конечно, никакой нет разницы…
Входит Александр (Рафаэль).
Александр . Нина, мама, привет!
Елена Васильевна . О, явился не запылился. Давай ужинать, герой.
Уходят в кухню.
Нина . Добрый вечер, Саша.
Александр . Ты плакала? Почему? (Кричит.) Мама, вы опять Нину обидели?
Елена Васильевна (Кричит) . Она сама себя обидела.
Александр . Ох, эти ваши вечные сцены. Неужели нельзя хоть немного беречь друг друга.
Нина . Хорошая фраза. Ты ее вставь в свою новую книгу.
Саша . Ты опять…
Нина молчит.
Саша . Скоро футбол по телевизору.
Нина . Иди смотри свой футбол.
Саша . А знаешь, деньги все-таки перевели. Так что на той неделе снова мы выходим.
Нина . Какая радость.
Саша . Радость небольшая – деньги хорошие.
Нина . И то хлеб.
Саша . А что, когда я написал про кота-людоеда, знаешь, сколько было звонков от читателей!
Нина . Интересовались психическим здоровьем автора?
Саша (смеется) . И это тоже.
Входит Елена Васильевна.
Елена Васильевна . Ешь да помалкивай.
Саша . С вашими котлетами, мама, я на всё готов. Да, Нина, не помню, говорил тебе, нет – мою книгу «Тихое счастье» взял читать один издатель.
Елена Васильевна . Тихо прочтет и тихо выбросит в тихую корзину.
Саша . А может, напечатают.
Елена Васильевна . Может, и напечатают. Мало ли всякого вздора печатают.
Саша . Ничего не вздор, Елена Васильевна. Вы совершенно не разбираетесь в литературе, а говорите.
Нина . Правда, мама. Саша неплохо пишет.
Елена Васильевна . Неплохо, а надо хо-ро-шо. Ты слишком добрый. Знаешь, что говорил Фолкнер? «Убей своих любимцев» – вот девиз настоящего писателя. Лев Толстой какую женщину бросил под поезд! Не пощадил! А у тебя герои слоняются-слоняются, болтают-болтают, никто не умирает, не стреляется… Все детей каких-то рожают. Что это за литература?
Саша . А я не люблю ни писать, ни читать про насилие. Приходится, а не люблю. В книгах я отдыхаю душой от своей газеты.
Нина . Понятно, мама?
Звонок.
Елена Васильевна . Кого еще черт несет?
Входит Светлана (Лилиэль).
Света . Родственники, привет!
Нина . Сестренка, вот так сюрприз! Ты же в Париже!
Саша . Светочка, счастье мое, какая умница, что пришла. Дай я тебя поцелую.
Целуются.
Елена Васильевна . Принесло нашу кралю западным ветром.
Света . Сбежала я с вашего Парижу. Утерла нос своему королю бубновому.
Елена Васильевна . Чего же так?
Света . А, остоебенило.
Саша . Света! Как можно! Что ты выражаешься, как пьяный матрос!
Света . Я и есть пьяный матрос. То есть пьяная матроска. А! Костюмчик! А! Туфельки! Все дареное. Отродясь своих денег не бывало.
Саша . Еще хвастается.
Света . А что? Платят мужчины. Женщины тратят!
Елена Васильевна . Раскрутила короля?
Света . По полной то есть программе. Он оказался хорошей зверушкой. Совсем почти бессловесный. Я вообще не люблю болтливых мужиков.
Саша . А я болтливый?
Света . Ты, Саша, положительно прекрасный человек. Как идиот Достоевского. Не будь Нинки, я бы тебя схватила и унесла. Насовсем и навсегда.
Саша . Да… Что уж тут поделаешь. Теперь разве что на том свете.
Света . На том свете обязательно поженимся.
Елена Васильевна . Пара гнедых, запряженных зарею.
Пауза, музыка.
Света . Я что-то забыла…
Нина . Вспомни.
Саша . Я… а мне показалось… странное чувство… что все уже было однажды.
Пауза.
Елена Васильевна . Я спать пошла. Надоели вы мне.
Нина . Да, Саша, футбол!
Саша . Ладно, пропущу.
Нина . Футбол, Саша! Опомнись.
Саша . А. Хорошо. Светочка, ты еще не уходишь?
Света . Нет, не ухожу. Куда мне, вообще, идти?
Саша . Ладно. Пока тогда.
Света . Пока, миленький.
Саша уходит.
Нина . Как дела, сестренка?
Света . Сама знаешь.
Нина . Не надоело романы крутить?
Света . Не то чтобы надоело. Просто возраст уже. Двадцать девять лет, пора вить гнездо. А с кем?
Закуривает.
Нина . Брось курить.
Света . Отвали, сестра. Я безнадежна. Вот забеременею когда, сразу брошу.
Нина . Так давай. Мы поможем.
Света (смеется) . Что – поможете? Забеременеть? Ты мне своего Сашу дашь напрокат?
Нина . А бери.
Света . Ты что – серьезно?
Нина . А серьезно.
Света . Ты рехнулась, сестра?
Нина . А не рехнулась. Пускай. Ему нужны дети. Я же вижу, как он страдает.
Света . Сама рожай.
Нина . Я… не могу.
Света . Это точно?
Нина . Да. Зачем мне его мучить, а? Пусть хоть племянники будут. А то весь наш род переведется.
Света . Ты слишком добрая. Так не бывает.
Нина . Это не доброта. Как тебе объяснить? Я знаю, что так надо сделать. Это необходимо. Это план.
Света . Какой план?
Нина . Чей-то план.
Света . Хорошо. Это безумие, но… Знаешь, раз ты не возражаешь, я с ним трахнусь. И давай так: если я с одного раза залетаю – всё. Рожаем и молчим обе как убитые – никому не говорим – ни ему, ни маме. Кто отец? Царь небесный.
Нина . Я согласна.
Нина и Света обнимаются. Пауза .
Света . А что твой артист?
Нина . Играет.
Света . Он в форме?
Нина . Когда как. Позавчера напился, еле роль протащил до конца.
Света . Да что ж это за ним никто не смотрит!
Нина . Ты белыми стихами говоришь?
Света . Я случайно.
Нина . А кто за ним будет смотреть? Мальчики его разлюбезные? Так им плевать.
Света . Он безнадежный, да? Совсем не по теме?
Нина . Скажем так – по другой теме.
Смеются .
Нина . Мне это всё равно. Я его люблю… абсолютно. Мне от него ничего не надо. А я готова отдать всё. Сказал бы: утопись, пошла бы и утопилась. Всё равно. С этим надо жить. Это не пройдет. Никогда не пройдет.
Света . Нет, а давай я тебя познакомлю с ним, а? У нас есть общие друзья. Мой приятель по Академии художеств был его бойфрендом одно время.
Нина . И что я скажу?
Света . Чего-нибудь наплетешь. Нет, ну а попробуем, Нин, а? Может, он мечтает вообще, что вот полюбит его русская женщина Нина и, например, взявшись за руки, короче говоря, они пойдут, скажем, прямо к солнцу. Ну, не выйдет ничего, будете просто дружить. Ты его вылечишь от алкоголизма. Он тебе Блока будет читать. Чем плохо?
Нина . Очень хорошо.
Света . Заметано, сестра! Будем работать, будем учиться, светлое завтра в двери стучится!
Нина . Ты-то хоть работаешь? Хоть полкартинки написала?
Света . Целых две. Одна называется «Мадонна с сигаретой», а другая «Зимнее утро в вытрезвителе».
Нина . Правда, что ли?
Света. Клянусь Провидением!
Они смеются, и это конец 1 картины .
Картина 2
Квартира Евгения Светозарова (Фаэтон). Утро. Евгений и Нина спят. Евгений кашляет. Просыпается. Долго кашляет, до хрипоты.
Евгений . О боже мой, царица мать небесная. Ох, заступница, прости, помилуй, пощади (кашляет) . Сколько ж я выпил, мамочки мои! А сколько выкурил! Другой бы умер на моем месте. Есть же на свете счастливые люди – пьют, но не курят. Что это я в чем мать родила? (Смотрит на Нину.) Женщина какая-то лежит. Это еще что? Как меня угораздило. А что, красивая. На кого-то похожа. Я что, интересно, трахался с ней, что ли? Нет, ну вряд ли. Я и трезвый на такие подвиги не хожу, а уж какой я вчера был… Да, красивая. Не очень молодая, правда. В моем, наверное, возрасте. А, точно, ее Ванька привел! Говорит, твоя поклонница. Ну, поклонница так поклонница. Молчала весь вечер. Про большую любовь не говорила. Не идиотка, значит. А как зовут, убей меня создатель, не помню. Эй, подруга, просыпайся!
Нина (просыпаясь) . Здравствуй. Здравствуй, мой дорогой.
Евгений . Дорогой, это точно. Я очень дорогой. А ты кто?
Нина . Кто я?
Евгений . Кто я, мне известно. А кто ты – нет.
Нина . Я – Нина.
Евгений . Нина – это хорошо. Как в «Маскараде» Лермонтова. Нина и Евгений. Я играл в «Маскараде», правда, в школе. (Читает.)
Послушай, Нина, я рожден
С душой кипучею, как лава…
Нина . Я была у тебя вчера. Мы всю ночь говорили. А потом…
Евгений . Что – потом?
Нина . Ну как… Ты разве не помнишь?
Евгений . Честно говоря, смутно.
Нина . Как это – смутно?
Евгений . Нина, я алкоголик. Понимаешь? Ал-ко-голик. У меня провалы в памяти. После двух литров я в автопилоте.
Нина . Значит, я имела дело с твоим автопилотом? Автопилот был на высоте.
Евгений . Дело? Какое дело? Что, это самое дело? Что-то плохо верится. У меня с этим делом перебои. Ты выпей с мое, вообще говоря!
Нина . Зачем ты пьешь?
Евгений . Хороший вопрос. Видно, что его задавал умный человек.
Нина . Так отвечай.
Евгений . Как говорят в одной пьесе Петрушевской, «мы пьем потому, что нам нравится пить». Нравится, да! В быту мне скучно. Скучно, Нина, скучно! Я рожден с великой силою в душе! Вот так взять, полетать, сгореть, и всё! И ничего не нужно больше!
Нина . Зачем сгорать?
Евгений . Для собственного удовольствия!
Нина . А жизнь нам дана не для удовольствия. Жизнь – это цепь задач. Ты – гениальный артист.
Евгений . Я знаю.
Нина . Значит, надо работать.
Евгений . А я что, не работаю?
Нина . Ты на прошлой неделе спектакль сорвал.
Евгений . Увлекся. Старые друзья подкатили.
Нина . Знаю я твоих старых друзей.
Евгений . Что ты можешь знать!
Нина . Да я всё про тебя знаю. И про друзей старых, и про друзей совсем-совсем молоденьких.
Евгений . А я и не скрываю ничего. А если мне нравится? Если я, например, не хочу ни плодиться, ни размножаться? Ты, что ли, меня заставишь?
Нина . Возьму и заставлю.
Евгений . Ну что, подруга, разбегаемся? Мне на репетицию в двенадцать. Сейчас сколько?
Нина . Я не знаю.
Евгений . Вот ты не знаешь, а я опаздываю.
Нина . Подожди еще. Подожди.
Евгений . Еды всё равно нет, так что на завтрак не рассчитывай.
Нина . Я не хочу есть. Я хочу поговорить с тобой.
Евгений . Ладно. Я сегодня добрый. Что-то хорошее настроение у меня.
Нина . Когда я впервые увидела тебя, мне было двадцать три года…
Евгений . В какой пьесе?
Нина . «Пять вечеров» Володина.
Евгений . А, точно, это было хорошо, я помню. Мне ж было… а, тоже было двадцать три. Первая роль, мамочки мои! Я ж был здоров, как зеленый огурец. Носился по сцене, ничего не соображал. Критики писали о моем лучезарном обаянии. Лучезарное обаяние, а? Женского рода критики, конечно. Любите вы меня, надо отдать вам должное. И правильно делаете. И надо меня любить. Чего вам ваши плешивые мужья в тренировочных штанах? На что они вам сдались? Вот у тебя есть муж?
Нина . Уже второй.
Евгений . Плешивый?
Нина . Ну, совсем немножечко.
Евгений . А у меня смотри какая шевелюра! Ни одного седого волоска нет. И вообще все на месте. А глаза! Ты где-нибудь видела такие глаза?
Нина . Нигде.
Евгений . Конечно. И не увидишь. На заказ сделано. А зубы посмотри, а? Я и у дантистов-то не бываю. Всё от Бога!
Нина . Любишь ты себя.
Евгений . Люблю! А которые люди себя не любят, те люди мне вообще подозрительны. Они и зарезать могут. Вот я тут по телевизору видел мужика. Он двух человек зарезал, отца и дочку, они черешню рвали на его территории, понимаешь ли! Его спрашивают: как вы считаете, что с вами надо за это сделать? А он преспокойным образом отвечает: а расстреляйте, говорит. Все равно я не человек. Смотри, как обнаглели силы зла! (Пауза.) Я что-то прямо белыми стихами…
Нина . Я иногда тоже.
Евгений . Я, наверное, от Шекспира заразился, пока репетировал.
Нина . А что репетировал?
Евгений . Макбета.
Нина . Не очень твоя роль.
Евгений . Ну да, не моя! Совершенно моя!
Читает из «Макбета».
Мы дни за днями шепчем: «Завтра, завтра».
Так тихими шагами жизнь ползет
К последней недописанной странице,
Оказывается, что все «вчера»
Нам сзади освещали путь к могиле.
Конец, конец, огарок догорел!
Жизнь – только тень, она – актер на сцене,
Сыграл свой час, побегал, пошумел —
И был таков. Жизнь – сказка в пересказе
Глупца. Она полна трескучих слов
И ничего не значит!
Пауза .
Нина
Но отпечаток жизни человечьей
Не знача ничего, решает всё!
Пауза .
Нина . Ты слишком обаятельный для Макбета.
Евгений . А он и должен быть душка-милашка. Он убивает с отвращением. Он не хочет убивать. Но что делать, времена стоят недемократические, до власти без крови не доползешь. Сейчас его выбрали бы где-нибудь мэром или губернатором за милую душу. Чисто, хорошо, без крови, на одной лжи доехал бы до власти до своей.
Нина . Ложь лучше, чем кровь.
Евгений . Мне все отвратительно. Я думаю, была бы у меня волшебная палочка, я бы взмахнул ею и сказал: политики всего ми-pa! Идите к чертовой ма-те-ри! Оп! И они бы пропали. А мы начали жить наконец.
Нина . Это наивное рассуждение.
Евгений . Ты прямо как учительница. «Наивное рассуждение. Тройка, Женя». Наивное, да верное.
Нина . Нет. Неверное.
Евгений . Ну, ладно. А ты сама-то работаешь где-нибудь?
Нина . В Первой больнице. Я врач-терапевт. Кандидат наук. У меня две книги…
Евгений . Слушай. Так это здорово. Давай я запишу твой телефон.
Нина . Запиши. Один два три четыре пять шесть семь.
Евгений . Отлично. Так. Подруга, пора идти.
Нина . Но я тебе не сказала…
Евгений . Так я понял. Ты меня любишь всю свою сознательную жизнь. Я тебе искренне верю. Я тоже себя люблю с такой же силой и с такого же возраста.
Нина . Я писала тебе. Ты не получал моих писем?
Евгений . Слушай, я получаю сто писем в день. Я читаю иногда, так, наугад. Всё одно и то же. Если у женщин развито воображение, пусть трахаются со мной мысленно сколько хотят. Я разрешаю. Я добрый. Мне не жалко. Не убили бы только ненароком. Совершенно не хочу умирать зря.
Нина . Если будешь со мной, не умрешь.
Евгений . С тобой? Как это? Слушай, а мне сначала показалось, ты нормальная.
Нина . Я нормальная.
Евгений . Ну где ж нормальная. Нина, я не могу сказать: я хочу быть с тобой, как поет рок-группа «Наутилус». Я не могу сказать: иди ко мне, как поет рок-группа «Алиса». Я ни с кем не могу быть. Я никого не хочу звать. Я так создан.
Нина . Не верю…
Евгений . Ой, только не плачь. Славная такая женщина, добрая. Ей-богу, ну что я тебе могу предложить? Вот, возьми фотографию. На память. Видишь, я пишу: Евгений Светозаров. Бери, мужу покажешь. Пусть он тебя уважает! Нет, плачет. Господи. Вот горе-то с утра пораньше. А хочешь, я тебе Блока почитаю? Я тут делаю композицию. Беру самые известные стихи и все стираю, весь глянец. Как будто сам их сочиняю, вот здесь, вот сейчас. Казалось бы, совсем опошлили «Незнакомку», да? А я что сделал! Какой я молодец! Я представил себе, что это несчастный, больной, спившийся человек сидит в гадком ресторане. Он медленно напивается. И видит ее. Вот слушай…
По вечерам над ресторанами…
(Читает «Незнакомку» Блока.
Пауза.
Здесь товарищ артист, играющий Фаэтона, обязан заслужить овацию.)
Нина (встает на колени) . Дорогой мой. Любимый мой. Я прошу тебя…
Евгений . Ой, встань, пожалуйста! Я сам сейчас заплачу! Не мучай ты меня, женщина. Иди себе с миром. Я вас всех люблю, честное слово. Обожаю. Души не чаю. Но не могу же я на всех жениться-то, ей-богу, не могу. Оставь меня. Я хочу побыть один наконец.
Нина . Я ухожу. Прощай. Я все равно буду любить тебя.
Евгений . Люби меня сколько влезет, только не убивай. И вены себе резать не надо, я этого не стою, Нин, честное слово, ты уж мне поверь! Прощай! Если будут проблемы со здоровьем, я обязательно позвоню!
Нина уходит.
Евгений (один) . Опять опоздаю. Опять эта зараза скажет: что, звездная болезнь разыгралась, Евгений Ильич? Конечно, две бутылки по пять звездочек – и готова звездная болезнь. (Пауза, музыка.) Смешная какая женщина. Хорошая. Ушла тихо. «Прощай. Я все равно буду любить тебя». Эх, мне бы так влюбиться, как меня любят! Да видно не судьба. (Пауза.) Кого-то она мне напоминает. Актрису, что ли, какую-то. (Пауза.) А может, мы и впрямь трахнулись? Чем черт не шутит, когда Бог спит. (Пауза.) Может, позвонить ей? Врач все-таки. Полезное знакомство. Да нет, зачем. Чушь какая-то лезет в голову. Всё, я готов. (Смеется.) Как говорил Эдмунд Кин, он же гений и беспутство, «ну что, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира?» (Смеется.)
Конец 1 действия.
Действие 2
Картина 3
Квартира, где живут Алексей (Ариэль) и Ирина (Сафира). Ночь.
Ирина (одна, пьет) . Где он может шляться? Где? Опять туда пошел или… не знаю. Может, новую пассию завел. Дети спят, а отец шляется. Чего он ищет-то? Чем дома ему плохо? Вот придет – всю рожу расцарапаю. Нет, нельзя. Он же ею деньги зарабатывает, телезвезда проклятая. Господи, как я его ненавижу, когда он вот так приходит домой с блядок, улыбается и говорит: «Птичка моя!»
Входит Алексей.
Алексей . Птичка моя!
Ирина молчит.
Алексей
Тебя аж передернуло от злости.
Ты знаешь ведь, что я пришел с работы.
Что так невесело встречаешь мужа?
Хоть улыбнись, Ирина дорогая,
От холода несчастной этой жизни
Беднягу мужа отогрей скорей,
И… э… сейчас…
Ирина . Знаю я твои способности говорить белыми стихами. Ты меня этим и улестил, мне на горе.
Алексей . Я тебя улестил? Да ты меня взяла с бою, как трофей, по всем правилам военной науки!
Ирина . Да уж точно. Я думаю, самая блестящая женская кампания XX века – это моя кампания по соблазнению тебя. Боже, сколько на это ушло таланта, сил, терпения, ума! А хитрости сколько! Один Бог знает. Ладно, давай ужинать. Я не ела, тебя ждала.
Алексей . А интересно, что было самым сложным в соблазнении меня?
Ирина . Ты любишь сам выбирать. Ты терпеть не можешь женской сексуальной агрессии. Но при этом ты любишь, когда тебя соблазняют. Так, знаешь, легко и ненавязчиво. Вот и танцуй на острие бритвы!
Алексей . Ну, ты и станцевала. Правда, с Нинкой получилось нехорошо. Меня до сих пор совесть мучает. Как она нас застукала, а я от растерянности и ужаса не знал, что делать. Стоял голый и улыбался, как дурак. Кошмар!
Ирина . Все от Бога, я считаю. Если бы любила, так простила бы. Подумаешь, какая важность! Так нет, мы гордые!
Алексей . Молодая была, теперь, может быть, и простила бы.
Ирина . Теперь это моя задача – тебя прощать.
Алексей . А что прощать? Я верен своей женушке.
Ирина . Ты? Верен? Да у тебя все карманы забиты презервативами.
Алексей . Да это так, на всякий случай.
Ирина . На какой-такой случай, старая ты блядь?
Алексей . Ира, ну куда я от тебя денусь? У нас двое детей. Я вас люблю всей душой. Я смотри, вот деньги стал понемножку зарабатывать. Для кого, для себя, что ли? Мне ничего не нужно, правда. Ты сама знаешь, ем я мало, одеваюсь во что режиссер скажет, а мне без разницы. Мне бы и на деньги было плевать, если бы можно было без них обойтись. А вот нельзя. Странно вообще. Настригли каких-то бумажек, передают их туда-сюда. А вот работу я люблю. Страшная и прекрасная штука это телевидение. Нинка мне сразу сказала: Лёша, это твое.
Ирина . Подумаешь, сказала! А я с тобой жила все эти годы, профессию потеряла, голос пропал, растила тебя как маленького. Это ведь посудомойки мечтают о прекрасных принцах. Царица любит сама!
Алексей . Царица ты моя. Жаль голос. Ах, как ты пела. Спой мне.
Ирина . Нет.
Алексей . Птичка, спой.
Ирина . Спою, хорошо. Осталось ведь немножко, а? А какое было меццо! Что там твоя Образцова! Спою. Только ты не подпевай. Ты ужасно поёшь. Ты поёшь хуже Никиты Михалкова.
Алексей . А мне нравится, как Никита Сергеевич поет. Он поет с чувством!
Ирина . Вот я тебе сейчас покажу чувство. Я спою свою любимую арию. Из «Пиковой дамы», графиня поет, но вообще это романс Гретри из оперы «Ричард – Львиное Сердце». Итак, краткое содержание. Девушка влюблена. Девушка поет. Ах, я боюсь говорить с ним ночью. Я боюсь поверить тому, что он скажет. Он говорит, что любит меня. И-ах! Мое сердце бьется! Кто его знает, почему?
Поет арию Гретри .
Алексей . Ты гениальна!
Ирина . Когда училась в Консерватории, знаешь, сколько поклонников было? Выбирай любого.
Пауза. Музыка .
Алексей . «Бери любого из земных мужей…»
Ирина . Сама бери! Что мне мужья земные?
Алексей . Что ты сказала?
Ирина . А ты что сказал?
Алексей . Я как-то отключился.
Ирина . Я тоже.
Алексей . А вдруг душа действительно бессмертна? Вот ужас-то.
Ирина . Ты всегда так. Мелешь-мелешь, а вдруг как скажешь! И всё. Я потом сижу и думаю. Одна. Я всё время одна.
Алексей . Но, кошечка моя, работа…
Ирина . Все работают, не в этом дело. Ты меня никуда не берешь: ни на вечеринки, никуда! С кем ты ходишь, я знаю. А я тебе мешаю! У меня плохой характер.
Алексей . Ты слишком быстро напиваешься. Я не хочу, чтобы люди видели, что моя жена пьяница.
Ирина . Я? Пьяница? Да как ты смеешь? Я самый близкий тебе человек, если со мной что-то происходит, ты должен понять! Какая же ты гадина! Ты мне изменяешь налево и направо! Каждая блядь может торжествовать надо мной. Надо мной! Ненавижу этот мир! У тебя нет души, у тебя там черная дыра вместо души! Я с тобой замерзла совсем, я, горячая, страстная женщина! Мне что – на панель идти? Так поздно, а то пошла бы! А как ты меня трахаешь! Ты меня не трахаешь и то две минуты! Ненавижу! Ненавижу!
Алексей хватает бутылку со стола, разбивает .
Ирина . А! Помогите! Он меня убьет!
Голоса детей . Мама! Мама! Что-то разбилось?
Алексей . Остановись, женщина. Остановись. (Пауза.) Дети, спать! Это я случайно бутылку разбил.
Ирина . Ты не бутылку разбил. Ты мое сердце разбил.
Пауза, музыка .
Алексей . Прости. Прости, если можешь.
Картина 4
Телевизионная студия. Алексей и Евгений. (Интермедия. Евгений Светозаров танцует и поет.)
Алексей . Итак, дорогие телезрители, у нас в гостях был сам Евгений Светозаров, наш любимый артист. Завтра в это же время в нашей программе «Короткие встречи» десять минут с вами будет сам Матвей Карамур! До новых коротких встреч! С вами был Алексей Елисеев! (Пауза.) Снято.
Снимают микрофоны .
Алексей . Ну что, Женя, по-моему, отлично. Теперь по рюмочке? Ты что пьешь?
Евгений . Водку пью.
Алексей . А я уже водки не пью. Тяжело.
Евгений . У меня, знаешь, за плечами пять поколений алкоголиков. Что значит – тяжело? Надо, Леша, через не хочу. Как лекарство.
Пьют.
Евгений . Слушай, а кто такой Матвей Карамур?
Алексей . Ты совсем, Жень, на небо отлетел. Это губернатор Верхнего Средиземья!
Евгений . А. Я думал, путное что. Актер какой, а я не знаю.
Алексей . Как ты быстро пьешь. Так и спиться можно.
Евгений . Ну, и сопьюсь, так что? Судьба, значит.
Алексей . Ты же наша гордость. Национальное достояние. Если ты сопьешься, за тобой вся нация пойдет вразнос.
Евгений . И пускай. Пусть идет.
Алексей . Не любишь Родину?
Евгений . Почему не люблю? Может, и люблю. Я ишшо не разобрался!
Алексей . А я давно разобрался. Если я завел русских детей, значит, приходится любить Родину. Завел бы еврейских, любил бы историческую родину.
Евгений . У тебя дети?
Алексей . Двое, мальчики.
Евгений . Наверное, это хорошо.
Алексей . Заведи.
Евгений . Откуда, что ты.
Алексей . Да это нетрудно.
Евгений . Я не могу ни с кем жить. Через неделю начинает всё раздражать. Вот всё!
Алексей . Ты один живешь?
Евгений . Да.
Алексей . Что, в кровати один спишь?
Евгений . Нет, время от времени очень даже не один. Время от времени.
Алексей . А я все время с кем-нибудь сплю. Нет, в смысле рядом лежу. Совершенно не могу быть один. Я сразу повешусь.
Евгений . Ты общительный.
Алексей . А ты разве нет?
Евгений . Не знаю. И да, и нет. Я сложный и нежный.
Алексей . Ага. А я простой и грубый.
Смеются .
Евгений . Такая дорога. Такая моя дорога.
Алексей . Не знаю, не знаю. Дороги мы выбираем сами.
Евгений . Нет. Все фатально. Все идет по плану.
Пауза. Музыка .
Алексей . Уверен ты в пути своем, дружок?
Евгений
Конечно, я в пути своем уверен.
Но что-то странно мучает меня.
Мне кажется, что где-то я ошибся,
Кого-то на пути я не узнал.
И это плохо. Безнадежно плохо.
Ну что, так будем плакать, петь, идти
И ждать расплаты.
Алексей
Белыми стихами
Ты говоришь?
Евгений
Случайно. Иногда.
Алексей
А я умею это делать с детства.
Евгений
Так что ж не пишешь пьес?
Алексей
А не хочу.
Прекрасное должно быть несказанно.
Не надо слишком много обещать,
Заманивать людей в такие дали,
Каких они и видеть не хотят.
Вот наш треклятый бесподобный «ящик»
В народе так зовется телевизор, —
Он им вполне хорош и по плечу.
Мелькают дни, как быстрые картинки,
И кажется – всё в жизни вероятно,
Возможно всё. Наскучила программа —
Давай смотри другую. Подберешь
По вкусу. А когда наскучит жизнь,
Так выключится просто телевизор,
И будет темнота и тишина,
И мы сыграем в наш последний ящик,
Что, в сущности, неплохо.
Евгений
Алексей,
Не любит шуток жизнь. Ты не шути
С материей всевластной так беспечно.
Жестоко отомстит тебе она.
Я, может быть, пропащий человек,
Частенько я бываю легкомыслен,
Но там, на сцене, я живу всерьез,
И я хотел бы умереть на сцене.
Быть может, я рожден не для того,
Чтоб мазать рожу гримом вечерами.
Быть может, я когда-то был с богами,
Был богом сам! Теперь я человек.
Я подчиненный всех земных законов,
Но память не дает покоя мне!
Я помню: я летел через миры,
Я подбирал осколки сотворенья
И бережно их нес к Лицу Отца.
Я воевал! Я знаю Люцифера!
Да мы же за одной с ним партой в школе
Сидели, и он, гадина, бывало,
Так говорил: «Послушай, Фаэтон!
Я первый ученик, а ты последний!
Тебе меня ни в жизнь не обыграть.
Ты гениален, но горяч, приятель,
А для игры со мной потребен холод.
Ты хвалишься великою любовью,
А самолюбье посильней любви!»
Пауза .
Алексей
Он выиграл, бедняга Фаэтон.
Пауза.
Слушай, Женя, ты что-то сказал?
Евгений . Когда?
Алексей . Сейчас.
Евгений . Кажется, я сказал, что все фатально. Когда ты сказал о дорогах, которые мы якобы выбираем.
Алексей . Может, ты и прав. Некогда мне тут думать. Сам видишь, какая машина закручена. Жену забыл как звать.
Евгений хватается за сердце .
Алексей . Женя, что? Что такое? Тебе плохо с сердцем? Эй, у кого есть что-то от сердца?
Евгений
От сердца ничего не может быть.
От сердца может быть дорога к сердцу.
Прощай. Я умираю… Ариэль!
Хоть перед смертью повидал тебя,
Узнал тебя. Ее я не узнал.
Но ты найди ее, ты объясни…
Меня запутал черт, черт, черт! Я умираю
Здесь! Я хотел на сцене, боже мой!
Ты помнишь план, ведь у тебя должны
Родиться дети, младшенькие боги…
Да у тебя есть дети! Ты нашел!
Вы всё-таки сумели жить по плану,
Вы молодцы. А я иду домой.
Прощай. Привет друзьям.
Держись, товарищ.
Умирает .
Алексей . Женя, Женя, Женя! Врача, скорее, скорее! Врача! О, Боже мой. О, Боже мой. Какой ужас. Какой ужас. Женя… Что он сказал? Дети? Ариэль? Кто такой Ариэль? О Господи!..
Картина 5
Квартира Нины.
За столом сидят Нина, Алексей, Света, Александр.
Нина . Помянем еще раз мамочку. Царство ей небесное.
Алексей . Упокой ее душу, Господи.
Света . Вот была женщина! Как огонь!
Александр . Да ты вся в нее.
Алексей . Воевала со мной. А развелись – полюбила странною любовью. Звала меня «мой первый зять, мой зять бесценный».
Саша . Да, она любила тебя.
Алексей . Как детишки? Как их там зовут?
Света . Анна и Мария.
Алексей . Ну вот, моим сорванцам невесты растут.
Света . Обе хорошенькие – страсть.
Алексей . Сколько им?
Света . Три года уже. И вот странно: близняшки, а не очень-то похожи.
Алексей . Может, от разных отцов?
Нина . Леша, помолчи.
Саша . А мне что, пусть хоть от разных, ничего. Я сам счастлив, как ребенок. У меня теперь даже вдохновение бывает. Все спят, а я сижу сочиняю.
Алексей . Тихое счастье.
Саша . Нет, я теперь совсем другое пишу. Про реальных, живых людей. Очерки такие. Конечно, ты ничего не читаешь.
Нина . Я читала.
Саша . Правда? Правда? Ну и как?
Нина . Очень хорошо, Саша. Очень. Я рада за тебя.
Саша . Спасибо, Нинка. Ты знаешь, я на все готов ради тебя. Я за тебя… умру.
Света . Куда умирать, ты что! Детей выкорми, потом умирай. Нет, я от себя балдею: в тридцать лет – двойню! А! И как ходила беременная-то, как в двадцать не ходят. Без сучка, без задоринки. Даже не тошнило. Ох, сестра, сестра. Спасибо тебе.
Алексей . Картинка семейного счастья. Одна у другой мужа отбила, сидят, воркуют, как голуби. Это только с Нинкой такое может быть.
Нина . Никто никого не отбивал. Я сама так решила.
Алексей . Завидно широка твоя душа!
Света . Опять пошел стихами говорить!
Алексей . А ты знаешь, как Женька Светозаров перед смертью меня назвал? Ариэль. О! Звучит!
Света . Кадрился, что ли, к тебе?
Нина . Света, хватит.
Алексей . Жаль его безумно.
Саша . Да, был артист! Сколько народу пришло на похороны!
Алексей . Э, что похороны. Знаешь, как говорится: «Подари ты мне розы живому, на могилу их мне не клади».
Света . У него и при жизни были розы. Вон, Нинка дарила, по-моему, лет десять.
Нина . Я и сейчас… (Плачет.) … не надо больше об этом говорить, я вас прошу.
Саша . Если бы меня так любили, я не знаю, что бы я сделал.
Света . А что она дает, чужая любовь? Мне вот восемьдесят пять раз объяснялись в любви. Ну, думаю, хорошо. Ты меня любишь, у тебя в крови образуются… эти… эндорфины. Это наркотики такие. Ты под кайфом. А мне что? На тебя смотреть? Так я тебя не люблю! У меня в крови нет эндорфинов. И вообще, взаимная любовь математически невероятна.
Саша . Как невероятна?
Света . Математически. Мне это еще в седьмом классе моя подружка сказала. А она была отличница, я у нее списывала. Как она рассуждала? Вот ты из великого множества людей выбираешь одного. Ладно. А теперь какая вероятность того, что из великого множества людей он, избранный тобой, выберет тебя?
Саша . Какая?
Света . Стремящаяся к нулю!
Саша . Ну… все-таки не сам ноль. Есть надежда.
Света . Надежда – наш компас земной.
Алексей . Саша, не верь. Математики ошибаются. Ох, ребята. Хорошо с вами, да надо идти. Пора. Ирка ждет. Нина, не грусти. Позови меня в ночи – приду.
Света . Позовет.
Алексей . Пока.
Света . Да и мы пойдем. Пошли, Саша. Няньку надо отпустить.
Нина . Не уходите все так сразу.
Саша . Хорошо, посидим еще.
Света . Какое посидим! Какое посидим! Давай, вперед. Нина, целую. Не унывай. Приходи, когда хочешь.
Уходят. Нина одна .
Нина . Никого нет. Никто не придет. Никого нет. Никто не придет. Зачем? Зачем мне эта жизнь? Что, Бог заругает? А пусть. Не могу я больше. Тяжело. Много тяжести перенесла. Надорвалась, давно об этом думаю. (Пауза.) Верно, Нина, ты права. Зачем длить эту жалкую жизнь? Давай. Прямо сейчас. И будет легко. И ты вернешься домой.
Громкий вой за дверью .
Нина . Что это? Кто-то воет, да как громко!
Открывается дверь .
Собака! Да ты какая страшная!
Входит собака, это Тиотин .
Грязная какая! Ты откуда, собака?
Собака скулит .
Нина . Голодная? Ты кто, девочка или мальчик? А, мальчик. Что ты так смотришь на меня?
Собака ложится у ее ног .
Нина . Глупая. ( Гладит собаку. Та дрожит от счастья .) Что, намучился, пес? И я тоже.
Собака воет .
Тебя, наверное, и не гладил никто.
Собака скулит .
Эх, существо, существо. Бедолага. Ох, и раны на боку. И ухо рваное. Потрепали тебя. Ну, пойдем, я тебя помою.
Собака идет за ней .
Нина . Вот так. Стой смирно. Хороший пес. Умный пес. Да не смотри ты собачьими глазами!
Собака чистая, завернута в полотенце .
Нина . Вот тебе коврик. Это будет твой коврик. Лежи, я тебе еду принесу.
Собака скулит. Нина приносит еду .
Нина . Что воешь? Что, все понимаешь, сказать не можешь? Эх ты, пес.
Собака ест .
Нина . Не торопись, не торопись. Ладно. Живи у меня пока. Потом я, может, тебя куда-нибудь пристрою.
Собака воет .
Нина . Тихо ты. Знаешь, назову тебя – Джой. Ты согласен? (Собака скулит.) Вижу, согласен. Хороший ты пес. Славный пес. Уродина, конечно.
Собака скулит.
Нина . Да ладно, я шучу. Живи у меня.
Звонок, собака лает .
Нина . Наверное, забыли что-нибудь.
Входит Ирина .
Собака лает, бросается на нее .
Ирина . Убери собаку! Убери!
Нина . Джой, тихо. Накажу!
Собака забивается в угол, рычит .
Зачем ты пришла? Мужа пасешь? Он давно ушел.
Ирина . Я пришла говорить с тобой. Фу, какой страшный пес.
Собака лает .
Нина . Джой, хватит. Тебе никогда не нравилось всё, что мое. И делаю я не то, и люблю не тех. И собаку мою ты не одобряешь.
Ирина . Я завидовала тебе. Ревновала. Любила.
Собака поднялась, подошла к Ире .
Нина . Что теперь говорить. Жизнь прожита.
Ирина . Моя – да. Твоя – нет.
Нина . Что?
Ирина . Ты должна ненавидеть меня. Я увела твоего мужа. Мы родили детей… в сущности твоих детей, Нина. Я виновата. Но что я могла поделать со своей душой! Сколько во мне всяких страстей, и светлых, и темных! Я не справилась с собою. И я плачу за всё. Я уже потеряла голос, а сейчас я теряю жизнь.
Собака прижалась к Ире, та ее гладит машинально .
Нина . Ира, что ты говоришь?
Ирина . Нина, я умираю. Никто не знает. У меня рак. Они будут мне врать, эти поганые врачи, до последнего: «Подлечимся, будем молодчиночкой!» Но это конец. Я знаю.
Нина . Ира! Ирка! (Обнимает ее.) Да не говори ерунды! У меня такие связи! Мы тебя вылечим. Я все сделаю. Ирка, Ирка, что ты натворила! Как я тебя любила. Как мне не хватало тебя все эти годы.
Собака скулит .
Ирина . Замолчи, пес! А то я сама завою.
Собака тихо скулит .
Страшный, а чувствительный. Нина, всё решено. Я умираю. Я вижу. Я буду умирать долго. Наверное, полгода.
Нина . Ирочка…
Ирина . А ты должна выполнить мою последнюю просьбу. Вернись к нему. Он как любил тебя, так и любит. До сих пор. Возьми моих детей. Не бросай их.
Ты слышишь, дорогая Энамора,
Моих детей возьми к себе. Они
Твоими были, пусть твоими будут
Теперь навеки. Не суди меня.
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю!
Похорони, где мамочка моя,
Напейся на моих похоронах
Так, чтобы даже небу стало жарко.
Нина
Сафира, все исполнить обещаю.
Клянусь пред вечным замыслом Отца.
Ирина
Отец, ты, может быть, и справедлив,
Но до чего же ты немилосерден!
Обнимаются. Собака крутится вокруг, воет .
Картина 6
Ресторан. Легкая музыка. За столом Нина, Алексей, Света, Александр, Владимир, Борис, Анна, Мария.
Алексей . Ниночка, дорогая женушка! Что я тебе могу сказать? Что ты гений? Да ты сама знаешь. Что ты великая женщина? Это всем известно. Скажу одно: зайка моя! Я твой зайчик!
Смеются .
Саша . Да, быть мужем такой женщины – большая честь.
Света
Тебе она была не по плечу.
Алексей
Но с ваших плеч мы ношу эту сняли,
Поскольку нам она не тяжела!
Нина
Защита, правда, хорошо прошла?
Света
Блестяще, мой любимый Нина-доктор.
Нина . А хватит болтать. Пошли танцевать! Пошли!
Уходят танцевать .
Владимир . О, старшие так разошлись. А что это такое: «Зайка моя, я твой зайчик!»
Анна . Это такая старинная песенка. Мне мама пела.
Борис . Хорошие песни были раньше. Ласковые.
Мария . Я тоже умею петь ласковые песни.
Борис . Об этом мне известно хорошо!
Анна . Опять белыми стихами говорит.
Борис . Не смейтесь.
Владимир . Это он с детства. А иной раз и в рифму.
Анна . Может, ты поэт?
Борис . Поэт? Что это за профессия – поэт? В белом пиджаке с эстрады стишки читать?
Мария . Это не профессия. Это дар богов.
Борис . А деньги мне тоже боги будут платить?
Анна . Ты всё деньги, деньги.
Борис . А девушкам мороженое кто будет покупать? Пушкин, да? Нет, я в адвокаты пойду. Интересно. Вот Володьке хорошо. Он с детства как сел за рояль, так и не встает.
Владимир . Если сидя хорошо получается, зачем вставать?
Анна . Да, вот будет муж кому-то. Красивый, талантливый, веселый. Чудо.
Владимир . Какой из меня муж? Брось ты.
Борис . Володя у нас такой… э-э… напрасный ангел.
Анна . Ангелы напрасными не бывают.
Мария . А я первую премию получила на конкурсе студенческих работ.
Борис . Это да! Это надо видеть Машкину работу! Там есть одна страница, где написано всего два слова. Вверху «если», потом цифры, цифры, цифры… Посредине «то», и опять цифры, цифры, цифры, цифры…
Смеются .
Владимир . Женщина-математик – это страшно.
Мария . Почему? У Софьи Ковалевской было два мужа.
Борис . А у тебя будет один.
Смеются .
Анна . Ладно, хватит! Пошли танцевать! Сижу как дура, слушаю ваше воркование! Я сегодня в анатомичке трупов насмотрелась, так хочу жить! Жить хочу!
Владимир . Да, пойдемте. Вон старшие как лихо пляшут. Молодцы! Сносу им нет! Мама утром плакала, что Джой умер, собака наша.
Мария . Ой, правда? Жалко. Добрый пес. Правда, он совсем старый был.
Борис . А теперь веселится. Пошли, друзья, повеселимся и мы!
Все танцуют .
Конец 2-го действия.
Эпилог
Декорация пролога. За столом богов Гинора, Фаэтон, Сафира.
Гинора
Как долго нет божественных друзей.
Их приключенье сильно затянулось.
Сафира
Что ж, верно, исполняют план Отца.
Фаэтон
Я, знаете, не очень-то спешу
Предстать перед глазами Энаморы.
Боюсь ее божественного гнева.
Прогонит – перейду к тебе, Сафира!
Ты тоже наломала в жизни дров.
Ты горяча, и я горяч – отлично.
Сафира
Огонь в огонь бросать нет смысла, Фаэтон.
Появляется Тиотин .
Тиотин
Что, Фаэтон, сидишь – не шевелишься?
Ох будет трепка нынче! Поделом.
Как можно было спиться, истаскаться
И одуреть до степени такой,
Чтоб не поверить собственной жене?
Фаэтон
Да закрутил проклятый Люцифер.
Но в следующий раз я непременно…
Тиотин
А будет он, твой следующий раз?
Не думаю. Она не такова,
Чтоб вынести твое пренебреженье.
Одна лишь фраза хамская твоя
«Я, дескать, позвоню, когда наступят
Проблемы со здоровьем!» Боже мой!
Кого она, бедняжечка, любила.
Фаэтон
Любила, да. Я там был неплохой.
Меня любили многие. Я сделал
Немало для людей.
Тиотин
Но я не спорю.
Ту часть благую своего рожденья
Ты выполнил, и я хвалю тебя.
Фаэтон
Он хвалит! Сам-то что сумел ты сделать?
Тиотин
Я? Я что сделал? Спас ее.
Вы бросили ее, о други-боги,
Она одна осталась в страшный час.
Тогда я появился! Ох, собаки!
Как хорошо я понимаю вас,
Товарищи, помощники родные,
Спасители, спасибо вам, друзья!
Она с собой покончить захотела.
А я пришел! Я шел сто километров!
Я был голодный, как земные волки,
Наверно, не бывают голодны!
И я нашел, я, я ее нашел!
Она меня впустила. Накормила.
И развлеклась. И смерть ушла во тьму.
Она осталась жить на белом свете.
Фаэтон
Спасибо, верный друг мой Тиотин.
Я искренне благодарю тебя.
Я некогда смеялся над тобою.
Прости.
Тиотин
Прощаю.
Гинора
Это хорошо.
К чему бессмертным ссориться?
Не нужно.
Появляется Лилиэль .
Лилиэль
Привет, друзья! Приветик, Фаэтон.
Ты здорово играл там на Земле.
Ты что-нибудь представишь нам сегодня?
Фаэтон
Представлю. Пьеса будет без названья.
А в главной роли будет Энамора.
Лилиэль
Да, душенька моя, ты маху дал.
А впрочем, ведь, конечно, не без риска,
Но все потом исполнилось по плану.
Спасибо Рафаэлю. Молодец.
И всем помог, и все исполнил точно.
Фаэтон
Вот мог бы, между прочим, мне помочь.
Лилиэль
Пыталась я помочь тебе однажды
И Энамору привела тогда.
Тебе поможешь, как же! Мы большие!
С усами сами! Боги на Земле!
Товарищей по небу нам не надо!
Сейчас придет мой добрый Рафаэль,
Он там детей ведет по плану жизни.
А мне внезапно это надоело.
Болезни да лекарства. Чем приятно?
Сбежала. Есть у нас еще вино?
А пьют какую гадость на Земле!
И совершенно это не похоже
На наши вина.
Появляется Рафаэль .
Лилиэль
Ах, привет, дружок.
Как дети?
Рафаэль
Всё по плану.
Лилиэль
Распрекрасно.
Сафира
Скажите мне, как там мои ребятки?
Лилиэль
С чего это они да вдруг твои?
Ты заигралась, вечная подруга.
Решила план сорвать? Сорвался план?
Что, удалось?
Сафира
Наверное, я ошиблась.
Но если я и родилась такой,
Наверное, Отец об этом знает,
И он хотел родить меня такой!
Откуда знаешь ты, что я ошиблась?
А может, я, напротив, и решила
Все правильно! А может, то ловушка
Была. Такое было испытанье!
Фаэтон
Ловушки любит он. Я это знаю.
Появляется Ариэль .
Ариэль
Ловушки любит друг наш Люцифер.
Наш бывший друг, конечно. А Отец
Играет честно. Да, окончен бой.
Нет, больше я не собираюсь жить
В подобном мире. Всё, ау, конец!
Сафира, ты измучила меня.
Ну разве можно быть такою страстной?
Сафира
А разве можно быть таким холодным?
Ариэль
У каждого своя природа чувств.
Ее мы получаем от рожденья.
Я вовсе не холодный. Я такой,
Какой я есть. А ты меня хотела
Исправить. А зачем мне исправляться?
Гинора
Друзья, но где же наша Энамора?
Ариэль
Она решила биться до конца.
Лечебницу свою она открыла.
Бесплатно лечит. Что и говорить!
Так просветлилась, аж смотреть противно!
Боги смеются .
Появляется Энамора .
Энамора
Но Боже правый! Девяносто лет!
Я девяносто лет жила, мой Боже!
Как я устала. Здравствуйте, друзья.
Ариэль
Привет, родная. Тяжело тебе?
Так сядем, выпьем за дела земные,
За нашу дружбу, за твою любовь.
Фаэтон собирается сесть рядом с Энаморой .
Энамора
Нет, Фаэтон, тут место не твое,
И я тебя сюда не приглашала.
Ты там меня не захотел узнать —
А я тебя вот здесь и не признаю.
Ты, Тиотин, ты подойди сюда.
Садись, товарищ верный. Не грусти,
Что на любовь твою не отвечаю.
Любовь ведь не придумаешь, мой друг?
Тиотин
Спасибо, дорогая Энамора,
Но это место – не мое. Прости.
Принять я не могу. Ты, Фаэтон,
Садись. И вновь прощения проси.
Фаэтон
Ведь я предупреждал тебя, жена,
Я знал, я чувствовал, я говорил,
Пытаясь переспорить ход событий,
Тревожился… Ты слушала меня?
Ты замерла в торжественном величьи.
Как ты была уверена в себе!
Как гордо и надменно говорила!
«Здесь не ушел – и там ты не уйдешь!»
А я ушел! Я взял, да и ушел!
Итак, любовь бесценная моя,
Ты точно полагаешь, что, конечно,
Все сделала ты для своей любви?
Энамора
Да ты прогнал меня!
Фаэтон
Прогнал, прогнал.
А ты зачем взяла да и прогналась?
Обиделась? Царицу не признали!
Что, самолюбие сильней любви?
Зачем тогда со мной ты не осталась?
Зачем ты не сказала нужных слов?
Мгновенье, может быть, – тебя узнал бы.
Энамора
Я все слова сказала, что имела.
Но если бы с тобою я осталась,
Скажи, а что бы делал Ариэль?
Вот ты и я. Вот умирает Ира.
А дети с кем?
Фаэтон (изумленно)
Отец, я догадался!
Все шло по плану! Точно шло по плану!
Да только план, как видно, был другой!
Мы вынимали жребий, говорили
О мыслях и предчувствиях своих.
И этим изменяли план. Решали
Свою судьбу! О, Первый ученик,
Когда меня ты называл последним,
Приятно было, да? А что теперь?
Переиграл Творца, а, Люцифер?
Что-что? Не слышу. Ничего не слышу!
Уж больно далеко ты, вот беда!
Боги смеются, обнимают друг друга, прощая земные обиды.
Появляются Унамор, Бинамор, Нея, Арума .
Унамор
Вот это да! Какое приключенье!
Бинамор
Мы славно позабавились, друзья.
Нея
А там любовь действительно бывает.
Арума
Ты, Нея, право слово, глуповата.
Учили же тебя, давно учили.
Любовь – основа всех миров Отца.
Гинора
Привет, детишки. Не шумите. Тихо.
Расскажете потом, что получилось.
Я – матерь долга, вечная Гинора,
Я предлагаю выпить за Отца.
Боги сходятся .
Арума
Отец, спасибо за мое рожденье.
Нея
Я получила твой урок, Отец.
Бинамор
Надеюсь, я исполнил все задачи.
Унамор
По крайней мере, Боже, я старался.
Тиотин
Я против власти не пошел твоей.
Рафаэль
Я покорился воле Провиденья.
Ариэль
Я не хотел, но сделал всё, что мог.
Фаэтон
Воистину, себя я не щадил!
Лилиэль
Спасение Земли еще нескоро…
Сафира
И будь помилосерднее, Отец!
Гинора
Мы выполнили замысел, друзья,
И можем смело отдыхать сегодня.
Энамора
Мы будем коротать тихонько вечность
И ждать известий новых от Творца.



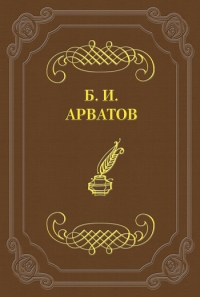

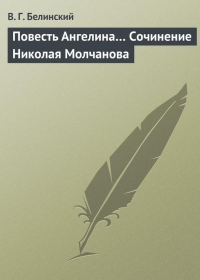
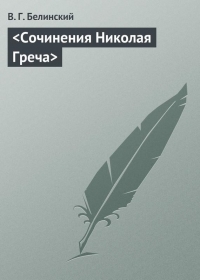

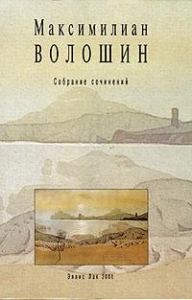

Комментарии к книге «Страус — птица русская», Татьяна Владимировна Москвина
Всего 0 комментариев