Посвящается Николь Стефан
Все началось с одного эссе – о некоторых эстетических и моральных проблемах, возникающих в связи с вездесущностью фотографических изображений; но чем больше я думала о том, что такое фотография, тем более сложными и увлекательными представлялись эти проблемы. Так что из одного эссе вытекало другое, а потом (к моему удивлению) еще одно. Получилась цепочка статей о значении и развитии фотографии, которая завела меня так далеко, что соображения, очерченные в первой, продолженные и задокументированные в последующих, можно было суммировать и расширить более теоретическим образом – и на этом остановиться.
Первоначально статьи были опубликованы в «Нью-Йорк ревью оф букс» (в несколько ином виде) и, наверное, никогда бы не были написаны, если бы мою одержимость фотографией не поощряли редакторы, мои друзья Роберт Силверс и Барбара Эпстайн. Я благодарна им и моему другу Дону Эрику Ливайну за бесконечные терпеливые советы и безотказную помощь.
...С.С.Май 1977
В Платоновой пещереЧеловечество все так же пребывает в Платоновой пещере и по вековой привычке тешится лишь тенями, изображениями истины. Но фотография учит не так, как более древние, более рукотворные изображения. Во-первых, изображений, претендующих на наше внимание, теперь гораздо больше. Инвентаризация началась в 1839 году, и с тех пор сфотографировано, кажется, почти все. Сама эта ненасытность фотографического глаза меняет условия заключения в пещере – в нашем мире. Обучая нас новому визуальному кодексу, фотографии меняют и расширяют наши представления о том, на что стоит смотреть и что мы вправе наблюдать. Они – грамматика и, что еще важнее, этика зрения. И, наконец, самый грандиозный результат фотографической деятельности: она дает нам ощущение, что мы можем держать в голове весь мир – как антологию изображений.
Коллекционировать фотографии – значит коллекционировать мир. Фильмы (будь то кино или телевидение) бросают свет на стены, мерцают и гаснут. А неподвижная фотография – предмет, легкий и дешевый в изготовлении; их несложно переносить, накапливать, хранить. В «Карабинерах» Годара (1963) двух вялых крестьян-люмпенов соблазняют вступить в армию, обещая, что они смогут безнаказанно грабить, насиловать, убивать, делать что угодно с врагами – и разбогатеть. Но в чемодане с трофеями, который торжественно притаскивают женам Микеланджело и Улисс, оказываются только сотни открыток с Памятниками, Универмагами, Млекопитающими, Чудесами Природы, Видами Транспорта, Произведениями Искусства и другими сокровищами Земли. Шутка Годара ярко пародирует двусмысленную магию фотографического изображения. Фотографии – возможно, самые загадочные из всех предметов, создающих и уплотняющих окружение, которое мы оцениваем как современное. Фотография – это зафиксированный опыт, а камера – идеальное орудие сознания, настроенного приобретательски.
Сфотографировать – значит присвоить фотографируемое. А это значит поставить себя в некие отношения с миром, которые ощущаются как знание, а следовательно, как сила. Первый шаг к отчуждению, приучивший людей абстрагировать мир, переводя его в печатные слова, – он, как принято считать, и породил тот избыток фаустовской энергии и психический ущерб, которые позволили построить современные неорганические общества. Но печать – все же менее коварная форма выщелачивания мира, превращения его в ментальный объект, нежели фотографические изображения, – теперь фотография обеспечивает бóльшую часть представлений о том, как выглядело прошлое, и о размерах настоящего. То, что написано о человеке или о событии, – по существу, интерпретация, так же, как рукотворные визуальные высказывания, например, картины или рисунки. Фотографические изображения – не столько высказывания о мире, сколько его части, миниатюры реальности, которые может изготовить или приобрести любой.
Фотографии, играющие с масштабами мира, сами могут быть уменьшены, увеличены, их можно обрезать, ретушировать, приукрашивать. Они стареют, их поражают обычные болезни бумаги; они исчезают; они становятся ценными, их покупают и продают, их репродуцируют. Они упаковывают в себя мир и сами напрашиваются на упаковку. Их вставляют в альбомы, в рамки, ставят на стол, прикалывают к стенам, проецируют в виде слайдов. Их воспроизводят газеты и журналы; в полицейских картотеках их размещают по алфавиту; музеи выставляют их, издатели собирают в книги.
Многие десятилетия книга была самым влиятельным способом демонстрации фотографий (обычно в уменьшении), она обеспечивала им долговечность, если не бессмертие (фотография – вещь нестойкая, ее легко попортить и потерять), и большее количество зрителей. Фотография в книге это, конечно, изображение изображения, но поскольку фотография – печатный, гладкий объект, она теряет на книжных страницах гораздо меньше существенных особенностей, чем живопись. И все же книга не вполне удовлетворительный способ ознакомления публики с набором фотографий. Смотреть фотографии предлагается в порядке, соответствующем порядку страниц, но ничто не принуждает читателя к рекомендуемому порядку и не указывает, сколько времени он должен разглядывать каждое фото. Фильм Криса Маркера «Si j\'avais quatre dromadairs» (1966) [1] , великолепно оркестрованное размышление о фотографиях на разные темы, предлагает более тонкий и более жесткий способ упаковки (и распространения) фотографий. И порядок, и время демонстрации каждой фотографии заданы – это способствует их визуальной внятности и эмоциональному воздействию. Но фотографии, перенесенные на кинопленку, уже не предметы коллекционирования, какими они все-таки остаются в книге.
Фотография предоставляет свидетельства. О чем-то мы слышали, однако сомневаемся – но, если нам покажут фотографию, это будет подтверждением. Есть у камеры еще одна функция – она может обвинять. С тех пор как парижская полиция стала снимать расправу с коммунарами в июне 1871 года, фотография сделалась удобным инструментом современных государств для наблюдения и контроля за все более мобильным населением. С другой стороны, камера может и оправдывать. Фотографию принимают как неоспоримое доказательство того, что данное событие произошло. Картинка может быть искаженной, но всегда есть основание пола гать, что существует или существовало нечто, подобное запечатленному на ней. При всей неумелости (любительской) или претензиях на художественность конкретного фотографа у фотографии – любой фотографии – отношения с видимой реальностью представляются более бесхитростными, а потому более точными, чем у других миметических объектов. Виртуозы фотографии, подобные Альфреду Стиглицу или Полу Стрэнду, десятилетиями создававшие мощные, незабываемые образы, желали все-таки прежде всего показать «что-то там», так же, как владелец «Полароида», для которого фото – удобная, быстрая форма заметок, или любитель с ящичной камерой «Брауни», щелкающий снимки как сувениры повседневной жизни.
Если живопись и проза не могут быть не чем иным, кроме как строго избирательной интерпретацией, то фотографию можно охарактеризовать как строго избирательную прозрачность. Но, несмотря на подразумеваемую достоверность, которая и делает фотографию убедительной, интересной, соблазнительной, в работе фотографа творятся те же, обычно темные, сделки между правдой и искусством, что и во всяком художестве. Даже когда фотографы особенно озабочены изображением реальности, они все равно послушны подспудным императивам собственного вкуса и понятий. Блестяще одаренные участники фотопроекта, затеянного в конце 1930-х годов Администрацией по защите фермерских хозяйств (АЗФХ), – среди них Уокер Эванс, Доротея Ланж, Бен Шаан, Рассел Ли – делали десятки снимков анфас каждого из своих издольщиков, покуда не убеждались, что пленка запечатлела нужное – выражение лица модели, отвечавшее их, фотографов, понятию о бедности, освещении, достоинстве, фактуре, эксплуатации и геометрии. Решая, как должен выглядеть снимок, предпочитая один вариант другому, фотографы всегда навязывают свои критерии объекту. Хотя в определенном смысле камера действительно схватывает, а не просто истолковывает реальность, фотография в такой же мере – интерпретация мира, как живопись и рисунок. Даже когда снимают неразборчиво, беспорядочно, бездумно, это не отменяет дидактичности предприятия. Сама пассивность, а также вездесущность фотографии – они и есть ее «идея», ее агрессия. Изображения, идеализирующие модель (как на большинстве фотографий для журналов мод и фотографий животных) не менее агрессивны, чем те, которые подчеркивают обыденность (разного рода стандартные фото, натюрморты унылого свойства, полицейские снимки). Любое использование камеры таит в себе агрессию. Это очевидно уже в работах первых двух славных десятилетий фотографии (1840-х и 1850-х годов) и дальше – когда благодаря совершенствованию техники все шире стал распространяться взгляд на мир как на совокупность потенциальных фотографий. Даже для ранних мастеров, таких как Дэвид Октавиус Хилл и Джулия Маргарет Камерон, ориентировавшихся на живописность снимков, задача фотографирования радикально отличалась от целей, которые ставят перед собой художники. С самого начала фотография стремилась отразить как можно больше сюжетов. У живописи такого широкого кругозора никогда не было. Последующая индустриализация фототехники всего лишь реализовала обещание, изначально содержавшееся в фотографии: демократизировать фиксацию зрительного опыта в изображениях.
Эпоха, когда для съемки требовались громоздкие и дорогие устройства – игрушки искушенных, богатых и одержимых, – кажется очень далекой от нынешнего века удобных карманных камер, позволяющих делать снимки любому. Первыми аппаратами, изготовлявшимися во Франции и Англии в начале 1840-х годов, пользоваться могли только изобретатели и энтузиасты. Поскольку не было профессиональных фотографов, не было и любителей, и фотография не имела отчетливого социального применения; это была произвольная, то есть художественная, деятельность, хотя и без больших претензий на то, чтобы называться искусством. Искусством она стала только в результате индустриализации. Благодаря развитию техники у фотографии появились социальные применения и – как реакция на это – осознание себя как искусства.В последнее время фотография стала почти таким же популярным развлечением, как секс или танцы, – а это значит, что, как всякой массовой формой искусства, большинство людей занимаются ею не в художественных целях. Она главным образом – социальный ритуал, защита от тревоги и инструмент самоутверждения.
Запечатлеть достижения индивида в роли члена семьи (или иной группы) – это было одной из первых функций фотографии. Не меньше века фотографии свадеб были такой же непременной частью церемонии, как предписанные словесные формулы. Камеры сопровождают семейную жизнь. Согласно социологическому исследованию, проведенному во Франции, в большинстве семей есть фотоаппараты, но в семьях с детьми они встречаются вдвое чаще, чем в бездетных семьях. Не снимать детей, особенно когда они маленькие, – это признак родительского равнодушия, точно так же, как не пойти на съемку класса после выпуска – это проявление подросткового бунта.
С помощью фотографий семья создает свою портретную историю – комплект изображений, свидетельствующий о ее единстве. Не так уж важно, за какими занятиями ее фотографировали, – важно, что сфотографировали и снимками дорожат. Фотографирование становится ритуалом семейной жизни именно тогда, когда в индустриализированных странах Европы и Америки сам институт семьи подвергается радикальной хирургии. Когда замкнутая семейная ячейка вырезалась из большой родственной общности, явилась фотография, чтобы увековечить память об исчезающих связях большой семьи, символически подтвердить грозящую оборваться преемственность. Эти призрачные следы – фотографии – символически восполняют отсутствие рассеявшейся родни. Семейный фотоальбом обычно посвящен большой семье, и зачастую это – единственное, что от нее осталось.
Так же как фотографии создают иллюзию владения прошлым, которого нет, они помогают людям владеть пространством, где те не чувствуют себя уверенно. Таким образом, фотография развивается в тандеме с еще одним из самых типичных современных занятий – с туризмом. Впервые в истории люди в массовых количествах ненадолго покидают обжитые места. И им кажется противоестественным путешествовать для развлечения, не взяв с собой камеру. Фотографии будут неопровержимым доказательством того, что поездка состоялась, что программа была выполнена, что мы развлеклись. Фотографии документируют процесс потребления, происходивший вне поля зрения семьи, друзей, соседей. Зависимость от камеры как устройства, придающего реальность пережитому, не убывает и тогда, когда люди начинают путешествовать всё больше. Съемка одинаково удовлетворяет потребность и космополита, накапливающего фототрофеи своего плавания по Белому Нилу или двухнедельной поездки по Китаю, и небогатого отпускника, запечатлевающего Эйфелеву башню или Ниагарский водопад.
Фотографирование удостоверяет опыт и в то же время сужает – ограничивая его поисками фотогеничного, превращая опыт в изображение, в сувенир. Путешествие становится способом накопления фотографий. Само это занятие успокаивает, ослабляет чувство дезориентированности, нередко обостряющееся в путешествии. Большинство туристов ощущают потребность поместить камеру между собой и тем, что показалось им замечательным. Неуверенные в своей реакции, они делают снимок. Это придает переживаемому форму: остановился, снял, пошел дальше. Эта система особенно привлекательна для людей, подчинивших себя безжалостной трудовой этике, – немцев, японцев, американцев. Манипуляции с камерой смягчают тревогу, которую испытывает в отпуске одержимый работой человек оттого, что не работает и должен развлекаться. И вот он делает что-то, приятно напоминающее работу, – делает снимки.
Самые рьяные фотографы и дома, и за границей, видимо, те, у кого отнято прошлое. В индустриализированных обществах все вынуждены постепенно отказываться от прошлого, но в некоторых странах, таких как Соединенные Штаты и Япония, разрыв с прошлым был особенно травматичен. В 1970-х годах притчу об американском туристе 1950–1960-х – шумном, самоуверенном обывателе, набитом долларами, – сменила загадка японского туриста-коллективиста, только что вырвавшегося из своей островной тюрьмы благодаря чудесно завышенному курсу иены и вооруженного обычно двумя камерами, по одной на каждом боку.
Фотография стала одним из главных посредников в восприятии действительности, притом создающих видимость участия. На рекламе, занимающей целую страницу, показана кучка людей, смотрящих на читателя, и все, кроме одного, выглядят ошеломленными, взволнованными, огорченными. Лишь один владеет собой, почти улыбается – тот, который поднес к глазу камеру. Остальные – пассивные, явно встревоженные зрители; этого же камера сделала активным вуайером; он один владеет ситуацией. Что увидели эти люди? Мы не знаем. И это неважно. Это – Событие, нечто, заслуживающее быть увиденным – и, следовательно, сфотографированным. Текст рекламы в нижней трети страницы, белыми буквами по темному фону, состоит всего из шести слов, отрывистых, как известия с телетайпной ленты: «…Прага… Вудсток… Вьетнам… Саппоро… Лондондерри… “ЛЕЙКА”». Погубленные надежды, молодежные неистовства, колониальные войны, зимний спорт – все едино, все стрижется под одну гребенку камерой. Фотосъемка установила хроническое вуайеристское отношение к миру, уравнивающее значение всех событий.
Фото не просто результат встречи фотографа с событием; съемка – сама по себе событие, и событие с преимущественным правом: соваться в происходящее или же игнорировать его. Посредничество камеры теперь формирует само наше восприятие ситуации. Камера вездесуща и настойчиво внушает нам, что время состоит из интересных событий, заслуживающих фотографирования. Отсюда легко возникает чувство, что любому происходящему событию, каково бы ни было его моральное содержание, надо позволить завершиться – так, чтобы в мир было внесено нечто новое: фотография. Событие закончилось, а картинка существует, жалуя ему нечто вроде бессмертия (и важность), которого иначе оно было бы лишено. Где-то реальные люди убивают себя или других реальных людей, а фотограф стоит позади своей камеры и создает крохотный элемент иного мира, мира изображений, обещающего всех нас пережить.
Фотографирование, по существу, – акт невмешательства. Ужас таких незабываемых образцов фотожурналистики, как снимки самосожжения вьетнамского монаха или бенгальских партизан, убивающих штыками связанных коллаборационистов, – ужас этот отчасти вызван тем, что в подобных ситуациях, когда стоит выбор между жизнью и фотографией, с большой вероятностью выберут фотографию. Вмешавшийся не сможет зарегистрировать, регистрирующий не сможет вмешаться. В своем замечательном фильме «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзига Вертов дал идеальный образ фотографа – человека в постоянном движении, движущегося сквозь панораму разрозненных событий так стремительно, что ни о каком вмешательстве не может быть и речи. «Окно во двор» (1954) Хичкока показывает фотографа в другом свете. Здесь фотограф, которого играет Джеймс Стюарт, становится участником события именно потому, что не может двигаться: у него сломана нога, и он прикован к инвалидному креслу. Действовать он не может, и тем более важно поэтому делать снимки. Использование камеры пусть и несовместимо с вмешательством в физическом смысле, тем не менее это – форма участия. Камера – своего рода наблюдательный пункт, но дело тут не сводится к пассивному наблюдению. Как и в случае сексуального вуайеризма, соглядатай косвенно, а то и явно потворствует тому, чтобы ситуация развивалась своим ходом. Съемка предполагает заинтересованность в происходящем, в сохранении статус-кво (по крайней мере столько времени, сколько нужно, чтобы получить «хороший» снимок). Предполагает соучастие в том, что делает сюжет интересным, заслуживающим фотографирования, даже если этот интерес составляют чьи-то неприятности или мучения.«Я всегда считала фотографию развратным занятием – это было для меня одной из самых привлекательных ее сторон, – писала Диана Арбус, – и когда впервые занялась ей, я чувствовала себя очень испорченной». Можно считать профессионального фотографа развратным – если воспользоваться хлестким словцом Арбус, – когда он ищет темы постыдные, запретные, маргинальные. Но сегодня такие темы труднее найти.
И в чем же развратная сторона фотографии? Если профессиональный фотограф предается сексуальным фантазиям, стоя позади камеры, разврат, наверное, состоит в том, что эти фантазии осуществимы и не уместны. У Антониони в «Фотоувеличении» (1966) модный фотограф судорожно вьется вокруг тела Верушки, щелкая затвором. Вот уж разврат! На самом деле камера – не самый лучший инструмент сексуального овладения. Между фотографом и моделью должно быть расстояние. Камера не насилует, даже не овладевает, хотя может злоупотреблять, навязываться, нарушать границы, искажать, эксплуатировать и – если дальше развивать метафору – убивать. Все эти действия в отличие от совокупления могут совершаться дистанционно и с некоторой отстраненностью.
Гораздо более деятельная сексуальная фантазия – в удивительном фильме Майкла Пауэлла «Подглядывающий» (1960), где речь идет вовсе не о любопытствующем вуайере, а о психопате, который убивает женщин в процессе съемки оружием, спрятанным в камере. Он к ним не прикасается. Он не желает ими обладать – он желает запечатлеть на пленке процесс их смерти, а потом дома в одиночестве наблюдать его на экране. Фильм говорит о связи между импотенцией и агрессией, наблюдением, тяготеющим к профессионализму, и жестокостью и указывает на камеру как на инструмент осуществления фантазии. Камера как фаллос – жидковатая метафора, к которой бессознательно прибегает каждый. Сколь бы смутной ни была фантазия, отголоски ее при желании можно уловить в том, что мы «заряжаем» аппарат, «нацеливаем» объектив, «спускаем» затвор.
Старинная камера была неудобнее кремневого ружья, и перезарядить ее было сложнее. Современная силится быть лазерным ружьем. В одной рекламе говорится:
«“Яшика Электро-35 GT” – это камера космического века, в которую вы влюбитесь. Делайте чудесные фото днем и ночью. Автоматически. Без возни. Просто наведите на фокус и нажмите на кнопку. Компьютерный мозг GT и электронный затвор сделают остальное».
Камера, подобно автомобилю, подается как хищное орудие, автоматизированное до предела, готовое к прыжку. Потребитель ожидает незатруднительной техники, чтобы не вникать в ее детали. Производитель уверяет клиента, что съемка не требует умения и специальных навыков, что аппарат все знает сам и послушен малейшему вашему желанию. Это так же просто, как повернуть ключ зажигания или нажать на спусковой крючок.
Подобно автомобилям и пистолетам, фотокамера – машина фантазий и вызывает зависимость. Однако, несмотря на причуды обыденной речи и рекламной, это орудие не смертоносное. В гиперболах, уподобляющих автомобиль оружию, есть доля правды: в мирное время автомобиль убивает больше людей, чем винтовки и пистолеты. Камера не убивает, зловещая метафора пуста, так же как фантазия мужчины о пистолете, ноже или инструменте между ног. И все же в акте фотографирования есть нечто хищническое. Сфотографировать человека – значит совершить над ним некоторое насилие: увидеть его таким, каким он себя никогда не видит, узнать о нем то, чего он не знал, словом, превратить его в объект, которым можно символически владеть. Если камера – сублимация оружия, то фотографирование – сублимированное убийство – кроткое убийство, под стать печальным, испуганным временам.
В конце концов люди, возможно, научатся выплескивать свою агрессию больше через камеру, чем через ствол, заплатив за это тем, что еще больше наводнят мир картинками. Пример, где люди поменяли патроны на пленку, – фотосафари вместо огнестрельного в Восточной Африке. У охотников «Хассельблады» вместо винчестеров, и смотрят они не в оптический прицел, чтобы выстрелить, а в видоискатель, чтобы выбрать кадр. В конце позапрошлого века в Лондоне Сэмюел Батлер жаловался, что «за каждым кустом фотограф, аки лев рыкающий, ждет, кого бы сожрать». Теперь фотограф подкарауливает настоящих зверей, лишенных покоя и слишком редких, чтобы их убивать.
В этой серьезной комедии, экологическом сафари, ружья превратились в фотоаппараты потому, что природа перестала быть тем, чем была, – тем, от чего людям приходилось защищаться. Теперь природу, укрощенную, хиреющую, смертную, приходится защищать от людей. Когда мы боимся, мы стреляем. Когда ностальгируем – снимаем.
Нынче ностальгическое время, и фотография усердно подогревает ностальгию. Фотография – элегическое искусство, сумеречное искусство. В большинстве ее объектов, именно потому, что они сфотографированы, есть нечто трогательное. Уродливая или нелепая модель может быть трогательной благодаря тому, что внимание фотографа придало ей достоинства. Красивая модель может вызывать горестные чувства, потому что она состарилась, увяла или больше не существует. Все фотографии – memento mori . Сделать снимок – значит причаститься к смертности другого человека (или предмета), к его уязвимости, подверженности переменам. Выхватив мгновение и заморозив, каждая фотография свидетельствует о неумолимой плавке времени.
Камера стала дублировать мир в тот момент, когда человеческий ландшафт начал меняться с головокружительной быстротой: за краткий промежуток времени разрушается бессчетное количество форм биологической и социальной жизни, и возникает устройство, способное запечатлеть облик исчезающего. Мрачноватый, сложно сотканный Париж Брассая и Атже по большей части исчез. Как сохраненные в семейном альбоме мертвые родственники и друзья, чье присутствие на фотографиях прогоняет тревогу и сожаления, вызванные их утратой, так и фотографии кварталов, ныне снесенных, и сельских мест, уже неузнаваемых и бесплодных, слабой нитью привязывают нас к прошлому.
Фотография – псевдоприсутствие и в то же время символ отсутствия. Подобно камину в комнате, фотографии – особенно людей, чужих пейзажей, далеких городов, исчезнувшего прошлого – располагают к мечтаниям. У тех, для кого чем дальше, тем желаннее, это ощущение недоступности дает толчок эротическому чувству. Фотография возлюбленного, спрятанная в бумажнике замужней женщины, постер с рок-звездой, приколотый над кроватью подростка, значок с лицом кандидата, пришпиленный к пиджаку избирателя, снимки детей таксиста на козырьке над ветровым стеклом – эти отчасти талисманы имеют сентиментальное и неявно магическое значение: они суть попытки установить связь с иной реальностью, предъявить на нее права.Фотографии могут подпитывать желание самым прямым, утилитарным образом: например, когда кто-то коллекционирует снимки незнакомых, но желанных объектов как вспомогательное средство для мастурбации. Дело обстоит сложнее, когда фотография используется для возбуждения морального чувства. Желание не имеет истории, его испытывают в данное мгновение, и оно все – на переднем плане, в непосредственности. Его возбуждают архетипы, и в этом смысле оно абстрактно. Моральные же чувства погружены в историю, чьи действующие лица и ситуации всегда конкретны. Так что использование фотографий для пробуждения желания и для пробуждения морального чувства подчиняется почти противоположным правилам. Изображения, мобилизующие совесть, всегда связаны с определенной исторической ситуацией. И чем более общий они имеют характер, тем слабее обычно их воздействие.
Фотография, которая приносит известие из какой-то неожиданной зоны бедствий, глубоко не затронет общественного мнения, если нет соответствующих настроений в обществе. Мэтью Брэйди и его коллеги фотографировали фронтовые ужасы, но это не убавило у людей желания продолжать гражданскую войну. Фотографии полуголых, скелетообразных пленников в Андерсонвильском лагере возбудили публику на Севере – и еще сильнее настроили против южан. (Сильное действие андерсонвильских снимков объясняется отчасти самой новизной массового распространения фотографий.) В 1960-х годах политическая сознательность многих американцев достигла такого уровня, что они могли правильно оценить тему фотографий, сделанных Доротеей Ланж в 1942 году на Западном побережье: американских японцев, второе поколение, отправляют в лагеря для интернированных. В 1940-х же годах, когда мысли были сосредоточены на войне, лишь немногие отдавали себе отчет в том, что правительство совершает преступление против большой группы американских граждан. Фотографии не могут создать моральную позицию, но могут ее подкрепить – или способствовать ее зарождению.
Фотографии могут быть более запоминающимися, чем движущиеся образы, потому что они – тонкие срезы времени, а не поток. Телевидение – плохо отсортированная последовательность изображений, и каждым отменяется предыдущее. Фото – это привилегированное мгновение, превращенное в легкий предмет, который можно хранить и рассматривать повторно. Снимки, подобные тому, который появился на первых полосах большинства мировых газет в 1972 году: обожженная американским напалмом голая вьетнамская девочка бежит по шоссе на камеру, раскинув руки и крича от боли, – возможно, вселили в общество большее отвращение к войне, чем сотни часов телевизионной хроники жестокостей.
Вероятно, американская публика не была бы столь единодушна в своем молчаливом приятии корейской войны, если бы ей представили фотографические свидетельства опустошения Кореи, уничтожения среды и массовой гибели людей, в некоторых отношениях даже более масштабных, чем во Вьетнаме десятилетием позже. Но предположение это – пустое. Публика не видела этих фотографий потому, что идеологически для них не было места. Никто не присылал фотографий повседневной жизни в Пьончанге, дабы показать, что у врага – человеческое лицо, как это показали своими снимками Ханоя Феликс Грин и Марк Рибо. Американцы смогли увидеть фотографии страданий вьетнамского народа (многие были из военных источников и предназначены для других целей) потому, что журналисты чувствовали поддержку, делая эти снимки: значительное число американцев считали происходящее жестокой колониальной войной. Войну в Корее воспринимали иначе: как этап справедливой борьбы свободного мира против Советского Союза и Китая, – и при такой оценке фотографии ущерба, причиненного неограниченной огневой мощью американцев, интереса не представляли.
Событие само по себе может заслуживать фотографирования, но, каково его содержание, решает все же идеология (в самом широком смысле). Не может быть свидетельства о событии, фотографического или иного, пока само событие не названо и не охарактеризовано. И не фотосвидетельства выстраивают – а вернее, опознают – событие; они вносят свой вклад только после того, как событие названо. Окажут ли фотографии моральное воздействие – зависит от наличия соответствующего политического понимания ситуации. Если такового нет, фотографии исторических боен скорее всего будут восприниматься просто как нереальные или как деморализующий удар по нервам.
Какие чувства рождаются у человека, когда он смотрит на фотографии угнетенных, эксплуатируемых, голодающих, истребляемых, зависит еще и от того, насколько привычны ему эти изображения. Фотографии истощенных жителей Биафры, сделанные в начале 1970-х годов Доном Маккалином, подействовали на некоторых слабее, чем снимки голодающих индийцев, сделанные Вернером Бишофом в начале 1950-х, потому что такие картины со временем стали банальностью. А фотографии умирающих от голода туарегских семей к югу от Сахары, появившиеся в журналах в 1973 году, многими воспринимались как надоевшая демонстрация ужасов.
Фотографии потрясают тогда, когда показывают нечто новое. К сожалению, порог все повышается – отчасти из-за того, что умножились картины ужасов. Первая встреча с фотографическим перечнем реальных кошмаров – своего рода откровение, типично современное: негативное прозрение. Для меня это были фотографии Берген-Бельзена и Дахау, случайно попавшиеся мне на глаза в книжном магазине в Санта-Монике в июле 1945 года. Ничто из виденного мною – ни на фотографиях, ни в жизни – не ранило меня с такой силой, так глубоко и мгновенно. Мне даже кажется, что можно поделить мою жизнь на две части – до того, как я увидела эти фотографии (мне было 12 лет), и после, хотя вполне понять их содержание я смогла лишь через несколько лет. Много ли пользы было в том, что я их увидела? Это были всего лишь фотографии события, о котором я едва ли даже слышала и никак не могла на него повлиять, страданий, которые вообразить не могла и ничем не могла облегчить. Когда я смотрела на эти фотографии, что-то сломалось. Достигнут был какой-то предел – и не только ужаса. Это был ожог, непоправимое горе, но что-то во мне стало сжиматься, что-то умерло, что-то кричит до сих пор.Страдать самому – это одно, другое дело – жить с фотографиями, запечатлевшими страдания; они необязательно укрепляют совесть и способность к сочувствию. Они могут их и заглушить. Раз ты увидел такие образы, ты встал на путь к тому, чтобы увидеть новые – и новые. Образы приводят в оцепенение. Анестезируют. Событие, известное по фотографиям, конечно, делается более реальным, чем без них, – вспомним войну во Вьетнаме. (Пример обратного – Архипелаг ГУЛАГ, у нас нет его фотографий.) Но если много раз обращаешься к этим изображениям, все становится менее реальным.
Та же закономерность, что действует в отношении зла, действует и в отношении порнографии. Шок от картин зверства притупляется при повторении, так же удивление и неловкость, испытываемые впервые при демонстрации порнофильма, выветриваются в дальнейшем. Ощущение запретного, рождающее в нас негодование и печаль, не намного прочнее того ощущения запретного, которое определяет для нас границы непристойности. И то и другое в последние годы изрядно замусолены. Огромный фотографический каталог несчастий и несправедливостей в мире сделал зрелище жестокостей отчасти привычным, и ужасное стало казаться более обыкновенным, знакомым, далеким («это всего лишь фотография»), неизбежным. Когда появились первые фотографии нацистских лагерей, в них не было ничего банального. За 30 лет достигнута, возможно, точка насыщения. В эти последние десятилетия «озабоченная» фотография не только пробуждала совесть, но и в такой же, если не в большей мере глушила.
Этическое содержание фотографии непрочно. За возможным исключением таких снимков, как те, что сделаны в нацистских лагерях и стали этической точкой отсчета, в большинстве своем фотографии утрачивают эмоциональный заряд. Фотография 1900 года, поражавшая своим содержанием, сегодня тронет нас скорее всего тем, что сделана она в 1900 году. Конкретные качества и темы фотографий растворяются в обобщающей сентиментальности по отношению к ушедшим временам. В самом процессе разглядывания фотографий присутствует эстетическая дистанция – возникающая если не сразу, то со временем непременно. Время возводит большинство фотографий, даже самых любительски неумелых, на уровень искусства. Индустриализация фотографии быстро поставила ее на службу рациональным – то есть бюрократическим – методам управления обществом. Фотографии, уже не игрушки, стали частью оснащения жизненной среды – пробными камнями и подтверждениями того обуженного подхода к реальности, которое считается реалистическим. Как символические предметы и носители информации они стали орудием важных институтов контроля – в частности, семьи и полиции. Так, в бюрократической каталогизации мира многие важные документы недействительны, покуда к ним не прикреплена фотография – символ лица гражданина.
«Реалистический» взгляд на мир, совместимый с бюрократией, дал новую трактовку знания – как информации и набора методов. Фотографии ценятся, потому что несут информацию. Они говорят о том, что имеется в наличии; предоставляют опись мира. Для шпионов, метеорологов, судмедэкспертов, археологов и других профессионалов информации их значение бесценно. Но в ситуациях, где фотографиями пользуются не специалисты, ценность фотографий того же порядка, что и у беллетристики. Информация, которую они могут дать, начинает казаться очень важной в тот момент культурной истории, когда считается, что каждый имеет право на нечто, именуемое новостями. Фотографии считались способом подачи информации людям, не расположенным к чтению. «Дейли ньюз» до сих пор называет себя «иллюстрированной нью-йоркской газетой»; направленность ее популистская. На противоположном конце спектра «Монд», газета, адресованная квалифицированным, хорошо информированным читателям, – она вообще не дает фотографий. Предполагается, что для таких читателей картинка – несущественное добавление к анализу, содержащемуся в статье.
Вокруг фотографии сложилось новое понимание информации. Фото – это тонкий ломтик и времени, и пространства. В мире, где царит фотографическое изображение, все границы («кадр») кажутся произвольными. Все можно отделить, отчленить от чего угодно другого – надо только нужным образом выстроить кадр вокруг объекта. (И наоборот – можно что угодно к чему угодно присоединить.) Фотография подкрепляет номиналистский взгляд на социальную реальность как на нечто, состоящее из маленьких элементов, по видимости, бесчисленных – так же как снимков чего угодно можно сделать бесчисленное количество. В фотографиях мир предстает множеством несвязанных, самостоятельных частиц, а история, прошлая и сегодняшняя, – серией эпизодов и faits divers [2] . Камера делает реальность атомарной, податливой – и непрозрачной. Этот взгляд на мир лишает его взаимосвязей, непрерывности, но придает каждому моменту характер загадочности. У всякой фотографии множество смыслов. Увидеть что-то через фотографию – значит встретиться с потенциально притягательным предметом. Самое умное, что может предложить нам фотографическое изображение: «Смотри, это – поверхность. Теперь подумай – вернее, почувствуй, ощути интуитивно, – чтó за ней, какова должна быть реальность, если она выглядит так». Фотографии сами не могут ничего объяснить, но неутомимо призывают к дедукции, спекуляции, работе воображения.
Фотография подразумевает, что мы познаем мир, если принимаем его таким, каким его запечатлела камера. Но это – нечто противоположное пониманию, которое именно с того и начинается, что мы не принимаем мир таким, каким он выглядит. Всякое понимание предполагает способность сказать: «Нет». Строго говоря, из фотографии ничего понять нельзя. Конечно, фотографии заполняют пробелы в наших мысленных картинах прошлого и настоящего: например, картины бедняцкого Нью-Йорка, запечатленные в 1880-х годах Джейкобом Риисом, будут пронзительным открытием для человека, не знавшего, что городская нищета в Америке конца XIX века была настолько диккенсовской. Тем не менее камера всегда замалчивает больше, чем открывает. Как заметил Брехт, фотография завода Круппа фактически ничего не говорит о его организации. В противоположность любовному отношению, основанному на том, как выглядит предмет, понимание основано на том, как он функционирует. А функционирование происходит во времени, и для объяснения его требуется время. К пониманию нас приводит только то, что повествует.
Ограниченность фотографического знания о мире такова, что оно может разбередить совесть, но в итоге никогда не будет этическим или политическим знанием. Знание, почерпнутое из неподвижных фотографий, всегда будет некоего рода сентиментализмом, все равно – циничным или гуманистическим. Это будет знание по сниженным ценам – подобие знания, подобие мудрости, так же как акт съемки есть подобие присвоения, подобие изнасилования. Сама немота того, что гипотетически понятно из фотографий, и составляет их привлекательность и соблазнительность. Вездесущность фотографий оказывает непредсказуемое влияние на наше этическое чувство. Дублируя наш и без того загроможденный мир его изображениями, фотография позволяет нам поверить, что мир более доступен, чем на самом деле.
Желание подтвердить реальность и расширить опыт с помощью фотографии – это эстетическое потребительство, которым сегодня заражены все. Индустриальные общества подсаживают своих граждан на картинки. Это самая непреодолимая форма психического загрязнения. Острая потребность в красоте, нежелание исследовать то, что под поверхностью, упоение телесным миром – все эти составляющие эротического чувства проявляются в удовольствии, которое мы получаем от фотографии. Но у этого удовольствия есть оборотная сторона, чуждая свободе. Не будет преувеличением сказать, что у людей образуется фотозависимость : потребность превратить опыт в способ видения. В конечном счете впечатление становится тождественным фотографированию, а участие в общественном событии – эквивалентом рассматривания последнего в изображении. Малларме, этот самый логичный эстет XIX века, сказал, что все на свете существует для того, чтобы в конце концов попасть в книгу. Сегодня все существует для того, чтобы попасть на фотографию.
Америка в фотографиях: сквозь тусклое стеклоОзирая демократические дали культуры, Уолт Уитмен старался заглянуть туда, где неотличимы красота от уродства, важное от пустяков. Ему казалось низкопоклонством или снобизмом проводить любые различия в ценности – за исключением самых великодушных. Наш самый отважный и исступленный пророк культурной революции громко требовал искренности. Не будет беспокоиться о красоте и безобразии тот, полагал Уитмен, кто охватит реальность американской жизни в ее многогранности и бурлении. Все факты, даже низменные, излучают свет в уитменовской Америке – этом идеальном пространстве, превращенном в реальность историей, где «факты, явившись, залиты светом».
Великая американская культурная революция, провозглашенная в предисловии к первому изданию «Листьев травы» (1855), не состоялась, что многих огорчило, но не удивило никого. Один великий поэт не может изменить нравственный климат, даже если в его распоряжении миллионы «Красных гвардейцев», это все равно трудно. Как всякий провидец культурной революции, Уитмен думал, что искусство уже не поспевает за реальностью и демистифицируется, лишается таинственности. «Соединенные Штаты – сами, в сущности, величайшая поэма». Но когда культурной революции не случилось и величайшая поэма стала не такой великой в эпоху Империи, какой была во времена Республики, уитменовскую программу популистской трансценденции, демократической переоценки прекрасного и безобразного, важного и пустячного принимать всерьез продолжали только люди искусства. Демистифицированное реальностью, американское искусство – в частности, фотография – само возжелало заняться демистификацией.
В первые десятилетия от фотографии ожидали идеализации образа. Такова же по-прежнему цель большинства фотографов-любителей: для них прекрасная фотография – это фотография чего-то красивого, скажем, женщины или заката. В 1915 году Эдвард Стейхен сфотографировал молочную бутылку на пожарной лестнице жилого дома: зарождалось совсем другое представление о том, что такое прекрасная фотография. И с 1920-х годов ищущие профессиональные фотографы стали отходить от лирических сюжетов, сознательно обращаясь к банальному, безвкусному и даже скучному материалу. За последние десятилетия фотография сумела пересмотреть – для всех – критерии прекрасного и безобразного примерно так, как предлагал Уитмен. Если (по словам Уитмена) «каждый отдельный предмет, или состояние, или сочетание, или процесс являют красоту», то несерьезно выделять какие-то вещи как красивые, а другие как безобразные. Если «все, что делает или думает человек, полно значения», то будет произволом относиться к одним моментам жизни как к важным, а к другим – как к несущественным.
Сфотографировать – значит придать важность. Нет, вероятно, объекта, который не мог бы быть красивым. Кроме того, у всех фотографий есть одно неотъемлемое свойство: придавать своим объектам ценность. Но само значение ценности можно изменить, как это случилось в культуре фотоизображения, только спародировав уитменовское евангелие. В особняках додемократической культуры тот, кого сфотографировали, – знаменитость. В широких полях американской действительности, со страстью каталогизированной Уитменом и с пожатием плеч увиденной Уорхолом, каждый – знаменитость. Ни один момент не важнее любого другого, ни один человек не интереснее любого другого.
Эпиграф к книге фотографий Уокера Эванса, выпущенной Музеем современного искусства, – отрывок из Уитмена, где заявлена тема самых престижных новаций американской фотографии.
«Я не сомневаюсь, что величие и красота таятся в каждой иоте мира… Не сомневаюсь, что в пустяках, насекомых, заурядных людях, рабах, карликах, сорняках, выброшенном мусоре содержится больше, чем я предполагал…»
Уитмен думал, что не отменяет красоту, а расширяет ее царство. Этим же занимались несколько поколений самых одаренных американских фотографов. Но у тех, кто достиг зрелости после Второй мировой войны, уитменовский наказ – искренне запечатлеть во всей полноте и неприглаженности американскую жизнь – был исполнен криво. Снимая карликов, ты получаешь не красоту и величие. Ты получаешь карликов.
Начиная с фотографий, репродуцированных и освященных в роскошном журнале «Камера уорк», издававшемся Альфредом Стиглицем с 1903 по 1917 год и выставлявшихся в его нью-йоркской галерее на Пятой авеню, 291, с 1905 по 1917-й (сначала она называлась «Маленькая галерея», а потом просто «291» и вместе с журналом была самым авторитетным форумом уитменовских идей), американская фотография эволюционировала от утверждения к выветриванию и, наконец, к пародированию программы Уитмена. В этой истории самой показательной фигурой был Уокер Эванс. Он был последним великим фотографом, который серьезно и убежденно работал в направлении, взявшем начало от эйфорического гуманизма Уитмена, подытожив то, что было сделано раньше (скажем, поразительные фотографии иммигрантов и рабочих, сделанные Льюисом Хайном), и предвосхитив гораздо более холодную, грубую и мрачную фотографию, явившуюся потом, – например, в серии «тайных», сделанных скрытой камерой фотографий безымянных пассажиров метро (1939–1941). Но Эванс порвал с героической трактовкой уитменовского мировоззрения, которую пропагандировал Стиглиц и его ученики, свысока смотревшие на Хайна. Эванс считал работу Стиглица манерной.
Подобно Уитмену, Стиглиц не видел противоречия между, с одной стороны, превращением искусства в средство отождествления себя с сообществом людей и – с другой – возвеличением художника как героической, романтической особи, занятой самовыражением. В своей цветистой, блестящей книге эссе «Порт Нью-Йорка» (1924) Пол Розенфельд приветствовал жизнеутверждающее искусство Стиглица. «Нет на свете такой обыденной, невзрачной, банальной вещи, через которую не мог бы выразить всего себя этот человек с черным ящиком и ванночкой с химикатами». Фотографирование и тем самым восстановление в правах обыденного, банального, невзрачного является также искусным способом самовыражения. «Этот фотограф, – пишет Розенфельд о Стиглице, – забросил в вещный мир художнический невод такой ширины, как ни один человек до него и никто из стоящих рядом». Фотография – род преувеличения, героическое соединение с материальным миром. Как и Хайн, Эванс стремился к более беспристрастному утверждению, к благородной скупости средств, к ясной сдержанности. Ни в бесстрастных фотографиях нью-йоркских фасадов и обстановки комнат, которые он так любил снимать, ни в строгих портретах издольщиков на Юге, сделанных в конце 1930-х годов (и опубликованных в книге «Давайте воздадим хвалу знаменитым людям», которую он сделал вместе с Джеймсом Эйджи), Эванс не стремился выразить себя.
Пусть и без героических устремлений, проект Эванса все же следует уитменовской идее ставить на одну доску прекрасное и безобразное, важное и тривиальное. Каждая вещь или человек, будучи сфотографированы, становятся фотографиями, а значит – морально эквивалентными любой другой его фотографии. Камера Эванса одинаково выявляла красоту викторианских домов Бостона в начале 1930-х годов и магазинов на главных улицах алабамских городов в 1936-м. Но уравнивал он – возвышая, а не снижая. Эванс хотел, чтобы его фотографии были «грамотными, авторитетными, трансцендентными». Моральная среда 1930-х годов – уже не наша, и сегодня эти прилагательные не вызывают доверия. Никто не требует грамотности от фотографии. Никто не представляет себе, как она может быть авторитетной. Никто не понимает, как что-нибудь вообще – тем более фотография – может быть трансцендентным.
Уитмен проповедовал эмпатию, согласие при расхождениях, единство в многообразии. Психическое сношение со всем и со всеми плюс чувственный союз (когда он ему доступен) – этот улет он предлагает открыто, снова, снова и снова, в предисловиях и стихах. Эта жажда сделать интимное предложение целому миру определяет форму и тон его стихов. Стихотворения Уитмена – это психическая техника для погружения читателя в новое состояние бытия (микрокосм «нового порядка», измышленного в политике), они функциональны, как мантры – устройства для передачи зарядов энергии. Повторы, выспренние каденции, анжабеманы и напористая речь – сплошной прилив секулярного вдохновения, направленный на то, чтобы читатель воспарил, вознесся на такую высоту, где он может отождествить себя с прошлым и с коллективным американским желанием. Но этот пафос отождествления себя с другими американцами сегодня нашему темпераменту чужд.
Уитменовский призыв к эротическому объятию со всей нацией, только в более общей форме и очищенный от каких бы то ни было требований, в последний раз был слышен на выставке «Семья человеческая», организованной в 1955 году Эдвардом Стейхеном. 503 фотографии 270 мастеров из 68 стран, собранные вместе, должны были доказать, что человечество «едино» и люди при всех их изъянах и злодействах – привлекательные существа. Люди на фотографиях были разного возраста, принадлежали к разным расам, классам и физическим типам. У многих были исключительно красивые тела, у некоторых – красивые лица. Так же как Уитмен убеждал читателей его стихов отождествить себя с ним и с Америкой, Стейхен устроил свой показ для того, чтобы каждый зритель мог отождествить себя со многими людьми на снимках и потенциально с персонажами всех снимков – гражданами Мира Фотографии.
Лишь через 17 лет фотография привлекла такие же толпы зрителей: в 1972 году на ретроспективной выставке Дианы Арбус в Музее современного искусства. На этой выставке 112 фотографий, все, сделанные одним человеком, и все одинаковые – то есть все на них выглядят (в каком-то смысле) одинаково, – вызывали чувство, в точности противоположное ободряющей теплоте стейхенского материала. Вместо людей, чья внешность доставляет удовольствие, вместо народа, занятого своим человеческим делом, на выставке Арбус представлены разнообразные монстры и пограничные экземпляры – в большинстве уродливые, в нелепых, не красящих человека одеждах, в унылом или пустынном окружении. Они позируют и зачастую откровенно и уверенно глядят на зрителя. Снимки Арбус не предлагают зрителям отождествить себя с париями и несчастными. Человечество не «едино».
Фотографии Арбус передают антигуманистическую идею, которая так же остро беспокоила людей доброй воли в 1970-х годах, как утешал их и отвлекал от действительности сентиментальный гуманизм в 1950-е. В содержательном плане разница между этими двумя выставками меньше, чем можно было бы подумать. Выставка Стейхена была духоподъемной, выставка Арбус – гнетущей, но и та и другая одинаково исключали историческое понимание действительности.
Стейхен своим подбором фотографий утверждал, что человеческая ситуация и человеческая природа суть принадлежность и свойство каждого. Показывая, что люди всюду одинаково рождаются, работают, смеются и умирают, «Семья человеческая» отрицает определяющий груз истории – подлинные, заложенные в истории различия, несправедливости и конфликты. Фотографии Арбус отрезают политику так же решительно, показывая мир, где все друг другу чужие, безнадежно разобщенные и парализованные в своем механическом, уродливом самоопределении и взаимоотношениях. Благочестивое жизнеутверждение стейхеновской выставки фотографий и холодная унылость ретроспективы Арбус к истории и политике отношения не имеют. Первое обобщает человеческую ситуацию в радостном ключе, вторая атомизирует ее в ужасном.
Самая поразительная сторона работ Дианы Арбус: они принадлежат к одному из наиболее впечатляющих видов фотографии, а именно – сосредоточенной на жертвах, на несчастных, но цель их не сочувствие, которому, казалось бы, они должны служить. На этих снимках люди трогательные, жалкие, но в то же время отталкивающие, и сочувствия их вид не вызывает. Фотографии Арбус хвалят за прямоту, несентиментальную эмпатию, хотя правильнее было бы охарактеризовать их отстраненной точкой зрения. То, что на самом деле является их агрессивностью по отношению к зрителю, рассматривается как нравственное достижение: будто бы эти фотографии не позволяют зрителю дистанцироваться от персонажа. Вернее было бы сказать, что фотографии Арбус – с их приятием ужасного – склоняют к наивности, и робкой, и зловещей, поскольку в основе ее отстраненность, собственное превосходство, чувство, что увидеть тебе предлагают – другое . Когда Бюнюэля спросили, для чего он снимает фильмы, он ответил: «Чтобы показать, что этот мир не лучший из всех возможных». Арбус делала фотографии с более простой целью: показать, что есть другой мир.
Другой мир отыскивается, как обычно, внутри этого. Фотографировать ей было интересно только людей, которые «выглядят странно», и далеко ходить за этим материалом было не нужно. Нью-Йорк с его «балами» трансвеститов и ночлежками изобиловал уродами. Был также карнавал в Мэриленде, где Арбус нашла человека-подушечку для булавок, гермафродита с собакой, татуированного мужчину, шпагоглотательницу; были нудистские лагеря в Нью-Джерси и Пенсильвании, Диснейленд и голливудская декорация – мертвые или фальшивые пейзажи без людей – и неназванная психлечебница, где она сделала часть своих последних и самых угнетающих снимков. И была повседневная жизнь с ее неистощимым запасом странностей – если у вас есть глаз на них. Фотоаппарат обладает свойством поймать так называемых нормальных людей в тот миг, когда они выглядят не нормальными. Арбус выбирает странное, подлавливает его, располагает в кадре, проявляет и дает название.
«Ты видишь кого-то на улице, – писала она, – и то, что в нем подмечаешь, в сущности, является изъяном». Настойчивая одинаковость ее снимков при всем разнообразии объектов показывает, что ее зрение, вооруженное камерой, может обнаружить страдание, причудливость, душевное нездоровье в любой модели. Две фотографии плачущих малышей; малыши выглядят помешанными. Для отчужденного взгляда Арбус характерно, что в сходстве или общих чертах людей видится нечто зловещее. Это могут быть две девочки в одинаковых дождевиках (не сестры), сфотографированные в Центральном парке. Или двойняшки и тройняшки, которые присутствуют на нескольких снимках. Многие фотографии с мрачным удивлением указывают на то, что два человека образуют пару; а каждая пара – странная пара: натуралы или голубые, черные или белые, в доме престарелых или в средней школе. Люди выглядят эксцентрично, потому что не носят одежду, как нудисты, или потому что носят – как официантка в нудистском лагере, одетая только в фартучек. Все, кого фотографировала Арбус, – аномалии: мальчик перед парадом в поддержку войны, в канотье, со значком «Бомбить Ханой»; Король и Королева бала пенсионеров; тридцатилетняя с чем-то чета, лежащая на шезлонгах у себя на лужайке; вдова, одиноко сидящая в своей загроможденной спальне. На «Еврее-великане дома с родителями в Бронксе, Нью-Йорк» родители выглядят лилипутами, такими же несоразмерными, как гигант сын, склонившийся над ними под низким потолком их гостиной.
Властность фотографий Арбус проистекает из контраста между мучительным сюжетом и невозмутимой, прозаичной внимательностью. Это внимание – и фотографа, и самих персонажей к процессу фотографирования – определяет нравственную атмосферу откровенных, созерцательных портретов Арбус. Она не подсматривает за уродами и париями, не старается застигнуть их врасплох – она познакомилась с ними, успокоила их, и они ей позируют, спокойно и чопорно, как аристократ викторианской поры в студии Джулии Маргарет Камерон. Загадочность фотографиям Арбус придает то, что, глядя на них, мы не знаем, как себя чувствуют люди после того, как согласились сфотографироваться. «Видят ли они себя такими ? – недоумевает зритель. Понимают ли, насколько они гротескны?» Кажется, нет.
Тема фотографий Арбус, если воспользоваться величественной формулой Гегеля, – «несчастливое сознание». Но большинство персонажей Арбус, кажется, не понимают, что они аномалии. Она фотографировала людей, в разной степени не чувствующих или не сознающих своего страдания, своей некрасивости. Этим, естественно, ограничивается диапазон ужасов, которые она готова запечатлеть: исключаются страдальцы, по-видимому, сознающие, что они страдают. Например, жертвы несчастных случаев, войн, голода, политических преследований. Арбус ни за что не сняла бы катастрофу, событие, вламывающееся в жизнь, она специализировалась на растянутых во времени бедах, большинство которых длится с рождения.
Хотя большинство зрителей готовы вообразить, что эти люди – и обитатели сексуального подполья, и генетические уроды – несчастны, на очень немногих фотографиях видны признаки огорчения. Фотографии аномальных людей и настоящих уродцев акцентируют не их страдания, но их отчужденность и автономию. Мужчины, изображающие женщин в своих грим-уборных, карлик-мексиканец в номере манхэттенской гостиницы, русские лилипуты в комнате на Сотой улице и подобные им веселы, прозаичны, приемлют себя такими, как есть. Страдание больше заметно в портретах нормальных людей: у ссорящейся пожилой четы на скамье в парке, у новоорлеанской барменши в своей комнате с сувенирной собачкой, у мальчика с игрушечной гранатой в Центральном парке.
Брассай осуждал фотографов, которые хотят поймать свои модели врасплох и ошибочно полагают, что так в них откроется нечто особенное [3] . В мире, куда проникла Арбус, ее модели всегда открывают себя. Это не «решающий момент». Идея Арбус, что самораскрытие человека – процесс непрерывный и равномерный во времени, согласуется с уитменовской заповедью: относиться ко всем моментам как к равнозначащим. Подобно Брассаю, Арбус хотела, чтобы ее модели по возможности ясно сознавали, в каком акте они участвуют. Не добиваясь от них, чтобы они приняли естественную или характерную для них позу, она, наоборот, стремилась к тому, чтобы неловкость сохранялась – чтобы они позировали. (Таким образом, раскрытие личности отождествляется с тем, что есть в ней странного, перекошенного, необычного.) Сидящие и стоящие, одеревенелые, они кажутся изображениями самих себя.
На большинстве ее фотографий люди смотрят в объектив. От этого они иногда выглядят еще страннее, почти ненормальными. Сравните фотографию женщины в вуали и шляпе с пером, сделанную Лартигом в 1912 году («Ипподром в Ницце»), с фотографией Арбус «Женщина в вуали на Пятой авеню, Нью-Йорк, 1968». Помимо характерной для Арбус некрасивости модели (у Лартига она, что тоже характерно, красива) странность женщины заключается в том, что поза ее самоуверенна и она нисколько себя не стесняется. Если бы женщина Лартига оглянулась, она, пожалуй, выглядела бы так же странно.
В нормальной риторике фотопортрета лицо, обращенное к объективу, означает серьезность, прямоту, раскрытие сущности фотографируемого. Вот почему фронтальная композиция годится для снимков церемоний (свадебных, выпускных и пр.), но меньше подходит для плакатов, рекламирующих политиков. (Для этих портрет в три четверти более обычен: взгляд парит, а не устремлен на вас, означая не отношение к зрителю, к настоящему, а благородную устремленность в будущее.) Фронтальная поза на фотографиях Арбус потому так останавливает внимание, что от ее персонажей не ожидаешь дружелюбной и бесхитростной готовности предоставить себя камере. На фотографиях Арбус фронтальность ясно указывает на сотрудничество портретируемых. Чтобы эти люди захотели ей позировать, Арбус должна была завоевать их доверие, «подружиться» с ними.
Наверное, самая страшная сцена в фильме Тода Браунинга «Уроды» (1932) – свадебный банкет, где лысые дурачки, бородатые женщины, сиамские близнецы, человек-торс танцуют и поют, что принимают в свой круг подлую, нормально сложенную Клеопатру, которая выходит замуж за доверчивого лилипута. «Одна из нас! Одна из нас! Одна из нас!» – скандируют они, и кубок любви передается по столу от одного к другому, чтобы в конце концов ликующий лилипут передал его молодой супруге к ее омерзению. У Арбус, очевидно, упрощенный взгляд на очарование, лицемерность и неловкость братания с аномальными персонажами. Вслед за энтузиазмом открытия – восторг от того, что завоевано их доверие, от того, что их не боишься, что преодолел свое отвращение. Фотографирование уродов «рождало во мне потрясающий подъем, – объясняла Арбус. – Я их просто обожала».Ко времени самоубийства Арбус в 1971 году ее работы были уже знамениты среди тех, кто интересовался фотографией, но так же, как с Сильвией Плат после ее смерти, известность эта перешла в иное качество – превратилась во что-то вроде апофеоза. Самоубийство как бы удостоверяет, что работа ее искренняя, что за ней – сочувствие, а не вуайеризм. И самоубийство придало фотографиям оттенок губительности – словно бы доказало, что они разрушали ее.
Она сама предполагала такую возможность: «Все так изумительно и захватывающе. Я ползу на животе, как в военных фильмах». Хотя фотография обычно – безнаказанное наблюдение со стороны, есть ситуации, когда людей убивают за то, что они фотографируют: когда они фотографируют людей, убивающих друг друга. Только военная фотография сочетает вуайеризм с опасностью. Фронтовые фотографы не могут избежать участия в смертоносной деятельности, которую они регистрируют, они даже носят военную форму, пусть и без знаков различия. Если выяснилось (путем фотографирования), что жизнь «на самом деле – мелодрама», а камера – оружие агрессии, то следует ожидать боевых потерь. «Я убеждена, что существуют границы, – писала она. – Видит Бог, когда войска начинают наступать на тебя, потихоньку возникает болезненное чувство, при котором тебя очень просто может убить». Задним числом слова Арбус воспринимаются как описание своего рода смерти в бою: выйдя за некие границы, она угодила в психическую засаду, став жертвой собственной прямоты и любознательности.
В старых романтических повествованиях о художнике, отчаянный смельчак, отправившийся в ад, рискует не выбраться оттуда живым или вернуться психически поврежденным. Героический авангардизм французской литературы конца XIX и начала XX века дал целый пантеон художников, не переживших своего визита в ад. Однако есть большая разница между деятельностью фотографа, осуществляемой по собственной воле, и – художника, у которого это не всегда так. Кто-то имеет право и, возможно, испытывает потребность поведать о своем страдании – в любом случае оно принадлежит ему. А кто-то берется искать страдание в других.Так что самое тревожащее в фотографиях Арбус не их сюжеты, но совокупное впечатление о душе фотографа: чувство, что это именно личный взгляд и отбор умышленные. Арбус была не поэтом, заглядывающим в себя, чтобы рассказать о своих мучениях, а фотографом, отправившимся в мир, чтобы собирать мучительные образы. Мучениям отыскиваемым, а не просто переживаемым объяснение может быть не вполне очевидным. Согласно Райху, у мазохиста желание испытать боль возникает не из любви к боли, а из надежды через боль получить сильные ощущения; человек, обделенный эмоциональной или сенсорной чувствительностью, всего лишь предпочитает боль отсутствию всяких чувств. Но есть и другое объяснение, диаметрально противоположное: эти люди хотят чувствовать не больше, а меньше.
Смотреть на фотографии Арбус – тяжелое испытание, и в этом смысле они типичны для того рода искусства, которое сегодня популярно у искушенной городской публики: искусство как добровольное испытание себя на твердость. Ее фотографии дают возможность продемонстрировать, что ты можешь встретить ужасы жизни без содрогания. Этот фотограф когда-то сказал себе: да, я могу это принять, зрителю предлагается объявить о том же.
Произведения Арбус – хороший пример тенденции, господствующей в искусстве капиталистических стран, а именно: подавить или хотя бы ослабить моральную и чувственную брезгливость. Современное искусство в большой степени занято тем, что приучает к ужасающему. Создавая привычку к тому, что раньше невыносимо было видеть или слышать, потому что это смущало, причиняло боль, шокировало, – искусство изменяет мораль – тот комплекс психических обычаев и общественных санкций, который проводит расплывчатую черту между тем, что эмоционально и инстинктивно непереносимо, и тем, что приемлемо. Постепенное подавление брезгливости подводит нас к довольно логичному выводу – о произвольности табу, предписанных искусством и моралью. Но наша способность сжиться с растущей гротескностью изображений (движущихся и неподвижных) и печатных текстов обходится дорого. В конечном счете это ведет не к освобождению личности, а к вычитанию из нее: псевдознакомство с ужасным склоняет к отчуждению, ослабляет в человеке способность реагировать в реальной жизни. То, что происходит с чувствами человека, когда он впервые смотрит сегодняшний порнофильм или при показе жестокости по телевидению, не так уж отличается от реакции на впервые увиденные фотографии Арбус.
Сочувственная реакция на эти фотографии неуместна. Суть не в том, чтобы огорчиться, не в том, чтобы сохранять хладнокровие перед лицом ужасного. Но этот взгляд, чуждый (в основном) сострадания, – особая современная этическая конструкция: не бессердечная, определенно не циническая, а просто (или ложно) наивная. К мучительной, кошмарной реальности перед объективом Арбус прилагала такие эпитеты, как «потрясающее», «интересное», «невероятное», «фантастическое», «поразительное» – по-детски изумленное поп-сознание. Камера – согласно ее сознательно наивному представлению о цели фотографии – это устройство, которое ловит все, соблазняет снимаемых раскрыть свои секреты, расширяет опыт. Фотографировать людей, согласно Арбус, «жестоко», «подло». Главное – не моргнуть.
«Фотография была дозволением идти, куда хочу, и делать, что хочу», – писала Арбус. Камера – что-то вроде паспорта, уничтожающего моральные границы и социальные запреты – он освобождает фотографа от всякой ответственности перед фотографируемыми. Суть в том, что ты не вмешиваешься в их жизнь, а только посещаешь их. Фотограф – это супертурист, продолжение антрополога, он посещает туземцев и привозит известия об их экзотических делах и странных нарядах. Фотограф всегда пытается освоить новый опыт или по-новому взглянуть на известные объекты – побороть скуку. Потому что скука – оборотная сторона очарованности: для того и другого надо находиться не внутри ситуации, а вне, и одно ведет к другому. «У китайцев есть теория, что от скуки переходишь к очарованности», – отмечала Арбус. Фотографируя пугающий нижний мир (и выхолощенный, пластмассовый верхний), она не имела намерения разделить ужас обитателей этих миров. Они должны оставаться экзотикой и, следовательно, «потрясающими». Она смотрит всегда извне.
«Меня не тянет фотографировать людей известных и даже известные сюжеты, – писала Арбус. – Они меня захватывают, когда я о них едва даже слышала». Как бы ни тянуло ее к калекам и уродам, ей в голову не пришло бы снимать обожженных напалмом или младенцев – жертв талидомида, то есть общественные ужасы, увечья с сентиментальными или этическими ассоциациями. Ее не интересовала этическая журналистика. Она выбирала объекты, которые просто валялись, вне ценностного поля. Это, естественно, внеисторические объекты, частные, а не общественные патологии, тайные жизни, а не открытые.
В понимании Арбус камера фотографирует неизвестное. Но неизвестное кому? Неизвестное тому, кто защищен, кто приучен реагировать осмотрительно и морально. Как и Натанаэл Уэст, писатель, тоже увлеченный убогими и побитыми жизнью, Арбус выросла в образованной, помешанной на здоровье, склонной к морализаторству, обеспеченной еврейской семье, для которой вкусы сексуальных меньшинств были чем-то за пределами разумения, а рискованные поступки презирались как обычное гойское сумасшествие. «Среди прочего, от чего я страдала в детстве, – писала Арбус, – это незнакомство с настоящими несчастьями. Я ощущала себя отгороженной от реальности… И чувство защищенности, как ни абсурдно это звучит, было болезненным». Испытывая примерно такое же недовольство, Уэст в 1927 году устроился ночным дежурным в захудалой манхэттенской гостинице. Арбус, чтобы обрести жизненный опыт и с ним чувство реальности, занялась фотографией. Под жизненным опытом подразумевались если не материальные неприятности, то хотя бы психологические – шок от погружения в то, что не может быть красивым, от встречи с запретным, извращенным, порочным.
Интерес к аномалиям у Арбус проистекает из желания расстаться с невинностью, избавиться от ощущения собственной привилегированности, выразить свое огорчение из-за того, что защищена. Помимо Уэста 1930-е годы дали мало примеров подобного умонастроения. Более типично оно для образованных представителей среднего класса, достигших совершеннолетия в период между 1945 и 1955 годами, и расцвело в 1960-х.
Десятилетие серьезной работы Арбус как раз и пришлось на 1960-е, когда аномальное вышло на публику и стало надежной, апробированной темой искусства. То, о чем в 1930-х говорилось с душевной болью – как в «Подруге скорбящих» и «Дне саранчи», – в 1960-х рассматривали не моргнув глазом или даже смаковали (в фильмах Феллини, Арабаля, Ходоровски, андеграундных комиксах, рок-спектаклях). В начале 1960-х процветающее Фрик-шоу на Кони-Айленде было запрещено, требовали очистить Таймс-сквер от трансвеститов и проституток обоих полов и застроить небоскребами. Обитателей аномальных миров изгоняли с их ограниченных территорий – за нарушение общественного порядка, за непристойность или просто по причине неприбыльности, – и в это же время они все сильнее внедрялись в сознание как материал искусства, обретая некую расползающуюся легитимность и метафорическую близость, которая на самом деле увеличивает дистанцию.
Кто мог лучше оценить по достоинству правду уродцев, чем Арбус, которая была по профессии модным фотографом – производителем косметической лжи, прикрывающей непреодолимое неравенство происхождения, класса и внешности? Но в отличие от Уорхола, много лет бывшего коммерческим художником, Арбус в своей серьезной работе не продвигала и не вышучивала эстетику гламура, в которой прошло ее ученичество, а повернулась к ней спиной. Ее работа была реакцией – реакцией на потуги элегантности, на общепринятое. Своими фотографиями она говорила: к черту «Вог», к черту моду, к черту все миловидное. Это восстание принимает две не вполне совместимые формы. Одна – бунт против гипертрофированного еврейского морализма. Другая, страстно моралистическая, – бунт против царства успеха. Моралистический протест прокламирует жизнь как неудачу, как противоядие от успеха. Эстетический протест, приватизированный 1960-ми годами, прокламирует жизнь как театр ужасов, как противоядие от жизни как скуки.
Большая часть работ Арбус лежит в русле эстетики Уорхола, то есть определяет себя по отношению к двум полюсам: скуки и аномалии, но лишена уорхоловского стиля. Арбус не свойственны ни уорхоловский нарциссизм и талант саморекламы, ни защитная мягкость, которой он ограждает себя от уродливого, ни его сентиментальность. Вряд ли Уорхол, выросший в рабочей семье, когда-нибудь испытывал двойственные чувства по отношению к успеху, беспокоившие детей хорошо обеспеченных еврейских родителей в 1960-х годах. У человека, воспитанного в католичестве, как Уорхол (и почти все в его компании), очарование злом будет искреннее, чем у того, кто вышел из еврейской семьи. По сравнению с Уорхолом Арбус кажется на редкость уязвимой и наивной – и, безусловно, большей пессимисткой. Дантовское видение города (и предместий) у нее не смягчено иронией. Хотя материал ее по большей части такой же, какой использован, например, в фильме Уорхола «Девушки из “Челси”», она не играет с ужасным, чтобы извлечь из него смешное. В ее фотографиях уродцев нет места насмешке и умилению в отличие от фильмов Уорхола и Пола Моррисси. Для Арбус и уроды, и серединная Америка – одинаковая экзотика. Мальчик перед парадом в поддержку войны и домашняя хозяйка из Левиттауна ей такие же чужие, как карлик или трансвестит, среднезажиточные пригороды так же далеки для нее, как Таймс-сквер, сумасшедший дом или гей бар. В работе Арбус выразилось отталкивание от всего публичного (как она его воспринимала), общепринятого, благополучного, утешительного – и скучного – ради частного, скрытого, уродливого, опасного – и увлекательного. Нынче эти контрасты кажутся почти натянутыми. Благополучное уже не имеет монополии в публичной визуальной среде. Уродства – не приватная зона, куда трудно проникнуть. Людей причудливых, сексуальных париев, эмоционально тупых мы видим ежедневно на страницах газет, в телевизоре и в метро. Гоббсовский человек бродит по улицам, вполне заметный, с блестками в волосах.Утонченная в привычном модернистском смысле – предпочтя угловатость, наивность, искренность приглаженности и искусственности высокого искусства и высокой коммерции, – Арбус сказала, что самым близким себе фотографом считает Уиджи, чьи грубые фотографии жертв преступлений и несчастных случаев постоянно мелькали на страницах таблоидов в 1940-х годах. Снимки Уиджи действительно угнетают, и взгляд его – урбанистический, но этим его сходство с Арбус исчерпывается. Как бы ни старалась Арбус отбросить стандарты фотографического мастерства, например, композиции, фотографом безыскусным она не была. И задачи ее были не журналистские. То, что может показаться в ее фотографиях журналистикой, даже сенсационностью, на самом деле роднит их с главной традицией сюрреалистического искусства – это пристрастие к гротеску, открыто заявленное простодушие в отношении к объектам, претензия на то, что все они – только лишь objets trouvés [4] .
«Я ни в коем случае не выберу объект за то, что он значит для меня, когда я о нем подумаю», – писала Арбус, упорный приверженец сюрреалистской мистификации. Предположительно зрители не должны оценивать персонажей, ею сфотографированных. Мы, конечно, оцениваем. И сам набор ее персонажей является оценкой. Брассай, фотографировавший типов, подобных тем, которые интересовали Арбус – взять хотя бы «La Môme Bijou» [5] (1932), – снимал, кроме того, и лирические городские пейзажи, и знаменитых людей. «Психиатрическая лечебница, Нью-Джерси, 1924» Льюиса Хайна могла бы быть работой Арбус позднего периода (разве что двое детей-даунов на лугу позируют в профиль, а не анфас). Чикагские уличные портреты, сделанные Уокером Эвансом в 1946 году, – тоже ее материал, и некоторые фотографии Роберта Франка – тоже. Разница – в диапазоне других сюжетов, в эмоциях, подсмотренных Брассаем, Эвансом и Франком. Арбус – автор в самом узком смысле слова, особый случай в истории фотографии, так же как Джорджо Моранди, полвека писавший натюрморты с бутылками, – в истории современной европейской живописи. В отличие от большинства серьезных фотографов она не играет на сюжетном поле – никак. Наоборот, все ее сюжеты эквивалентны. А приравнивание уродцев, сумасшедших, пригородных супружеских пар и нудистов – это чрезвычайно сильное суждение, созвучное обозначившимися политическими настроениями многих образованных, леволиберальных американцев. Персонажи ее фотографий – члены одной семьи, обитатели одной деревни. Только получается так, что идиотская эта деревня – Америка. Вместо того чтобы показать идентичность вещей, по природе разных (уитменовские горизонты демократии), показано, что все люди выглядят одинаково.
Вслед за бодрыми надеждами Америки пришел печальный, горький опыт. Есть особая меланхолия в американской фотографии. Но в скрытом виде меланхолия присутствовала уже тогда, в пору уитменовского оптимизма, – свидетельство тому Стиглиц и его кружок «Фото-сецессион». Стиглиц, взявшись исправить мир своей камерой, был тем не менее фраппирован современной материальной цивилизацией. В 1910-х годах он фотографировал Нью-Йорк почти в донкихотском духе: камера (копье) против небоскреба (ветряной мельницы). Пол Розенфельд назвал работу Стиглица вечным утверждением. Уитменовская всеохватность сделалась благочестивой: теперь фотограф покровительствует реальности. Человеку нужна камера, чтобы показать узоры, структуры в этой «хмурой и чудесной непрозрачности, которая зовется Соединенными Штатами».
Понятно, что миссия, обремененная сомнением в Америке, – даже на самой оптимистической стадии – должна была довольно быстро застопориться, что и произошло после Первой мировой войны, когда страна с удвоенным рвением бросилась в большой бизнес и потребительство. Фотографы, менее честолюбивые, чем Стиглиц, и не обладавшие его магнетизмом, постепенно отказались от борьбы. Они могли еще заниматься атомистической визуальной стенографией, вдохновляясь Уитменом. Но без его исступленной синтезирующей мощи регистрировали они только раздробленность, осколки, одиночество, алчность, бесплодие. Стиглиц, своей фотографией отрицавший материалистическую цивилизацию, был, по словам Розенфельда, «человеком, который верил, что духовная Америка существует где-то, что Америка не могила Запада». Подспудная задача Франка, Арбус и многих их современников, в том числе младших, – показать, что Америка все же могила Запада.
С тех пор как фотография рассталась с жизнеутверждающими идеалами Уитмена и перестала понимать, как ей стремиться к интеллектуальному наполнению, влиятельности и трансценденции, лучшее в американской фотографии (и многое в американской культуре вообще) стало искать утешения в сюрреализме, и Америка была вновь открыта как сюрреалистическая в своей сути страна. Конечно, очень легко сказать, что Америка – театр уродцев, пустошь. Этот уцененный пессимизм удобен, когда реальное желательно свести к сюрреальному. Но американское пристрастие к мифам о проклятости и искуплении по-прежнему остается одной из самых активизирующих и привлекательных характеристик нашей национальной культуры. Разуверившись в мечте Уитмена о культурной революции, мы остались с бумажными призраками и востроглазой, остроумной программой отчаяния.Меланхолические объектыУ фотографии несимпатичная репутация самого реалистического, а следовательно, самого поверхностного из миметических искусств. На самом деле это искусство смогло исполнить грандиозную, вековой давности угрозу сюрреалистического переворота в художественном сознании, тогда как большинство более родовитых кандидатов сошли с дистанции.
Живопись изначально была скована тем, что она – изящное искусство, каждое произведение ее – уникальный рукотворный оригинал. Еще одной помехой была исключительная техническая виртуозность тех художников, которых принято включать в сюрреалистический канон и которые в большинстве не представляли себе полотно иначе чем фигуративным. Их живопись выглядит приглаженно расчетливой, самодовольно мастеровитой, недиалектичной. Они предусмотрительно держались подальше от сомнительной сюрреалистической системы стирания границ между искусством и так называемой жизнью, между объектами и событиями, между преднамеренным и случайным, между профессионалами и любителями, между благородным и вульгарным, между мастерством и счастливыми ошибками. В результате сюрреалистическая живопись мало что сумела предъявить, кроме скудно обставленного мира сновидений: нескольких остроумных фантазий – по большей части эротических снов да агорафобных кошмаров. (Только когда либертарианская риторика сюрреализма подтолкнула Джексона Поллока и других к нового рода непочтительной абстракции, сюрреалистический мандат художника обрел наконец широкий творческий смысл. Поэзия, еще одно искусство, к которому ранние сюрреалисты особенно тяготели, принесла почти столь же скромные плоды. Достойное место сюрреализм занял в прозе (в основном со стороны содержания, более богатого и тематически сложного, чем у живописи), театре, ассамбляже и – триумфально – в фотографии.)
То, что фотография по своей природе сюрреальна, не значит, однако, что она разделяет судьбу официального сюрреалистического движения. Напротив. Фотографы, сознательно отдавшиеся влиянию сюрреализма (многие из них – бывшие художники), сегодня значат почти так же мало, как «пикториальные» фотографы XIX века, подражавшие живописи. Даже самые симпатичные trouvailles [6] 1920-х годов – соляризованные фотографии и рейографии Ман Рэя, фотограммы Ласло Мохой-Надя, этюды Брагальи с многократной экспозицией, фотомонтажи Джона Хартфильда и Александра Родченко – представляются маргинальными достижениями в истории фотографии. Наиболее четко выразили сюрреалистические свойства фотографии как раз те фотографы, которые усердно боролись с якобы плоским реализмом фотоснимка. Сюрреалистическое наследие в фотографии стало выглядеть банальным в 1930-х годах, когда сюрреалистический репертуар фантазий и реквизита был стремительно освоен высокой модой, а сама сюрреалистическая фотография предлагала главным образом только манерный стиль портретной съемки, узнаваемый по тем же декоративным условностям, которые сюрреализм привил другим искусствам – в частности, живописи, театру и рекламе. Между тем фотография продолжала развиваться в главном направлении, показывая, что в манипуляциях с реальным и его театрализации нет необходимости или даже они излишни. Сюрреализм заложен в самом создании дубликатного мира, реальности второй степени, более узкой, но и более эффектной, чем та, которую воспринимают обычным зрением. Чем меньше ухищрений, чем меньше оригинальной выделки, тем скорее всего убедительнее будет фотография.
Сюрреализм всегда любил случайности, приветствовал незваное, любовался беспорядочным. Что может быть сюрреалистичнее объекта, который фактически производит сам себя – и с минимальными усилиями? Объекта, чья красота, фантастические откровения, эмоциональное воздействие только приобретут от случайности, которая с ним приключится? Именно фотография лучше всего показала, как совместить швейную машину с зонтиком, чью случайную встречу великий поэт-сюрреалист провозгласил образцом красоты [7] .
В отличие от художественных произведений додемократической эпохи фотография не подчинена всецело намерениям художника. Своим существованием она обязана нерегламентированному взаимодействию (квазимагическому, квазислучайному) между фотографом и объектом, а посредником у них – все более услужливая и автоматизированная машина, не знающая усталости, и, если даже она закапризничала, результат может получиться интересным и не вполне лживым. (Рекламный лозунг у первого «Кодака» был такой: «Вы нажмете кнопку, мы сделаем остальное». Покупателю гарантировали, что картинка будет «без ошибок».) В сказке о фотографии волшебный ящичек гарантирует достоверность, не дает ошибиться, компенсирует неопытность и вознаграждает простеца.
Этот миф добродушно спародирован в немом фильме Бастера Китона «Кинооператор» (1928). Бестолковый, мечтательный герой тщетно борется со своим ветхим аппаратом, то и дело вышибая окна и двери своим штативом, никак не может снять приличный кадр и вдруг снимает замечательный кусок (хронику войны китайских кланов в нью-йоркском Чайна-тауне). Заряжает камеру и временами ведет съемку обезьяна героя. Ошибка воинствующих сюрреалистов заключалась в том, что они воображали, будто сюрреальное – это нечто универсальное, то есть свойство психологии, тогда как оно – явление локальное, этническое, обусловленное классом и временем. Так, первые сюрреальные фотографии пришли к нам из 1850-х годов, когда фотографы впервые стали бродить по улицам Лондона, Парижа, Нью-Йорка в поисках несрежессированных срезков жизни. Эти фотографии, конкретные, частные, сюжетные (только сюжет истаял), – моменты утраченного времени, исчезнувших обычаев – нам кажутся сегодня гораздо более сюрреальными, чем любая фотография, поданная поэтически и абстрактно с помощью двойной экспозиции, недопроявки, соляризации и т. п. Сюрреалисты думали, что образы, которые они ищут, рождаются из бессознательного, и, будучи верными фрейдистами, считали их содержание универсальным и вневременным. Они не понимали, что самое иррациональное на свете, безжалостно движущееся, неусвояемое и загадочное – это время. Сюрреальной фотографию делают ее способность вызвать сожаление об ушедшем времени и конкретные приметы социальной принадлежности.
Сюрреализм – буржуазное недовольство, и если его поборники считали свое недовольство универсальным, то это лишь подтверждает его буржуазность. Как эстетика, стремящаяся быть политикой, сюрреализм делает выбор в пользу обездоленных, в пользу прав неофициальной, несанкционированной реальности. Но скандальные темы, облюбованные сюрреалистской эстетикой, оказываются, в общем, обыденными тайнами, которые пытался скрыть буржуазный социальный порядок: секс и бедность. Эрос, возведенный ранними сюрреалистами на вершину табуированной реальности, которую они желали восстановить в правах, сам был частью тайны, обусловленной социальным статусом. На краях социального спектра он, кажется, цвел пышным цветом: низы и знать рассматривались как природно-либертинские слои, а среднему классу для сексуальной революции пришлось потрудиться. Класс был самой большой загадкой: неистощимый гламур богатых и власть имущих, непрозрачная деградация бедных и отверженных.
Отношение к реальности как к экзотической добыче, которую должен выследить и поймать усердный охотник с камерой, определяло характер фотографии с самого начала. Им же отмечено слияние сюрреалистической контр-культуры с разрушением социальных норм среднего класса. Фотографию всегда интересовала жизнь верхов общества и самых низов. Документалисты (в отличие от придворных фотографов) тянулись к низам. Больше века они крутились около угнетенных, присутствовали при сценах насилия – с исключительно чистой совестью. Социальные невзгоды побуждали благополучных к съемке – безобидному хищничеству. Им хотелось задокументировать скрытую реальность, точнее, скрытую от них.
Взирая на чужую реальность с любопытством, отстраненно, профессионально, вездесущий фотограф ведет себя так, как будто эта деятельность преодолевает границы классовых интересов, как будто его точка зрения универсальна. На самом деле изначально фотография утвердилась как продолжение глаз буржуазного фланера , чье восприятие так хорошо передал Бодлер. Фотограф – это вооруженная разновидность одинокого гуляки, разведывающего, выслеживающего, бродящего по городскому аду, – праздный соглядатай, он открывает город как арену роскошных крайностей. Жадный наблюдатель, понаторевший в чуткости, фланер находит мир «живописным». Открытия бодлеровского фланера разнообразно удостоверены репортажными снимками уличной жизни Лондона и пляжных сцен, сделанными в 1890-х годах Полом Мартином, снимками Арнольда Джента в Чайна-тауне Сан-Франциско (оба работали скрытой камерой), сумеречным Парижем с убогими улицами и захудалыми лавками, снятыми Эженом Атже, драмами секса и одиночества в альбоме Брассая «Paris de nuit» [8] (1933), изображением города как театра несчастий в «Голом городе» (1945) Уиджи. Фланера привлекает не официальное лицо города, а его темные неприглядные углы, его беспризорное население – неофициальная реальность за буржуазным фасадом, которую фотограф схватывает, как сыщик преступника.
Вернемся к «Киноператору»: война китайских преступных кланов оказывается идеальным сюжетом. Она совершенно экзотична и потому заслуживает съемки. Успех фильма, снятого героем, отчасти обеспечен тем, что сам герой (Бастер Китон) совсем не понимает своего сюжета. (Он не понимает даже, что его жизнь в опасности.) Неисчерпаемый сюрреальный сюжет – «Как живет другая половина». Это простодушно-прямое название Джейкоб Риис дал своей книге с фотографиями нью-йоркской бедноты в 1890 году. Фотография, задуманная как социальный документ, выражала в принципе позицию среднего класса, совмещавшую в себе страстность и всего лишь терпимость, любопытство и безразличие – то, что принято называть гуманизмом, – и трущобы представлялись ему самой увлекательной декорацией. Современные фотографы научились, конечно, копать глубже и ограничивать свои сюжеты. Вместо апломба «другой половины» мы имеем, например, «Восточную Сотую улицу» (книгу Брюса Дэвидсона с фотографиями Гарлема, опубликованную в 1970 году). Обоснование прежнее: фотография служит высокой цели – обнаружению скрытой правды и сохранению исчезающего прошлого. (К тому же скрытая правда часто отождествляется с исчезающим прошлым. В 1874–1886 годах обеспеченные лондонцы могли делать пожертвования на Общество для фотографирования реликвий старого Лондона.)
Начав с городской тематики, фотографы вскоре уяснили, что природа так же экзотична, как город, а селяне не менее живописны, чем обитатели трущоб. В 1897 году сэр Бенджамин Стоун, богатый промышленник и консервативный член парламента от Бирмингема, основал Национальную фотографическую ассоциацию с целью документирования постепенно отмиравших традиционных английских церемоний и сельских празднеств. «Каждая деревня, – писал Стоун, – имеет свою историю, которую можно сохранить с помощью фотоаппарата». Для родовитого фотографа конца XIX века, такого как ученый граф Джузеппе Примоли, уличная жизнь бедноты была не менее интересна, чем времяпрепровождение аристократов его круга: сравните его фотографии свадьбы короля Виктора Эммануила и его же – неаполитанской бедноты. Чтобы фотограф ограничил свою тематику причудливыми обычаями своей семьи и окружения, требовалась социальная оседлость, как это было в детстве у талантливейшего Жака-Анри Лартига. Но в принципе камера делает каждого туристом в чужом мире, а в конце концов – и в своем.
Возможно, первый целеустремленный взгляд вниз – это 36 фотографий «Уличной жизни в Лондоне» (1877–1878), сделанных британским путешественником и фотографом Джоном Томсоном. Но на каждого фотографа, специализирующегося по бедным, приходится множество других, ищущих экзотику в более разнообразных проявлениях. Сам Томсон – хороший тому пример. Прежде чем заняться бедными у себя на родине, ему пришлось повидать язычников – результатом путешествия были четырехтомные «Иллюстрации Китая и его народа» (1873–1874). А после книги об уличной жизни лондонской бедноты он обратился к домашней жизни лондонских богачей: около 1880 года он дал начало моде на домашние фотопортреты.
С самого начала профессиональная фотография предполагала, как правило, широкий диапазон классового туризма, и большинство фотографов совмещали обзоры социальных низов с портретированием знаменитостей и товаров (высокая мода, реклама) и этюдами обнаженной натуры. Многие образцовые биографии фотографов XX века (к примеру, Эдварда Стейхена, Билла Брандта, Анри Картье-Брессона, Ричарда Аведона) отмечены внезапными сменами социального уровня и этического содержания тематики. Может быть, самый наглядный такой переход – это переход от довоенной к послевоенной фотографии у Билла Брандта. От прозаических снимков нищеты в Северной Англии времен Депрессии к стильным портретам знаменитостей и полуабстрактным ню – путь неблизкий. Но в этих контрастах нет ничего специфически индивидуального и даже противоречивого. Переходы от низкой реальности к гламурной – это часть самой динамики фотографического предприятия, если только фотограф не замкнулся в своей одержимости (как Льюис Кэрролл с девочками или Диана Арбус с празднующими Хэллоуин).
Нищета не более сюрреальна, чем богатство, тело в грязных отрепьях не более сюрреально, чем принцесса в бальном наряде или девственно-чистая ню. Сюрреальна же – дистанция, проложенная и перекрытая фотографией: социальная дистанция и дистанция во времени. С точки зрения фотографа из среднего класса, знаменитости так же занимательны, как парии. Фотографу необязательно смотреть иронически, умно на свой стереотипный материал. Вполне можно обойтись почтительным, благоговейным интересом, в особенности к самым обыкновенным объектам.
Ничто не может быть дальше от утонченности Аведона, чем портреты Гитты Карелл, фотографа венгерского происхождения, снимавшей знаменитостей муссолиниевской эпохи. Но ее портреты выглядят теперь такими же эксцентричными, как аведоновские, и гораздо более сюрреальными, чем того же периода снимки Сесила Битона, работавшего под сильным влиянием сюрреализма. Помещая своих персонажей в причудливые, роскошные декорации (например, портрет Эдит Ситуэлл 1927 года или Кокто 1936-го), Битон превращает их в слишком однозначные, неубедительные фигуры. А невинная покорность Карелл желанию ее генералов, аристократов и актеров выглядеть статичными, собранными, шикарными обнажает жесткую, точную правду о них. Почтение фотографа сделало их интересными, время – безвредными, слишком человечными.
Некоторые фотографы заявляли себя учеными, другие – моралистами. Ученые составляют инвентарь мира, моралисты сосредоточены на трудных случаях. Пример фотографии как науки – работа Августа Зандера, начатая в 1911 году: фотографический каталог немецкого народа. В противоположность рисункам Георга Гроса, отразившего дух и разнообразие социальных типов Веймарской Германии в карикатурах, архетипические картины Зандера, как он их называл, подразумевают псевдонаучную нейтральность, подобную той, на какую претендовали скрыто сектантские типологические науки, расцветшие в XIX веке, – такие как френология, криминология, психиатрия и евгеника. Зандер выбирал модели не столько за их типические черты, сколько из соображений (справедливых), что лицо открывается камере не иначе как социальная маска. Каждый сфотографированный индивидуум был знаком профессии, класса, занятия. Все его модели типичны, равно типичны для данной социальной реальности – их собственной.
Взгляд Зандера нельзя назвать суровым, он терпимый, не оценивающий. Сравните его фотографии «Циркачи» с циркачами Дианы Арбус или дамами полусвета у Лизетт Модел. У Зандера люди смотрят в объектив, так же как на снимках Арбус и Модел, но их взгляд не открывает внутреннего состояния. Зандер не искал секретов, он наблюдал типическое. Общество не содержит тайны. Как Эдуард Майбридж рассеял заблуждения относительно того, что всегда было открыто глазу (как скачет лошадь, как движется человек), разложив движение на достаточно длинную последовательность моментальных снимков, так и Зандер стремился пролить свет на социальный порядок, атомизировав его, представив в виде множества социальных типов. Неудивительно, что в 1934 году, через пять лет после опубликования его книги «Лицо нашего времени», нацисты изъяли нераспроданные экземпляры и уничтожили печатные формы, положив конец портретированию нации. (Зандер, остававшийся в Германии при нацистах, переключился на пейзажную фотографию.) Проект Зандера ликвидировали как «антиобщественный». Антиобщественной нацисты сочли саму идею фотографии как беспристрастной переписи населения – ввиду ее полноты любые комментарии или даже суждения оказывались излишними.
В отличие от большинства фотографов-документалистов, видевших главным своим сюжетом либо бедных и прежде обойденных вниманием, либо знаменитостей, Зандер намеренно сделал свою социальную выборку необыкновенно широкой. Он снимает бюрократов и крестьян, слуг и светских дам, промышленников и заводских рабочих, солдат и цыган, актеров и продавцов. Но это разнообразие не исключает классовой снисходительности взгляда. Зандера выдает его эклектический стиль. Некоторые фотографии небрежны, беглы, натуралистичны; другие наивны и неуклюжи. Многие, снятые на плоском белом фоне, кажутся помесью хорошего полицейского со старомодным студийным портретом. Зандер без стеснения приспосабливал свой стиль к рангу фотографируемого. Люди умственного труда и богатые чаще сняты в помещении, без бутафории. Они говорят сами за себя. Рабочие и люмпены – обычно в характерной для них среде (часто на воздухе): она определяет их место, говорит за них, словно не предполагается, что они обладают индивидуальностью, естественной у представителей среднего и высшего классов.
На снимках Зандера каждый на месте, никто не теряется, не затерт, не отодвинут в сторону. Кретин сфотографирован так же бесстрастно, как каменщик, безногий ветеран Первой мировой войны – как здоровый молодой солдат в мундире, сердитые студенты-коммунисты – как улыбающиеся нацисты, крупный промышленник – как оперная певица. «В мои намерения не входит ни критиковать, ни описывать этих людей», – сказал Зандер. Можно было ожидать, что, фотографируя людей, он не ставил себе целью критику, но интересно, что, по его мнению, он их и не описывал. Его соглашение с моделями не наивно (как у Карелл), а нигилистично. Несмотря на социальный реализм, собрание его работ – одно из самых абстрактных в истории фотографии.
Трудно представить себе, чтобы такой детальный систематизацией занялся американец. Большие фотографические портреты Америки – как «Американские фотографии» Уокера Эванса или «Американцы» Роберта Франка – намеренно произвольны, при том что отражают традиционный интерес документалистов к бедным и обездоленным, к забытым гражданам Америки. И самый масштабный фотографический проект в истории страны – проект Администрации по защите фермерских хозяйств (1935), возглавлявшийся Роем Эмерсоном Страйкером, – касался исключительно «групп с низкими доходами» [9] . Проект АЗФХ, задуманный как «иллюстрированная документация о наших сельских районах и сельских проблемах» (слова Страйкера), был откровенно пропагандистским, и Страйкер учил своих фотографов, как им относиться к собственным объектам. Задачей проекта было продемонстрировать ценность фотографируемых. То есть подразумевалась точка зрения: средний класс надо убедить, что бедные действительно бедны и что у бедных есть достоинство. Поучительно сравнить фотографии АЗФХ с фотографиями Зандера. У Зандера бедные не лишены достоинства, но не потому, что он им сочувствует. Достоинство их – из сопоставления: на них смотрят так же бесстрастно, как на всех остальных.
Американская фотография редко бывала такой отстраненной. Позицию, подобную зандеровской, можно видеть у людей, которые запечатлели умирающую или вытесняемую часть Америки, – например, у Адама Кларка Вромана, снимавшего индейцев Аризоны и Нью-Мексико в 1895–1904 годах. Красивые фотографии Вромана лишены экспрессии, в них нет ни снисходительности, ни сентиментальности. Настроение – прямо противоположное тому, что у фотографий АЗФХ, – они не трогают, не вызывают сочувствия, у них нет индивидуального стиля. Это не пропаганда в пользу индейцев. Зандер не знал, что фотографирует исчезающий мир. Вроман знал. И знал, что мир, который он снимает, – не спасти. Фотография в Европе руководствовалась в большой степени представлениями о живописном (то есть бедном, чужеродном, траченном временем), о важном (то есть богатстве и знаменитости) и о красивом. Фотографии тяготели к восхвалению или же к нейтральности. Американцы, не столь убежденные в постоянстве основных общественных механизмов, специалисты по «реальности», неизбежности перемен, чаще вносили пристрастность в свои фотографии. Снимки делались не только для того, чтобы познакомить с чем-то, достойным восхищения, но и для того, чтобы показать, чему надо противостоять, о чем сожалеть – и что надо исправить. Американская фотография подразумевает более упрощенную и менее прочную связь с историей, и отношение к географической и социальной реальности одновременно более оптимистическое и более хищническое.
С оптимистической стороны – хорошо известно, сколько сделала фотография в Америке для того, чтобы пробудить общественное сознание. В начале XX века Льюис Хайн стал штатным фотографом Национального комитета по детскому труду, и его фотографии малолетних ткачей, уборщиков свеклы и шахтеров подвигли законодателей на то, чтобы запретить эксплуатацию детей. Во время Нового курса проект Администрации по защите фермерских хозяйств (Страйкер был учеником Хайна) поставлял в Вашингтон информацию об издольщиках и о рабочих-мигрантах, дабы чиновники лучше поняли, как им помочь. Но даже в самом моралистическом своем варианте документальная фотография обладает властью еще и другого рода. И за безучастными сообщениями путешественника Томсона, и за страстными свидетельствами разгребателей грязи Рииса и Хайна стоит стремление присвоить чужую реальность. От присвоения не защищена никакая реальность – ни возмутительная (которую нужно исправить), ни прекрасная (или изображенная таковой при помощи камеры). В идеале фотограф был способен эти две реальности обручить, о чем говорит хотя бы заголовок интервью Хайна в 1920 году: «Показать труд художественно».
Хищническая сторона фотографии – в основе союза между фотографией и туризмом, сложившегося в США раньше, чем где бы то ни было. После того как в 1869 году была достроена трансконтинентальная железная дорога и стал для всех доступен Запад, началась колонизация через фотографию. Самым жестоким образом это затронуло индейцев. Серьезные, тактичные любители подвизались там с окончания гражданской войны. Они были авангардом нашествия туристов, хлынувших на эти территории под конец века в погоне за «хорошим снимком» из индейской жизни. Туристы вторглись в самобытный мир индейцев, они фотографировали их священные объекты, религиозные танцы и святые места – если было надо, платили индейцам, чтобы те позировали и видоизменяли свои обряды для большей фотогеничности.
Как изменялись обряды коренных американцев под натиском туристских орд, так менялась порой и жизнь старых городских районов под влиянием фотографии. Если разгребатели грязи добивались результата, они улучшали условия жизни. Больше того, фотографирование стало стандартной частью процесса социальных изменений. Опасность заключалась в символических изменениях – в узкой интерпретации сфотографированного сюжета. Одна нью-йоркская трущоба Малберри-Бенд, которую фотографировал Риис, была ликвидирована по приказу Теодора Рузвельта, в ту пору губернатора штата – между тем другие, не менее ужасные, остались нетронутыми.
Фотография и мародерствует, и сохраняет, разоблачает и освящает. Фотография отражает недовольство американцев реальностью, их любовь к деятельности, связанной с машинами. «Скорость – в основании всего, – писал Харт Крейн о Стиглице в 1923 году, – сотая доля секунды поймана так точно, что движение продолжается из картинки без конца: момент стал вечным». Перед чудовищным простором и чуждостью обживаемого континента люди орудовали камерой как инструментом для овладения местами, где они побывали. Перед въездами во многие города «Кодак» помещала вывески с перечислением того, что надо сфотографировать. Вывесками отмечались места в национальных парках, где следует встать посетителю со своим фотоаппаратом.
Зандер в своей стране – у себя дома. Американские фотографы – часто в дороге, во власти непочтительного удивления перед тем, какие сюрреальные сюрпризы страна готова им преподнести. Моралисты и бессовестные обиралы, дети и чужеземцы в своей стране, они успевают схватить исчезающее – и часто ускоряют его исчезновение своей фотографией. Снимать, как Зандер, экземпляр за экземпляром в стремлении составить идеально полный каталог – для этого надо представлять себе общество как постижимое целое. Европейские фотографы полагали, что общество обладает устойчивостью сродни природной. В Америке природа всегда была под подозрением, в позиции обороняющейся, пожираемой прогрессом. В Америке каждый экземпляр становится реликтом.
Американский ландшафт всегда казался неохватным, слишком разнообразным, таинственным, ускользающим – не подающимся систематизации. «Он не знает , он не может сказать , перед лицом фактов», – писал Генри Джеймс в «Сценах американской жизни» (1907).
«…И он даже не хочет знать и говорить, факты сами маячат, не требуя понимания, огромной массой, такой, что не выговорить, точно слогов слишком много, чтобы сложиться во внятное слово. И не внятное слово, великий непостижимый ответ на вопросы висит в необъятном американском небе, перед его воображением, как что-то фантастическое, как абракадабра , не принадлежащая ни к одному языку, и под этим удобным знаком он путешествует, и обдумывает, и созерцает, и, сколько может, радуется».
Американцы чувствуют, что реальность их страны неохватна и переменчива и было бы крайне рутинерской самонадеянностью подходить к ней с классификаторской, научной позиции. Подобраться к ней можно окольным путем, исподволь – раздробив на странные фрагменты, которые каким-то образом, как в синекдохе, сойдут за целое.
Американские фотографы (как и американские писатели) постулируют нечто невыразимое в национальной реальности – возможно, никогда прежде не виданное. Джек Керуак начинает свое предисловие к книге Роберта Франка «Американцы» такими словами: «Сумасшедшее чувство в Америке, когда солнце печет на улицах и слышится музыка из музыкального автомата или с похорон неподалеку, – вот что запечатлел на этих изумительных фотографиях Роберт Франк, объехав практически все 48 штатов в старом автомобиле (на стипендию Гуггенхайма) и с проворством, таинственностью, талантом, грустью и странной неуловимостью тени снимая сцены, никогда прежде не попадавшие на пленку… Насмотревшись этих картинок, ты в конце концов перестаешь понимать, что печальнее – музыкальный автомат или гроб».
Любой каталог Америки неизбежно будет антинаучным, бредовой «абракадаброй», мешаниной объектов, где музыкальные автоматы напоминают гробы. Джеймс хотя бы иронически заметил, что «именно этот эффект масштаба – единственный эффект в стране, не прямо враждебный радости». Для Керуака, в главной традиции американской фотографии преобладающее настроение – грусть. За ритуальными утверждениями американских фотографов, что они просто оглядываются кругом, наудачу, без заранее составленного мнения, флегматично фиксируя то, на чем остановился взгляд, – за этим прячется скорбное созерцание утрат.
Эта констатация утрат будет впечатляющей постольку, поскольку фотография постоянно отыскивает все больше знакомых образов таинственного, смертного, преходящего. Более привычных призраков вызывали фотографы старшего поколения, такие как Кларенс Джон Лофлин, объявивший себя представителем «крайнего романтизма». В середине 1930-х годов он начал снимать ветшающие плантаторские дома на юге Миссисипи, памятники на болотистых кладбищах Луизианы, викторианские интерьеры в Милуоки и Чикаго. Но этот метод пригоден и для объектов, не так пропахших прошлым, – взять хотя бы фотографию Лофлина «Призрак кока-колы» (1932). Вдобавок к романтизации прошлого («крайней» или нет) фотография способна спешно романтизировать настоящее. В Америке фотограф не только запечатлевает прошлое, но еще изобретает его. Как писала Беренис Эббот, «фотограф – существо современное по преимуществу; в его глазах сегодня становится прошлым».
В 1929 году после нескольких лет ученичества у Ман Рея, открыв для себя работы малоизвестного тогда Эжена Атже (и многие сохранив для публики), Эббот вернулась из Парижа в Нью-Йорк и начала фотографировать город. В предисловии к своей книге фотографий «Меняющийся Нью-Йорк» (1939) она объясняет: «Если бы я не уезжала из Америки, то никогда не захотела бы снимать Нью-Йорк. Но, увидев его свежим глазом, я поняла: это моя страна, и я должна ее фотографировать». Задача у Эббот («Я хотела запечатлеть его, пока он не изменился полностью») была такая же, как у Атже, который с 1898 года до своей смерти в 1927-м терпеливо, украдкой фотографировал непарадный, траченный временем, уходящий Париж. Но Эббот пытается уловить нечто еще более фантастическое: беспрерывное вытеснение старого новым. Нью-Йорк 1930-х годов очень отличался от Парижа: «Не столько красота и традиция, сколько национальная фантазия, рожденная нарастающей алчностью». Название у книги Эббот точное: она не столько запечатлевает прошлое, сколько регистрирует на протяжении 10 лет саморазрушительную тенденцию американской жизни, когда даже недавнее прошлое расходуется, выметается, сносится, выбрасывается, обменивается. Все меньше и меньше американцев владеют вещами, покрытыми патиной времени: старой мебелью, бабушкиными кастрюлями и сковородками – послужившими вещами, которые хранят тепло прикосновений. О важности их в человеческом ландшафте писал Рильке в «Дуинских элегиях». У нас же вместо этого – бумажные фантомы, транзисторные пейзажи. Портативный, невесомый музей.
Фотографии, превращающие прошлое в предмет потребления, – монтажный кадр. Любая коллекция фотоснимков – продукт сюрреалистического монтажа, сюрреалистическая аббревиатура истории. Подобно тому, как Курт Швиттерс, а позже Брюс Коннер и Эд Кинхольц складывали великолепные объекты, картины, обстановку из мусора, мы теперь составляем нашу историю из обломков. И в этой практике видится достоинство гражданского характера, присущего демократическому обществу. Подлинный модернизм – не аскетизм, а изобилие, забросанное мусором, – намеренная пародия на уитменовскую благородную мечту. Под влиянием фотографов и художников поп-арта архитекторы типа Роберта Вентури учатся у Лас-Вегаса, а Рейнер Бенэм восхваляет «архитектуру и городской ландшафт “быстрого приготовления”» за свободу и условия для хорошей жизни, невозможной среди красот и запущенности европейского города – превознося свободу, даруемую обществом, чье самосознание выстраивается ad hoc [10] из обрывков и хлама. Америка, эта сюрреальная страна, полна objects trouvés [11] . Наш хлам сделался искусством. Наш хлам сделался историей.
Фотографии – конечно, артефакты. Но привлекательность их в том еще, что в мире, замусоренном фотореликтами, они как бы имеют статус «найденных объектов», непредумышленных срезков мира. Таким образом, они одновременно пользуются престижем искусства и облекаются магией реальности. Они – облака фантазии и гранулы информации. Фотография стала искусством, характерным для зажиточных, расточительных, беспокойных обществ, – незаменимым инструментом новой массовой культуры, которая сложилась у нас после гражданской войны, а Европу завоевала только после Второй мировой, хотя обосновалась среди обеспеченной публики еще в 1850-х годах, когда, по желчному выражению Бодлера, «скопище мерзких обывателей» пришло в нарциссистический экстаз от дагерровского дешевого метода кощунствовать над историей.
В сюрреалистической опоре на историю помимо наружной ненасытности и бесцеремонности есть подводное течение меланхолии. На заре фотографии, в конце 1830-х, Уильям Фокс Талбот отметил особую способность камеры регистрировать «раны времени». Фокс Талбот говорил о том, что происходит со зданиями и памятниками. Для нас интереснее износ не камня, а плоти. С помощью фотографии мы прослеживаем самым основательным – и огорчительным – образом, как люди стареют. При взгляде на старую фотографию, свою или кого-то знакомого либо известного человека, которого часто снимали, раньше всего возникает чувство: насколько моложе я (он, она) тогда был. Фотография – реестр смертности. Достаточно движения пальца, чтобы вложить в момент посмертную иронию. Фотографии показывают человека неопровержимо там и в определенном возрасте, соединяют людей и вещи в группы, которые через мгновение распались, изменились, двинулись дальше разными дорогами своей судьбы. Глядя на фотографии повседневной жизни польских гетто, сделанные Романом Вишняком в 1938 году, невозможно избавиться от гнетущей мысли, что очень скоро все эти люди погибнут. На кладбищах в латинских странах фотографии лиц под стеклом, прикрепленные к памятникам, будто таят в себе предвестие смерти. Фотографии говорят о невинности, непрочности жизней, движущихся к небытию, и эта связь между фотографией и смертью отягощает все фотографии людей. В фильме Роберта Сиодмака «Menschen am Sonntag» [12] людей фотографируют под конец их воскресной вылазки на природу. Один за другим они становятся перед черным ящиком бродячего фотографа – улыбаются, выглядят встревоженными, паясничают, смотрят. Кинокамера держит их крупным планом, чтобы мы насладились подвижностью каждого лица; потом у нас на глазах лицо застывает с последним выражением – забальзамированное стоп-кадром. Фотография, прервавшая течение фильма, ошеломляет – вмиг преобразуя настоящее в прошлое, жизнь в смерть. Трудно назвать фильм, который так же лишал бы душевного равновесия, как «La Jetée» [13] Криса Маркера. Это история человека, предвидящего собственную смерть, и рассказана она исключительно через неподвижные фотографии.
Фотографии не только завораживают напоминанием о смерти, они еще настраивают на сентиментальный лад. Фото превращает прошлое в объект нежного внимания, спутывая моральные оценки, смягчая исторические суждения, принуждая смотреть на минувшее суммарно, растроганным взглядом. В одной недавней книге представлены в алфавитном порядке фотографии самых разных знаменитостей в младенческом и детском возрасте. С соседних страниц на нас смотрят Сталин и Гертруда Стайн, серьезненькие – так и хочется их приласкать. Элвис Пресли и Пруст – еще одна юная пара соседей – слегка похожи друг на друга. У Хьюберта Хамфри (трехлетнего) и Олдоса Хаксли (восьми лет) уже заметен сильный характер, которым они отличались во взрослом возрасте. Все до одной фотографии в книге интересны и занимательны – учитывая то, что мы знаем (в том числе из фотографий, кстати) о славных персонажах, которые получились из этих детей. Для этого и подобных упражнений в сюрреалистской иронии любительские снимки и заурядные студийные портреты подходят лучше всего: они выглядят особенно странными, трогательными, вещими.
Реабилитация старых фотографий путем отыскания для них новых контекстов стала важной отраслью книгоиздательства. Фотография – всего лишь фрагмент, и со временем ее связи с целым рвутся. Она плавает в мягком абстрактном былом и открыта для любого толкования (или совмещения с другими фотографиями). Фотографию можно также уподобить цитате, тогда книга фотографий будет чем-то вроде сборника цитат. И теперь все чаще в таких книгах фотографии сами сопровождаются цитатами.
Один пример: «Дома» (1972) Боба Эйделмана – портрет сельского округа в Алабаме, одного из беднейших в стране, составлявшийся пять лет в 1960-х. Он типичен для документальной фотографии с ее интересом к людям, обойденным жизнью, и наследует книге «Давайте воздадим хвалу знаменитым людям». Но фотографии Уокера Эванса сопровождала выразительная (местами пышная) проза Джеймса Эйджи, дабы зритель мог лучше войти в положение издольщиков. Говорить же за персонажей Эйделмана никто не берется. (Для позиции либерального сочувствия, которым проникнута его книга, как раз и характерно то, что подразумевается отсутствие какой-бы то ни было идейной направленности – то есть это беспристрастный, отрешенный взгляд на персонажей.) «Дома» можно рассматривать как уменьшенную, районную версию зандеровской полной и объективной фотопереписи населения. Но персонажи Эйделмана разговаривают, и это придает фотографиям вес, которого они иначе не имели бы. Вкупе со словами фотографии характеризуют граждан округа Уилкокс как людей, обязанных защищать или представлять свою территорию, показывают, что эти жизни – в буквальном смысле серия позиций или поз.
Другой пример: книга «Смертельная поездка по Висконсину» Майкла Леси. Это тоже портрет сельскохозяйственного округа с использованием фотографий, только время – прошлое, 1890–1910 годы, период жестокой рецессии и экономических тягот, а округ Джексон реконструирован при помощи найденных объектов, относящихся к этим десятилетиям. Среди них фотографии Чарльза Ван Шайка, главного коммерческого фотографа в окружном центре, – около трех тысяч его пластинок с негативами хранятся в Историческом обществе штата Висконсин, – а также цитаты из периодики, главным образом из местных газет, из документов психиатрической больницы округа и беллетристики о Среднем Западе. Цитаты не имеют прямого отношения к фотографиям, но сопоставлены с ними случайным, интуитивным образом наподобие того, как слова и звуки Джона Кейджа сопровождаются во время представления танцами, поставленными хореографом Мерсом Каннингемом.
Люди на фотографиях в книге «Дома» являются авторами высказываний, которые мы читаем на соседних страницах. Белые и черные, бедные и обеспеченные разговаривают, выражают противоположные убеждения (в особенности классовые и расовые). Но если у Эйделмана их высказывания противоречат друг другу, тексты, собранные Майклом Леси, все говорят одно и то же: что поразительное число американцев на грани века склонны повеситься в сарае, бросить своих детей в колодцы, перерезать горло супругам, раздеться догола на Главной улице, сжечь урожай у соседа и совершить разные другие дела, за которые сажают в тюрьму или в сумасшедший дом. Если кто думал, что Вьетнам и все домашние гадости и хандра того десятилетия сделали Америку страной гаснущих надежд, то Леси утверждает, что американская мечта развеялась еще в конце XIX века – и не в бесчеловечных городах, а в сельских сообществах, что вся страна была сумасшедшей, и уже давно. Конечно, «Смертельная поездка по Висконсину» ничего не доказывает. Убедительность ее исторической аргументации – это убедительность коллажа. Огорчительные, красиво изъеденные временем фотографии Ван Шейка Леси мог сопроводить другими текстами того периода – любовными письмами, дневниками – и создать другое, может быть, не такое мрачное впечатление. Его книга – дерзкая полемика, модно пессимистическая и, как история, – чистый каприз.
Многие американские авторы, и в первую очередь Шервуд Андерсон, писали так же полемически об убогой жизни маленького города приблизительно в то же время, что и у Леси в книге. Но хотя фотобеллетристика, подобная «Смертельной поездке по Висконсину», объясняет меньше, чем многие рассказы и романы, действует она сейчас сильнее, поскольку обладает авторитетностью документа. Фотографии – и цитаты – воспринимаются как частицы реальности и потому кажутся более достоверными, чем растянутые литературные повествования. У все большего числа читателей доверие вызывает не отличная проза таких авторов, как Эйджи, а сырой документ – отмонтированная или неотмонтированная магнитофонная запись, разного рода сублитература (судебные протоколы, письма, дневники, психиатрические истории болезни), саморазоблачительно неряшливые, зачастую параноидные репортажи от первого лица. В Америке распространена неприязненная подозрительность ко всему, что отдает литературой, не говоря уже о растущем нежелании молодежи читать что бы то ни было, даже субтитры иностранных фильмов и тексты на конвертах грампластинок. Этим отчасти объясняется обострившаяся тяга к книгам, где мало слов и много фотографий. (Разумеется, и в самой фотографии растет престиж сырья, всего непродуманного, небрежного, самоуничижительного – «антифотографии».)
«Все мужчины и женщины, которых писатель знал, становились гротесками», – говорит Андерсон в прологе к «Уайнсбургу, Огайо» (1919); первоначально это произведение он собирался назвать «Книгой о гротескных людях». Он продолжает: «Эти гротескные люди не все были уродами. Были забавные, были почти прекрасные…» Сюрреализм – это искусство распространения гротеска на всё, а затем обнаружения нюансов (и прелести) в получившемся. Для сюрреалистического способа смотреть на мир нет лучшего инструмента, чем фотография, и в конце концов мы на фотографию начинаем смотреть сюрреалистически. Люди роются на своих чердаках, в городских архивах, в исторических обществах штатов, отыскивая старые фотографии; заново открывается все больше неизвестных и забытых снимков. Растут штабеля книг с фотографиями, оценивая утраченное прошлое (отсюда – поддержка любительской фотографии), измеряя температуру настоящего. Фотография предоставляет полуфабрикат истории, полуфабрикат социологии, возможность полуфабрикатного участия. Но есть что-то анальгетическое в этих новых формах упаковки реальности. Сюрреалистический метод, обещавший новую стимулирующую точку зрения для радикальной критики современной культуры, выродился в незатруднительную иронию, которая демократизирует все свидетельства, приравнивает их россыпь к истории. Сюрреализм может родить только реакционное суждение, может извлечь из истории только собрание аномалий, анекдот, макабрическую поездку.Склонность к цитатам (и сопоставлению несовместимых цитат) характерна для сюрреалистов. Так, Вальтер Беньямин – человек, пропитавшийся духом сюрреализма глубже, чем кто-либо из нам известных, – был страстным собирателем цитат. В своей авторитетной статье о Беньямине Ханна Арендт рассказывает, что «в 1930-е годы его вечными спутницами были черные записные книжечки, куда он без устали вносил в виде цитат то, что в жизни или в прочитанном подвернулось ему как “жемчужина” или “коралл”. Случалось, он зачитывал из них вслух, показывал их людям как экземпляры из драгоценной коллекции». Хотя коллекционирование цитат можно рассматривать как всего лишь ироническую мимикрию – так сказать, умственный гербарий, – это не значит, что Беньямин не одобрял или чурался реального. Наоборот, по его убеждению, реальность сама приветствует и оправдывает изначально неосторожную и неизбежно разрушительную деятельность собирателя. В мире, который на глазах превращается в один большой карьер, собиратель оказывается человеком, занятым благочестивой работой спасения. Ход современной истории подорвал традиции, раздробил цельные организмы, где ценные объекты прежде были на своих местах, и теперь коллекционер может с чистой совестью откапывать самые отборные, символически значимые фрагменты.
Исторические перемены все ускоряются, и прошлое сделалось самой сюрреальной темой, что позволяет, по словам Беньямина, находить новую красоту в исчезающем. Фотографы с самого начала не только принялись регистрировать исчезающий мир, но и бывали использованы теми, кто его исчезновение ускорял. (Еще в 1842 году неутомимый обновитель французских архитектурных сокровищ Виолле-ле-Дюк заказал дагерротипы собора Парижской Богоматери перед тем, как приступить к его реставрации.) «Глубочайшее желание коллекционера, жадно приобретающего новые вещи, – обновить старый мир», – писал Беньямин. Но старый мир нельзя обновить – и уж подавно цитатами. В этом и заключается грустная, донкихотская сторона фотографического предприятия.
Идеи Беньямина заслуживают внимания, потому что он был самым оригинальным и важным критиком фотографии – вопреки (и благодаря) внутреннему противоречию в его оценке фотографии, проистекавшему из столкновения между его сюрреалистическим восприятием и марксистскими или брехтовскими принципами. И потому еще, что собственный его идеальный проект выглядит как возвышенный вариант фотографической деятельности. Проектом этим была литературная критика, которая должна была состоять полностью из цитат и потому исключала бы все, в чем можно усмотреть эмпатию. Отказ от эмпатии, презрение к торговле идеями, претензия на собственную невидимость – это принципы, одобряемые большинством профессиональных фотографов. В истории фотографии прослеживается долгая традиция двойственного отношения к ее способности быть пристрастной: считается, что, встав на чью-то сторону, ты отказываешься от основополагающего постулата, согласно которому все предметы правомочны и интересны. Но если у Беньямина мучительная идея разборчивости, направленной на то, чтобы немое прошлое со всеми его неразрешимыми сложностями могло заговорить собственным голосом, то фотография с ее широким захватом ведет к растворению прошлого (в самом акте его сохранения), к фабрикации новой, параллельной реальности, которая делает прошлое воспринимаемым непосредственно, подчеркивая в то же время его комическое или трагическое бесплодие, неограниченно нагружает на конкретность прошлого иронию и превращает настоящее в прошлое, а прошлое в архаику.
Подобно коллекционеру, фотограф движим страстью как будто бы к настоящему, однако связанной с ощущением прошлого. Но если традиционные искусства с их историческим сознанием стремятся привести прошлое в порядок, проводя различие между новаторским и ретроградным, центральным и маргинальным, насущным и несущественным или просто интересным, подход фотографа – как и коллекционера – бессистемен, даже антисистематичен. Страсть фотографа к предмету существенно не зависит от его содержания и ценности – от того, что делает его классифицируемым. Она связана прежде всего с утверждением наличия предмета, с его правильностью (правильного выражения лица, правильного расположения объектов в группе), что эквивалентно коллекционерскому критерию подлинности, с особенностью объекта – качествами, которые делают его уникальным. Взгляд профессионального фотографа, алчный и своевольный, не только сопротивляется традиционной классификации и оценке предметов, но и намеренно их игнорирует и разрушает. По этой причине в подходе фотографа к материалу случайность играет гораздо меньшую роль, чем утверждают обычно.В принципе фотография подчиняется сюрреалистическому императиву бескомпромиссного уравнивания в правах всех предметов. («Реально» все.) На деле же, как и сам сюрреализм в его основном варианте, она выказывает укоренившуюся склонность к мусору, уродству, отбросам, облупленным поверхностям, хламу, китчу. Так, Атже специализировался на маргинальных красотах хлипких колесных экипажей, безвкусных и фантастических витрин, вульгарной живописи вывесок и каруселей, вычурных портиков, причудливых дверных молотков, лепнины на фасадах запущенных домов. Фотограф – и потребитель фотографии – идет по стопам старьевщика, которому Бодлер уподоблял современного поэта: «Все, что огромный город выбросил, все, что он потерял, все, что он презрел, все, что растоптал, – все это он замечает и собирает… Он сортирует вещи и разумно выбирает; он ведет себя, как скупец, охраняющий свои сокровища, и дорожит мусором, который примет форму полезных и приятных вещей, перемоловшись в челюстях богини Индустрии».
Унылые фабричные здания и улочки, завешенные афишами, в глазу камеры выглядят так же красиво, как церкви и пасторальные пейзажи. На современный вкус – красивее. Вспомним, что именно Бретон и другие сюрреалисты провозгласили лавку подержанных вещей храмом авангардистского вкуса, а походы на блошиный рынок возвели в ранг эстетического паломничества.
У сюрреалистов их острое зрение старьевщиков было нацелено на то, чтобы отыскать красоту в вещах, которые другим людям кажутся уродливыми или неинтересными и несущественными, – в безделушках, примитивных или мещанских предметах, в городском утиле.
Так же как конструирование прозы, живописи, фильма с помощью цитат – взять хотя бы Борхеса, Рона Китая, Годара – особый случай сюрреалистической эстетики, нынешний обычай вешать в гостиных и спальнях вместо картин и репродукций фотографии – свидетельство широко распространившегося сюрреалистического вкуса. Фотографии удовлетворяют многим критериям, утвержденным сюрреалистами, – они доступны, дешевы, скромны. Картину заказывают или покупают, фотографию находят (в альбомах или ящиках комода), вырезают (из журналов и газет) или легко изготовляют самостоятельно. И фотографии не только размножаются так, как не могут размножаться картины, но и в каком-то смысле они эстетически неразрушимы. «Тайная вечеря» Леонардо в Милане вряд ли выглядит теперь лучше. Она выглядит ужасно. Фотография, покрытая сыпью, потускневшая, в пятнах, трещинах, выцветшая, все равно выглядит хорошо, иногда даже лучше новой. (В этом отношении и в некоторых других искусство фотографии похоже на архитектуру, произведения которой со временем повышаются в чине; многие здания, и не только Парфенон, возможно, выглядят лучше в виде руин.)
То, что справедливо в отношении фотографии, справедливо и в отношении мира, увиденного фотографически. В XVIII веке литераторы открыли красоту развалин; фотография привила этот вкус широким слоям населения. И красоту вывела за рамки романтических развалин (таких как роскошные картины упадка, снятые Лофлином) на модернистские развалины – саму действительность. Фотограф вольно или невольно занимается тем, что подделывает реальность под старину, и сами фотографии – это древности моментального приготовления. Фотография предлагает современный аналог особого романтического архитектурного жанра – искусственных руин: их строят, чтобы подчеркнуть исторический характер ландшафта, чтобы ландшафт наводил на размышления о прошлом.
Своей случайностью фотографии подтверждают, что все бренно. Произвольность фотографического свидетельства указывает на то, что реальность в принципе не поддается классификации. Реальность складывается в набор случайных фрагментов – неизменно заманчивый, броский, упрощенный способ общения с миром. Фотография иллюстрирует то отчасти праздничное, отчасти снисходительное отношение к реальности, которое составляет объединяющую идею сюрреализма, и утверждения фотографа, что реально всё, подразумевают также, что реального недостаточно. Провозглашая фундаментальное недовольство действительностью, сюрреализм становится на позицию отчуждения, которая сделалась типичной в политически могущественных, промышленно развитых и богато оснащенных фотоаппаратами странах. С чего бы еще считать действительность недостаточной? В прошлом недовольство действительностью выражалось в тоске по иному миру. В современном обществе недовольство действительностью выражается активно и назойливо в желании репродуцировать этот . Словно только при взгляде на реальность в форме объекта – и в фотопреломлении – реальность действительно реальна, то есть сюрреальна.
Фотография неизбежно порождает некое покровительственное отношение к действительности. Мир, находящийся «там», оказывается «внутри» фотографии. Наши головы становятся похожи на те волшебные ящички, которые Джозеф Корнелл наполнял разнородными вещами, происходящими из Франции, где он ни разу не был. Или на его громадную коллекцию кадров из старых фильмов, собранную в том же сюрреалистическом духе: ностальгические сувениры пережитого в кино, свидетельства символического обладания красивыми артистами. Но родство фотоснимка с фильмом в целом обманчиво. Цитата из фильма не то же самое, что цитата из книги. Время чтения определяется самим читателем; время смотрения в кино задано режиссером – образы воспринимаются так быстро или так медленно, как определено монтажом. Поэтому неподвижный кадр, позволяющий задержаться на отдельном моменте как угодно долго, противоречит самой форме фильма, так же как ряд фотографий, запечатлевших мгновения жизни общества, противоречит ее форме, которая есть процесс, развитие во времени. Сфотографированный мир находится в таком же неточном соотношении с реальным миром, как стоп-кадры с фильмом. Жизнь не сводится к значащим деталям, выхваченным вспышкой и застывшим навсегда. А фотографии – сводятся.
Заманчивость фотографии, ее власть над нами объясняется тем, что она предлагает встать в позицию знатока по отношению к миру и в то же время разрешает неразборчивое его приятие. Дело в том, что в результате модернистского бунта против традиционных эстетических норм знаток теперь сильно замешан в поощрении китчевых вкусов. Хотя некоторые фотографии, если их рассматривать как индивидуальные объекты, обладают остротой и приятной серьезностью настоящих произведений искусства, размножение фотографий есть в конечном счете утверждение китча. Сверхподвижный взгляд фотографии льстит зрителю, внушает ложное ощущение собственной вездесущности и владения опытом. Сюрреалисты, стремящиеся быть радикалами и даже революционерами в культуре, часто предавались благонамеренной иллюзии, что они могут и должны быть марксистами. Но эстетизм их слишком заряжен иронией и потому несовместим с самой соблазнительной формой морализма в XX веке. Маркс упрекал философию в том, что она пытается только понять мир, а не изменить. Фотографы, оперирующие в границах сюрреалистической восприимчивости, показывают, что попытки даже понять мир тщетны, и вместо этого предлагают его коллекционировать.
Героизм виденияНикто никогда не открывал уродства при помощи фотографии. Но многие с ее помощью открывали красоту. За исключением тех случаев, когда камеру используют для документирования или для фиксации общественных ритуалов, фотографирующим движет желание найти что-то прекрасное. (В 1841 году Фокс Талбот запатентовал фотографию под названием «калотипия», от kalos – «красивый».) Никто не воскликнет: «Ну, не уродство ли? Я должен это сфотографировать!» Если бы кто-то и сказал так, это означало бы: «Я нахожу эту уродскую вещь… прекрасной».
Люди, увидевшие что-то красивое, часто сожалеют, что не смогли его сфотографировать. Роль камеры в приукрашивании мира была настолько успешна, что стандарты прекрасного стала задавать фотография, а не сам мир. Хозяева, гордые своим домом, вполне могут вынуть его фотографии и показать гостям, до чего он на самом деле красив. Мы учимся видеть себя фотографически: считать себя привлекательным – это значит думать, насколько хорошо ты выглядишь на фото. Фотография создает прекрасное – и из поколения в поколение снимками истощает его. Некоторые природные дива едва ли не полностью предоставлены ухаживаниям фотографов-любителей. Объевшийся изображениями может счесть закаты пошлостью – теперь они, увы, слишком похожи на фотографии.
Перед тем как сниматься, многие беспокоятся: боятся не того, что камера украдет у них душу, как дикари, а боятся ее неодобрения. Людям нужен их идеализированный образ: фотография их в лучшем виде. Если на снимке они получились не лучше, чем в жизни, то воспринимают это как упрек. Но немногим посчастливилось быть «фотогеничными», то есть выглядеть на фотографии (даже без выигрышного освещения) красивее, чем на самом деле. Фотографии часто хвалят за «искренность», за честность, и это означает, что они, конечно, в большинстве не искренни. Через 10 лет после того как негативно-позитивный процесс Фокса Талбота (первый практичный фотопроцесс) стал вытеснять дагерротипию в середине 1840-х годов, один немецкий фотограф изобрел метод ретуши негативов. Два варианта одного и того же портрета – с ретушью и без ретуши, – показанные им на парижской Всемирной выставке 1855 года (второй всемирной выставке и первой, где была представлена фотография), поразили публику. Известие, что камера умеет лгать, умножила число желающих сфотографироваться.
В фотографии значение лжи гораздо важнее, чем в живописи, потому что ее изображения претендуют на правдивость в гораздо большей степени, чем живописные. Фальшивая картина (то есть ложно атрибутированная) фальсифицирует историю искусства. Фальшивая фотография (ретушированная, или подвергнутая иным манипуляциям, или снабженная ложной подписью) фальсифицирует реальность. Историю фотографии можно суммарно описать как борьбу между двумя установками – на украшение, унаследованное от изобразительных искусств, и на правдивость, которая подразумевает не только внеценностную истину, как в науках, но и моралистический идеал правдивого сообщения, унаследованный от литературных образцов XIX века и от новой (в ту пору) независимой журналистики. Как постромантическому романисту или репортеру, фотографу полагалось разоблачать лицемерие и сражаться с невежеством. Живопись ввиду медленности и трудности исполнения не могла взяться за эту задачу, сколько бы художников того века ни разделяли убеждение Милле, что le beau c’est le vrai [14] . Проницательные наблюдатели заметили, что в правде, которую сообщает фотография, есть элемент обнажения, даже когда фотограф не собирался подглядывать. У Готорна в «Доме о семи фронтонах» молодой фотограф Холгрейв говорит о дагерротипном портрете: «Хотя мы думаем, что он отображает только внешность, на самом деле он обнажает тайный характер с такой правдивостью, на какую никогда бы не отважился художник, если бы даже мог его правду разглядеть».
Не ограниченные в выборе предметов, заслуживающих рассмотрения (в отличие от художников), по скольку камера регистрирует быстро, фотографы превратили видение в особого рода проект: как будто сам взгляд, достаточно настойчивый и целеустремленный, может примирить требование правдивости с желанием видеть мир прекрасным. Камера, некогда предмет изумления из-за ее способности верно воспроизводить реальность и в то же время презираемая поначалу за ее приземленную аккуратность, в итоге колоссально подняла ценность внешнего. Внешнего, каким его фиксирует камера. Фотографии не просто воспроизводят реальность – реалистически. Сама реальность тщательно рассматривается и оценивается в плане ее верности фотографиям. «Мне думается, – заявил в 1901 году Золя, выдающийся идеолог литературного реализма, после 15 лет занятий фотографией, – вы не можете утверждать, будто что-то действительно видели, пока вы это не сфотографировали». Фотографии уже не просто регистрировали реальность: теперь они задавали норму того, как нам видятся вещи, и тем самым меняли само понятие реальности – и реализма.
Первые фотографы говорили так, как будто камера – это копировальная машина и, когда они работают с камерой, видит она , а не они. Изобретение фотографии приветствовали, поскольку она облегчала труд непрекращающегося накопления информации и чувственных впечатлений. В своей книге фотографий «Карандаш природы» (1844–1846) Фокс Талбот рассказывает, что идея фотографии осенила его в 1833 году во время путешествия по Италии, которое полагалось совершить каждому англичанину, получившему приличное наследство. Талбот зарисовывал пейзажи в окрестностях озера Комо с помощью камеры-обскуры – устройства, которое только проецирует изображение, но не фиксирует его. Это навело его на размышления «о неподражаемой красоте картин природы, которые стеклянная линза камеры бросает на бумагу», и он задумался, «нельзя ли сделать так, чтобы эти природные образы запечатлелись надолго». Камера представлялась Талботу новым видом записи, чье достоинство именно в ее объективности, потому что она фиксирует «природный» образ, образ, который возникает «через посредство одного только Cвета, без какой-либо помощи карандаша художника».
Фотограф представлялся внимательным, но сторонним наблюдателем – писцом, а не поэтом. Но очень скоро обнаружилось, что одно и то же люди снимают неодинаково, и предположение, будто камера дает объективную, беспристрастную картину, было опровергнуто практикой: фотографии свидетельствовали не только о том, что «там», но и о том, чтó видит индивидуум, они не просто регистрация, но и оценка мира [15] . Стало ясно, что есть не просто единообразная деятельность под названием «видение» (которое регистрирует камера), но и «фотографическое видение», которое представляет собой новый способ видеть и одновременно новую деятельность.
Уже в 1841 году француз с дагерротипной камерой отправился путешествовать по тихоокеанским странам, и в том же году в Париже вышел первый том «Excursions dag uerriennes: Vues et monuments le plus remarquable du globe» [16] . В 1850-х годах фотографический ориентализм расцвел: Максим дю Камп во время большого тура по Ближнему Востоку с Флобером в 1849–1851 годах сосредоточился на съемке таких достопримечательностей, как колосс Абу-Симбела и храм Баальбека, но не на повседневной жизни феллахов. Однако вскоре путешественники с фотоаппаратами расширили круг своих интересов и уже не ограничивались произведениями искусства и знаменитыми местами. Фотографическое видение означало способность разглядеть красоту в том, что видят все, но игнорируют как нечто заурядное. Фотограф был обязан не просто видеть мир, такой как есть, включая общеизвестные дива, но пробуждать интерес новыми визуальными решениями.
После изобретения фотоаппарата появился особого рода героизм – героизм видения. Фотография открыла новую форму свободной деятельности – наделила каждого уникальной острой восприимчивостью. В поисках поразительных изображений фотографы отправились на свои культурные, социологические, научные сафари. Не останавливаясь ни перед какими неудобствами и трудностями, они ловили мир в силки этого активного, стяжательского, оценивающего, своевольного зрения. Альфред Стиглиц с гордостью сообщал, что в метель 22 февраля 1893 года три часа простоял на улице, дожидаясь подходящего момента, чтобы сделать свой знаменитый снимок «Пятая авеню, зима». Подходящий момент – это когда ты увидел вещи (в особенности те, которые каждый видел) по-новому. В на род ном представлении поиск стал отличительной особенностью фотографа. В 1920-х годах фотограф сделался новым героем, как авиатор и антро полог, – причем ему необязательно было покидать родные места. Читателей популярной прессы приглашали вместе «с нашим фотографом» отправиться «на поиски новых земель», увидеть «мир сверху», «мир под увеличительным стеклом», «красоту повседневности», «невидимую вселенную», «чудо света», «красоту машин», картины, которые можно «найти на улице».
Прославлялась обыденная жизнь и красоты, открытые только камере, – уголок материальной действительности, которого глаз вовсе не замечает или не может выделить; общий вид, как с самолета, – они и были целью завоеваний фотографа. Какое-то время самым оригинальным методом фотографического видения казался крупный план. Фотографы обнаружили, что, если стричь действительность покороче, глазу открываются великолепные формы. В начале 1840-х годов разносторонний, изобретательный Фокс Талбот делал фотографии не только в жанрах, заимствованных у живописи – портрет, домашняя сцена, городской пейзаж, пастораль, натюрморт, – но и наводил объектив на морскую раковину, на крылья бабочки (увеличенные солнечным микроскопом) или на часть двух рядов книг у себя в кабинете. Но его объекты были узнаваемы: раковина, крылья бабочки, книги. Когда обычное зрение подверглось еще большему насилию и объект, изолированный от окружающего, сделался абстрактным, утвердились новые понятия о красоте. Прекрасным стало то, чего не видит (или не может увидеть) глаз: такое дробящее, смещенное видение могла обеспечить только камера.
В 1915 году Пол Стрэнд сделал снимок, который он назвал «Абстрактные узоры из ваз». В 1917 году он стал снимать крупным планом машинные формы, а в 1920-х – крупным планом – природные. Новая методика – расцвет ее пришелся на 1920–1935 годы – сулила бесчисленные визуальные радости. Она давала одинаково поразительные результаты и с обиходными предметами, и с обнаженной натурой (сюжетом, как будто бы практически исчерпанным живописью), и с природным микрокосмосом. Казалось, фотография обрела грандиозную роль моста между искусством и наукой, и в своей книге «Von Material zur Architektur» [17] , опубликованной Баухаусом в 1928 году и переведенной на английский под названием «Новое видение», Мохой-Надь убеждал художников учиться красоте у микрофотографий и аэрофотосъемки. В тот же год был напечатан один из первых фотографических бестселлеров – книга Альберта Ренгера-Патча «Die Welt is schön» («Мир прекрасен»): 100 фотографий, по большей части крупным планом, разнообразных объектов, от листа колоказии до рук гончара. Живопись никогда так бесстыдно не обещала доказать, что мир прекрасен.
Абстрагирующий взгляд – особенно эффектно представленный в некоторых работах Стрэнда, Эдварда Уэстона и Майнора Уайта, сделанных в период между двумя мировыми войнами, – вероятно, стал возможен только благодаря открытиям художников и скульпторов-модернистов. И Стрэнд, и Уэстон признавали свое сходство с Кандинским и Бранкуши в способе видения. Возможно, их тяготение к жесткости кубистского стиля было реакцией на мягкость рисунка у Стиглица. Однако имело место и обратное влияние. В 1909 году Стиглиц в своем журнале «Камера уорк» пишет о неоспоримом влиянии фотографии на живопись, хотя ссылается только на импрессионистов, чей стиль «размытого разрешения», в свою очередь, вдохновил его [18] . А Мохой-Надь в «Новом видении» справедливо указывает, что «техника и дух фотографии прямо или косвенно повлияли на кубизм». Но при всех взаимных влияниях художников и фотографов начиная с 1840-х годов методы их фундаментально отличаются. Художник строит, фотограф раскрывает. То есть в нашем восприятии фотоснимка всегда доминирует узнавание , а в живописи это необязательно так. Предмет в «Капустном листе» Уэстона (1931) выглядит как смятая ткань. Чтобы опознать его, нужна подпись. Таким образом, изображение показывает себя двояко. Форма красива, и (удивительно!) эта форма – капустный лист. Если бы это была ткань в складках, она была бы не так красива. Такую красоту мы уже видели в изобразительных искусствах. Поэтому формальные особенности стиля – центральная характеристика для живописи – играют в фотографии вторичную роль, а первостепенную важность имеет что сфотографировано. При любом использовании фотографии предполагается, что каждый снимок – часть мира, поэтому мы не знаем, как реагировать на снимок (если он визуально сомнителен, например, снято слишком близко или слишком далеко), пока не поймем, что это за часть мира. То, что похоже на голую корону, – знаменитый снимок, сделанный в 1936 году Гарольдом Эджертоном, – оказывается гораздо интереснее, когда мы узнаем, что это всплеск от капли молока.
Фотографию принято считать инструментом познания вещей. Когда Торо сказал: «Вы не можете сказать больше, чем видите». Он полагал само собой разумеющимся, что зрение занимает первенствующее место среди чувств. Но через несколько поколений, когда Пол Стрэнд процитировал его слова в похвалу фотографии, в них уже угадывался иной смысл. Камеры не просто позволили постичь больше через зрение (с помощью микрофотографии и телескопической съемки). Они изменили само зрение, внушив идею видения ради самого видения. Торо жил еще в полисенсуальном мире, хотя и таком, где наблюдение уже приобретало статус морального долга. Он говорил о зрении, не отделенном от других чувств, и о видении в контексте (контексте, который он называл Природой), то есть о видении в связи с некоторыми предварительными соображениями насчет того, чтó стоит видеть. Когда Стрэнд цитирует Торо, он занимает другую позицию по отношению к чувственным способностям человека: дидактического культивирования восприимчивости независимо от представлений о том, что заслуживает восприятия. Именно такая восприимчивость вдохновляет все модернистские движения в искусствах.
Ярче всего эта позиция проявляется в живописи, искусстве, которое безжалостнее всего теснит фотография и у которого с энтузиазмом заимствует. По общему мнению, фотография отобрала у художника задачу создания изображений, точно воспроизводящих действительность. За это «художник должен быть глубоко благодарен», настаивает Уэстон, считая эту узурпацию, как многие фотографы до него и после, на самом деле освобождением. Взяв на себя задачу реалистического отображения, прежде монополизированную живопись, фотография освободила живопись для замечательного нового занятия – абстракции. Но воздействие фотографии на живопись было не столь однозначным. Когда фотография появилась на сцене, живопись уже сама начала отходить от реалистического изображения: Тернер родился в 1775 году, Фокс Талбот – в 1800-м, и территория, так быстро и успешно оккупированная фотографией, возможно, и без этого обезлюдела бы. (Неустойчивость строго репрезентативных устремлений в живописи XIX века отчетливее всего демонстрирует портретный жанр: художник все больше был озабочен самой живописью, а не моделью, и в конце концов большинство самых передовых художников потеряли к этому жанру интерес. Из заметных недавних исключений можно назвать Фрэнсиса Бэкона и Энди Уорхола, которые охотно пользовались фотографическими изображениями.)
Обычно упускают из виду еще один важный аспект взаимоотношений живописи и фотографии: захватив новую территорию, фотография немедленно стала ее расширять. Некоторые фотографы не захотели ограничиваться ультрареалистическими подвигами, на которые не способна живопись. Так, из двух изобретателей фотографии Дагерр вовсе не помышлял о том, чтобы выйти за рамки репрезентативных возможностей реалистической живописи, тогда как Талбот сразу понял, что камера способна изолировать формы, ускользающие от невооруженного глаза и потому не представленные в живописи. Постепенно фотографы стали обращаться к поискам более абстрактных форм, двигаясь в том же направлении, что и живописцы, отказавшиеся признавать миметическим только прямое изображение действительности. Реванш живописи, если угодно. Стремление многих профессиональных фотографов делать что-то отличное от регистрации реальности было явным знаком мощного встречного влияния живописи на фотографию. Но, хотя фотографы и разделяли господствовавшие на протяжении века в передовой живописи идеи о самоценности восприятия как такового и второстепенном значении сюжета, приложение этих идей не могло быть таким же, как в живописи. В отличие от живописи фотография по самой своей природе не может расстаться с объектом. Не может она и выйти за пределы визуального – к чему в некотором смысле стремится модернистская живопись.
Идеологию, наиболее близкую фотографии, следует искать не в живописи – ни в прошлом (в период фотографического наступления или освобождения), ни тем более в настоящем. За исключением таких маргинальных явлений, как гиперреализм – возрождение фотореализма, которые не довольствуются простой имитацией фотографии, но стремятся показать, что живопись способна создать еще большую иллюзию правдоподобия, живопись по-прежнему чурается того, что Дюшан называл чисто сетчаточным. Этос фотографии – воспитание в нас (по выражению Мохой-Надя) «усиленного зрения» – ближе к этосу модернистской поэзии, чем живописи. Живопись становится все более и более концептуальной. Поэзия же (начиная с Аполлинера, Элиота, Паунда и Уильяма Карлоса Уильямса) все настойчивее заявляет о своем интересе к визуальному. («Нет правды иной, чем в вещах», – как сказал Уильямс.) Тяготение поэзии к конкретности и автономии стихотворного языка родственно тяготению фотографии к чистой зрительности. И то и другое ведет к прерывности, нечленораздельности форм и компенсаторному их объединению: задача – вырвать вещи из контекста (чтобы увидеть их свежим взглядом) и объединить эллиптически в соответствии с настоятельными, но часто произвольными субъективными потребностями.Если большинство снимающих только следуют заемным представлениям о красоте, то творческие профессионалы обычно думают, что опровергают их. По мнению героических модернистов, таких как Уэстон, миссия фотографа – элитистская, пророческая, подрывная, первооткрывательская. Фотографы считали, что решают задачу, поставленную Блейком: очистить чувства, «открыть людям живой мир вокруг них, – как характеризовал свою работу Уэстон, – показать им то, что упустили из виду их невидящие глаза».
Хотя Уэстон (как и Стрэнд) утверждал, что ему безразлично, является ли фотография искусством, в его требованиях к фотографии угадываются все романтические представления о фотографе как о художнике. Во втором десятилетии XX века некоторые фотографы уверенно овладели риторикой авангардного искусства: вооруженные камерой, они вели суровую борьбу с конформистским восприятием, усердно следуя призыву Паунда «сделать новым». Сегодня фотография, а не «мягкая безвольная живопись более всего способна “взбудоражить дух”», – с мужественным презрением говорит Уэстон. В 1930–1932 годах дневники Уэстона полны экспансивных предсказаний грядущей перемены и заявлений о важности визуальной шоковой терапии, которую проводит фотография. «Прежние идеалы рушатся со всех сторон, и точное, бескомпромиссное зрение камеры является – и станет в еще большей степени – мировой силой в переоценке жизни».
В размышлениях Уэстона о борьбе фотографа много общих тем с героическим витализмом 1920-х годов, который проповедовал Д.Г. Лоуренс: утверждение чувственной жизни, возмущение буржуазным сексуальным лицемерием, безоглядная защита эготизма на службе духовной самореализации, постоянные призывы к единению с природой. (Уэстон называет фотографию средством саморазвития, способом узнать себя и отождествить со всеми проявлениями основных форм – с природой, их источником.) Но Лоуренс желал восстановить полноту чувственных восприятий, а фотограф – даже при всей страстности, роднящей его с Лоуренсом, – неизбежно настаивает на первенстве одного чувства – зрения. И, вопреки утверждениям Уэстона, привычка фотографического видения – восприятия действительности как ряда потенциальных фотографий – ведет к отчуждению от природы, а не к единению с ней.
Фотографическое видение, если вникнуть в его претензии, оказывается дробящим видением, субъективной привычкой, закрепившейся из-за того, что объектив и глаз по-разному фокусируются и по-разному оценивают перспективу. На начальном этапе фотографии эту разницу люди замечали. Но, когда начали думать фотографически, они перестали говорить о фотографическом искажении, как оно тогда именовалось. (Ныне, как выразился Уильям Айвинс-младший, они охотятся за этим искажением.) Так, одна из неизменных составляющих успеха фотографии заключается в ее умении превращать живые существа в вещи, а вещи – в живые существа. Перцы, снятые Уэстоном в 1929 и 1930 годах, демонстрируют соблазнительные формы, что редко случается с его обнаженными натурщицами. И перцы, и обнаженные сфотографированы ради игры форм – но тела обычно согнуты, все конечности взяты в сокращении, а плоть подана настолько смутно, насколько позволяют фокусировка и освещение, что лишает ее сексуальности и придает телесным формам абстрактный характер. Перец же снят крупно и в целостности, кожура его отполирована или намаслена – в результате нейтральная форма приобрела сугубую осязаемость и эротичность.
Дизайнеров Баухауса завораживала красота форм в научной и промышленной фотографии. И, в самом деле, камере редко когда удавалось запечатлеть объекты, формально более интересные, чем те, которые получаются у металлургов и кристаллографов. Но подход Баухауса к фотографии не получил широкого распространения. Теперь никто не считает образцом красоты научные микрофотографии. В главной фотографической традиции для красоты необходим след человеческого решения: только тогда фотография будет хорошей и будет неким комментарием. Оказалось более важным раскрыть элегантность формы унитаза – объекта серии снимков, сделанных Уэстоном в Мексике в 1925 году, – нежели показать поэтически в увеличении снежинку или ископаемого в куске угля.
Для Уэстона сама красота – подрывное явление, что, по-видимому, и подтвердилось, когда некоторые зрители были скандализованы его дерзкими ню. (В сущности, именно Уэстон, а за ним Андре Кертес и Билл Брандт придали снимкам обнаженной натуры респектабельность.) Теперь фотографы более склонны подчеркивать обыкновенную человечность в своих откровениях. Хотя они не перестали искать прекрасное, от фотографии уже не ждут, что она под эгидой красоты произведет психическую революцию. Выдающимся модернистам, таким как Уэстон и Картье-Брессон, которые мыслят фотографию как подлинно новый способ видения (точного, умного, даже научного), бросили вызов фотографы следующего поколения, такие как Роберт Франк, пожелавшие, чтобы взгляд камеры был не пронзительным, а демократичным, и не посягавшие на то, чтобы установить новые нормы для зрения. Заявление Уэстона, что «фотография раздвинула шторы для нового видения мира», представляется типичным для гипертрофированных надежд модернизма во всех искусствах первой трети XX века, надежд, с тех пор развеявшихся. Камера действительно произвела революцию в психике, но не в позитивном, романтическом смысле, как ожидал Уэстон.Сшелушивая сухую коросту привычного видения, фотография создает другую привычку – видения интенсивного и вместе с тем холодного, озабоченного и отчужденного, зачарованного незначительными деталями, увлеченного несообразностями. Но, чтобы преодолеть инерцию обычного зрения, фотографическое должно постоянно обновляться посредством новых шоков, сюжетных или технических. Ибо, восприняв очередное откровение фотографов, зрение осваивается с фотографиями. С авангардным видением Стрэнда 1920-х годов, Уэстона конца 1920-х и начала 1930-х освоились быстро. Их строгие крупные планы растений, раковин, листьев, потрепанных временем деревьев, водорослей, плавников, выветренных скал, крыльев пеликанов, корявых кипарисовых корней, корявых рабочих рук стали штампами именно фотографического видения. То, что раньше мог увидеть только очень умный глаз, теперь может увидеть каждый. Человек, информированный благодаря фотографиям, легко способен вообразить то, что было чисто литературной метафорой, – географию тела: например, сфотографировать беременную женщину так, чтобы ее живот выглядел как холмик, а холмик выглядел как живот беременной.
То, что некоторые критерии прекрасного отмирают, а другие сохраняются, нельзя объяснить одной лишь растущей привычностью образов. Истощение происходит и моральное, и на уровне восприятия. Стрэнд и Уэстон вряд ли могли вообразить себе, что их представления о красоте станут такими банальными, но это, по-видимому, неизбежно, если задан – как в случае Уэстона – такой умеренный идеал красоты, как совершенство. Если художник, согласно Уэстону, всегда «старался улучшить природу, навязывая себя», фотограф «доказал, что природа предлагает бесчисленное множество совершенных “композиций” – порядок повсюду». За воинственной позицией эстетического пуризма у модернистов кроется поразительно широкое приятие мира. Уэстону, который большую часть своей фотографической жизни провел на Калифорнийском побережье близ Кармела, этого Уолдена 1920-х годов, было сравнительно легко найти красоту и порядок, а вот Аарону Сискинду, фотографу из поколения после Стрэнда, ньюйоркцу, начинавшему с архитектурной фотографии и жанровой съемки горожан, порядок приходилось создавать. «Когда я делаю снимок, – пишет Сискинд, – я хочу, чтобы он был совершенно новым объектом, законченным и самодостаточным, и чтобы в основе его лежал порядок». Для Картье-Брессона делать фотографии – значит «находить структуру мира – предаваться чистому наслаждению формой», обнаруживать, что «во всем этом хаосе есть порядок». (Вероятно, нельзя говорить о совершенстве мира так, чтобы это не прозвучало слащаво.) Но демонстрация совершенства мира подразумевает слишком сентиментальное, внеисторическое представление о прекрасном, и держаться на этом фотография не может. Вполне объяснимо, что у Уэстона, тяготевшего к абстракции, к раскрытию чистых форм гораздо больше, чем Стрэнд, диапазон сюжетов значительно уже. Уэстона никогда не тянуло к социальной фотографии, и, за исключением лет, проведенных в Мексике (с 1923 по 1927-й), он избегал городов. Стрэнда, как и Картье-Брессона, привлекали живописное запустение и ущербность городской жизни. И хотя они были далеки от природы, оба (можно назвать тут и Уокера Эванса) смотрели на мир таким же требовательным взглядом, повсюду различающим порядок.
Идея Стиглица, Стрэнда и Уэстона, что фотография должна прежде всего быть красивой (то есть красиво выстроенной), теперь кажется выдохшейся, подслеповатой перед правдой беспорядка, а оптимизм в отношении науки и техники, на котором основывалась фотографическая эстетика Баухауса, представляется чуть ли не вредным. Фотографии Уэстона, пусть красивые, восхитительные, многим людям стали не очень интересны, тогда как снимки, сделанные неумелыми английскими и французскими фотографами середины XIX века, или, например, Адже, очаровывают как никогда. Приговор Уэстона Эжену Атже – «слабый техник» – в его «Дневнике» отражает последовательность взглядов Уэстона и его расхождение с современными вкусами. «Ореолы многое разрушают, и цветокоррекция нехорошая, – замечает Уэстон, – его чутье на сюжет было острым, но качество съемки слабое, композиция неоправданна… поэтому часто чувствуешь, что важное он упустил». Современным вкусам чужд Уэстон с его заботами о совершенстве отпечатка, а не Атже и другие мастера в традиции обыденной фотографии. Техническое несовершенство потому и стало цениться, что нарушает уютное уравнение Природы с Прекрасным. Природа сделалась скорее предметом ностальгии и причиной негодования, чем объектом созерцания, и это видно по тому, какая разница во вкусах разделяет современные изображения оскверненной природы и величественные пейзажи Ансела Адамса (самого известного ученика Уэстона) или последний важный альбом в традиции Баухауса – «Анатомию природы» Андреаса Фейнингера.
Их формалистические идеалы красоты представляются в ретроспекции связанными с определенным историческим настроением – оптимизмом в отношении современности (новый взгляд, новая эпоха); так же, вероятно, утрата оптимизма в последние десятилетия сказалась на снижении стандартов фотографической чистоты, заданных и Уэстоном, и школой Баухауса. При нынешнем состоянии разочарованности видится все меньше и меньше смысла в формалистской идее красоты, не подвластной времени. На первый план вышли образцы сумрачной, преходящей красоты, и это привело к переоценке фотографии прошлого. Восстав против Прекрасного, фотографы последних поколений предпочитают показывать беспорядок, ищут говорящий сюжет, чаще беспокоящий, а не изолированную «упрощенную форму» (выражение Уэстона), в конечном счете утешительную. Но, вопреки декларируемому стремлению к откровенной, не постановочной, даже жесткой фотографии, выявляющей правду, а не красоту, фотография все равно приукрашивает. В самом деле, неотъемлемым достижением фотографии всегда была ее способность обнаружить красоту в непритязательном, убогом, ветхом. Реальное как минимум может растрогать. А трогательное – уже красиво. (Красота бедных, например.)
Знаменитая фотография Уэстона «Торс Нила» (1925), на которой изображен его горячо любимый сын, красива по причине смелой композиции, тонкого освещения и того, что модель хорошо сложена, – это красота мастерства и вкуса. Грубые снимки Джейкоба Рииса 1887–1890 годов, сделанные с магниевой вспышкой, красивы из-за силы сюжета – чумазых, бесформенных неопределенного возраста, обитателей нью-йоркских трущоб, из-за верности «неправильного» кадрирования и высокой контрастности, грубых тональных переходов: эта красота – результат неумышленности, дилетантизма. В оценке фотографий всегда присутствует такой эстетический двойной стандарт. Первоначально о них судили исходя из живописных мерок: продуманная композиция, устранение всего несущественного. Еще совсем недавно образцами фотографического зрения считались работы немногочисленных мастеров, которые благодаря размышлениям и усердию сумели преодолеть механическую природу камеры и удовлетворить критериям искусства. Но теперь ясно, что нет неразрешимого конфликта между механическим или наивным использованием камеры и формальной красотой самого высокого порядка, нет такого жанра фотографии, где красота не могла бы появиться: непритязательный функциональный снимок может оказаться таким же визуально интересным, таким же красноречивым, как общепризнанные шедевры фотоискусства. Эта демократизация формальных канонов – логическое следствие демократизации понятия красоты в фотографии. Красоту, традиционно ассоциировавшуюся с совершенными образцами (в изобразительном искусстве классической Греции фигурирует только молодость, тело в идеальной форме), фотография обнаружила повсюду. Не только те, кто прихорашивается перед камерой, но и непривлекательные, недовольные были одарены красотой.
Для фотографии, в конце концов, безразлично – эстетически несущественно – приукрашивать мир или, наоборот, срывать с него маску. Даже те фотографы, которые презирали ретушь портретов – а это было вопросом чести для уважающих себя фотографов, начиная с Надара, – старались разными способами защитить модель от чрезмерно пристального взгляда камеры. И фотографы-портретисты, профессионально обязанные оберегать таким образом знаменитые лица (Греты Гарбо, например), которые должны быть идеалом, компенсировали это поисками «настоящих» лиц среди бедных, безымянных, социально незащищенных, стариков, умалишенных – людей, безразличных к агрессии камеры (или не способных протестовать). Из первых результатов такого поиска – два портрета городских несчастных, сделанные Стрэндом в 1916 году, «Слепая» и «Мужчина». В худшие годы германской депрессии Хельмар Ларски составил целый каталог омраченных лиц и опубликовал в 1931 году под заглавием «Köpfe des Alltags» («Обыденные лица»). Оплаченные модели его «объективных этюдов характера», как он их называл, с беспощадно показанными порами, морщинами, кожными дефектами, были безработными слугами, которых он находил в агентствах по найму, нищими, дворниками, разносчиками, прачками.
Камера может быть снисходительной и хорошо умеет быть жестокой. Но жестокость ее порождает красоту иного рода в соответствии с сюрреалистскими предпочтениями, властвующими над фотографическим вкусом. Так, фотография моды основана на предпосылке, что предмет может быть более красивым на снимке, чем в жизни, и поэтому не стоит удивляться, что некоторых фотографов, обслуживающих моду, тянет к нефотогеничному. Модные фотографии Аведона, которые льстят объекту, прекрасно дополняются его работами, где он выступает в роли Того, Кто Отказывается Льстить – например, прекрасными, безжалостными портретами его умирающего отца, сделанными в 1972 году. Традиционная функция живописного портрета – приукрасить или идеализировать объект – сохранилась в бытовой и коммерческой фотографии, в фотографии же, рассматриваемой как искусство, значение ее сильно уменьшилось. В общем, почет достался Корделиям.
Опровергая общепринятые представления о красоте, фотография колоссально расширила область того, что способно доставить эстетическое удовольствие. Иногда она опровергала их во имя правды. Иногда – во имя изощренности или более утонченной лжи. Так, фотография моды на протяжении десятка с лишним лет обогащала репертуар судорожных жестов, в чем явственно сказалось влияние сюрреализма. («Красота будет конвульсивной , – писал Бретон, – или ее вообще не будет».) Даже самая сострадательная фотожурналистика вынуждена отвечать двоякого рода ожиданиям: тем, которые происходят из нашего в большой степени сюрреалистического восприятия любых фотографий, и тем, которые обусловлены нашей верой в способность некоторых фотографий дать правдивую и важную информацию о мире. В конце 1960-х годов Юджин Смит фотографировал японскую рыбацкую деревню Минамата, большинство жителей которой стали инвалидами и медленно умирали от ртутного отравления. Эти снимки трогают нас и заставляют возмущаться, потому что на них запечатлены страдания людей. В то же время мы от них дистанцируемся, поскольку это превосходные фотографии Муки, отвечающие сюрреалистическим нормам Прекрасного. Фотография агонизирующего ребенка на коленях у матери – это «Оплакивание Христа» в мире жертв чумы, в котором Арто видит истинную тему современной драматургии. И вся серия фотографий – образы как раз для его театра жестокости.
Поскольку каждая фотография – всего лишь фрагмент, ее моральный и эмоциональный вес зависят от того, куда она помещена. Фотография меняется в зависимости от контекста, в котором мы ее видим: фотографии деревни Минамата будут выглядеть по-разному, если мы будем рассматривать их в виде контрольного отпечатка, в галерее, на политической демонстрации, в полицейском досье, в фотографическом журнале, в книге, на стене гостиной. Каждая из этих ситуаций предполагает особое употребление снимков, но ни одна не закрепляет их значения. То, что Виттгенштейн сказал о словах: «Значение слова – это его употребление», – относится и к фотографиям. Именно поэтому наличие и размножение фотографий способствуют эрозии самой идеи значения – дроблению истины на множество относительных истин, которое воспринимается современным либеральным сознанием как нечто само собой разумеющееся.
Социально озабоченные фотографы полагают, что их произведения могут содержать некий устойчивый смысл, могут открывать истину. Но отчасти из-за того, что любая фотография всегда – вещь в контексте, смысл ее неизбежно выветривается. То есть за контекстом, определяющим непосредственное, первоначальное использование фотографии (скажем, политическое), следуют другие контексты, в которых это использование постепенно отходит на задний план. И соответственно выхолащивается ее смысл. Одна из центральных характеристик фотографии – это процесс, в ходе которого первоначальное ее использование изменяется и в конце концов заменяется другими – в особенности художественным дискурсом, который может распространиться на любую фотографию. Фотография, которую боливийские власти предоставили мировой прессе в октябре 1967 года – мертвого Че Гевары в конюшне, на носилках, положенных на цементное корыто, в окружении нескольких журналистов, солдат, боливийского полковника и американского разведчика, – не только отображала мрачные реалии современной латинской истории, но и случайно оказалась похожа, как отметил Джон Бёрджер, на «Мертвого Христа» Мантеньи и рембрантовский «Урок анатомии доктора Тульпа». Притягательность этой фотографии отчасти объясняется ее композиционным сходством с названными картинами. Она способна отпечататься в памяти ровно настолько, насколько может быть деполитизирована в потенции и сделаться вневременным образом.
Лучше всех писали о фотографии моралисты – марксисты или псевдомарксисты, увлеченные фотографией, но обеспокоенные ее неискоренимым свойством приукрашивать. Как сказал в своем парижском выступлении перед Институтом изучения фашизма в 1934 году Вальтер Беньямин, «уже невозможно сфотографировать никакой густонаселенный дом “казарменного типа”, никакую свалку без того, чтобы преобразить их. Не говоря уже о том, что она [фотография] не в состоянии, показав плотину или кабельную фабрику, выразить что-либо иное, нежели утверждение “Мир прекрасен”… Дело в том, что фотографии здесь удалось сделать предметом наслаждения даже нищету, показав ее модным образом в стиле перфекционизма» [19] .
Моралисты, влюбленные в фотографию, всегда надеются, что картинку спасут слова. (Противоположный подход у музейного куратора: чтобы превратить продукцию фотожурналиста в искусство, он вывешивает снимки без первоначальных подписей.) Так, Беньямин полагал, что «надо давать… снимкам такое описание, которое избегает их износа как модных вещей и наделяет их революционной потребительной стоимостью». Он призывал писателей показать пример и заняться фотографией.
Писатели социального направления не взялись за фотоаппараты, но часто бывали приглашены или сами вызывались облечь в слова правду, засвидетельствованную фотографиями. Так поступили Джеймс Эйджи, написав тексты к фотографиям Уокера Эванса в книге «Давайте воздадим хвалу знаменитым людям», и Джон Бёрджер в своем эссе о фотографии убитого Че Гевары – эссе, которое фактически было распространенной подписью, предназначенной для того, чтобы закрепить политические ассоциации и моральный смысл за фотографией, которую Бёрджер счел излишне привлекательной эстетически, перегруженной иконографическими реминисценциями. Короткий фильм Годара и Горена «Письмо к Джейн» (1972) был своего рода контрподписью, язвительной критикой фотографии Джейн Фонда, сделанной во время ее поездки в Северный Вьетнам. (Этот фильм к тому же – предметный урок, как надо прочитывать любую фотографию, как расшифровывать характер мастеровитой композиции, ракурса, фокусировки.) На фотографии Фонда с огорчением и сочувствием слушает рассказ безымянного вьетнамца о бедствиях, причиненных американскими бомбежками, – но смысл фотографии, напечатанной во французском иллюстрированном журнале «Экспресс», можно сказать, обратен тому, что она означала для северных вьетнамцев, предоставивших ее прессе. А еще важнее, чем изменение смысла из-за места публикации, было то, что «Экспресс» своей подписью к фотографии дискредитировал «революционную потребительную стоимость», которую она имела для северных вьетнамцев. «Эта фотография и всякая иная, – замечают Годар и Горен, – физически нема. Она говорит словами помещенной под ней подписи». И действительно, слова говорят громче картинок. Подписи одерживают верх над свидетельствами наших глаз; но никакая подпись не может навсегда ограничить или закрепить смысл изображения.
Моралисты требуют от фотографии того, на что она не способна, – чтобы она заговорила. Подпись и есть этот отсутствующий голос, и предполагается, что он выскажет правду. Но даже самая точная подпись – это всего лишь одна из интерпретаций снимка, неизбежно ограниченная. Подпись-перчатка легко надевается и снимается. Она не может помешать тому, чтобы довод или моральная претензия, содержащиеся в фотоснимке (или серии снимков), были подорваны из-за множественности потенциальных значений любого фотоснимка или ослаблены из-за стяжательского духа, присущего самой деятельности фотографа (и коллекционера фотографий), и из-за эстетического отношения к объектам, которого ожидает от зрителя каждая фотография. Даже те фотографии, которые говорят душераздирающе о каком-то конкретном историческом моменте, предоставляют нам объект в условное владение с точки зрения в некотором роде вечности – красоты. Фотография Че Гевары в итоге… прекрасна, как и сам он. Таковы же люди Минаматы. Таков же еврейский мальчик, снятый во время облавы в варшавском гетто в 1943 году, – с поднятыми руками, оцепеневший от ужаса. Это его фотографию взяла с собой в лечебницу для душевнобольных немая героиня бергмановской «Персоны», чтобы медитировать над ней как над фотосувениром сущности трагедии.
В потребительском обществе даже самая совестливая и снабженная правильной подписью фотография имеет своим итогом раскрытие красоты. Красивая композиция и изящная перспектива фотографий Льюиса Хайна, где сняты дети, трудившиеся в шахтах и на заводах Америки в начале XX века, надолго пережили актуальность сюжета. Благополучные обитатели богатых стран – где больше всего делают и потребляют фотографий – узнают об ужасах мира главным образом благодаря камере: фотографии могут огорчать и огорчают. Но эстетизирующая природа фотографии такова, что средство, сообщающее о страданиях, в конце концов их нейтрализует. Камера миниатюризирует опыт, превращает историю в зрелище. Фотографии склоняют к сочувствию, но они же его и глушат, создают эмоциональную дистанцию. Реализм фотографии порождает путаницу в отношении с реальностью, морально обезболивающую (в конечном счете), а вместе с тем (и в конечном счете, и сразу) сенсорно стимулирующую. То есть проясняет зрение. Это и есть свежий взгляд, о котором говорят беспрерывно. Какое бы нравственное значение ни признавали за фотографией, главный ее эффект – превращение мира в универсальный магазин или музей без стен, где каждый сюжет низводится до предмета потребления и перемещается в область эстетического. Через посредство камеры люди становятся покупателями и посетителями реальности – или «Реалитэ», как это подразумевает своим названием французский фотожурнал, – ибо реальность понимается как нечто множественное, увлекательное, доступное любому. Делая экзотику близкой, а знакомое и обыденное экзотикой, фотография превращает весь мир в объект оценки. Для фотографов, которые не ограничиваются проецированием своих навязчивых идей, всегда найдутся красивые сюжеты и поразительные мгновения. Самые разнородные вещи сводятся в фиктивное единство, санкционированное идеологией гуманизма. Так, по словам одного критика, великолепие фотографий Пола Стрэнда в последний период его жизни, когда от блестящих откровений абстрагирующего взгляда он обратился к туристическим, антологизирующим мир задачам, заключается в том, что «его люди, будь то оборванец с Бауэри-стрит, мексиканский пеон, фермер из Новой Англии, итальянский крестьянин, французский ремесленник, рыбак в Бретани или на Гебридах, египетский феллах, деревенский идиот или великий Пикассо, все отмечены одной и той же героической печатью – человечностью». Что это за человечность? Это то, что вещи имеют общего, когда на них смотрят, как на фотографии.
Желание фотографировать в принципе неразборчиво, потому что занятие фотографией крепко связано теперь с идеей, что все на свете можно сделать интересным с помощью фотокамеры. Но это свойство быть интересным, как и явленная человечность, бессодержательны. Опора фотографии на мир с ее бесконечным производством заметок о действительности приводит всё к общему знаменателю. Фотография одинаково всё уравнивает – и когда репортерствует, и когда открывает прекрасные формы. Показывая вещность человеческих существ и человечность вещей, она превращает мир в тавтологию. Когда Картье-Брессон посещает Китай, он показывает, что в Китае есть люди и что эти люди – китайцы.
К фотографиям часто обращаются как к средству, способствующему пониманию и терпимости. На гуманистическом жаргоне высшее призвание фотографии – объяснить человеку человека. Но фотографии не объясняют, они подтверждают существование. Роберт Франк был всего лишь правдив, когда заявил: «Чтобы создать подлинный современный документ, его зрительное воздействие должно быть таким, чтобы оно аннулировало объяснения». Если фотографии – это сообщения, то сообщения и прозрачные, и загадочные. «Фотоснимок – это секрет о секрете, – заметила Диана Арбус. – Чем больше он говорит вам, тем меньше вы понимаете». Понимание, которое дает фотография, иллюзорно, на самом деле она рождает приобретательское отношение к миру, способствующее эстетическому его восприятию и эмоциональному отчуждению.
Сила фотографии в том, что она позволяет внимательно рассмотреть мгновение, которое немедленно смывалось бы потоком времени. Это замораживание времени – дерзкая, резкая остановка – приводит к более широким канонам красоты. Но истины, которые можно извлечь из вырванного мгновения, пусть знаменательного или «решительного», дают очень мало для подлинного понимания. Вопреки гуманистическим доводам в пользу фотографии, способность камеры превратить действительность в Прекрасное проистекает из ее относительной слабости в передаче правды. Гуманизм стал господствующей идеологией среди фотографов высокого полета – сменив формалистические обоснования их поисков красоты – как раз потому, что он маскирует путаницу между красотой и правдой, лежащую в основе фотографической деятельности.
Фотографические евангелияКак всякое раздувающееся предприятие, фотография побуждала своих ведущих деятелей снова и снова объяснять, что они делают и почему это ценно. Период, когда фотография подвергалась нападкам (как убийца матери-живописи и хищница по отношению к людям), был недолгим. Живопись, конечно, не умерла в 1839 году, вопреки поспешному предсказанию одного французского художника; придиры перестали осуждать фотографию за рабское копирование, а в 1854 году Делакруа великодушно объявил, как глубоко он сожалеет о том, что такое чудесное изобретение родилось так поздно. Теперь фотографическая переработка реальности пользуется всеобщим признанием – и как повседневное занятие, и как вид высокого искусства. Однако что-то в ней есть такое, что до сих пор вынуждает первоклассных профессионалов оборонять ее и проповедовать: чуть ли не каждый крупный фотограф писал манифесты и излагал свое кредо, объяснял нравственную и эстетическую миссию фотографии. И фотографы делали весьма противоречивые заявления насчет того, какого рода знанием они обладают и какого рода искусством занимаются.
Подозрительная легкость, с какой делаются фотографии, их гарантированная, пусть даже непредумышленная, убедительность указывают на весьма условную связь со знанием. Никто не станет отрицать, что фотография колоссально увеличила когнитивные возможности зрения, благодаря крупным планам и телесъемке расширив область видимого. Но насчет того, лучше ли будет понят с помощью фотографии объект, доступный невооруженному глазу, и насколько основательно людям надо знать то, что они фотографируют, дабы получился хороший снимок, – на этот счет согласия нет. Сама съемка получила два совершенно разных толкования. Согласно одному, это – ясный и точный акт сознания, интеллектуальное усилие. Согласно другому, – это доинтеллектуальная, интуитивная форма встречи с объектом. Так, Надар, говоря о своих почтительных и экспрессивных портретах Бодлера, Доде, Мишле, Гюго, Берлиоза, Нерваля, Готье, Санд, Делакруа и других знаменитых друзей, утверждал: «Лучше всего я делаю портреты тех, кого лучше всего знаю». С другой стороны, Аведон заметил, что на большинстве его хороших портретов – люди, с которыми он впервые встретился на съемке.
В ХХ веке мастера старшего поколения говорили о фотографии как о героической концентрации внимания, как об аскетической дисциплине, о мистической восприимчивости к миру, требующей, чтобы фотограф прошел через облако незнания. Согласно Майнору Уайту, «сознание фотографа во время творчества ничем не заполнено… когда он ищет картину…
Фотограф проецирует себя на все, что он видит, отождествляет себя со всем, дабы познать это и лучше почувствовать». Картье-Брессон уподобил себя дзен-буддистскому лучнику, который должен стать мишенью, чтобы в нее попасть. «Думать надо до и после, – говорит он, – только не во время съемки». Считается, что мысль затуманивает прозрачность сознания фотографа и нарушает автономию фотографируемого объекта. Стремясь доказать, что фотографии могут – а хорошим это удается – преодолеть буквальность, многие серьезные мастера сделали из фотографии гносеологический парадокс. Фотографию толкуют как познание без знания: как способ перехитрить мир, не вступая в лобовое столкновение.
Но даже когда ведущие профессионалы принижают роль мысли (а подозрительность по отношению к интеллекту – постоянная тема в фотографической апологетике), они настаивают на необходимости точно представлять себе будущий результат. «Фотография не случайность, она концепт, – утверждает Ансел Адамс. – Пулеметный подход к фотографии, когда делают много негативов в надежде, что один окажется хорошим, – смертелен для серьезного результата». По общему мнению, чтобы сделать хороший снимок, его надо видеть заранее. Иначе говоря, изображение должно существовать в голове у фотографа в момент экспонирования или до него. Адвокатам фотографии, как правило, трудно признать, что скорострельный метод, особенно если им пользуется опытный человек, может привести к вполне удовлетворительному результату. И хотя фотографы не любят говорить об этом, большинство из них всегда питали почти суеверную надежду – и не без оснований – на счастливый случай.
В последнее время это перестает быть секретом. По мере того как защита фотографии переходит в нынешнюю, ретроспективную фазу, все более сдержанными становятся утверждения касательно активной опережающей деятельности разума в процессе съемки. Антиинтеллектуалистские декларации фотографов, в модернистских рассуждениях об искусстве ставшие общим местом, подвигли серьезную фотографию к скептическому исследованию собственных возможностей, которое, в свою очередь, является общим местом в художественной практике модернистов. На смену фотографии как знанию пришла фотография как… фотография. Решительно отвергнув идеал авторитетной репрезентации, наиболее влиятельные американские фотографы младшего поколения уже не задаются целью мысленно представить будущее изображение, а видят свою задачу в том, чтобы показать, насколько другими выглядят вещи, когда их сфотографировали.
Когда уходят претензии на знание, их место занимают претензии на творчество. Словно в опровержение того факта, что многие превосходные снимки сделаны фотографами, не ставившими перед собой серьезных или интересных целей, в оправдании фотографии постоянно звучала мысль, что процесс съемки – это прежде всего фокусирование характера и лишь во вторую очередь – машины. Эта тема красноречиво проводится в самом замечательном эссе, написанном в похвалу фотографии, – в главе о Стиглице из книги Пола Розенфельда «Порт Нью-Йорка». Используя «свою аппаратуру» «не механически», по выражению Розенфельда, Стиглиц показывает, что камера не только «давала ему возможность выразить себя», но и производила изображения гораздо более широкого спектра и «более утонченные», «чем доступно руке». Так же и Уэстон раз за разом повторяет, что фотография – несравненное средство самовыражения, далеко превосходящее живопись. В соревновании с живописью фотографии необходима оригинальность как важный критерий оценки произведения; оригинальность – печать уникального, обостренного восприятия. Волнуют «фотографии, говорящие что-то по-новому, – пишет Гарри Каллахан, – не ради того, чтобы отличиться, а потому, что индивидуум отличен и он выражает себя». Для Ансела Адамса «замечательная фотография» должна быть «полным выражением того, что человек чувствует по отношению к фотографируемому в самом глубоком смысле, и потому подлинным выражением его отношения к жизни во всей ее полноте».
Что есть разница между фотографией, понимаемой как «подлинное выражение», и фотографией, (чаще) понимаемой как верная регистрация, очевидно. В большинстве рассуждений о задачах фотографии эту разницу пытаются затушевать, но она все равно сказывается в резкой полярности терминов, к которым прибегают фотографы, чтобы ярче охарактеризовать свою работу. Фотография, как и другие современные формы самовыражения, совмещает в себе оба традиционных способа противопоставить личность миру. Либо в ней видят активное проявление особливого «я», бесприютного индивида, потерявшегося в огромном мире, – овладение реальностью путем его быстрой визуальной антологизации. Либо в фотографии видят средство для того, чтобы найти свое место в мире (тоже громадном и чуждом), озирая его беспристрастно, отбросив обременительные претензии самости. Но между защитой фотографии как отличного средства самовыражении и восхвалением ее как способа предоставить себя на службу реальности разница не так велика, как может показаться. Оба толкования основываются на предпосылке, что фотография обеспечивает уникальную систему открытий: что она показывает нам реальность такой, какой мы ее не видели.
Это свойство фотографии делать открытия полемически именуется реализмом. От идеи Фокса Талбота, что камера дает «натуральные изображения», до возражений Беренис Эбботт против «пикториальной» фотографии и, наконец, предостережения Картье-Брессона, что «больше всего надо бояться искусственно сочиненного», большинство противоречивых деклараций фотографов сходятся на благочестивом уважении к вещам, как они есть. При том что фотографию и так считают обычно делом реалистическим, зачем, казалось бы, фотографам все время призывать друг друга к реализму? Но призывы продолжаются – еще один показатель того, что фотографы испытывают потребность представить процесс, с помощью которого они присваивают мир, чем-то таинственным и внутренне необходимым.
Из утверждений Эбботт, что реализм – самое сущность фотографии, отнюдь не следует, что один какой-нибудь метод или мерило имеют превосходство над другими, что фотодокументы (по ее выражению) лучше, чем пикториальные фотографии [20] . Реализм фотографии приемлет любой стиль, любой подход к сюжету. Иногда его определяют узко – как создание изображений, сходных с миром и информирующих о нем.
В более широком понимании, утвердившемся в живописи 100 с лишним лет назад, фотографический реализм не сводится к простому подобию и может означать не то, что «реально» есть там , а то, что я «реально» воспринимаю. И если все современные искусства претендуют на некие привилегированные отношения с реальностью, эти претензии, вероятно, наиболее обоснованы в случае фотографии. Однако фотография не более чем живопись защищена от характерных для нашего времени сомнений в возможности прямой связи с реальностью – от неспособности принять наблюдаемый мир как данность. Даже Эбботт вынуждена предположить, что сама природа реальности изменилась: что она нуждается в избирательном, более остром взгляде камеры, поскольку ее стало гораздо больше, чем прежде. «Сегодня мы стоим перед реальностью громаднейших масштабов, каких еще не знало человечество, – заявляет она, – и это возлагает на фотографа особую ответственность».
Программа реализма фотографии подразумевает одно: убеждение, что реальность скрыта. Раз скрыта, ее надо обнажить. Все, что фиксирует камера, есть раскрытие – будь то неуловимые, мимолетные фазы движения, порядок которого не способен обнаружить невооруженный глаз, или «усиленная реальность» (выражение Мохой-Надя), или просто эллиптический способ видения. То, что Стиглиц описывает как «терпеливое ожидание момента равновесия», так же предполагает сокровенность реального, как ожидание момента, выдающего неравновесие, у Роберта Франка, который стремился поймать реальность врасплох, в «промежуточные моменты» – по его выражению.
С фотографической точки зрения показать что-нибудь, что угодно – значит показать, что оно скрыто. Но фотографы вовсе не считают обязательным увязывать эту таинственность с экзотическими или поразительными. Когда Доротея Ланж убеждает коллег сосредоточиться на «знакомом», надо понимать, что знакомое, преображенное чувствительным зрением камеры, исполняется таинственности. Неразрывность с реализмом не ограничивает фотографию определенными сюжетами, будто бы более реальными, чем другие, но иллюстрирует формалистское понимание того, что происходит в каждом произведении искусства: «остранение», как назвал это Виктор Шкловский. Требуется агрессивное отношение ко всем сюжетам. Вооруженные своими машинами, фотографы должны атаковать действительность, которая представляется непокорной, лишь обманчиво доступной, нереальной. «Для меня фотографии обладают реальностью, которой лишены люди, – провозгласил Аведон. – Я людей узнаю через фотографии». Утверждение, что фотография должна быть реалистична, не отрицает наличия открывающегося разрыва между изображением и реальностью, когда таинственно обретенное знание (и разрастание реальности), родившееся из фотографий, говорит о предшествовавшем отчуждении от реальности или ее девальвации.
Фотографы описывают свою работу и как бесчисленное множество приемов освоения объективного мира, и как неизбежно солипсистское выражение отдельного «я». Фотографии изображают уже существующие реалии, но раскрыть их может только камера. В то же время они отражают индивидуальный характер, открывающий себя через селективную работу камеры. Для Мохой-Надя гений фотографии заключается в ее способности дать «объективный портрет: так сфотографировать индивидуума, чтобы фотографический результат не был замутнен субъективным намерением». Для Ланж каждый портрет другого человека – «автопортрет» фотографа. Так же и для Майнора Уайта – «открытие себя посредством камеры», и фотографии ландшафтов на самом деле – «внутренние ландшафты». Эти два идеала противоположны. Если фотография обращена к миру, фотограф мало значит, но если она – орудие бесстрашной вопрошающей субъективности, фотограф – это всё.
Требование Мохой-Надя, чтобы сам фотограф держался в тени, происходит из его веры в наставническую силу фотографии: она поддерживает и совершенствует нашу наблюдательность, она приводит к «психологической трансформации нашего зрения». (В статье, опубликованной в 1936 году, он пишет, что фотография создает и развивает восемь особых типов видения: абстрактное, точное, быстрое, медленное, усиленное, сквозное, одновременное и искаженное.) Но требование, чтобы фотограф ушел в тень, может проистекать из совсем другого, антинаучного подхода к фотографии, выраженного, например, в формуле Роберта Франка: «Есть одно качество, которым должна обладать фотография, – человечность момента». В обоих случаях фотографу предлагается быть идеальным наблюдателем: у Мохой-Надя – смотреть беспристрастно, глазами исследователя, у Франка – смотреть «просто, как бы глазами обыкновенного человека».
Представление о фотографе как об идеальном наблюдателе – бесстрастном ли (у Мохой-Надя) или дружелюбном (у Франка) – привлекательно тем, что оно неявно отрицает агрессивный характер фотографирования. А поскольку его можно воспринимать так, большинство профессионалов вынуждены энергично оправдываться. Картье-Брессон и Аведон принадлежат к числу немногих, кто честно (хоть и с сожалением) говорил об эксплуататорском аспекте деятельности фотографа. Обычно же фотографы считают необходимым доказывать невинность фотографии и утверждают, что хищническое отношение несовместимо с хорошим результатом, надеясь, что более позитивный лексикон сам по себе подтвердит их правоту. Один из памятных примеров такой риторики – высказывание Ансела Адамса о том, что камера – «инструмент любви и откровения». Адамс также настаивает, чтобы мы не говорили «снимать», а всегда говорили «делать» фотографии. Стиглиц назвал свои фотографии облаков, сделанные в конце 1920-х, эквивалентами, то есть отражениями его собственных чувств, – это еще один более трезвый пример того, как фотографы отстаивают благожелательность своего занятия и не учитывают его хищническую составляющую. Работу талантливых фотографов, конечно, нельзя оценивать как чисто хищническую или, по существу, благожелательную. Фотография – это парадигма неопределенной связи между личностью и миром: ее вариант идеологии реализма иногда диктует самоустранение «я» в отношениях с миром, а иногда агрессивное отношение к миру, выдвигающее «я» на первый план. То одну сторону этой связи, то другую постоянно открывают заново и отстаивают.
Сосуществование этих двух идеалов – наступления на реальность и подчинения ей – имело результатом амбивалентность в отношении к средствам фотографии. Как бы ни стремилась фотография быть формой самовыражения наравне с живописью, ясно, что оригинальность в ней решительно зависит от возможностей машины – никто не станет отрицать, что информативность и формальная красота многих фотографий были достигнуты благодаря усовершенствованию техники: таковы высокоскоростные снимки пули, попадающей в мишень, и «вихря» ракеток при ударе по теннисному мячу, сделанные Гарольдом Эджертоном, или эндоскопические фотографии человеческих внутренностей у Ленарта Нильссона. Между тем как орудия фотографа становятся все более сложными, автоматизированными и зоркими, некоторые мастера испытывают искушение разоружиться или заявить, что не вооружены по-настоящему, и предпочитают оперировать в границах, дозволяемых устарелой техникой, полагая, что более примитивный аппарат дает более интересные или выразительные результаты и оставляет больше места для творческой случайности. Отказ от мудреного оборудования был делом чести для многих фотографов, в том числе для Уэстона, Брандта, Эванса, Картье-Брессона, Франка. Некоторые из них оставались верны своим потертым простым аппаратам и объективам с малой светосилой, приобретенным в начале деятельности, а кое-кто продолжал делать контактные отпечатки, имея под рукой только бутылку проявителя, несколько ванночек и бутылку с гипосульфитом.
Камера – на самом деле устройство «быстрого зрения», как сказал в 1918 году убежденный модернист Алвин Лэнгдон Коберн, вторя футуристским прославлениям машины и скорости. О нынешних сомнениях в среде фотографов можно судить по недавнему высказыванию Картье-Брессона в том смысле, что зрение это, возможно, чересчур быстрое. Культ будущего (все более и более быстрого зрения) чередуется с попытками вернуться к ремесленным, более чистым временам, когда на изображении лежала печать ручной работы и у него была аура. Под сегодняшним увлечением дагерротипами, стереоскопическими открытками, фотографическими визитными карточками, семейными снимками, произведениями забытых провинциальных и коммерческих фотографов конца XIX – начала XX века кроется ностальгия по некоему девственному прошлому фотографии.
Но отказ от новейшей, совершенной техники – не единственное и даже не самое интересное проявление тяги фотографов к прошлому. Жажде опрощения, формирующей современные фотографические вкусы, как раз способствуют беспрерывные технические новации. Многие новшества не только увеличивают возможности камеры, но и возвращают (в более совершенном, менее неуклюжем виде) к ранним, отброшенным вариантам развития. Начало фотографии ознаменовалось переходом от дагерротипии, прямого получения позитива на металлической пластинке, к негативно-позитивному процессу, когда с оригинала (негатива) можно получить неограниченное количество отпечатков (позитивов). (Оба процесса были изобретены одновременно в конце 1830-х годов, но изобретение Дагерра в 1839 году было поддержано правительством и сопровождалось шумной рекламой в отличие от изобретенного Фоксом Талботом негативно-позитивного процесса – первого фотографического процесса, получившего широкое распространение.) Но сейчас камера, так сказать, оглядывается на себя. «Полароид» возродил принцип дагерротипии: каждый позитив существует в единственном числе. Голограмму (трехмерное изображение, создаваемое светом лазера) можно рассматривать как родственницу гелиограмм – первых фотографий без камеры, сделанных Нисефором Ньепсом в 1820-х годах. А слайды – изображения, которые бессмысленно демонстрировать все время или хранить в бумажниках и альбомах, а надо проецировать на стены или на бумагу (как вспомогательное средство для рисования), вообще отсылают нас к доисторической фотографии – камере-обскуре, отчасти выполнявшей такие же функции.
«История подталкивает нас к краю реализма», – сообщает Эбботт и предлагает фотографам спрыгнуть добровольно. И хотя фотографы постоянно призывают друг друга быть смелее, сомнения насчет ценности реализма остаются и заставляют фотографов колебаться между простотой и иронией, необходимостью контроля и культивированием неожиданности, между желанием полностью использовать эволюцию техники и попытками изобрести фотографию заново. Кажется, что у фотографов время от времени возникает потребность забыть свои знания и вернуться к работе ощупью.Вопросы касательно знания – исторически не первая линия обороны фотографии. Самые ранние дискуссии разворачивались вокруг того, является ли фотография с ее верностью внешнему и зависимостью от механизма высоким искусством – в отличие от искусства практического, отрасли науки и ремесла. (Что фотография дает полезную, часто поразительную информацию, было ясно с самого начала. Фотографы стали беспокоиться насчет своих знаний и о том, какого рода знания дает фотография, лишь после того как она была признана искусством.) Около 100 лет защита фотографии сводилась к борьбе за то, чтобы утвердить ее как изобразительное искусство. На обвинения, что фотография есть бездушное, механическое копирование реальности, фотографы отвечали, что она в авангарде бунта против привычного взгляда на мир и не менее ценное искусство, чем живопись.
Сегодня фотографы избирательнее в своих претензиях. Поскольку фотография стала вполне респектабельным видом изящных искусств, ей уже не надо искать приюта под их сенью (который она время от времени получала). На всех значительных американских фотографов, которые гордо отождествляют свои задачи с задачами искусства (Стиглиц, Уайт, Сискинд, Каллахан, Ланж, Лофлин), приходится гораздо больше таких, кто вообще отвергает этот вопрос. Дает или нет камера «результаты, которые подпадают под категорию Искусства, – не имеет значения», – писал в 1920-х годах Стрэнд; а Мохой-Надь заявил: «Совершенно не важно, производит ли фотография “искусство” или нет». Фотографы, достигшие зрелости в 1940-е годы или позже, – еще смелее, они отмахиваются от искусства, приравнивая его к манерности. Они готовы утверждать, что находят, фиксируют, беспристрастно наблюдают, свидетельствуют, исследуют – что угодно, только не то, что занимаются искусством. Поначалу причиной амбивалентных отношений фотографии с искусством была привязанность ее к реализму, теперь – ее модернистское наследие. Значительные фотографы больше не желают рассуждать, является ли фотография искусством, а только заявляют, что их работа с искусством не связана. Это показывает, до какой степени они считают бесспорной концепцию искусства, воцарившуюся благодаря победе модернизма: чем лучше искусство, тем решительнее оно опровергает традиционные цели искусства. И модернистским вкусам вполне отвечала эта непретенциозная деятельность, почти вопреки себе воспринимаемая как высокое искусство.
Даже в XIX веке, когда считалось, что фотографию надо защищать как изобразительное искусство, линия защиты была отнюдь не постоянной. За утверждением Джулии Маргарет Камерон, что фотография – искусство, поскольку она, как живопись, ищет прекрасное, последовал оскаруайлдовский тезис Генри Робинсона, что фотография – искусство, поскольку она может лгать. В начале XX века Алвин Лэнгдон Коберн назвал фотографию «самым современным из искусств», потому что она – быстрый и объективный способ видения. Уэстон же, напротив, восхвалял ее как новый способ индивидуального визуального творчества. В последние десятилетия вопрос о принадлежности фотографии к искусствам был исчерпан как предмет полемики. Больше того: громадный престиж фотографии как искусства сложился в значительной мере благодаря декларациям двойственности в этом вопросе. Теперь, когда фотографы отрицают, что создают произведения искусства, они думают, что занимаются чем-то лучшим. Это их отречение говорит о смуте в определениях искусства больше, чем о том, является ли им фотография или нет.
Несмотря на все старания современных фотографов изгнать призрак искусства, удается это не вполне. Например, когда профессионалы возражают против того, чтобы их фотографии печатались на краю страницы книги или журнала, они ориентируются на модель, унаследованную от другого искусства. Картине полагается быть в раме, так же и фотографию должны окружать белые поля. Другой пример: многие фотографы предпочитают черно-белые изображения, считая их более тактичными, более благородными, чем цветные, – или менее вуайеристскими, менее сентиментальными, менее грубыми в своем жизнеподобии. Но настоящая причина такой привязанности опять-таки кроется в невысказанном сравнении с живописью. Во вступлении к своей книге фотографий «Решающий момент» (1952) Картье-Брессон объяснял личное нежелание использовать цвет техническими причинами: цветная пленка малочувствительна и потому ограничивает глубину резкости. Но быстрый прогресс в технологии цветных фотоматериалов за последние 20 лет обеспечил высокое разрешение и тонкость тональных переходов, и Картье-Брессону пришлось прибегнуть к другому аргументу: он предлагает фотографам отказаться от цвета принципиально. В его версии мифа, сопровождавшего всю жизнь фотографии, – мифа, согласно которому ее территория и территория живописи разделены, – цвет принадлежит живописи. Он предписывает фотографам не поддаваться соблазну и оставаться на своей территории.
Те, кто все еще занят защитой фотографии как искусства, всегда стараются удержать какую-то линию обороны. Но удержать ее невозможно: всякая попытка ограничить фотографию определенными сюжетами или методами, пусть и доказавшими свою плодотворность, будет оспорена и потерпит неудачу. Потому что природе фотографии присуща всеядность, и в талантливых руках она представляет собой безотказное орудие творчества. (Как заметил Джон Жарковски, «умелый фотограф может хорошо сфотографировать что угодно».) Отсюда ее давний раздор с искусством, который (до недавних пор) означал, что избирательный или пуристский способ смотреть на мир и выразительные средства, подчиненные нормам, редко приводят к подлинным достижениям. Понятно, что фотографы неохотно отказываются от попыток дать более конкретное определение тому, что такое хорошая фотография. История фотографии отмечена целым рядом двусторонних дискуссий – например, простой отпечаток или манипулирование при печати, пикториальная фотография или документальная фотография, – и у всех них в подтексте спор об отношении фотографии к искусству: насколько она может быть близка к нему, сохраняя свои претензии на неограниченный кругозор. Последнее время принято говорить, что эти дискуссии уже не актуальны, то есть споры, видимо, разрешились. Но защита фотографии как искусства вряд ли когда-нибудь прекратится. Пока фотография материализует не только всепожирающее зрение, но и такое, которое претендует быть особым, специфическим, фотографы не перестанут искать пристанища (пусть и украдкой) на оскверненной, но все еще престижной территории искусств. Фотографы, полагающие, что, делая снимки, они уходят от искусства, представленного, например, живописью, напоминают нам тех абстрактных экспрессионистов, которые воображали, что уходят от искусства – или Искусства – в самом акте письма (то есть обращаясь с холстом как с полем деятельности, а не как с объектом). И престиж фотографии как искусства, завоеванный ею в последнее время, в значительной степени основан на том, что ее претензии сходятся с претензиями новейшей живописи и скульптуры [21] . Неутолимый интерес к фотографии в 1970-е годы свидетельствует не только об удовольствии от знакомства с искусством, которому уделялось сравнительно мало внимания, в значительной мере эта страсть происходит из желания отстраниться от абстрактного искусства, сильно влиявшего на массовые вкусы в 1960-е годы. Фотография является большим облегчением для восприятия, уставшего от умственных усилий (или избегающего их), которых требует абстрактное искусство. Модернистская живопись предполагает высокоразвитое умение смотреть, а также основательное знакомство с другим искусством и некоторое представление о его истории. Фотография, как и поп-арт, уверяет зрителя: искусство – это не трудно; она как будто бы больше о сюжетах, чем об искусстве.
Фотография – самый успешный носитель модернистского вкуса в массовом варианте с его стараниями развенчать высокую культуру прошлого (сосредоточившись на обрывках, мусоре, всякой всячине, ничем не пренебрегая), его сознательным заигрыванием с вульгарностью, его умением примирить авангардистские амбиции с коммерческими дивидендами, с его псевдорадикальной снисходительностью к искусству как явлению реакционному, элитистскому, снобистскому, неискреннему, манерному, далекому от правды повседневной жизни, с его превращением искусства в культурный документ. В то же время фотографии постепенно передаются тревоги и смущение модернистского искусства. Сегодня многие профессионалы обеспокоены тем, что эта популистская стратегия зашла слишком далеко и публика забудет, что фотография все-таки благородное и возвышенное занятие – короче, искусство. Ибо модернистское продвижение наивного искусства всегда содержит одну оговорку: чтобы уважалась его собственная скрытая претензия на изощренность.Не случайно, что, когда фотографы перестали обсуждать, является ли фотография искусством, публика признала ее таковым – и фотография большими силами двинулась в музей. Натурализация фотографии в художественном музее есть окончательная победа столетней кампании, которую вели модернисты за то, чтобы стереть границы в определении искусства, ибо для этого наступления фотография была гораздо более удобной территорией, нежели живопись. Потому что разделительную линию между любителем и профессионалом, между примитивным и изощренным в фотографии не просто труднее провести, чем в живописи, – в ней мало смысла. Наивная, или коммерческая, или утилитарная фотография и фотография самых одаренных профессионалов – одной породы. Снимки безымянных любителей бывают так же интересны, сложны формально, так же показательны в смысле возможностей фотографии, как произведения Стиглица или Эванса. Предположение, что все виды фотографии принадлежат к непрерывной, внутренне связанной традиции, когда-то казавшееся слишком смелым, теперь представляется самоочевидным, определяет современные фотографические вкусы и допускает неограниченное их расширение. Правдоподобным же оно стало только тогда, когда фотографией заинтересовались кураторы и историки и ее стали регулярно выставлять в музеях и галереях. Музей не отдает предпочтения одному какому-то стилю. Он представляет фотографию как собрание параллельных стилей и задач, сколь угодно различных, но не воспринимаемых как взаимно противоречащие. Эта деятельность музеев имела огромный успех у публики, реакция же самих профессиональных фотографов была неоднозначной. Новообретенная легитимность фотографии не могла их не радовать. С другой стороны, они видели угрозу в том, что самые художественные изображения обсуждаются в одном ряду со всеми другими типами изображений – от фотожурналистики до научной фотографии и семейных снимков. Это якобы низводит фотографию до чего-то тривиального, вульгарного, до обыкновенного ремесла.
Но подлинная проблема с включением функциональных фотографий (то есть сделанных для практических целей, коммерческих надобностей или просто на память) в общий корпус фотографических достижений не в том, что это принижает фотографию, рассматриваемую как искусство, а в том, что эта практика противоречит природе большинства фотографий. В большинстве случаев камера используется для создания фотографий преимущественно наивного или дескриптивного характера. Но в новом контексте, в музейной или галерейной экспозиции они перестают быть фотографиями «о» сюжетах в прямом или первичном смысле, они становятся исследованием возможностей фотографии. Поселившись в музее, фотография сама начинает казаться проблематичной – в том смысле, как это ощущали очень немногие рефлектирующие мастера, в чьих работах именно ставился вопрос о способности камеры отразить действительность. Эклектические музейные коллекции подчеркивают произвольность, субъективность всех фотографий, включая явно дескриптивные.
Выставки фотографий в музеях стали таким же типичным мероприятием, как персональные выставки художников. Но фотограф отличается от художника, даже во многих серьезных съемках у него роль второго плана, а при обычном фотографировании – почти несущественна. Постольку, поскольку нас интересует объект фотографии, мы ожидаем, что фотограф не будет выпячивать себя. Так, успех фотожурналистики предопределяется тем, что работу одного классного фотографа трудно отличить от работы другого – за исключением тех случаев, когда кто-нибудь из них монополизировал какую-то тему. Сила этих фотографий – в изображениях (или копиях) мира, а не в сознании индивидуального художника. В подавляющем большинстве фотографий, сделанных прессой, военными, полицией либо в семьях, или научного и промышленного назначения любой след индивидуальности того, кто стоял за камерой, противоречит основному требованию к снимку: чтобы он был документом, диагнозом, информацией.
Подпись художника на полотне – естественная вещь, на фотографии – нет (если она есть, это выглядит дурным вкусом). Из самой природы фотографии вытекает двусмысленность положения фотографа как автора , и чем больше работ у талантливого фотографа, чем они разнообразнее, тем больше его авторство кажется корпоративным, а не индивидуальным. Многие опубликованные фотографии выдающихся мастеров, кажется, могли бы быть сделаны другим талантливым профессионалом того же периода. Чтобы работа была легко узнаваема, требуется либо формальное упрямство (как у Тодда Уокера с его соляризованными фотографиями или у Дуэйна Майкелса с его повествовательными последовательностями снимков), либо одержимость одной темой (обнаженной мужской натурой у Икинса или Старым Югом у Лофлина). У фотографов, которые не так себя ограничивают, корпус работ не обладает той цельностью, какая свойственна работам художников в других видах искусства при таком же приблизительно разнообразии. Даже у тех, кто круто менял свой стиль от периода к периоду – вспомним Пикассо, Стравинского, – можно ощутить единство задач, не отменяемое переменами, и увидеть (ретроспективно) внутреннюю связь одного периода с другим. Зная все, созданное композитором, можно понять, как один и тот же человек написал «Весну священную», концерт «Думбартон-Окс» и поздние сочинения в серийной технике; руку Стравинского узнаешь во всех этих произведениях. Но нет никаких внутренних оснований для того, чтобы опознать почерк одного фотографа (притом одного из самых интересных и оригинальных) в исследовании движений человека и животного, в документах, привезенных из фотоэкспедиций в Центральную Америку, в обзорах Аляски и Йосемити, субсидированных правительством, и в сериях «Облака» и «Деревья». Даже зная, что все это снято Майбриджем, невозможно связать эти серии одну с другой (хотя каждая отмечена единым, узнаваемым стилем). Точно так же по фотографиям деревьев, сделанным Атже, нельзя узнать его руку в снимках парижских витрин или связать довоенные портреты польских евреев у Романа Вишняка с его же научными микрофотографиями, которыми он занялся в 1945 году. В фотографии сюжет всегда выходит на первый план, и разные сюжеты создают непреодолимые разрывы между периодами в общей массе работ – отрицая подпись.
Больше того: наличие единого фотографического стиля – взять хотя бы белый фон и плоское освещение в портретах Аведона или отчетливую гризайль в парижских уличных этюдах Атже – указывает на единство материала. И сюжет, по-видимому, играет главную роль в формировании зрительских предпочтений. Даже когда фотографии вырваны из практического контекста, где они были сделаны, и рассматриваются как произведения искусства, одну фотографию редко предпочитают другой по причине формального превосходства – просто зрителю больше по душе ее настроение, или он уважает намерение мастера, или заинтригован темой, или она вызывает у него ностальгию. Оценки фотографии с точки зрения формы не могут объяснить воздействия того, что было снято, а также почему удаленность во времени и культурная отдаленность от фотографии увеличивают наш к ней интерес.
И все же представляется логичным, что современные фотографические вкусы приобрели по большей части формалистическую направленность. Хотя естественный или наивный статус сюжета в фотографии более прочен, чем в других изобразительных искусствах, само многообразие ситуаций, в которых фотографии предстают перед зрителями, осложняет и в конце концов ослабляет первенствующую роль сюжета. Конфликт интересов между объективностью и субъективностью, между явленным и предполагаемым неразрешим. Хотя воздействие фотоснимка всегда будет зависеть от отношения к сюжету (от того, что это фотография чего-то ), все претензии на то, чтобы фотография принадлежала к искусствам, должны упирать на субъективность видения. В эстетических оценках отдельной фотографии всегда кроется неопределенность, и это объясняет оборонительный характер и крайнюю переменчивость фотографических вкусов.
Недолгое время – скажем, со Стиглица и в период царствования Уэстона – казалось, что выработана твердая точка зрения для оценки фотографии: безупречное освещение, мастерство композиции, ясность сюжета, точность фокусировки, совершенство отпечатка. Но эта позиция, которую принято связывать с Уэстоном, – в сущности, технические критерии качества фотографии – обанкротилась. (О ее ограниченности свидетельствует хотя бы отзыв Уэстона о замечательном Атже – «слабый техник».) Какой взгляд пришел ей на смену? Гораздо более широкий, с критериями, которые переносят акцент с оценки отдельного снимка, рассматриваемого как законченный объект, на снимок, рассматриваемый как пример «фотографического видения». В том, что понимается под фотографическим видением, есть место и для произведений Уэстона, и для множества анонимных, скромных, с грубым освещением, плохо скомпонованных фотографий, прежде отвергавшимся именно из-за этого. Новая точка зрения освобождает фотографию как искусство от ограничительных норм технического совершенства – но так же и от красоты. Она открывает дорогу всеобъемлющему вкусу, когда ни один сюжет (или отсутствие сюжета), никакой технический прием (или отсутствие технического приема) не могут быть приговором фотоснимку.
Хотя в принципе любой сюжет является достойным поводом для того, чтобы быть увиденным фотографически, сложилось мнение, что фотографическое видение отчетливее всего проявляется на причудливых или тривиальных сюжетах. Сюжеты выбираются потому, что они скучны или банальны. Поскольку мы к ним равнодушны, на них лучше всего проявляется способность камеры «увидеть». Когда Ирвингу Пенну, известному своими красивыми фотографиями знаменитостей и пищи для журналов моды и рекламных агентств, устроили выставку в Музее современного искусства в 1975 году, там была только серия фотографий окурков, снятых крупным планом. По этому поводу директор отдела фотографий музея Джон Жарковски выразился так: «Можно предположить, что [Пенн] редко испытывал более чем поверхностный интерес к номинальным сюжетам своих снимков». А другого фотографа похвалил за то, сколько тот умеет «извлечь из сюжета» «глубоко банального». Прописка фотографии в музеях прочно ассоциируется теперь с этими красивыми модернистскими формулами: «номинальный сюжет» и «глубоко банальное». Но при таком подходе не только уменьшается роль сюжета, а еще и расшатывается связь фотоснимка с конкретным фотографом. Фотографический способ видения нельзя исчерпывающе проиллюстрировать множеством персональных фотовыставок и ретроспектив, устраиваемых музеями. Чтобы быть узаконенной как искусство, фотография должна культивировать представление о фотографе как об авторе и обо всех снимках, сделанных одним мастером, как о едином целом. Такая трактовка больше подходит, скажем, Ман Рэю, который распространил свои принципы и стиль и на фотографию, и на живопись, чем Стейхену, занимавшемуся абстракцией, портретами, рекламой потребительских товаров, фотографией для журналов моды и разведывательной аэрофотосъемкой (во время службы на обеих мировых войнах). Но значения, которые приобретает снимок, рассматриваемый как часть всего корпуса работ одного мастера, не особенно существенны, когда критерием является фотографическое зрение. Для последнего важнее новые значения, которыми наполняется любая фотография при сопоставлении – в идеальных антологиях, либо на стенах музея, либо в книгах – с работами других фотографов.
Такие антологии имеют целью воспитать фотографический вкус вообще, научить такому зрению, для которого все сюжеты равноценны. Когда Жарковски описывает заправочные станции, пустые гостиные и другие унылые объекты как «системы случайных фактов на службе воображения [фотографа]», он имеет в виду, что эти сюжеты идеальны для камеры. Якобы формальные, нейтральные критерии фотографического видения на самом деле решительно оценочны в отношении сюжета и стиля. Переоценка наивных и непродуманных фотографий XIX века, в частности, сделанных со скромной целью что-то зафиксировать, отчасти объясняется их жестким рисунком – педагогическим коррективом «пикториального» мягкого рисунка, который со времен Камерон и до Стиглица ассоциировался с претензиями фотографии на статус искусства. Однако жесткий рисунок вовсе не является обязательной нормой фотографического видения. Как только сочтут, что фотография очистилась от отживших отношений с искусством, от миловидности, вполне может вернуться вкус к пикториальной фотографии, к абстракции, к возвышенным сюжетам вместо окурков, заправочных станций и людских спин.
Язык, на котором обычно оценивают фотографии, чрезвычайно скуден. Иногда он паразитирует на лексиконе живописи: композиция, свет и т. д. А чаще это суждения самого расплывчатого характера, когда фотографии хвалят за то, что они тонкие, или интересные, или впечатляющие, или сложные, или простые, или – излюбленное – обманчиво простые.
Бедность этого языка не случайна: дело не в том, что отсутствует богатая традиция фотографической критики. Причина в самой фотографии, когда к ней подходят как к искусству. Фотография предлагает процесс воображения иной, чем живопись (по крайней мере в традиционном ее понимании), и апеллирует к другому вкусу. В самом деле, различие между хорошей фотографией и плохой совсем не такое, как между хорошей картиной и плохой. Эстетические оценки живописи основаны на критериях подлинности и мастерства – критериях, менее строгих в фотографии или вообще к ней не применимых. Позиция знатока живописи предполагает соотнесение конкретной картины с остальными произведениями художника в совокупности, с различными школами и иконографическими традициями, тогда как в фотографии совокупность работ фотографа необязательно обладает стилистическим единством, а его отношения с фотографическими школами имеют гораздо более поверхностный характер.
Один из критериев, общих для оценки живописи и фотографии, – новаторство. И ту и другую часто ценят за то, что утвердили новую формальную схему или произвели перемену в визуальном языке. Другой критерий, который может быть общим, – это ощутимость присутствия, аура, которую Вальтер Беньямин считал решающей характеристикой произведения искусства. Беньямин полагал, что у фотографии, технически воспроизводимого предмета, не может быть подлинной ауры. Можно возразить, однако, что сама ситуация, сегодня определяющая вкусы в фотографии – ее показ в музеях и галереях, – выявила то, что снимки все же обладают некоторыми чертами подлинника. И хотя никакая фотография не может считаться оригиналом в том смысле, в каком им является картина, есть большая качественная разница между тем, что можно назвать оригиналами – отпечатками, сделанными с негатива в то же время, когда был сделан снимок (то есть на том же этапе технической эволюции фотографии), и последующими поколениями отпечатков. (В большинстве люди знают выдающиеся фотографии по книгам, газетам, журналам и т. д., а это – фотографии фотографий; оригиналы, которые скорее всего можно увидеть только в музее или галерее, доставляют удовольствие, какого нельзя получить от репродукции.) Результат технического воспроизведения, говорит Беньямин, «может перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную». Но если, допустим, о картине Джотто можно сказать, что она обладает аурой в музейной экспозиции, будучи вырвана из первоначального контекста и, подобно фотографии, «сделав движение навстречу публике» (хотя в строгом смысле, по Беньямину, она аурой не обладает), то с таким же успехом можно сказать, что обладает аурой фотография Атже, напечатанная им на бумаге, которая теперь не производится.
Истинное отличие ауры, которая может быть у фотографии, от ауры картины заключается в разных отношениях со временем. На картину время действует разрушительно. А фотографии интересны отчасти благодаря превращению, которое совершает над ними время, и они таким образом уходят от намерений фотографа; в этом – важная составляющая их эстетической ценности. Со временем многие фотографии все же приобретают ауру. (Маргинальный статус, в котором пребывали до последнего времени цветные фотографии, возможно, объясняется еще и тем, что они стареют иначе, чем черно-белые. Холодная схожесть цвета как будто бы не дает образоваться патине.) Если картины и стихотворения не становятся лучше или увлекательнее только от того, что они постарели, то все фотографии, наоборот, интересны и трогательны, когда они достаточно стары. Не будет большой ошибкой сказать, что нет такой вещи, как плохая фотография, – есть только менее интересные, менее существенные, менее таинственные. Прописка фотографии в музее лишь ускоряет воздействие времени, придающего любому снимку ценность.
Роль музея в формировании современного фотографического вкуса невозможно переоценить. Музеи не столько решают, хороши фотографии или плохи, сколько предлагают новые условия для восприятия всех фотографий. Казалось бы, они вырабатывают нормы оценки, но на самом деле они их отменяют. Нельзя сказать, что музей создал канон фотографических произведений прошлого, как это было с живописью. Даже когда кажется, что музей утверждает определенный фотографический вкус, на самом деле он подрывает саму идею нормативного вкуса. Роль его – показать, что нет устойчивых стандартов оценки, нет канонической традиции в этой области. Сама идея канонической традиции оказалась излишней благодаря гостеприимству музея.
Большая Традиция в фотографии пребывает в текучем состоянии и постоянно пересматривается не потому, что фотография – новое искусство и еще не устоялась; дело тут в самом фотографическом вкусе. В фотографии старое открывается заново в гораздо более быстрой последовательности, чем в других искусствах. Фотография отлично иллюстрирует закон вкуса, четко сформулированный Т.С. Элиотом: каждое новое значительное произведение заставляет нас по-новому воспринимать наследие прошлого. Новые фотографии меняют наш взгляд на прежние. (Например, творчество Дианы Арбус помогло нам лучше оценить замечательного Хайна, еще одного фотографа, запечатлевшего неочевидное достоинство обиженных судьбой.) Но сдвиги в современном фотографическом вкусе отражают не только такие логичные и последовательные переоценки, когда подобное подкрепляется подобным. Чаще они говорят о равноценности и взаимной дополнительности противоположных стилей и тем.
Несколько десятилетий в американской фотографии доминировала реакция против «уэстонизма», то есть против созерцательной фотографии, понимаемой как независимое визуальное исследование мира без явной социальной направленности. Техническому совершенству фотографий Уэстона, просчитанным красотам Уайта и Сискинда, поэтическим конструкциям Фредерика Соммера, самоуверенной иронии Картье-Брессона – всему этому противопоставила себя фотография (по крайней мере программно) более наивная, непосредственная, стилистически неопределенная, порой нескладная. Нисколько не подрывая нынешнюю приверженность к неформальной фотографии, заметно возрождается Уэстон. С течением времени его работы перестают казаться нетленными – расширилось определение наивности, которым оперирует фотографический вкус, и работа Уэстона тоже выглядит наивной.
И, наконец, нет оснований для того, чтобы исключать из канона какого бы то ни было фотографа. Сейчас происходят мини-возрождения давно презираемых пикториалистов, таких как Оскар Густав Рейландер, Генри Пич Робинсон и Роберт Демачи. Когда сюжетом фотографии становится весь мир, место найдется для любого вкуса. Литературный вкус разборчив: успех модернистского направления в поэзии вознес Донна и принизил Драйдена. В литературе можно быть эклектиком до определенного предела, но любить все нельзя. В фотографии эклектизм не имеет пределов. Простые фотографии брошенных детей, которых брали в сиротский дом под названием «Дом доктора Барнардо» в 1870-е годы (они считались «документами»), трогают так же, как сложные портреты шотландских знаменитостей, сделанные в 1840-х годах Дэвидом Октавиусом Хиллом (эти считались «художественными»). Классическую чистоту модернистского стиля Уэстона никак не опровергает, к примеру, пикториальная расплывчатость, остроумно воскрешенная Бенно Фридманом.
Этим не отрицается, что каждому зрителю больше по вкусу работа одних фотографов, чем работа других: например, большинство искушенных зрителей предпочитают Атже Уэстону. А значит это, что по природе фотографии, человек в принципе не обязан выбирать и что предпочтения такого рода идут в большинстве случаев от противного. Вкус в фотографии тяготеет – и, пожалуй, неизбежно – к глобальности, эклектизму, всеприятию, и это означает в итоге, что отвергается разница между хорошим вкусом и плохим. Вот почему все попытки фотографических полемистов установить канон представляются надуманными или невежественными. Есть что-то фальшивое во всех фотографических спорах – и это стало ясно в первую очередь благодаря заботам музеев. Музей уравнивает все школы фотографии. И даже говорить о школах нет особого смысла. В истории живописи направления – концепция жизненная и функциональная: зачастую художников можно гораздо лучше понять в контексте школы или направления, к которым они принадлежали. Но направления в фотографии мимолетны, возникают неожиданно, иногда они просто поверхностны, и ни один первоклассный фотограф не становится понятнее, если причислить его к группе. (Вспомним, например, Стиглица и «Фото-сецессион», Уэстона и «f64», Ренгера-Патча и «Новую вещественность», Уокера Эванса и проект Администрации по защите фермерских хозяйств, Картье-Брессона и «Магнум».) Объединять фотографов в школы – заблуждение, основанное (опять-таки) на живучей, но неизбежно натянутой аналогии между фотографией и живописью.
Ведущая роль музеев в формировании фотографического вкуса и прояснении его природы знаменует сегодня новый этап жизни фотографии, откуда уже нельзя повернуть назад. Подчеркнуто демонстрируя уважение к банальному, музеи одновременно пропагандируют исторический взгляд, воскрешая тем самым всю историю фотографии. Неудивительно, что критики фотографии и сами фотографы проявляют беспокойство. Под многими недавними рассуждениями в защиту фотографии кроется страх, что фотография – уже сенильное искусство, замусоренное тупиковыми или мертвыми направлениями, что из задач осталась только одна – кураторство и историография. (При том что цены на старые и новые фотографии взлетели до небес.) Неудивительно, что страхи эти возникли как раз тогда, когда фотография получила самое широкое признание, ибо триумф фотографии как искусства и над искусством так еще и не осознан в полной мере.Фотография явилась на свет выскочкой, сразу как будто бы потеснив почтенное искусство живописи. Бодлер счел ее «смертельным врагом» живописи. Но со временем было заключено перемирие, и в фотографии признали освободительницу живописи. Уэстон в 1930 году воспользовался самой распространенной формулой, чтобы успокоить встревоженных художников: «Фотография отсеяла или отсеет в конце концов большое количество живописи – за что художник должен быть глубоко благодарен». Освободившись от черного труда натуралистической изобразительности, живопись может устремиться к более высокой цели – абстракции [22] . В историях фотографии и в фотографической критике постоянно говорится об этом мифическом пакте, заключенном между фотографией и живописью, который позволил им решать свои разные, но одинаково важные задачи при взаимном творческом влиянии. На самом деле эта легенда сильно искажает историю и фотографии, и живописи. Фотографический способ фиксации внешнего мира открыл для художников новые схемы композиции и новые сюжеты, пробудив интерес к фрагменту, краткому эпизоду простой жизни, к быстротечности движения и световым эффектам. Живопись не столько обратилась к абстракции, сколько освоилась со взглядом камеры, сделавшись (по выражению Марио Праца) телескопической, микроскопической и фотоскопической по своей структуре. Но художники никогда не оставляли попыток имитировать натуралистические эффекты фотографии. А фотография вместо того, чтобы ограничиться натуралистическим изображением и предоставить абстракцию заботам художников, не отставала от живописи и усваивала все ее антинатуралистические достижения.
В более общем плане эта легенда не учитывает прожорливости фотографии. В отношениях между фотографией и живописью последнее слово всегда оставалось за фотографией. Не случайно, что художники от Делакруа и Тернера до Пикассо и Бэкона прибегали к фотографии как к вспомогательному средству, но никому не придет в голову, что фотография может призвать на помощь живопись. Фотографии могут быть включены или переписаны в картину (или в коллаж, или в ассамбляж), но фотография вбирает в свое нутро, объемлет собой само искусство. Знакомство с живописью, вероятно, поможет нам увидеть фотографии. Но фотография ослабила наше восприятие живописи. (Бодлер был прав в нескольких отношениях.) Никто никогда не считал, что литография или гравюра с картины – популярные в прошлом методы репродукции – впечатляют или приносят больше удовлетворения, чем сама картина. Но фотография, превращающая интересные фрагменты в самостоятельные композиции и подлинные цвета – в яркие, может доставить совсем другого рода удовольствие. Судьба увела фотографию далеко от той ограниченной роли, которую ей отводили вначале: более точно отображать реальность (в том числе произведения искусства). Фотография сама – реальность, реальный объект зачастую представляется ее бледным вариантом. Фотография делает нормой восприятие искусства из вторых рук, через посредника, тоже интенсивное, но по-своему. (Сожалеть о том, что для многих заменой картин стали их фотографии, не значит отстаивать некую мистику «оригинала», обращающегося к зрителю без посредника. Зрительное восприятие – сложный акт, и ни одна великая картина не донесет до зрителя своей ценности без той или иной его подготовки и обучения. Кроме того, люди, которым труднее увидеть оригинальное произведение искусства после того, как они видели его фотографическую копию, это скорее всего те, кто и в оригинале мало что увидел бы.)
Поскольку большинство произведений искусства (включая фотографии) известны теперь по фотографическим копиям, фотография и другие виды художественной деятельности, выстроенные по образцу фотографии, и вкусы, производные от фотографических, радикально преобразовали традиционные изобразительные искусства и традиционные нормы вкуса, включая саму идею произведения искусства. Произведение искусства все реже и реже представляет собой уникальный объект, оригинал, созданный индивидуальным художником. Сегодня в живописи наблюдается тенденция к созданию репродуцируемых объектов. И, наконец, фотография приобрела настолько важную роль в изобразительных искусствах, что создаются произведения специально для того, чтобы быть сфотографированными. Произведения многих концептуалистов, пейзажи и строения, упакованные Кристо, ленд-арт Уолтера Де Мария и Роберта Смитсона известны главным образом по фотографиям в галереях и музеях; иногда их размеры так велики, что и рассмотреть их можно только на фотографии (или с самолета). Такие фотографии даже теоретически не предполагают нашего обращения к оригиналу.
Фотографию сперва неохотно, а потом с энтузиазмом признали искусством, основываясь именно на этом предполагаемом перемирии между ней и живописью. Но сам вопрос о том, является ли она искусством, по сути, вводит в заблуждение. Хотя фотография рождает произведения, которые можно назвать художественными – в них есть субъективность, они могут лгать, они доставляют эстетическое удовольствие, – она прежде всего не вид искусства. Подобно языку, фотография – среда, в которой (среди прочего) создаются произведения искусства. В языке есть место научным рассуждениям, бюрократическим документам, любовным письмам, спискам съестных припасов и Парижу Бальзака. В фотографии – снимкам для паспорта, фотографиям погоды, порнографическим картинкам, рентгенограммам, свадебным снимкам и Парижу Атже. Фотография не искусство, как живопись и поэзия. Хотя деятельность некоторых фотографов согласуется с традиционным понятием изобразительного искусства, поскольку исключительно одаренные фотографы создают вещи, обладающие самостоятельной ценностью, фотография с самого начала способствовала такому представлению об искусстве, которое говорит, что искусство устарело. Воздействие фотографии – и ее центральное положение в нынешней эстетической проблематике – таково, что она подтверждает оба представления об искусстве. Но в конечном счете убедительнее подтверждает то, согласно которому искусство устарело.
Живопись и фотография – не конкурирующие изобразительные системы, которым достаточно поделить территорию, чтобы помириться. Фотография – предприятие другого порядка. Хотя сама она не вид искусства, у нее есть странное свойство превращать в произведения искусства все свои сюжеты. Вопрос о том, является фотография искусством или нет, снимается тем фактом, что она ставит перед искусствами новые цели. На своем примере она продемонстрировала направление, по которому движутся теперь и модернистское высокое искусство, и коммерческие искусства: превращение искусств в метаискусства или средства массовой коммуникации. (Такие отрасли, как кино, телевидение, видео, магнитофонная музыка Кейджа, Штокхаузена и Стива Райха, – суть логические расширения модели, которая сложилась в фотографии.) Традиционные изобразительные искусства элитарны: для них характерно одиночное произведение, созданное индивидуальным художником, они предполагают иерархию сюжетов, когда одни сюжеты считаются важными, глубокими, благородными, а другие – неважными, тривиальными, низкими. Средства массовой коммуникации демократичны: в них ослаблена роль создателя, автора (из-за того, что используются процессы, основанные на случайности, а производство имеет коллективный характер), а материалом для них служит весь мир. В традиционных изобразительных искусствах важны различия между подлинником и подделкой, оригиналом и копией, хорошим вкусом и плохим. В средствах массовой коммуникации эти различия смазаны, если не совсем отменены. В изобразительных искусствах предполагается, что определенные темы или восприятия нагружены смыслом. Средства массовой коммуникации в существе своем бессодержательны. (Эту истину и выражает знаменитое высказывание Маршалла Маклюэна «The medium is the message» [23] .) Их тон по преимуществу ироничен, невозмутим или пародиен. Это неизбежно, что все больше и больше искусства будет создаваться таким образом, чтобы конечным результатом стала фотография. Модернисту придется перефразировать изречение Патера, что все искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. Теперь все искусство стремится к тому, чтобы стать фотографией.Мир изображенийРеальность всегда интерпретировали через образы, и философы, начиная с Платона, пытались ослабить нашу зависимость от образов, отыскивая норму постижения реальности, не связанную с образными представлениями. Но в середине XIX века, когда такая норма казалась наконец достижимой, отступление старых религиозных и политических иллюзий под натиском гуманистической и научной мысли не привело – как ожидалось – к массовому переходу на сторону реального. Наоборот, новый век неверия укрепил привязанность к образам. Доверие, которого лишились реалии, понимаемые в форме образов, было оказано реалиям, понимаемым как сами образы, иллюзии. В предисловии ко второму изданию (1843) «Сущности христианства» Фейербах отмечает, что «наше время предпочитает образ самой вещи, копию – оригиналу, представление – действительности, видимость – сущности», причем сознательно. В XX веке его предостережение превратилось в популярный диагноз, согласно которому общество становится «современным», когда одно из главных его занятий – производство и потребление изображений, когда изображения, обладающие исключительной способностью определять наши требования к реальности и сами ставшие желанной заменой непосредственного опыта, жизненно необходимы для здоровья экономики, политической стабильности и стремления к счастью.
В словах Фейербаха – написанных через несколько лет после изобретения камеры – читается предчувствие революции, которую произвела фотография. Изображения, которые приобрели фактически безграничный авторитет в современном обществе, – это в основном фотографические изображения, и область, где действует этот авторитет, определяется особыми свойствами изображений, полученных с помощью камеры.
Такие изображения поистине способны узурпировать реальность, прежде всего потому, что фотоснимок не только изображение (в отличие от картины), интерпретация реальности; он также и след, прямо отпечатанный на реальности, – вроде следа ноги или посмертной маски. Тогда как картина, даже такая, которая отвечает фотографическим стандартам сходства, – всего лишь заявленная интерпретация, фотография, помимо всего, – зарегистрированное излучение (света, отраженного объектом), материальный остаток предмета, каким не может быть картина. Если вообразить, что Гольбейн Младший дожил до времен Шекспира, написал его портрет и камера была изобретена тогда же, большинство поклонников Барда предпочли бы его фотографию. И не потому только, что гипотетическая фотография показала бы, как на самом деле выглядел Шекспир – пусть это будет даже выцветшая, едва различимая, пожелтелая тень, – мы все равно, наверное, предпочли бы ее очередному шедевру Гольбейна. Получить фотографию Шекспира было бы все равно что получить гвоздь от Распятия.
Когда выказывают озабоченность тем, что мир изображений подменяет собой реальный мир, о чем говорил уже Фейербах, мы слышим в этом отголоски платоновской критики изображений: они правдивы постольку, поскольку имеют сходство с чем-то реальным, и фальшивы, поскольку это всего лишь сходство. Но в эпоху фотографии этот почтенный наивный реализм несколько уводит от сути, потому что прямое противопоставление изображения («копии») и изображаемой вещи («оригиналу»), которое Платон неоднократно иллюстрировал на примере картины, для фотографии не совсем подходит. К тому же оно не помогает понять истоки изобразительной деятельности, когда она имела практическую, магическую цель – чем-то овладеть или получить власть над чем-то. Как заметил Эрнст Гомбрих, чем дальше мы углубляемся в историю, тем менее четким становится различие между изображениями и реальными вещами; в первобытных обществах вещь и ее изображение были просто-напросто двумя разными, то есть физически отдельными, проявлениями одной и той же энергии духа. Отсюда предполагаемая действенность картинки в овладении и управлении могущественными реалиями. Эти силы, эти реалии присутствовали в изображениях.
Когда защитники реального – от Платона до Фейербаха – приравнивали изображение к видимости, то есть считали, что изображение абсолютно отличается от изображаемого предмета, это было частью общего процесса десакрализации. Он навсегда отделил нас от времен и мест, где верили, что изображение – составляющая реальности изображенного предмета. Оригинальность фотографии определяется тем, что в долгой истории живописи, приобретавшей все более светский характер, на том ее этапе, когда секуляризм окончательно восторжествовал, фотография возрождает – в чисто секулярном духе – что-то вроде первобытного статуса изображений. Под нашим непреодолимым чувством, что фотографический процесс имеет в себе что-то магическое, есть основания. Никто не считает картину и модель единой материальной сущностью; картина только представляет модель, отсылает к ней. А фотография не только похожа на объект, не только свидетельствует о нем. Она часть, продолжение объекта и мощное средство овладения им и управления.
Овладение через фотографию принимает разные формы. Простейшая – суррогатное обладание желанным человеком или вещью, оно сообщает фотографии некоторые характеристики уникального объекта. Через фотографии мы вступаем в потребительские отношения с событиями – и с теми, которые были частью нашего личного опыта, и с теми, которые не были. Потребительство такого рода образует привычку и затуманивает разницу между двумя этими видами опыта. Еще одна форма овладения – овладение информацией (а не опытом) через производство изображений и машинное их размножение. Роль фотографических изображений как средства, благодаря которому все больше и больше событий входит в наш опыт, в конце концов – всего лишь побочный продукт их активности как поставщиков знания, не связанного с пережитым.
Это – самая вместительная форма фотографического овладения. Будучи сфотографировано, нечто становится частью информационной системы и пригодно для классификации и хранения – от наклеенных в приблизительно хронологическом порядке снимков в семейных альбомах до методично собираемых коллекций и архивов, используемых для предсказания погоды, в астрономии, микробиологии, геологии, полицейской работе, медицинском обучении и диагностике, военной разведке и истории искусств. Фотография не только преображает содержание обычного опыта (того, что мы видим – пусть по-разному, зачастую невнимательно – своими глазами) и добавляет громадное количество материала, которого мы вообще не видим. Преображается реальность как таковая – становится экспонатом на выставке, документом для изучения, объектом слежки. Фотографическое исследование и дублирование мира дробят непрерывности и собирают отрывки в бесконечное досье, тем самым обеспечивая такие возможности контроля о каких нельзя было и мечтать при старом способе регистрации – письменном.
То, что фотография в потенции – средство контроля, было понято еще тогда, когда эти ее возможности находились в младенческом состоянии. В 1850 году Делакруа отмечал в дневнике успех неких «фотографических экспериментов» в Кембридже, где астрономы фотографировали Солнце и Луну и даже получили точечный снимок звезды Вега. Он добавил следующее «любопытное» соображение:
«Поскольку свету звезды, запечатленному на дагерротипе, понадобилось 20 лет, чтобы преодолеть расстояние от Земли, луч, зафиксированный на пластинке, покинул небесное тело задолго до того, как Дагерр открыл процесс, с помощью которого мы только что получили контроль над этим светом».
Оставив далеко позади такие скромные представления о контроле, прогресс в фотографии открывал все новые возможности контроля над фотографируемым объектом – и в гораздо более буквальном смысле. Техника позволила минимизировать зависимость размера и точности изображения от расстояния до объекта, дала возможность снимать предметы невообразимо далекие, как звезды, и невообразимо маленькие, сделала съемку независимой от самого света (инфракрасная фотография), освободила изображение от ограничений двухмерности (голография), сократила время от съемки до готового снимка (с первым «Кодаком» фотограф-любитель ждал несколько недель, чтобы получить проявленную пленку, а «Полароид» выдает фото через несколько секунд) и не только заставила изображение двигаться (кино), но сделала возможной одновременную запись и передачу (видео). Эта техника превратила фотографию в незаменимый инструмент для дешифровки и прогноза поведения – и воздействия на него.
Фотография обладает возможностями, немыслимыми у прежних изобразительных систем, потому что в отличие от них она не зависит от создателя изображения. Как бы старательно ни организовывал он процесс изображения, последний всегда остается оптико-химическим (или электронным) и происходит автоматически, и аппараты его постоянно совершенствуются для того, чтобы давать все более детальные, то есть полезные, карты реальности. Механическое рождение этих образов, оптическая точность, которой они наделены, приводят к новому соотношению реальности и изображения. И если можно сказать, что фотография восстанавливает самое примитивное соотношение – частичную идентичность образа и объекта, – теперь могущество образа воспринимается совсем иначе. Первобытное представление о действенности образов основано на том, что образ обладает свойствами реального предмета; мы же склонны приписывать реальным вещам свойства изображений.
Как известно, примитивные народы боятся, что камера украдет у них часть их существа. В мемуарах, опубликованных Надаром под конец очень долгой жизни (в 1900 году), он сообщает, что Бальзак испытывал подобный «смутный страх» перед фотографированием. Объяснял он это, по словам Надара, вот чем:
«Каждое тело в его естественном состоянии сложено из призрачных образов, бесконечного количества слоев, навернутых, как бесконечно тонкие оболочки… Человек никогда не мог создать, то есть сделать, нечто материальное из привидения, из чего-то неосязаемого или сделать из ничего предмет – поэтому каждая дагерровская операция захватывает, отделяет и расходует один из слоев тела, тот, на котором сфокусирована».
Кажется логичным, что у Бальзака были именно такие опасения. «Был ли страх Бальзака перед дагерротипом настоящим или наигранным? – спрашивает Надар. – Настоящим…» Да, поскольку процесс фотографирования – это, так сказать, материализация того, что есть самое оригинальное в его методе как романиста. Бальзаковская «операция» – увеличение мелких деталей, подобное фотоувеличению, сопоставление несовместимых черт или элементов, как на макете страницы с фотографиями: любая вещь может быть связана со всем остальным, приобретая выразительность. У Бальзака дух среды в целом может быть выражен одной материальной деталью. Целую жизнь можно резюмировать в одном кратком явлении внешности [24] . А перемена внешности – это перемена человека, потому что он отказывался постулировать «реального» человека, скрытого за этими внешностями. Жутковатая теория Бальзака, изложенная Надару, – что тело сложено из бесчисленных «призрачных образов», в чем-то схожа с будто бы реалистической теорией, просвечивающей в его романах: что человек – это совокупность внешних проявлений, которые при должной фокусировке могут открыть бесчисленные слои смысла. Рассматривать реальность как бесконечный ряд ситуаций, отражающих одна другую, извлекать аналогии из самых несхожих вещей – в этом угадывается характерная форма восприятия, сложившаяся позднее под влиянием фотографии. Саму реальность стали понимать как род письма, которое надо расшифровать, – и фотографии первое время сравнивали с записями. (Ньепс назвал свой процесс фиксации изображения на пластинке гелиографией – солнце-письмом. Фокс Талбот назвал камеру карандашом природы.)
Проблема с фейербаховским противопоставлением «копии» «оригиналу» в том, что изображение и реальность берутся в статике. Предполагается, что реальность остается неизменной и нетронутой, а изменились только изображения: подпираемые весьма шаткими претензиями на достоверность, они почему-то стали более соблазнительными. Но понятия реальности и изображения взаимно дополнительны. Когда меняется понятие реальности, меняется и понятие изображения – и наоборот. «Наша эпоха» предпочитает изображения реальным вещам по причине извращенности, а отчасти в ответ на то, как усложняется и ослабевает постепенно идея реального. На одном из ранних этапов это была критика реальности как фасада, родившаяся в среде просвещенного среднего класса в XIX веке. (Эффект ее был, конечно, противоположен намерению.) Низвести большие части того, что прежде считалось реальностью, в разряд фантазии, как это сделал Фейербах, назвав религию сном бодрствующего сознания и отвергнув теологические идеи как психологические проекции, или придать случайным и тривиальным деталям повседневной жизни значение шифров исторических и психологических сил, как Бальзак в своей романной энциклопедии социальной действительности, – это само по себе означает воспринимать реальность как ряд внешних проявлений, как изображение.
В нашем обществе немногие испытывают примитивный страх перед камерой, проистекающий из ощущения, что снимок – это материальная часть их существа. Но какие-то отголоски магии живы: например, нам трудно порвать или выбросить фотографию любимого человека, особенно если он умер или находится далеко. Это было бы жестокостью, жестом отречения. В «Джуде Незаметном», когда Джуд узнает, что Арабелла продала кленовую рамку с его фотографией, которую он подарил ей в день их свадьбы, для него это означает «окончательную смерть всякого чувства к нему» и «последний маленький удар, уничтоживший все чувства к ней». Но истинный современный примитивизм заключается не в том, что к изображению относятся как к реальной вещи, фотографические изображения едва ли настолько реальны. Напротив: реальность все больше и больше представляется похожей на то, что показывают камеры. Стало обычным, что люди, невольно ставшие участниками или свидетелями бурных событий – аварии самолета, перестрелки, террористического взрыва, – говорят: «Это было как в кино». Так пытаются объяснить за неимением лучших описаний, насколько это было реально.
Если в слаборазвитых странах люди все еще с неохотой фотографируются, ощущая в этом какое-то нарушение личных границ, неуважение, сублимированное покушение на личность или культуру, то люди в индустриальных странах желают, чтобы их фотографировали, – они ощущают себя образами, обретающими реальность в фотографиях.
Усложняющееся чувство реальности порождает компенсаторные страсти и упрощения, и самое привязчивое из них – фотографирование. Будто в ответ на непрерывно скудеющее чувство реальности, фотографы ищут подпитки – путешествуют в поисках новых переживаний, освежают старые. Их роение – самый радикальный и самый безопасный вариант мобильности. Тяга к новым переживаниям воплощается в тягу к фотографированию: опыт ищет форму, гарантированную от кризисов.
Так же как фотографировать почти обязательно для путешествующих, к коллекционированию фотографий особенно склонны те, кто – по собственному ли желанию, или по принуждению, или по состоянию здоровья – проводит жизнь в помещении. Коллекция фотографий может послужить заменой миру, может радовать, утешать, мучить. Фотография может стать отправной точкой романтической связи. (Джуд у Гарди влюбился в Сью Брайдхед по фотографии, еще до знакомства), но для эротических отношений более обычно не только начинаться с фотографий, но ими и ограничиваться. У Кокто в «Les Enfants Terribles» [25] сестра и брат, нарциссисты, делят свою спальню со снимками боксеров, кинозвезд и убийц. Замкнувшись в своей берлоге, чтобы проживать собственную легенду, два подростка развесили эти фотографии – личный пантеон. К стене камеры № 426 в тюрьме Френе, в начале 1940-х годов Жан Жене прилепил фотографии 20 преступников, вырезанные из газет, 20 лиц, в которых он разглядел «дьявольский знак монстра», в их честь написал «Богоматерь цветов». Они служили ему музами, моделями, эротическими талисманами. «Они определяют мои привычки, – сообщает Жене, предаваясь мечтаниям, мастурбации и писанию, – …служат мне и семьей, и единственными друзьями». Для домоседов, заключенных и затворников жизнь с фотографиями славных незнакомцев – сентиментальная реакция на одиночество и дерзкий вызов ему.
В романе Дж. Г. Балларда «Автокатастрофа» описан особый случай коллекционирования фотографий как проявления сексуальной одержимости: друг рассказчика Воэн собирает снимки автомобильных аварий, готовясь совершить самоубийство в такой аварии. От многократного рассматривания этих фотографий рождается эротическое видéние собственной смерти в машине, и сама фантазия становится все более эротичной. На одном конце спектра эти фотографии – объективные данные, на другом – они элементы психологической научной фантастики. И как даже в самой ужасной или будто бы нейтральной реальности можно обнаружить сексуальный императив, так и самый банальный фотодокумент может превратиться в символ желания. Полицейский снимок может послужить нитью для сыщика и эротическим фетишем для другого вора. Для Гофрата Беренса в «Волшебной горе» рентгеновские снимки легких – инструменты диагностики. Для Ганса Касторпа, отбывающего неопределенный срок в туберкулезном санатории Беренса и томящегося по загадочной, недоступной Клавдии Шоша, рентгеновский портрет Клавдии, запечатлевший не лицо, а хрупкую костную конструкцию верхней половины ее тела и органы грудной полости в бледной, призрачной оболочке плоти, – самый драгоценный трофей. «Прозрачный портрет» – гораздо более интимный образ возлюбленной, чем портрет Клавдии, написанный Гофратом, тот «внешний портрет», на который Ганс смотрел однажды с томительным желанием.
Фотографии – это способ арестовать действительность, представляющуюся непокорной и недоступной, остановить ее. Или же увеличить, потому что она съеживается, пустеет, кажется нестойкой и далекой. Реальностью нельзя владеть, владеть можно изображениями (и находиться в их власти) – поскольку, согласно Прусту, самому дерзновенному из затворников, нельзя владеть настоящим, но можно владеть прошлым. Ничто не может быть дальше от тяжких, жертвенных усилий художника, подобного Прусту, чем легчайшая процедура фотографирования, когда одним движением пальца создается законченная вещь, признаваемая произведением искусства. Прустовский труд предполагает, что реальность отдалена, фотография же как будто дает мгновенный доступ к реальному. Но в результате этого мгновенного доступа и создается дистанция. Овладеть миром в форме изображений – это означает как раз заново ощутить нереальность и отдаленность реального.
Система прустовского реализма подразумевает дистанцирование от того, что обычно переживается как реальное, от настоящего, дабы оживить то, что существует лишь отдаленно, в неясной форме, в прошлом – там, где, по его представлению, становится реальным настоящее; тогда им и можно овладеть. Фотография в таком случае не помощница. О фотографиях Пруст всякий раз отзывается пренебрежительно: это синоним поверхностного, исключительно зрительного, всего лишь волевого отношения с прошлым, чьи плоды незначительны по сравнению с глубокими открытиями, которые рождаются из ответов на сигналы всех чувств – то, что он назвал невольной памятью. Трудно представить себе, чтобы увертюра «В сторону Свана» заканчивалась тем, что рассказчику попался на глаза снимок приходской церкви в Комбре и он наслаждался этой зрительной крошкой вместо вкуса скромной «мадленки», окунутой в чай, отчего целая часть прошлого возникает перед глазами. Но это не потому, что фотография не может вызвать воспоминаний (может, и зависит это скорее от качества зрителя, а не фотографии), а потому, что Пруст объясняет свои требования к воспоминанию: оно должно быть не только обширным и точным, но должно возвращать ощущение плоти и сущности вещей. А видя в фотографиях только инструмент памяти, Пруст толкует их не совсем правильно: они не столько служат памяти, сколько придумывают ее или же заменяют собой.
И мгновенно доступной фотографии делают не реальность, а изображения. Например: теперь все взрослые могут точно знать, как выглядели в детстве их родители и они сами. Знание это не было доступно никому до изобретения фотографии – даже тому ничтожному меньшинству, у которого было в обычае заказывать портреты своих детей. По большей части эти портреты были менее информативны, чем любой снимок. И даже очень богатые люди чаще всего имели по одному детскому портрету, своему или кого-то из предков, тогда как сейчас вполне обычно иметь много своих фотографий – камера дает возможность получить полный отчет о себе, во всех возрастах. Смысл стандартных портретов в буржуазных семьях XVIII и XIX веков – удостоверить идеал модели (показать социальное положение, украсить внешность). Ясно, что при такой задаче их владельцам достаточно было одного. Фотографии же удостоверяют – скромнее – всего лишь, что вы существуете, и, если их много, беды в этом нет.
Опасения, что фотосъемка нивелирует своеобразие человека, чаще всего высказывались в 1850-х годах, когда портретная фотография впервые показала, как благодаря ей может мгновенно возникать мода и устойчивая промышленность. В «Пьере» Мелвилла, опубликованном в начале того десятилетия, герой, еще один страстный поборник затворничества, «подумал, с какой бесконечной готовностью может быть сделан чей угодно портрет при помощи дагерротипа, тогда как в прежние времена верный портрет был доступен только денежным или духовным аристократам земли. И как же естественно вытекает из этого, что теперь не гения обессмертит портрет, как прежде, а только выставит тупицу. Кроме того, когда опубликуют портреты всех, настоящим отличием будет – не показать публике своего».
Но если фотографии принижают, то живописные портреты искажают противоположным образом: возвеличивают. Мелвилл интуитивно чувствует, что все формы портретирования в бизнес-цивилизации скомпрометированы; так, во всяком случае, кажется Пьеру, герою отчужденности. Так же как фотоснимок в массовом обществе – это слишком мало, живописный портрет – это слишком много. Природа живописи, отмечает Пьер, «больше склоняет к почтению, нежели сам человек; ничего умаляющего нельзя представить себе в портрете, между тем как в человеке можно вообразить множество умаляющих черт».
Если даже эти парадоксы, можно сказать, сняты ввиду полного торжества фотографии, главное отличие фотографического портрета от живописного сохранилось. Живописный неизменно суммирует, фотографический – обычно нет. Фотографические изображения – свидетельства в протяженной биографии или истории. И одна фотография, в отличие от одной картины, подразумевает, что будут другие.
«Всегда – Человеческий Документ, чтобы настоящее и будущее не порывали связи с прошлым», – сказал Льюис Хайн. Но фотография не только сообщает о прошлом – как показывают миллиарды современных снимков, она меняет наше отношение к настоящему. Старые фотографии наполняют нашу мысленную картину прошлого, фотографии нынешние превращают настоящее в мысленную картину, как бы в прошлое. Камеры устанавливают дедуктивное отношение к настоящему (действительность узнается по ее следам), опыт немедленно приобретает ретроспективный характер. Фотографии предоставляют в мнимое владение как прошлое, так и настоящее – и даже будущее. В «Приглашении на казнь» Набокова заключенному Цинциннату показывают «фотогороскоп» ребенка, составленный зловещим мсье Пьером, – альбом фотографий девочки Эммочки в младенчестве, потом маленьким ребенком, потом в ее теперешнем возрасте, а затем в ретушированных фотографиях ее матери – Эммочки-подростка, невесты, 30-летней и, наконец, 40-летней на смертном одре. Пародией на работу времени называет Набоков этот образцовый артефакт. Вместе с тем это пародия на работу фотографии.
Фотография, имеющая множество нарциссистических приложений, является также сильным средством обезличивания наших отношений с миром, и две эти функции дополняют одна другую. Как бинокль, в который можно смотреть с обоих концов, камера делает экзотические вещи близкими, а привычные вещи маленькими, абстрактными, чужими, далекими. Это простое, входящее в привычку занятие позволяет нам участвовать в чужих жизнях и вместе с тем ведет к отчуждению. Война и фотография теперь, кажется, нераздельны. Авиационные катастрофы и другие жуткие происшествия всегда притягивают людей с фотоаппаратами. Общество, настроенное на то, чтобы никогда не знать лишений, неудач, несчастий, страданий, страшных болезней, и саму смерть воспринимающее не как естественное и неизбежное событие, а как жестокое, незаслуженное бедствие, с громадным любопытством относится к таким происшествиям и отчасти удовлетворяет его путем фотографирования. Ощущение, что бедствия вас не коснутся, стимулирует интерес к мучительным картинам, и, разглядывая их, вы укрепляетесь в сознании своей защищенности. Отчасти потому, что вы – «здесь», а не «там», отчасти же потому, что эти события, будучи преобразованы в картинки, приобретают характер неизбежности. В реальном мире что-то происходит, и никто не знает, что еще произойдет. В мире изображений это уже произошло и будет происходить так.
Многое зная о мире по фотографиям (искусство, катастрофы, красоты природы), люди часто бывают разочарованы, удивлены или остаются равнодушными, когда видят что-то своими глазами. Фотографическим изображениям свойственно вычитать чувство из того, что мы пережили бы непосредственно, а чувства, которые они сами пробуждают, по большей части отличаются от тех, которые мы испытываем в реальной жизни. Часто что-то волнует нас на фотографии сильнее, чем при непосредственном соприкосновении. В 1973 году в шанхайской больнице, присутствуя при том, как у рабочего с тяжелой язвой удаляют девять десятых желудка под акупунктурной анестезией, я наблюдала за трехчасовой операцией (впервые в жизни) без чувства дурноты, и мне ни разу не захотелось отвернуться. Годом позже в парижском кинотеатре на документальном фильме Антониони о Китае, где снята менее кровавая операция, я вздрогнула при первом же надрезе, сделанном скальпелем, и несколько раз отводила глаза на протяжении эпизода. Тяжелые события, запечатленные на фотографии, могут воздействовать на человека болезненнее, чем в живом виде. Частично эта уязвимость есть следствие пассивности, на которую обречен зритель в квадрате – зритель событий, которые уже определены сначала участниками, а затем создателем изображения. Перед настоящей операцией мне надо было вымыться и надеть хирургическую пижаму, а потом стоять рядом с работающими хирургами и сестрами в роли владеющего собой взрослого, воспитанного гостя и почтительного свидетеля. В кино вам отказано не только в таком скромном участии, но и в какой бы то ни было чисто зрительской активности. В операционной я сама меняю фокус, беру крупный план или средний. В кино Антониони уже выбрал, какие части операции мне смотреть, за меня смотрит камера – и меня обязывает смотреть, поставив перед узким выбором: или не смотреть вообще. Вдобавок то, что длится часы, фильм сжимает в несколько минут, оставляя только интересные части, показанные интересным образом, то есть с целью взволновать или потрясти. Драматическое драматизируется дидактикой кадра и монтажа. Мы переворачиваем страницу в фотожурнале, новый эпизод начинается в кино – и возникает контраст, более резкий, чем между последовательными событиями в реальном времени.
Самый поучительный пример того, что значит для нас фотография (в том числе как способ взвинчивания реального), – это нападки на фильм Антониони в китайской прессе в начале 1974 года. Из них складывается отрицательный каталог всех приемов современной фотографии и кино [26] . Если у нас фотография тесно связана с отрывочностью зрения (увидеть целое через часть – в поразительной детали, за счет эффектной обрезки), то в Китае она подчинена непрерывности. Надлежащим должен быть не только сюжет съемки – позитивный, вдохновляющий (образцовый труд, улыбающиеся лица, ясная погода) и опрятный, но и способы съемки, обусловленные представлениями о моральном порядке пространства, препятствующими фотографическому видению. Антониони упрекали за то, что он фотографирует старые или устарелые вещи – «он искал и снимал ветхие стены и давно отброшенные дацзыбао»; не обращая «внимания на большие и маленькие тракторы, работающие на полях, [он] снял только осла, тянущего каток». Упрекали за то, что показывает неприличное: «Отвратительно снимал сморкающихся и людей, идущих в уборную» – и проявления недисциплинированности: «Вместо того чтобы снимать учеников на уроке в нашей заводской начальной школе, он заснял детей, выбегающих из класса после уроков». Его обвиняли в очернительстве: правильные сюжеты он снимает в «тусклых и мрачных цветах», людей прячет «в темных тенях», один и тот же сюжет показывает разными способами – «иногда общим планом, иногда крупным планом, иногда спереди, иногда сзади». Он показывает вещи не с точки зрения одного идеально расположенного наблюдателя, а то в верхнем, то в нижнем ракурсе: «Камера намеренно смотрит на этот великолепный современный мост с очень плохой точки, чтобы он выглядел кривым и неустойчивым». И мало делает полных кадров: «Он всячески исхитрялся прибегать к крупным планам, чтобы исказить лица людей и изуродовать их духовный облик».
Помимо массовой фотографической иконографии почитаемых вождей, революционного китча и культурных сокровищ в Китае можно видеть фотографии более частного характера. У многих людей есть снимки близких – на стенах или под стеклом на туалете или на письменном столе в конторе. Иные сделаны во время семейных собраний или в поездках, но никогда не увидишь «естественного» снимка, даже такого, какой счел бы нормальным у нас самый неискушенный владелец камеры – ползающего младенца или жестикулирующего человека. На спортивных фотографиях – либо групповой снимок команды, либо самые стилизованные балетные моменты игры. Обычно людей собирают перед камерой и располагают в ряд или два. Поймать человека в процессе движения – к этому интереса нет. Можно предположить, что тут играют роль старые условности касательно декорума в поведении и внешнем виде. Как это свойственно людям на ранней стадии фотографической культуры, когда изображение представляется чем-то таким, что может быть украдено у человека, китайцы обвиняли Антониони в том, что он «снимает людей насильно, вопреки их желанию», как «вор». Обладание камерой не дает права на вторжение, в отличие от нашего общества, где это право признается вне зависимости от желания фотографируемого. (Хорошие манеры в фотографической культуре требуют, чтобы человек как бы не замечал, что его снимает посторонний – лишь бы тот держался на приличном расстоянии, то есть не принято ни запрещать съемку, ни позировать.) Опять же, в отличие от нашего общества, где мы позируем, когда можем, и терпим съемку, когда должны, в Китае съемка – всегда ритуал; она всегда предполагает позирование и, разумеется, согласие. Тот, кто «намеренно подстерегал людей, не знавших, что он собирается их снимать», лишал людей и вещи права позировать, дабы предстать в наилучшем виде.Почти весь эпизод на площади Тяньаньмэнь, главном месте политического паломничества в стране, Антониони посвятил паломникам, желавшим там сфотографироваться. Интерес Антониони к этому простейшему ритуалу – задокументировать свое посещение площади – понятен: фотография и фотографирование в наше время стали излюбленными сюжетами съемки. Для его критиков желание посетителей площади Тяньаньмэнь обзавестись фотографическим сувениром – это «отражение их глубоких революционных чувств. Но Антониони с дурными намерениями, вместо того чтобы показать эту действительность, снимал только одежду людей, движение и выражения лиц: то чьи-то всклокоченные волосы, то прищурившихся от солнца людей; то рукава, то брюки…»
Китайцы сопротивляются фотографическому расчленению действительности. Крупный план не используется. Даже на открытках с древностями или произведениями искусства, продаваемых в музеях, никогда не бывает показана часть чего-то – предмет всегда сфотографирован в лоб, целиком, расположен в центре, освещен равномерно.
Китайцы нам кажутся наивными потому, что они не находят красоты в потрескавшейся облезлой двери, в живописном беспорядке, в необычном ракурсе, в поэзии обращенной к объективу спины. У нас новое понятие об украшении – красота ничему не присуща, ее надо найти, взглянув по-другому, – и более широкое понятие о значении, чему свидетельством многообразие применений фотографии. Чем больше вариантов чего-то, тем богаче набор возможных значений; поэтому фотографии на Западе сегодня говорят больше, чем в Китае. Не касаясь вопроса о том, в какой степени «Китай» является идеологическим товаром (а китайцы не ошиблись, усмотрев в фильме снисходительность), можно утверждать, что изображения у Антониони попросту содержат больше смысла, чем любые изображения самих себя, которые публикуют китайцы. Китайцы не хотят, чтобы фотографии несли большой смысл и были очень интересными. Они не хотят смотреть на мир под необычным углом, открывать новые темы. Фотографии должны показывать то, что уже описано. У нас фотография – обоюдоострый инструмент для производства клише (это французское слово означает и затасканное выражение, и фотографический негатив) и для создания «нового взгляда». У китайских властей есть только клише – но считается, что это не клише, а «правильные» взгляды.
Сегодня в Китае признаются только две реальности. Мы видим реальность неизбежно плюралистической и потому интересной. В Китае относительно того, что определяется как спорный вопрос, существуют только две «линии», правильная и неправильная. Наше общество предлагает спектр отдельных альтернатив и восприятий. Их общество выстроено вокруг единственного идеального наблюдателя, и фотографии вносят свой вклад в Великий Монолог. Для нас существует разброс взаимозаменяемых «точек зрения», фотография – диалог многих участников. Нынешняя китайская идеология определяет реальность как исторический процесс, структурированный повторяющимися дихотомиями с четко очерченными моральными значениями, прошлое считается по большей части плохим. Для нас существуют исторические процессы, смысл которых ужасающе сложен и часто противоречив, и существуют искусства, чья ценность в большой степени проистекает из нашего осознания времени и истории. Это относится и к фотографии. (Вот почему с течением времени увеличивается эстетическая ценность фотографий, и шрамы времени делают предмет более соблазнительным для фотографов.) С идеей истории мы удостоверяем нашу заинтересованность в познании как можно большего числа вещей. В Китае историю позволено использовать только для одной цели – дидактической. Там интерес к истории узок, моралистичен, однобок, лишен любознательности. Отсюда и для фотографии в нашем смысле там нет места.
Ограничения, наложенные на фотографию в Китае, отражают характер их общества – общества, объединенного идеологией жесткого, неослабного конфликта. У нас неограниченное использование фотографии не только отражает характер общества, но и формирует его, и общество объединено отрицанием конфликта. Само наше представление о мире, капиталистическом «одном мире» XX века, напоминает панорамную фотографию. Мир «один» не потому, что он объединен, но потому, что обзор его разнообразного содержимого не обнаруживает конфликта, а только поразительное разнообразие. Видимость единства придает миру перевод его содержимого в изображения. Изображения всегда совместимы, даже когда несовместимы изображаемые реалии.
Фотография не просто воспроизводит действительность, она ее перерабатывает. Переработка – это главный процесс в современном обществе. В форме фотографических изображений вещи и события находят новые применения, приобретают новые смыслы, которые не укладываются в дихотомии красивого и уродливого, правдивого и ложного, полезного и бесполезного, хорошего и плохого. Фотография – одно из главных средств для присвоения вещам и ситуациям особого качества, стирающего эти различия: «интересное». Интересным что-то делается тогда, когда можно увидеть, что оно подобно или аналогично чему-то другому. Есть искусство и есть способы видеть вещи так, чтобы сделать их интересными. И чтобы питать это искусство, это видение, идет постоянная переработка артефактов и вкусов прошлого. Переработанные клише превращаются в метаклише. Фотографическая переработка делает клише из уникальных объектов, а из клише – особенные и яркие артефакты. Изображения реальных вещей прослоены изображениями изображений. Китайцы ограничили функции фотографии таким образом, что нет слоев или прослоек изображений и все изображения подкрепляют и повторяют друг друга [27] . Мы сделали фотографию средством, при помощи которого можно сказать что угодно и можно использовать его для любой цели. То, что в реальности разделено, изображения могут объединить. Взрыв атомной бомбы в форме фотографии можно использовать для рекламы сейфа.
Различие между фотографом как обладателем индивидуального взгляда и фотографом как объективным регистратором нам представляется принципиальным. Часто это различие ошибочно отождествляют с делением фотографии на художественную и документальную. На самом деле и та и другая – это логические расширения существа фотографии: заметок в потенциале обо всем на свете, со всех возможных точек зрения. Надар, делавший самые авторитетные портреты знаменитостей того времени и первым – фотоинтервью, первым же занялся съемкой с воздуха, в 1855 году произведя «дагерровскую операцию» с воздушного шара над Парижем, и сразу понял ее будущие выгоды для военных.
Утверждение, что все на свете служит материалом для камеры, можно обосновать с двух разных позиций. Согласно одной, красивым и интересным может быть все для достаточно острого глаза. (И эстетизация реальности, благодаря которой все что угодно годится для камеры, позволяет причислить любую фотографию, даже самого практического назначения, к художеству.) С другой позиции каждый объект расценивается в плане его настоящей или будущей полезности для оценок, решений и прогнозов. Согласно первой, нет такого предмета, которого не следовало бы увидеть. Согласно второй, нет такого, которого не следовало бы зафиксировать . Камера обеспечивает эстетический взгляд на реальность: эта машина-игрушка предоставляет каждому возможность вынести объективное суждение о важном, интересном, красивом. («Это хорошо получится на снимке».) Камера обеспечивает инструментальный взгляд на реальность, позволяя собирать информацию с тем, чтобы мы могли точнее и быстрее реагировать на происходящее. Реакция, конечно, может быть как репрессивной, так и благожелательной: военной разведке фотографии помогают крошить жизни, а рентгеновские снимки помогают их спасать.
Хотя эти две позиции, эстетическая и инструментальная, порождают противоречивые и даже несовместимые чувства по отношению к людям и ситуациям, эта противоречивость позиции свойственна обществу, где общественное отделено от частного и его членам приходится с этим жить. И, возможно, никакое занятие не готовит нас лучше к жизни с такой раздвоенной позицией, чем фотография, прекрасно воплощающая обе ее половины. С одной стороны, камеры вооружают зрение для обслуживания внешних сил – государства, промышленности, науки. С другой – придают ему экспрессивные возможности в том мифическом пространстве, которое мы называем частной жизнью. В Китае, где политика и морализаторство не оставили места для эстетической восприимчивости, фотографировать можно только некоторые вещи и только определенным образом. Для нас, по мере того как мы все сильнее обособляемся от политики, появляется все больше свободного пространства для проявлений восприимчивости, дозволяемых камерой. Один из результатов развития съемочной техники (видео, производство фильмов без химических процессов) заключается в том, что частным образом камера чаще используется в нарциссистических целях – то есть для самонаблюдения. Но популярное сейчас использование зрительной обратной связи в спальне, на сеансе групповой терапии, на субботней конференции далеко не так важно, как видеонаблюдение в общественных местах. Наверное, китайцы со временем найдут фотографии такие же инструментальные применения, как мы, – возможно, кроме этого. Наша склонность трактовать характер как эквивалент поведения делает более приемлемым широкое использование камер для наблюдения за людьми в общественных местах. В Китае порядки гораздо более репрессивны и требуют не только контроля за поведением, но и внутренней перестройки. Там самоцензура развита до небывалых размеров, поэтому в таком обществе камера как инструмент слежки, вероятно, не будет использоваться слишком широко.
Китай являет собой такую модель диктатуры, где руководящей идеей является «благо» и на все формы выражения, включая изобразительные, установлены самые жесткие пределы. В будущем возможен другой вид диктатуры, где руководящей идеей будет «интересное» и будут множиться всякого рода изображения, стереотипные и причудливые. Нечто подобное у Набокова в «Приглашении на казнь». В его образцовом тоталитарном государстве есть только одно вездесущее искусство – фотография, – и дружелюбный фотограф, который вьется около героя в камере смертников, в конце романа оказывается палачом. И не видно способа (если не считать навязанной исторической амнезии, как в Китае) ограничить количество фотографических изображений. Единственный вопрос – может ли функция мира изображений, сделанных камерой, быть иной, чем сейчас? Теперешняя функция вполне ясна, если подумать, в каких контекстах мы видим фотографии, какие зависимости они создают, какие антагонизмы смягчают – то есть какие институты они поддерживают, чьи потребности на самом деле обслуживают.
Капиталистическому обществу требуется культура, основанная на изображениях. Ему необходимо предоставлять огромное количество развлечений, чтобы стимулировать покупательский спрос и анестезировать классовые, расовые и сексуальные травмы. Оно нуждается в сборе колоссального количества информации, чтобы лучше использовать природные ресурсы, повышать производительность, поддерживать порядок, вести войну, создавать рабочие места для бюрократов. Двоякая способность камеры – субъективировать реальность и объективировать ее – идеально удовлетворяет эти потребности и увеличивает их. Камеры определяют действительность двумя способами, жизненно важными для функционирования развитого индустриального общества: в виде зрелища (для масс) и как объект наблюдения (для правителей). Кроме того, производство изображений обслуживает правящую идеологию. Социальные перемены подменяются переменами в изображениях. Свобода потребления самых разных изображений и товаров приравнивается к свободе как таковой. Чтобы свести свободу политического выбора к свободе экономического потребления, необходимы неограниченное производство и потребление изображений.Необходимость фотографировать все объясняется в конечном счете самой логикой потребления. Потреблять – значит сжигать, расходовать; следовательно, требуется пополнение. Мы производим изображения, потребляем их, и нам нужны новые – и новые. Но изображения не клады, которые надо отыскивать, они повсюду куда ни глянь. Обладание камерой порождает нечто вроде вожделения. И, как все виды вожделения, заслуживающие такого имени, оно неутолимо. Во-первых, потому, что безграничны возможности фотографии; во-вторых, потому, что этот проект сам себя пожирает. Старания фотографов поддержать слабеющее чувство реальности ослабляют его еще больше. С тех пор как камера позволила нам «поймать» мимолетное, гнетущее ощущение недолговечности всего на свете стало более острым. Мы потребляем изображения с возрастающей быстротой, и, подобно тому как Бальзак подозревал, что камера расходует слои тела, изображения поедают реальность. Камеры – и противоядие, и болезнь, средство присвоения реальности и средство, из-за которого она устаревает. Фотография фактически вынудила нас расстаться с платоновским пониманием реальности. У нас все меньше и меньше оснований размышлять о нашем опыте, проводя различия между образом и вещью, между копией и оригиналом. Платону удобно было пренебрежительно относиться к изображениям, уподобив их теням – преходящим, минимально информативным, нематериальным, бессильным спутницам реальных вещей, отбрасывающих эти тени. Но сила фотографических образов определяется тем, что они сами по праву – материальные реальности, информативные остатки и следы того, что их высветило, властно меняющиеся ролями с действительностью – действительность превращающие в тень. Изображения более реальны, чем можно было вообразить. И именно потому, что они являются неограниченным ресурсом, которого потребительское расточительство не может истощить, есть все основания применить здесь консервационистское лекарство. Если возможен лучший способ для того, чтобы реальный мир включил в себя мир изображений, то он потребует экологии не только реальных вещей, но также экологии изображений.
Краткая антология цитатПамяти В.Б.
...Я жаждала запечатлеть всю красоту, которая являлась передо мной, и наконец эта жажда утолена.
– Джулия Маргарет Камерон
...Я хочу иметь такую память о каждом дорогом мне существе на свете. В этом предмете не только сходство, но связь, чувство близости… то, что тень человека лежит здесь, закрепленная навсегда! В этом, я думаю, святость портретов, и вовсе не будет дикостью с моей стороны сказать – против чего так страстно возражают братья, – что я хочу иметь скорее такую память о моем любимом, нежели произведение самого превосходного художника, когда-либо созданное.
– Элизабет Баррет(1843, письмо к Мэри Рассел Митфорд)
...Твоя фотография – это отчет о твоей жизни, для всякого, кто умеет видеть. Ты мог видеть другие способы работы, они могли повлиять на тебя, даже мог их использовать, но в конце концов ты должен будешь от них освободиться. Это и имел в виду Ницше, когда сказал: «Я сейчас прочел Шопенгауэра, теперь я должен избавиться от него». Он знал, как незаметно внедряется чужое, особенно сильное благодаря глубокому опыту, – если ты позволишь ему встать между тобой и твоим собственным видением.
– Пол Стрэнд
...Что на внешности изображается и отражается внутреннее содержание, а лицо высказывает и раскрывает внутреннюю сущность человека – это такое предположение, априорность которого, а вместе с тем и надежность обнаруживаются при всяком случае в общей жажде видеть человека, который выделился чем-либо дурным или хорошим… Изобретение Дагерра оттого так высоко и ценится, что самым совершенным образом удовлетворяет этой потребности.
– Шопенгауэр
...Воспринимать вещь как прекрасную означает воспринимать ее неправильно.
– Ницше
...Теперь за смехотворно маленькую сумму мы можем познакомиться не только с каждым знаменитым местом на свете, но также почти с каждым известным человеком в Европе. Вездесущность фотографа есть нечто изумительное. Все мы видели Альпы и знаем Шамони и Мер-де-Гляс как свои пять пальцев, хотя ни разу не отважились бросить вызов ужасам Английского пролива… Мы пересекали Анды, восходили на вулкан на Тенерифе, высаживались в Японии, побывали на Ниагаре и на Тысяче островов, упивались битвами с равными нам (перед витринами), заседали на советах могущественных, знакомились с королями, императорами и королевами, примадоннами, жемчужинами балета и «актерами милостью божьей». Призраков видели и не трепетали, стояли перед августейшими и не снимали шляп – короче говоря, смотрели сквозь трехдюймовую линзу на всевозможную пышность и суету этого испорченного, но прекрасного мира.
– Д.П., обозреватель «Уанс э уик»Лондон, 1 июня 1861 года
...С полным правом о нем [Атже] говорили, что он снимал их [безлюдные улицы Парижа], словно место преступления. Ведь и место преступления безлюдно. Его снимают ради улик. У Атже фотографические снимки начинают превращаться в доказательства, представляемые на процессе истории. В этом заключается их скрытое политическое значение.
– Вальтер Беньямин
...Если бы я мог рассказать историю словами, мне не надо было бы таскать камеру.
– Льюис Хайн
...Я отправился в Марсель. Небольшое пособие позволяло мне сводить концы с концами, и я работал с удовольствием. Я только что открыл «Лейку». Она стала продолжением моего глаза, и с тех пор я с ней не расставался. Целыми днями я рыскал по улицам, в напряжении, готовый наброситься, «поймать» жизнь – сохранить жизнь в процессе ее течения. Больше всего я желал схватить в одном кадре всю суть какой-то ситуации, развертывающейся перед моими глазами.
– Анри Картье-Брессон
...Tрудно сказать, где кончаетесь вы и начинается камера. С Минолтой 35 мм SLR» вы почти без усилий запечатлеете мир вокруг вас. Или выразите свой внутренний мир. Ее удобно держать в руках. Пальцы сами ложатся на нужное место. Все работает так слаженно, что камера становится частью вас самих. Вам не надо отрывать глаз от видоискателя для регулировок. Поэтому вы можете сосредоточиться на создании кадра… И с «Минолтой» вы можете дать волю своему воображению. Более 40 великолепных объективов системы «Роккор Х» и «Минолта/Селтик» покрывают все расстояния от самых дальних до эффектных панорам, снятых «рыбьим глазом»…
«МИНОЛТА». Когда вы одно целое с камерой.
– Реклама (1976)
...Я фотографирую то, что не хочу писать кистью, и пишу то, что не могу сфотографировать.
– Ман Рэй
...Только с большим трудом можно заставить камеру лгать: в принципе это – честное устройство. Поэтому фотограф скорее обратится к природе в духе исследования и единения, нежели со щегольством и развязностью самозваного «художника». И современное видение, новая жизнь основаны на честном подходе ко всем проблемам – и морали, и искусства. Фальшивые фасады домов, фальшивые нормы морали, ухищрения и фокусничанье любого рода должны быть и будут отброшены.
– Эдвард Уэстон
...Я пытаюсь в своей работе одушевлять все вещи – даже так называемые неодушевленные предметы – человеческим духом. Постепенно я осознал, что эта анимистическая проекция проистекает из моего глубокого беспокойства и страха перед ускоряющейся механизацией жизни человека и – в результате ее – стремления истребить индивидуальность во всех сферах человеческой деятельности; весь этот процесс – одно из главнейших проявлений нашего военно-индустриального общества… Творческий фотограф высвобождает человеческое содержание предметов и наделяет человечностью бесчеловечный мир вокруг нас.
– Кларенс Джон Лофлин
...Теперь вы можете сфотографировать все.
– Роберт Франк
...Я всегда предпочитаю работать в студии. Она изолирует людей от их окружения. Они становятся в каком-то смысле… символами самих себя. Я часто чувствую, что люди приходят ко мне сниматься, как пошли бы к врачу или гадалке – чтобы выяснить, каковы они. Поэтому они от меня зависят. Я должен завладеть их вниманием. Иначе снимать будет нечего. Сосредоточенность должна исходить от меня и захватывать их. Иногда это достигает такой интенсивности, что звуки в студии не слышны. Время останавливается. Между нами возникает краткая, напряженная близость. Но она не заработанная. У нее нет прошлого… нет будущего. И когда сеанс окончен – когда снимок сделан, – не остается ничего, кроме фотографии… фотографии и какого-то смущения. Они уходят… и я их не знаю. Я едва ли слышал, что они говорили. Встретив их спустя неделю в какой-нибудь комнате, я не думаю, что они меня узнáют. Потому что мне кажется, что на самом деле меня там не было. По крайней мере той моей части, которая была… есть сейчас в фотографии. И для меня фотографии обладают реальностью, которой лишены люди. Я узнаю людей через фотографии. Может быть, такова природа фотографа. Я никогда по-настоящему не вовлечен. Мне никогда не надо знать по-настоящему. Все ограничивается узнаванием.
– Ричард Аведон
...Дагерротип – не только орудие для изображения природы… [он] дает ей возможность воспроизводить себя.
– Луи Дагерр (1838, из объявления, распространенного с целью привлечь инвесторов)
...Творения человека и природы не превосходят великолепием фотографий Ансела Адамса, и его изображение может захватить зрителей сильнее, чем природный объект, который послужил ему моделью.
– Реклама альбома фотографий Адамса (1974)
...Эта фотография, сделанная «Полароидом SX-70», входит в коллекцию Музея современного искусства. Автор – Лукас Самарас, один из ведущих американских художников. Это экспонат одной из самых богатых коллекций. Снимок сделан с помощью самой лучшей системы одноступенного фотопроцесса – камерой «Полароид SX-70» Лэнд. Камера исключительного качества и гибкости позволяет вести съемку на расстоянии от 10,4 дюйма до бесконечности… С помощью SX-70 Самарас создал подлинное произведение искусства.
– Реклама (1977)
...В большинстве моих фотографий есть сочувствие, мягкость и интерес к человеку. Их задача – чтобы зритель увидел себя. У них нет задачи проповедовать. И изображать из себя произведения искусства.
– Брюс Дэвидсон
...Новые формы в искусстве создаются путем канонизации форм низкого искусства.
– Виктор Шкловский
...В наше прискорбное время родился новый вид техники, который немало способствовал внедрению и укреплению нелепых понятий и уничтожению остатков возвышенного в мироощущении французов. В своем идолопоклонстве толпа создала достойный себя и соответствующий своей природе идеал. В живописи и ваянии нынешнее кредо широкой публики, особенно во Франции… таково: «Я верю в природу, и только в нее одну (и не без оснований). Я считаю, что искусство есть не что иное, как точное воспроизведение природы… Таким образом, техническая уловка, способная точно воспроизвести природу, станет наивысшим искусством». Некий мстительный бог выполнил пожелания толпы. Ее мессией стал изобретатель Дагерр. И тогда публика решила: «Поскольку фотография надежно гарантирует желанную точность (нашлись дураки, которые верят в это), то ясно, что фотография и есть наивысшее искусство». Тут же все это скопище мерзких обывателей ринулось, подобно Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии, запечатленные на металле… Сей способ распространить в народе интерес к истории и к живописи совершил двойное кощунство…
– Бодлер
...Жизнь сама по себе не реальность. Это мы складываем жизнь из камней и гальки.
– Фредерик Соммер
...Молодой художник запечатлел, камень за камнем, соборы Страсбурга и Реймса в сотне с лишним карточек. Благодаря ему мы взобрались на все шпили… То, что никогда не открылось бы нашим собственным глазам, он увидел за нас… Можно подумать, что праведные художники Средних веков предвидели дагерротип, помещая статуи и каменную резьбу высоко, где только птицы, кружа возле шпилей, могли дивиться их подробностям и совершенству… Весь собор воссоздан, слой за слоем, в чудесных эффектах солнца, теней и дождя. Мсье Ле Сек тоже построил свой памятник.
– А. де Лакретель («Люмьер», 20 марта 1852 года)
...…Страстное стремление «приблизить» к себе вещи как в пространственном, так и в человеческом отношении так же характерно для современных масс, как и тенденция преодоления уникальности любой данности через принятие ее репродукции. Изо дня в день проявляется неодолимая потребность овладения предметом в непосредственной близости через его образ…
– Вальтер Беньямин
...Фотограф становится фотографом так же не случайно, как укротитель львов – укротителем львов.
– Доротея Ландж
...Если бы мною двигало простое любопытство, было бы очень трудно сказать: «Я хочу прийти к вам домой, чтобы вы со мной поговорили и рассказали историю вашей жизни». То есть люди на это скажут: «Ты с ума сошла». К тому же они будут очень настороже. А камера – что-то вроде лицензии. Многие люди хотят, чтобы им уделили много внимания, и она уделяет его довольно много.
– Диана Арбус
...…Вдруг рядом со мной упал мальчик. Тогда я понял, что полиция дает не предупредительные выстрелы. Они стреляли по толпе. Падали другие дети… Я стал снимать мальчика, который умирал рядом со мной. Изо рта у него текла кровь, и дети стояли возле него на коленях, пытаясь остановить кровь. Потом дети закричали, что убьют меня… Я просил их не трогать меня. Сказал, что я репортер и пришел, чтобы люди узнали о происходящем. Одна девочка ударила меня камнем по голове. Я был оглушен, но устоял на ногах. Потом они поняли, зачем я здесь, и увели меня. Все время над нами кружили вертолеты, слышалась стрельба. Это было похоже на сон. Сон, которого я никогда не забуду.
– Из рассказа Альфа Кумало, чернокожегорепортера «Иоханнесбург санди таймс»о начале беспорядков в Соуэто, ЮжнаяАфрика. Опубликовано в воскресномномере лондонского «Обсервера»,20 июня 1976 года
...Фотография – единственный «язык», понятный во всех странах мира; она служит мостом между народами и культурами, скрепляет семью человеческую. Независимая от политических влияний – там, где люди свободны, – она правдиво отражает жизнь и события, позволяет нам разделить надежды и отчаяние других и освещает политические и социальные условия. Мы становимся очевидцами человечности и бесчеловечности людского рода…
– Хельмут Гернсхайм («Криэйтив фотографи» [1962])
...Фотография – это система визуального отбора. Суть ее в том, чтобы взять в рамку часть вашего конуса зрения, стоя в нужном месте в нужное время. Как в шахматах или на письме, это вопрос выбора из имеющихся возможностей, только в случае фотографии число возможностей бесконечно.
– Джон Жарковски
...Иногда я устанавливала камеру в углу комнаты, садилась поодаль с пультом дистанционного управления и, пока мистер Колдуэлл говорил, наблюдала за нашими людьми. Час мог пройти, прежде чем их лица или жесты давали нам то, что мы хотели выразить, но, как только это происходило, сцена мгновенно запечатлевалась на пленке – они даже не успевали это заметить.
– Маргарет Бурк-Уайт
...Фотография мэра Нью-Йорка Уильяма Гейнора в момент его ранения в 1910 году. Когда мэр собирался подняться на судно, чтобы провести отпуск в Европе, появился фотограф. Он попросил мэра позировать ему для съемки, и, как только поднял фотоаппарат, из толпы в мэра дважды выстрелили. В наступившей суматохе фотограф сохранил спокойствие, и снимок окровавленного мэра, поддерживаемого помощником, стал частью фотографической истории.
– Подпись под снимком в «“Клик”:Иллюстрированная история фотографии» (1974)
...Я фотографировал наш унитаз, глянцевый эмалевый сосуд исключительной красоты… Здесь были все чувственные изгибы «божественной человеческой фигуры», но без ее недостатков. Никогда греки не создавали столь значимого воплощения своей культуры, и устремленным вперед движением текучих контуров он почему-то напоминал мне Нику Самофракийскую.
– Эдвард Уэстон
...В нашу эпоху технологической демократии хороший вкус оказывается в итоге не чем иным, как вкусовым предрассудком. Если искусство всего лишь создает хороший вкус и плохой, тогда оно потерпело полную неудачу. Отталкиваясь от вкуса, так же легко сказать, хорошего ли вкуса у вас в доме холодильник, ковер или кресла. Хорошие фотохудожники и стремятся сейчас поднять искусство над понятием вкуса. Искусство камеры должно быть полностью свободно от логики. Должен быть логический вакуум – так, чтобы зритель заполнял его собственной логикой и произведение фактически создавалось перед его глазами. Чтобы оно стало прямым отражением сознания зрителя, его логики, морального духа, этики и вкуса. Произведение должно действовать как механизм обратной связи в зрительской рабочей модели самого себя.
– Лес Ливайн («Искусство камеры»в «Студио интернешнл», июль – август 1975 года)
...Женщины и мужчины – это невозможный сюжет, потому что здесь не может быть ответов. Мы можем найти только обрывки и проблески отгадок. И этот небольшой портфолио – всего лишь приблизительные наброски темы. Может быть, сегодня мы зароним семена более честных отношений между женщинами и мужчинами.
– Дуэйн Майклс
...– Почему люди хранят фотографии?
– Почему? Бог знает. Почему люди хранят вещи – хлам, мусор, пустяки? Хранят, и все тут.
– Отчасти я с вами согласен. Некоторые люди хранят вещи. Некоторые выбрасывают, как только использовали их. Это, да, вопрос характера. Но я говорю сейчас именно о фотографиях. Почему люди хранят, в частности, фотографии?
– Говорю же – потому, что не любят выбрасывать вещи. Или же потому, что они им напоминают…
Пуаро ухватился за эти слова.
– Вот именно. Они им напоминают . И опять спросим – почему? Почему женщина хранит свою фотографию в молодости? И отвечаю: первая причина, в сущности, – тщеславие. Она была хорошенькой девушкой и хранит свою фотографию, чтобы напоминать себе, какой хорошенькой она была в молодости. Это ободряет ее, когда зеркало говорит ей неприятные вещи. И она, может быть, скажет подруге: «Вот какой я была в восемнадцать лет…» – и вздохнет… Вы согласны?
– Да-да, по-моему, это верно.
– Тогда это причина номер один. Тщеславие. Теперь причина номер два. Сентиментальная.
– Разве это не то же самое?
– Нет, нет, не совсем. Потому что по этой причине вы сохраняете не только свою фотографию, но и еще чьи-то. Снимок вашей замужней дочери – в детстве, когда она сидела на коврике перед камином в тюлевом платьице… Некоторых это очень смущает, но матери склонны к этому. А сыновья и дочери часто хранят фотографии матери, особенно если мать умерла молодой. «Это моя мама в детстве».
– Кажется, я понимаю, к чему вы клоните.
– И, возможно, есть третья категория. Не тщеславие, не сентиментальность, не любовь – может быть, ненависть? Как вы думаете?
– Ненависть?
– Да. Чтобы не умерла жажда мести. Кто-то нанес вам обиду – и вы храните фотографию как напоминание. Может так быть?
– Агата Кристи,«Миссис Макгинти умерла» (1951)
...Перед этим, на рассвете, специально назначенная комиссия обнаружила труп Антонио Конселейро. Он лежал в хижине поблизости от сада. Когда сняли тонкий слой земли, открылось тело, завернутое в убогий саван – грязную простыню; чьи-то почтительные руки положили на него несколько увядших цветов. На тростниковой циновке лежали останки «отъявленного злодея» – агитатора… Тело извлекли из земли с громадными предосторожностями, чтобы оно не распалось, – эта драгоценная реликвия, единственная военная добыча, единственный трофей, захваченный в результате конфликта!.. Его сфотографировали и составили официальное свидетельство о смерти, удостоверяющее личность покойного, дабы вся страна не сомневалась, что с ее ужасным врагом наконец-то покончено.
– Эуклидес да Кунья, «Сертаны»
...Люди все еще убивают друг друга, они еще не поняли, как они живут и зачем; политикам невдомек, что земля – это единая сущность, однако изобретено телевидение (Telehor) «Дальновидение» – завтра мы сможем заглянуть в сердце сородича, быть повсюду и быть одному; миллионами печатаются иллюстрированные книги, газеты, журналы. Недвусмысленность реального, истина повседневной ситуации доступна для всех классов. Гигиена оптического , здоровье видимого медленно просачиваются в нашу жизнь.
– Ласло Мохой-Надь (1925)
...По мере того как продвигалась моя работа, стало ясно, что на самом деле не имеет значения, где я захочу фотографировать. Конкретное место просто давало повод для съемки… Ты можешь увидеть только то, что готов увидеть – то, в чем отражается твое сознание в данное время.
– Джордж Тайс
...Я фотографирую, чтобы выяснить, как это будет выглядеть на фотографии.
– Гэрри Виногранд
...Гуггенхеймовские поездки были похожи на сложные поиски кладов, ложные нити мешались с правильными. Друзья вечно направляли нас к своим любимым местам, или видам, или формациям. Иногда эти советы оправдывались, и нам открывались подлинные сокровища Запада, иногда рекомендованное место оказывалось пшиком, и мы проезжали много миль впустую. Я дошла до такой точки, что не могла получить удовольствия от пейзажа, если ради него Эдвард не вытаскивал камеру; так что он не многим рисковал, когда, откинувшись на спинку, говорил: «Я не сплю, просто дам глазам отдохнуть». Он знал, что мои глаза к его услугам, и, как только показывалось что-то в «уэстоновском» вкусе, я останавливала машину и будила его.
– Чарис Уэстон (цитата из книги Бена Мэддоу«Эдвард Уэстон: пятьдесят лет» [1973])
...«Полароид SX-70». Он не даст вам остановиться. Вдруг вы видите картину всюду, куда ни упадет взгляд… Вы нажимаете на красную электрическую кнопку. Ж-ж-ж… фш… И вот она. Картина оживает на ваших глазах, становится ярче, проступают подробности, и через несколько минут на отпечатке все, как в жизни. Вскоре вы уже делаете снимок за снимком, каждые полторы секунды! – ищите новые ракурсы, или делаете копии, не сходя с места. SX-70 становится частью вас, без усилий скользя сквозь жизнь.
– Реклама (1975)
...Мы рассматриваем фотографию у нас на стене как сам объект (человек, пейзаж и т. д.), который на ней изображен.
Это необязательно было так. Легко вообразить людей, которые иначе относились к таким изображениям. Которых, например, фотографии отталкивали потому, что лицо лишено красок, или, может быть, даже потому, что лицо в уменьшенном масштабе казалось им не человеческим.
– Витгенштейн
...Это мгновенный снимок…
разрушающего испытания оси?
размножения вируса?
лабораторной установки?
места преступления?
глаз зеленой черепахи?
таблицы продаж?
хромосомной аберрации?
страницы 173 «Анатомии» Грея?
кардиограммы?
штриховой репродукции полутоновой литографии?
трехмиллионной восьмицентовой марки с Эйзенхауэром?
волосковой трещины в четвертом позвонке?
незаменимого 35-мм слайда?
вашего нового диода в 13-кратном увеличении?
металлографии ванадиевой стали?
уменьшенного оригинал-макета?
увеличенного лимфатического узла?
результатов электрофореза?
самой худшей аномалии прикуса?
наилучшего исправления аномалии прикуса?
Как явствует из списка… количество объектов, которые людям надо зафиксировать, безгранично. К счастью, как можно видеть из списка камер «Полароид Лэнд», почти безграничны и возможности их фиксации. И вы получаете снимки сразу же. Поэтому, если что-то упущено, вы можете повторить съемку, не сходя с места.
– Реклама (1976)
...Предмет, который говорит об утрате, разрушении, исчезновении. Не говорит о себе. Говорит о других. Включит ли он их в себя?
– Джаспер Джонс
...Белфаст, Северная Ирландия. Жители Белфаста сотнями покупают открытки, запечатлевшие мучения города. На самой популярной – мальчик, швыряющий камень в британский броневик… На других – сгоревшие дома, войска на боевых позициях в городе, дети, которые играют среди дымящихся обломков. Открытки продаются в трех магазинах Гардинера и стоят около 25 центов. «Даже по такой цене их покупают по пять-шесть штук за раз», – говорит Роз Лихейн, менеджер магазина. Миссис Лихейн сказала, что за четыре дня продали почти тысячу открыток.
Туристов сейчас мало, сказала она, так что большинство покупателей местные, главным образом молодежь, для нее это – «сувениры».
Нил Шоукросс, житель Белфаста купил два полных набора открыток и объясняет: «Думаю, это будут интересные напоминания о времени, и я хочу, чтобы оба моих ребенка поглядывали на них, когда вырастут».
«Эти открытки полезны людям, – сказал Алан Гардинер, директор сети. – Слишком многие у нас в Белфасте закрывают глаза на ситуацию и делают вид, будто ничего не происходит. Может быть, такие вещи их встряхнут и заставят прозреть».
«Мы потеряли много денег из-за беспорядков, наши магазины взрывают и поджигают, – добавил мистер Гардинер. – Если мы заработаем хоть немного денег на неприятностях, и на том спасибо».
– «Нью-Йорк таймс», 29 октября 1974 года(«Открытки с уличными боями в Белфасте стали там бестселлерами»)
...Фотография – это инструмент для обращения к вещам, о которых все знают, но не уделяют им внимания. Цель моих фотографий – представить то, чего вы не видите.
– Эммет Гоуин
...Камера – это пластичный способ встречи с другой действительностью.
– Джерри УлсманнОсвенцим, Польша
...Спустя 30 без малого лет после закрытия концентрационного лагеря Аушвиц подспудный ужас этого места как будто бы рассеивается благодаря сувенирным киоскам, рекламам пепси-колы и общей туристической атмосфере.
Несмотря на холодные осенние дожди, тысячи поляков и иностранцев ежедневно посещают бывший лагерь. Большинство из них одеты модно и по молодости лет не помнят Вторую мировую войну. Они колоннами ходят по лагерным баракам, газовым камерам и крематориям, с интересом разглядывая страшные свидетельства тех дней – такие, как громадная витрина с человеческими волосами, из которых эсэсовцы делали материю… В сувенирных киосках посетители могут купить значки с польскими или немецкими надписями, открытки с фотографиями газовых камер и крематориев и даже сувенирные шариковые ручки – если ее поднести к свету, на ней появляется такая же картинка.
– «Нью-Йорк таймс», 3 ноября 1974 года(«В Аушвице диссонирующая атмосфера туризма»)
...Средства массовой коммуникации заменили собой прежний мир. Захоти мы восстановить прежний мир, сделать это можно, лишь глубоко изучив, каким именно образом средства массовой коммуникации его поглотили.
– Маршалл Маклюэн
...Многие прибыли из сельских районов и, не зная городских порядков, расстилали газеты на асфальте по ту сторону дворцового рва, разворачивали домашнюю снедь и палочки и, усевшись, ели и беседовали, так что толпа была вынуждена их обходить. На фоне августовского дворцового сада страсть японцев к фотографированию достигла лихорадочного градуса. Судя по беспрерывному щелканью затворов, не только каждый из присутствующих, но и каждый листок и травинка запечатлелись на пленке во всех возможных позах.
– «Нью-Йорк таймс», 3 мая 1973 года(«Япония наслаждается тремя праздниками“Золотой недели”, семь днейотдыхая от работы»)
...Я все время мысленно фотографирую окружающее – для тренировки.
– Майнор Уайт
...Из всех вещей сохраняются дагерротипы… отпечатки всего, что существовало живьем, разбросанное по разным зонам бесконечного пространства.
– Эрнест Ренан
...Эти люди вновь живут на отпечатках так же ярко, как 60 лет назад, в те дни, когда их образы запечатлелись на сухих пластинках… Я хожу по их переулкам, стою в их комнатах, гляжу из их окон и заглядываю через окна к ним. И они тоже как будто знают обо мне.
– Ансел Адамс, из предисловия к книге«Джейкоб А. Риис, фотограф и гражданин» (1974)
...Таким образом, фотографический аппарат – самый надежный помощник в обретении объективного видения. Все будут вынуждены увидеть то, что оптически истинно, объективно и объясняет себя на собственном языке, – прежде чем смогут занять какую-либо субъективную позицию. Тем самым будет покончено с живописными и образно-ассоциативными шаблонами, которые были оттиснуты на нашем зрении великими художниками и веками оставались незаменимыми.
Сто лет фотографии и два десятилетия кино колоссально обогатили нас в этом отношении. Мы можем сказать, что увидели мир совершенно новыми глазами. Тем не менее общий результат на сегодня немногим больше, чем визуальная энциклопедичность. Этого недостаточно. Мы хотим производить систематически, поскольку для жизни важно, чтобы мы создавали новые отношения .
– Ласло Мохой-Надь (1975)
...Тому, кто знает, как много значит любовь в семье среди низших классов, кто видел ряды портретиков, приколотых над камином рабочего… быть может, почувствует, как и я, что в противовес тенденциям, социальным и индустриальным, изо дня в день подтачивающим самые здоровые семейные привязанности, шестипенсовая фотография делает для бедных больше, чем все филантропы в мире.
– «Макмилланс мэгазин» [Лондон],сентябрь 1871 года
...Кто, по его мнению, захочет купить кинокамеру одноступенного процесса? Доктор Лэнд сказал, что хорошей кандидатурой считает домашнюю хозяйку. «Ей надо только навести камеру, нажать кнопку затвора и несколько минут спустя заново пережить забавное происшествие с ее ребенком или, например, вечеринку по случаю дня рождения. Кроме того, на свете много людей, для которых картинки важнее снаряжения. Любители гольфа и тенниса смогут оценить свою технику удара в немедленном воспроизведении. Такая простая в обращении техника была бы полезна и в промышленности, и в школах, и в других областях». Возможности камеры «Полавижн» ограничены только пределами вашего воображения. Применения этой камеры и будущих моделей неисчерпаемы.
– «Нью-Йорк таймс», 8 мая 1977 года(«Перспективная камера одноступенного процесса “Полавижн”»)
...Большинство современных копировщиков жизни, включая фотоаппарат, на самом деле ее отвергают. Мы глотаем зло, добром – давимся.
– Уоллес Стивенс
...Война ввергла меня, солдата, в самое средоточие механической атмосферы. Здесь я открыл красоту фрагмента. Я ощутил новую реальность в детали машины, в обычном предмете. Я пытался найти пластическую ценность в этих фрагментах нашей современной жизни. Я заново открыл их на экране, в крупных планах вещей, которые произвели на меня впечатление и повлияли на меня.
– Фернан Леже (1923)
...575.20 виды фотографии:
астрофотография
аэрофотография, съемка с воздуха
гелиофотография
инфракрасная фотография
кинематография
кинофотомикрография
макрофотография
микрофотография
миниатюрная фотография
«откровенная фотография»
пирофотография
радиография
рентгеновская фотография
скиаграфия
скульптография
спектрогелиография
спектрофотография
стробоскопическая фотография
телефотография
уранофотография
фонофотография
фотограмметрия
фотомикрография
фотоспектрогелиография
фототипия
фототипография
фототопография
хромофотография
хронофотография
цистофотография
– «Роже интернешнл тезорус», третье издание
...Вес слов. Шок от снимков.
– «Пари-матч», реклама
...4 июня 1857 года. Видел в особняке Дрюо первую распродажу фотографий. Наш век все окрашивает в черный цвет: фотография – это черный фрак жизни.
* * *...15 ноября 1861 года. Я иногда думаю, что наступит день, когда все современные страны станут поклоняться некоему американскому богу, богу, который прежде существовал как человек и о котором писали в популярной прессе: изображения этого бога будут установлены в церквях, но не такие, каким его вообразят разные художники, не колышущимся на салфетке Вероники, но запечатленные раз и навсегда фотографией. Да, я предвижу сфотографированного бога, в очках.
– Из дневника Эдмона и Жюля Гонкуров
...Весной 1921 года в Праге установили два недавно изобретенных за границей автоматических аппарата для фотографирования, которые давали шесть, десять или больше снимков человека на одном отпечатке.
Я принес Кафке такой набор снимков и весело сказал:
– За пару крон ты можешь сфотографироваться со всех сторон. Этот аппарат – механическое «Познай себя».
– Вы хотите сказать «Ошибись в себе», – с легкой улыбкой поправил Кафка.
Я запротестовал:
– В каком смысле? Фотоаппарат не может лгать!
– Кто вам это сказал? – Кафка наклонил голову к плечу. – Фотография обращает ваш взгляд на поверхностное. По этой причине она затемняет скрытую жизнь, просвечивающую сквозь очертания вещей, как игра света и тени. Ее не уловить даже самой чуткой линзой. Ее надо искать ощупью… Этот автоматический аппарат не умножает человеческих глаз, а только дает фантастически упрощенную картину, увиденную глазом мухи.
– Густав Яноух, «Разговоры с Кафкой»
...Жизнь присутствует во всей полноте на эпидерме его тела, энергия готова выплеснуться в зафиксированном мгновении, в запечатленной усталой улыбке, дернувшейся руке, мимолетном проблеске солнца сквозь облака. И ни один инструмент, кроме фотокамеры, не способен уловить столь сложные, эфемерные реакции и выразить все величие момента. Ничьей руке не под силу его выразить, ибо сознание не может удержать неизменной истину мгновения так долго, чтобы медленные пальцы успели записать огромную массу говорящих деталей. Импрессионисты тщетно пытались создать такую запись. Сознательно или бессознательно они хотели продемонстрировать на своих световых эффектах правду моментов; импрессионизм всегда стремился запечатлеть это чудо – «здесь и сейчас». Но мгновенные эффекты света ускользали от них, пока они занимались анализом; их «впечатление» оказывается обычно последовательностью впечатлений, наложившихся одно на другое. Стиглиц сориентировался лучше. Он прямо взялся за инструмент, для него созданный.
– Пол Розенфельд
...Мой инструмент – камера. Посредством ее я придаю смысл всему окружающему.
– Андре Кертес
...Двойное снижение, или метод, который сам себя одурачивает.
С дагерротипом каждый может обзавестись своим портретом – прежде могли только выдающиеся люди; однако же все направлено на то, чтобы все мы выглядели в точности одинаково. Так что нам понадобится только один портрет.
– Кьеркегор (1854)
...Сделать снимок калейдоскопа.
– Уильям Фокс Талбот (заметка от 18 февраля 1839 года)
Примечания
1
Будь у меня четыре дромадера ( фр .). (Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечания переводчика.)
2
Происшествий, случаев ( фр .).
3
На самом деле не ошибочно. Когда люди не знают, что на них смотрят, у них на лицах есть что-то такое, чего не бывает, когда им известно, что они на виду. Если бы мы не знали, как Уокер Эванс делал снимки в метро (он провел в нью-йоркском метро сотни часов, стоя, и объектив его камеры выглядывал из пальто между двумя пуговицами), из самих фотографий было бы ясно, что сидящие пассажиры, хоть и снятые крупным планом и анфас, не знали, что их фотографируют; выражение их лиц – собственное, а не то, какое они предъявили бы камере. ( Примечание Cьюзен Сонтаг, далее С.С .)
4
Найденные объекты ( фр. ), то есть попавшиеся случайно, а не выбранные намеренно.
5
«Мамаша Бижу» ( фр .).
6
Находки ( фр .).
7
Граф Лотреамон (1846–1870), «Песни Мальдорора»: «Прекрасен… как соседство на анатомическом столе швейной машины с зонтиком…» (перевод Н. Мавлевич).
8
«Ночной Париж» ( фр .).
9
Впрочем, это изменилось. Во время Второй мировой войны, когда требовалось поднять боевой дух народа, бедные стали слишком пессимистическим сюжетом. В 1942 году Страйкер в памятной записке сотрудникам указывал: «Нам немедленно нужны фотографии мужчин, женщин и детей, выглядящих так, что они действительно верят в США. Ищите людей, бодрых духом. В нашем архиве слишком много такого, что рисует США домом престарелых, где чуть ли не все так стары, что не могут работать, и настолько плохо питаются, что им нет дела до происходящего… Нам особенно нужны молодые мужчины и женщины, работающие на заводе… Домашние хозяйки у себя в кухне или на дворе собирающие цветы. Больше довольных жизнью пожилых семейных пар…» ( С.C .)
10
Для данного случая ( лат. ).
11
Найденных объектов ( фр .).
12
«Воскресные люди» ( нем .).
13
На русский обычно переводится как «Терминал» или «Взлетная полоса» ( фр .).
14
Красота – это правда ( фр .).
15
Трактовка фотографии как обезличенного видения, конечно, все еще имеет своих защитников. В среде сюрреалистов фотография считалась деятельностью, высвобождающей до такой степени, что она выходит за обычные границы самовыражения. Свою статью 1920 года о Максе Эрнсте Бретон начинает с того, что называет автоматическое письмо подлинной фотографией мысли; камера рассматривается как «слепой инструмент», чье превосходство в «имитации реальности» оказалось «смертельным ударом по старым формам выражения как в живописи, так и в поэзии». В противоположном эстетическом лагере теоретики Баухауса занимали отчасти похожую позицию, считая фотографию, как и архитектуру, подвидом дизайна – творческим, но не личностным ремеслом, не обремененным такими суетными излишествами, как живописная поверхность и своеобразие манеры. В своей книге «Живопись, фотография, фильм» (1925) Мохой-Надь превозносит камеру за то, что она навязывает «гигиену оптического», которая в конце концов «упразднит живописные и образно-ассоциативные шаблоны… оттиснутые на нашем зрении великими индивидуальными художниками». ( C.С .)
16
«Даггеровские путешествия: самые замечательные виды и памятники Земли» ( фр .).
17
«От материала к архитектуре» ( нем .).
18
Сильное влияние фотографии на импрессионистов стало общим местом в истории искусства. Вряд ли можно счесть большим преувеличением слова Стейхена, что «художники-импрессионисты придерживаются чисто фотографического стиля композиции. На фотографии мир предстает в виде контрастных областей света и тени; изображение свободно или произвольно обрезается; фотографы не заботились о том, чтобы сделать пространство – в особенности на заднем плане – внятным. Все это вдохновляло импрессионистов с их научным интересом к свойствам света, экспериментами с уплощенной перспективой, непривычными ракурсами и децентрализованными формами, обрезаемыми краем картины. («Они изображают жизнь в обрывках и фрагментах», – отмечал в 1909 году Стиглиц.) Историческая деталь: самая первая выставка импрессионистов в апреле 1874 года была устроена в фотостудии Надара на бульваре Капуцинок в Париже. ( C.С .)
19
Перевод Б. Скуратова и И. Чубарова.
20
Первоначально «пикториальный» было, конечно, положительным эпитетом; его ввел в обиход самый знаменитый фотохудожник XIX века Генри Пич Робинсон в книге «Пикториальный эффект в фотографии» (1869). Эбботт в своем манифесте 1951 года «Фотография на распутье» говорит: «Его системой было приукрашивать все». Превознося Надара, Брэйди как мастеров фотодокумента, она осуждает Стиглица как наследника Робинсона и основателя «суперпикториальной школы», в которой «господствовал субъективизм». ( C.С .)
21
Претензии фотографии, конечно, гораздо старше. Именно мгновенное искусство фотографии при посредстве машины стало образцом для привычной ныне практики в искусстве, когда подготовка уступает место неожиданной встрече, усилия – решению, сделанные (или придуманные) объекты – найденным объектам или ситуациям. Именно с фотографией родилась идея искусства, возникающего не путем беременности и родов, а из «свидания вслепую» (теория «рандеву» Дюшана). Но фотографы гораздо менее уверены в себе, чем их сверстники-художники, последователи Дюшана, и обычно спешат заявить, что мгновенному решению предшествует долгая тренировка восприимчивости, глаза, а легкость процесса съемки не означает, что фотографу требуется меньше умения, чем живописцу. ( C.С .)
22
Валери утверждал, что фотография оказала такую же услугу литературе, обнажив «иллюзорность “усилий языка” передать сколько-нибудь точно идею визуального объекта». Но писатели не должны бояться, что фотография «сможет в конце концов ограничить важность искусства письма и заменить его собой», – говорит Валери в «Столетии фотографии» (1929). Если фотография «убеждает нас отказаться от описаний, – утверждает он, – то тем самым напоминает нам о границах языка и советует употребить наши инструменты для целей, более соответствующих их истинной природе. Литература очистилась бы, если бы оставила другим формам выражения и творчества задачи, которые они могут решать гораздо эффективнее, и посвятила себя целям, которых она одна способна достичь… Одна из них – совершенствование языка, конструирующего и излагающего абстрактную мысль, другая – исследование всего многообразия поэтических структур и резонансов».
Аргументы Валери неубедительны. Хотя о фотографии можно сказать, что она показывает или представляет, она, строго говоря, не может «описывать»; только языку доступно описание – это процесс временной. В качестве доказательства Валери предлагает раскрыть паспорт: «Описание, нацарапанное там, не выдерживает сравнение со снимком, приклеенным рядом». Но это – описание в самом убогом смысле; у Диккенса или Набокова встречаются описания лица или части тела, которые лучше любой фотографии. Не может служить доказательством меньших описательных возможностей литературы и другой аргумент Валери: «Писатель, изображающий пейзаж или лицо, каким бы ни было его мастерство, предлагает столько разных картин, сколько у него читателей». То же относится и к фотоснимку.
Подобно тому, как о фотографии думают, будто она освободила писателей от обязанности описывать, часто высказывают мнение, что кино отобрало у романиста задачу повествования – и тем самым, утверждают некоторые, освободило роман для решения других, менее реалистических задач. Этот аргумент более правдоподобен, поскольку кино – временное искусство. Но он не отдает должного соотношению между романами и фильмами. ( C.С. )
23
Средство информации есть содержание информации ( англ .).
24
Я заимствую рассуждение о реализме Бальзака из «Мимесиса» Эриха Ауэрбаха. Ауэрбах анализирует отрывок из начала «Отца Горио» (1834). Бальзак описывает гостиную в пансионе Воке в семь часов утра и появление самой мадам Воке «…Ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность… Бледная пухлость этой барыньки – такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников». Появлением хозяйки картина завершается. ( С.С .)
25
«Ужасные дети» ( фр .).
26
См. «Гнусные цели, грязные трюки – критика антикитайского фильма Антониони “Китай”» (Пекин, «Форин ленгуэджис пресс», 1974) – 18-страничную анонимную брошюру, перевод статьи из газеты «Женьминь жибао» от 30 января 1974 года, и «Осуждение антикитайского фильма Антониони», («Пекин ревью», № 8, 22 февраля 1974 года), где приведены в сокращенном виде три другие статьи, напечатанные в том же месяце. Задача статей, разумеется, не изложение взглядов на фотографию – эта тема возникает как побочная, – а создание образа идеологического врага в русле других воспитательных кампаний, проводившихся в тот период. При такой задаче вовсе не было надобности в том, чтобы десятки миллионов людей, согнанных на митинги в школах, на заводах, в воинских частях и коммунах по всей стране, для «Критики антикитайского фильма» видели его сами – так же как участникам кампании «Критики Линь Бяо и Конфуция» в 1976 году вовсе не надо было прочесть текст Конфуция. ( C.C .)
27
Китайская установка на повторность изображений (и слов) способствует распространению дополнительных картинок, фотографий, изображающих сцены, где явно не мог присутствовать фотограф, и постоянное использование таких картинок говорит о том, насколько слабо понимает население смысл фотографического изображения и вообще фотографирования. В книге «Китайские тени» Саймон Лейс приводит пример из массовой кампании середины 1960-х годов «Соревноваться с Ли Фаном». Целью ее было внедрение маоистских гражданственных идей через апофеоз Неизвестного Гражданина, 20-летнего солдата Ли Фена, погибшего в результате обыкновенного несчастного случая. На выставках Ли Фена в больших городах демонстрировались «фотографические документы, такие как “Ли Фен помогает старой женщине перейти улицу”, “Ли Фен тайно (!) стирает белье товарища”, “Ли Фен отдает свой обед товарищу, забывшему свою коробку с обедом” и т. п.». И, по-видимому, никто не усомнился в «провиденциальном присутствии фотографа при различных происшествиях из жизни этого скромного, дотоле безвестного солдата». В Китае изображение тогда правдиво, когда народу полезно на него смотреть. ( C.C .)
ОглавлениеВ Платоновой пещереАмерика в фотографиях: сквозь тусклое стеклоМеланхолические объектыГероизм виденияФотографические евангелияМир изображенийКраткая антология цитат
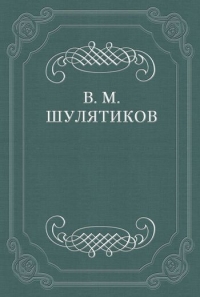
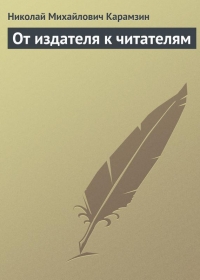

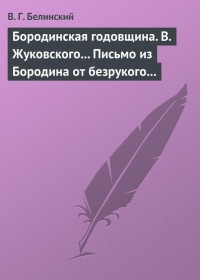
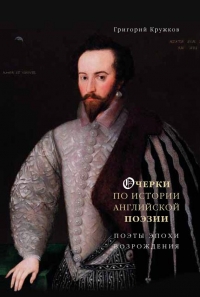
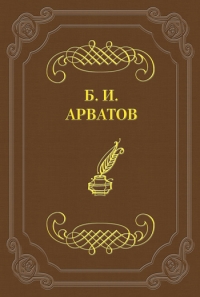
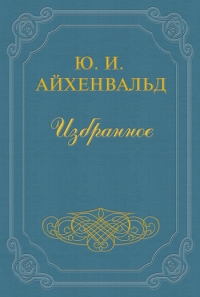
Комментарии к книге «О фотографии», Сьюзен Зонтаг
Всего 0 комментариев