В нынешний зимний сезон у нас в Петербурге много художественных выставок, как в конце 1897, так и в начале 1898 года. Иные из них очень интересны, другие очень поучительны; но как те, так и другие наводят на мысли о нынешнем положении русского искусства, о его движении и направлении. Все их разбирать я не стану, но о некоторых, главнейших, попробую высказать свои взгляды.
Из этих выставок иные уже кончились, а во время их существования было достаточно о них написано в разных журналах, — стало быть, иной, пожалуй, скажет: что же о них снова подымать речь? Все уже сказано. Но я думаю — что не все, и что нечего бояться запоздалости, когда представляется надобность и вместе возможность сравнивать одну с другой и определять их взаимное отношение и связь, а может быть и влияние.
I
Я намерен раньше всего начать с выставки русских и финляндских художников, которая только на-днях открылась и является, до настоящей минуты, последнею.
Ожиданий от этой выставки было много, о ней и говорили, и писали очень задолго до ее открытия, на нее возлагались особенные надежды… По этой части можно привести очень значительные слова И. Е. Репина, сказанные им еще в начале зимы репортеру, являвшемуся к нему Для ревью, и напечатанные потом в «Варшавском обозрении» 11 ноября прошлого года (№ 50). Репортер спросил И. Е.: «Не замечаете ли вы влияния новейших европейских художественных движений, например, „импрессионизма“, на русское художество?» И. Е. Репин отвечал: «Почти никакого влияния до сих пор. Насколько помню, единственным опытом в этом роде была выставка Ционглинского и Кравченки. Пионглинскому нельзя было отказать в таланте; впрочем, он поляк, и темами своими имеет мало общего с нашею живописью. Кравченко…» (что такое для него г. Кравченко, И. Е. Репин так и не сказал, потому что репортер прервал его своими собственными рассуждениями; но потом он продолжал): «На январь предположено устроить выставку наимладших художников; разве что там возможно будет заметить, насколько импрессионизм существует у нас. Это выставка, о которой ходили слухи в периодической печати, как о выставке импрессионистов. Но сами инициаторы отвергали это…»
Итак, от нынешней выставки уже вперед многое ожидалось. Она должна была что-то показать, что-то доказать, что-то особенное выразить, в чем-то убедить. Один из единомышленников И. Е. Репина, по части проповеди необходимости «декадентства» и других новейших художественных совершенств, г. Кравченко, только что выставка в музее Штиглица открылась, тотчас же с восторгом напечатал, что присутствие на этой выставке нескольких передвижников доказывает протест против принципов и стремлений передвижников, доказывает, что им с товарищами тесно и что они ищут новой опоры.
Это заявление оказалось довольно удивительным. Кто из передвижников притеснял товарищей, кто их изгонял, кто не давал им места? Кто требовал такого-то направления, а не такого-то? Странно, изумительно звучали обвинения, как что-то клеветническое. Продолжая свои обычные атаки на ненавистных для него передвижников, г. Кравченко говорил: «Недовольство стариками на передвижной выставке породилось уже давно: то Репин вышел из Товарищества, то выходит Ендогуров, наконец, перед нами немой, но очень сильный по мимике протест В. Серова, Коровина, Ап. Васнецова и др.» Но ведь все тут неправда и выдумка. Репин вышел из Товарищества вовсе не из-за того, что его которых-то картин не принимали, но также и вовсе не из-за несогласия с мнениями Товарищества, а из-за вопросов внутренней администрации и распорядка общества, и последнее доказывается всего лучше тем, что, по выходе из состава Товарищества, И. Е. Репин ровно ничего не изменил ни в содержании, ни в технике своих картин, а продолжал выражать свое творчество совершенно в прежних своих формах и технических приемах; г. Ендогуров точно так же имел с Товариществом столкновение лишь со стороны административной или распорядительной и ничуть не с художественной. Гг. же Серов, К. Коровин, Ап. Васнецов и др. вовсе никаких неприятных столкновений с Товариществом не имели и ни на какое «притеснение», как физическое (для своих картин), так и художественное и интеллектуальное (для своего творчества), не могли жаловаться. И это вполне доказывается словами самого же г. Кравченки, в этой же самой статье его. Он тут именно говорит: «Насколько мне известно, ни Серов, ни К. Коровин, ни Ап. Васнецов еще не думают уходить с передвижной». Для каждого из них были всегда распростерты объятия Товарищества, и на выставках этого последнего они были всегда желанные гости.
Оставляя в стороне эти напрасные и непонятные клеветы, посмотрим на нынешнюю выставку.
Когда войдешь в большую залу Штиглицевского музея и окинешь взором все помещенное там на нынешней выставке, получаешь какое-то странное, неопределенное впечатление. Перед вашими глазами стоит какой-то хаос, какая-то смесь вещей самых противоположных. Тут есть и произведения очень талантливые, и произведения очень неталантливые, а только бестолковые и беспутные. А почему так все вышло? Потому, что выставка являлась затеей и произведением одного человека, который мог делать, что хотел, что пришло ему в голову, никого не спрашиваясь и никому не давая отчета.
Рассказывая про устройство нынешней выставки, г. Кравченко прославляет г. Дягилева, считает эту выставку великим подвигом его, говорит, что, не будь г. Дягилева, нерешительность «недовольных», чувствующих «тесноту», продолжалась бы еще несколько лет и неизвестно, когда бы кончилась. Эти все господа, как и все прочие (?!), предпочли, говорит он, «чтобы за них думал и делал г. Дягилев, а они довольны уже и тем, что их пригласили и что у них взяли картины».
Все это истинная правда, но эта истинная правда — бесконечно печальна. Целая масса художников, взрослых, кончивших свои классы, свое образование, обязанных заботиться о своей участи, деятельности- именно и не желают заботиться ни о чем и вручают бразды правления над собою постороннему человеку, и что он велит, что выберет, что решит, куда поведет, куда толкнет — тому так и быть. Как же они не видят, как же не понимают, что принцип передвижников — совсем противоположный и настоящий; что там всякий художник должен заботиться сам о своем деле, о своей картине, об ее участи, обо всем до него и до нее касающемся, должен сам чувствовать свои права и обязанности и стоять за них? Но они всего этого не понимают й не видят и ведут себя, как настоящие дети. Они сторонятся, как от врага, именно от того, что должно было бы быть им всего дороже.
Я, конечно, ничего не имею против г. Дягилева, как против всякого предприимчивого человека, и если кому удается делать что-то хорошее и полезное, я могу только радоваться и аплодировать. Но думаю, что в деле художества не надо оставлять на плечах у одного всю эту заботу и тягость, которые должны быть распределены по многим разным плечам. Я думаю, что если бы за других не делал и не думал все один и тот же человек, то от этого вышло бы что-то получше и поважнее того неимоверного хаоса, который царствует на нынешней выставке. Мне кажется, что, действуй распорядитель не все один да один и не все сам да сам, а советуйся он с теми, кого «приглашал», кого «выбирал», беседуй он с ними, было бы гораздо лучше. Г-н Дягилев выбирал, приглашал, а другие (по словам г. Кравченки) только глазами хлопали, — вот в этом-то все и зло. К чему может вести всякая бесконтрольность в искусстве? К капризу, к непоследовательности, к произволу, к неуважению чужого мнения, чужой личности. А в этом ничего хорошего еще нет.
Есть люди, которые обвиняли и обвиняют Товарищество передвижников (особливо за последнее время) в деспотизме, в нетерпимости — не знаю, сколько правды в таком обвинении, и таких фактов, сколько мне известно, не бывало. Но согласимся на минуту, что это правда, что такой деспотизм и такая нетерпимость у Товарищества были — что же тут хорошего, когда на смену прежнего деспотизма придет новый? Не о чем было хлопотать! Нечего было менять! Не о чем было в барабан бить!
Нынешняя выставка навязывает нам, словно камень на шею, да в кулек, да в воду — множество такого, что ужасает, что просто никуда не годится.
Пять лет тому назад, в 1893 году, И. Е. Репин начал у нас свою проповедь «искусства для искусства» и гонение на «сюжет» и «содержание» в картинах. Это интересное учение нашло себе последователей. Может быть, иные из этих господ уже и помимо Репина принялись исповедывать этот самый культ, может быть, у иных из их числа у самих лежали в груди зачатки нежной страсти к «безмыслию» и «бессмыслию», к бессодержательности и бессюжетности — может быть! Может быть, они все уродились такими «эллинами», такими классическими греками времен до рождества христова, что для них только и есть на свете, что «красота», а на все прочее наплевать — пускай, пускай! Не станем в настоящую минуту спорить с ними — на то были у нас другие оказии, наверное будут еще иные впереди — оставим этих людей в их любезном заблуждении, согласимся на минуту, что никаких сюжетов для произведений искусства нынче уже не надо, что всякие задачи из истории и жизни не что иное, как чепуха, заблуждение и скука, что это все требования устарелые и никуда более не годные. Прекрасно! Но посмотрим, чем же все прежнее должно замениться, что именно предназначено в новейшее «наше» время стать на место всего, наполнявшего «прежнее искусство»?
Взглянем с одного конца выставки до другого, поищем глазами, чему дано первое, главное место в этой зале, что пользуется наивысшей симпатией распорядителя? Это — картина г. Врубеля, озаглавленная — «Утро. Декоративное панно». Картина эта огромна; она стоит на самом почетном, центральном месте всей залы. Но ведь тут нет не только и признака какого-нибудь «утра», но также и тени какой-нибудь «декоративности». От начала и до конца тут нет ничего, кроме сплошного безумия и безобразия, антихудожественности и отталкивательности. Дело происходит в лесу, но в таком лесу, где ровно ничего разобрать нельзя, кроме зелени, словно пролитой из ведра по холсту и размазанной щетками. Ни деревьев, ни ветвей, ни листьев, ни корней, ни разнообразных планов, ни перспективы какой-нибудь, ни близости, ни удаления — ничего подобного тут нет, а только находятся какие-то очень плохие женские фигуры, стоячие и лежачие, совершенно слившиеся с общим зеленым фоном и едва-едва различимые. Что это за женщины, на что они тут, зачем они так плохи, что собою изображают и, наконец, вообще, зачем они писаны, когда все дело только в том, чтобы их нельзя было видеть — кто разберет, кто объяснит эту неимоверную чепуху? Представьте себе человека, который набил бы себе полон рот каши, так что там внутри язык не может даже поворачиваться, и что ни говорит этот человек, вы ни единой буквы не разбираете. Переспрашивайте его, сколько хотите, все равно, ничего не поймете. Вот такова и картина г. Врубеля. Сколько ее ни рассматривайте, и прямо, и сбоку, и снизу, и сверху, пожалуй, даже хотя сзади — все равно везде одна чепуха, чепуха и чепуха, — безобразие, безобразие и безобразие. Казалось бы, для кого это писано? Кому этот неимоверный вздор нужен? Он, казалось бы, может только всех отталкивать. Но нет, под картиной стоит билетик: «продано». Как это поразительно! Й* есть на свете такие несчастные люди, которые могут сочувствовать этому сумасшедшему бреду, намерены приютить его в залах, в комнатах, пожалуй, в музеях? Изумительно! И это все надо считать движением вперед, усовершенствованием искусства, возвышением над тем, что прежде было!!
Но г. Врубель не удовлетворился одним «декоративным панно», ему было этого мало, ему надо было показать, куда еще должны шагать, на наших глазах, также и другие искусства. Например: скульптура. Он представил целых два образца (из гипса) той скульптуры, которая как раз соответствует нашему времени, да вместе с тем должна соответствовать и будущему времени. Первый образец — нечто вроде огромной маски, с искаженными чертами и растопыренными глазами и с целой копной волос вокруг головы. Увидав в первый раз эту маску на выставке, я было подумал, что это голова Людовика XIV в огромном его парике, со злым командирским лицом. Но оказалось, что это не Людовик XIV, а «Демон». Все демоны, все демоны, отчего это они так по вкусу г. Врубелю (вспомним его ужасные иллюстрации Лермонтова); отчего они вечно так нужны для его творчества? Что за интерес, что за потребность странная такая? Другая скульптура г. Врубеля — голова великана из «Руслана». Тут опять все только одни безобразия и чудовищности. И тип этой спящей головы, и негодненький, дрянной не шлем, а шлемишка, сползший у ней на затылок, и оттопыренные губы, и курносый чухонский нос, и громадные уши, как у слона, и чепуха всех линий, с какой стороны ни посмотреть на эту голову — все вместе возмутительно, безобразно и гадко.
И такие-то вещи г. распорядитель выставки облюбовал, взлелеял в художественном восторге и выставляет нам как образцы нового, настоящего искусства, являющегося на смену прежнего. Чтобы добывать подобные безобразия, г. распорядитель ездил близко и далеко, просил, уговаривал, приглашал, выбирал и столько, столько хлопот употреблял, чтобы в конце концов получить такую гадость и морочить ею других. Нет, нет! Напрасно г. Кравченко хочет нам всучить в голову, что, не будь г. Дягилева, гг. художники еще долго сами собой не сделали бы такой выставки, и мы долго были бы лишены ее счастливых результатов. Мне кажется, многие вздохнут и скажут: «Ах, вашими бы устами мед пить! Ах, кабы обойтись без этаких выставок, и даже во сне не видать таких „Утр“, таких „Демонов“, таких „Русланов“! И в самом деле, видано ли у самых отчаянных из французских декадентов что-нибудь гаже, нелепее и отвратительнее того, что нам тут подает г. Врубель?
Но распорядитель выставки не остановился на одном г. Врубеле. Он пошел и с великим рвением и усердием наприглашал множество других новоявленных юродствующих художников, кого из русских, а кого и из финляндцев, все по декадентской части. Из последних особенно отличаются у него: г. Гален, с безобразными, по художеству, страшилищами, назначенными иллюстрировать какие-то сцены из финской поэмы „Калевалы“. Рисунки, письмо, колорит, композиция этого художника — чудовищны, хуже наихудших сочинений лубочных рисунков, но, видно, сильно нравятся г. распорядителю, когда он выставил эти картины тоже на самом почетном месте залы, на другом ее конце, прямо против „Утра“ г. Врубеля. Странные вкусы, изумительные фантазии, назначенные помогать водворению и пропагандированию нового великого искусства! Другие картины этого же художника (два портрета, „Яркий закат“ и пр.) — образцы того же безобразия, и только пейзаж „Иматра“ представляет что-то похожее на хорошее изображение полузамерзшего, полуклокочущего жизнью знаменитого нашего водопада. Кроме г. Галена, на выставке целый взвод безобразий гг. Энкеля („Адам и Ева“, исковерканный, как в ортопедическом заведении, мальчик, под названием „Декоративный этюд“), Эрнсфельта („Полуденный отдых“, „Играющие дети“, раскоряки с громадными пятками, а также „Зеленые островки“, где отблески солнца на воде писаны прямо полосами золота); наконец, вся скульптура Вальгрена, вылепленная в Париже и потому не представляющая ничего, кроме декадентских французских безобразий, в лице всех тощих, похожих на червяков, фигур под названием: „Нищета“, „Жизнь и смерть“, „Утешение“, „Слепой“, „Бра“ и разные погребальные урны. Из финляндцев лучше других некоторые пейзажи у Бломстеда: „Кладбище“ (с прекрасно представленным светом на горизонте, под деревьями), „Старинная мелодия“, „Солнечные лучи“, но у него же вполне негоден опять-таки „Эпизод из Калевалы“, где исковерканный мальчик рубит дерево среди мутного тусклого пейзажа. Лучше всех из финляндцев, конечно, Эдельфельт, а у него замечательнее всего картина „Прачки“, полная здорового, свежего реализма и жизни; отчасти хороши у него „Похороны ребенка“ и „Озеро в Финляндии“ с прекрасными тонами воды и неба, но, к несчастью, Эдельфельт, за время своего долгого пребывания в Париже, сильно офранцузился и обезличился, что неприятно поражает во многих картинах его 80-х и 90-х годов (некоторые из самых „французистых“ были также недавно, на выставке и у нас в Академии художеств). В общем итоге, почти все выставленное финляндцами на нынешней выставке мало утешительно и выбору г. распорядителя приносит мало славы. Какое же тут новое искусство? Какие же тут новые завоевания и новые результаты?
Уже гораздо выше стоит русская часть выставки. Но тут надо различать две половины: одна состоит из картин тех наших художников, которые, следуя нынешним модам, бросились, очертя голову, в Париж, уповая всей душой на его спасительную и возвышающую силу — подобно тому, как сотни, чуть не тысячи наших певцов и певиц, тоже очертя голову, толпами бегут в Милан, Рим или Неаполь, — но все кончается у них всех тем, что они ничего хорошего домой с собою не приносят, кроме разных иностранных банальностей и рутин, а что есть в Европе важного и хорошего — до того и не дотрагиваются. Ведь даже сам И. Е. Репин, столько советующий ездить художникам в Париж, писал: „Я видел работы многих учеников, приезжавших из школ Кормона, Бенжамен-Констана, Жюльена и других. Все они довольно однообразны и рутинны по приему. Правда, они не страдают ни дурным вкусом, ни грубыми ошибками. Все прилично, гладко, условно“. Это как раз относится к большинству и певцов, и живописцев наших, бегущих в Милан и Париж. Конечно, что-нибудь иной раз да получается; но всего чаще — игра не стоила свеч. Можно было большинству этой молодежи из дому и не трогаться вовсе. Что толку в той рутине (хотя бы даже отчасти красивой, но чаще ничего не стоящей), которую одну только они с собою сюда привозят? Право, лучше бы, просто-напросто, им всем, или почти всем, дома остаться. Так, например, стоило ли г-же Якунчиковой жить и учиться в Париже, чтобы рисовать нелепую декадентскую женскую головку, не то что рыжую, но просто с красными волосами, у которой под носом торчит какой-то цветок или орнамент, словно он выпал у ней из носу; стоило ли г. Сомову ехать в Париж и долго жить там, чтобы рисовать потом его „Радугу“, ужасно плохую уже и саму по себе, да еще плохую от тех плохих дам, которые прогуливаются под деревьями; или его „Август“, или „Прогулку“ с нелепой и безобразной кавалькадой, точно прямо взятой с стенных карикатурных афиш парижских улиц? Стоило ли г. Ф. Боткину ехать в Париж, там долго жить и учиться, чтобы потом рисовать свои „женские силуэты“ на оранжевых фонах, с безобразной орнаментикой из листвы вокруг, — совершенную рабскую копию с декадентских подобных же рисунков, сотнями и тысячами являющихся всякий день в Париже? Стоило ли г. Е. Лансере ехать в Париж и долго там учиться и жить, чтобы рисовать потом свои иллюстрации к „бретонским сказкам“ и свои „декоративные рисунки“, где человеческие фигуры торчат кривые и косые, без малейшей натуры, волны — в виде правильных ромбов мозаики, какие-то колоссальные оплывшие свечи в подземелье, то небывалые кусты и растения, все что уюдно, кроме того, что в самом деле на свете есть. Таких печальных примеров на нынешней выставке много. И над всем этаким-то декадентским хламом г. Дягилев является каким-то словно декадентским старостой, копит, отыскивает, „приглашает“, везет к нам в Петербург, со всех краев, и этому хламу мы должны кланяться, благодарить и веровать, что это-то и есть самое настоящее, нынешнее и будущее искусство?
Очень надо было отказываться и от прежнего искусства, и прежних талантливых его представителей, отказываться и от сюжетов, и от содержания, и от здравого смысла, и от разума, от всего, всего, чтобы только вот чем щегольнуть и блеснуть?!
Какой ужас!
Но от всей этой оргии беспутства и безумия я совершенно отделяю несколько хороших и талантливых произведений, которые стоят тоже на выставке, но громко кричат против нее и представляют собою точно яркие, блестящие какие-нибудь куски прекрасной материи, безобразно пришпиленные среди дырявого, грязного одеяла. Это картины таких, в самом деле, талантливых людей, как Серов, Ап. Васнецов, Левитан, Рябушкин, Пурвит. Зачем они сюда попали, зачем их авторы дали себя уговорить, соблазнить, перевести из хороших мест в худые, из добрых своих мастерских в богатый, но безвкусный и банальный зал Штиглицевского музея?
Говоря знаменитыми словами Жеронта (у Мольера) — „Qu'allaient us taire dans cette galère?“ Чего им еще тут надо было?
Из портретов и этюдов юного Серова одни блестящи и правдивы, другие просто великолепны (например, портрет с конем великого князя Павла Александровича, весь блистающий золотом лат и каски на солнце и ярком воздухе, и портрет молодой г-жи Мамонтовой [1887 года], или еще чудесный этюд „Осень“); чудные проекты декораций к опере „Хованщина“ Ап. Васнецова; „Adagio“, „После бурного дня“ и „Первый снег“ Пурвита; даже замечательна „Улица в Москве XVII века“ Рябушкина (несмотря на мелочность мотива и преувеличенную неверность подробностей); наконец, эскиз „Над вечным покоем“ Левитана — это все вещи замечательные и истинно художественные (особливо оба портрета Серова). Зачем им было являться среди декадентских нелепостей и безобразий?
Можно и должно было бы также с почетом и симпатией упомянуть о портретах и этюдах К. Коровина, но этот талантливый художник чересчур офранцузился и все менее и менее становится способен интересовать индивидуальным, самостоятельным искусством. Он слишком раб других. У него, кроме внешнего мастерства, ничего нет.
Мне пришлось нарушить порядок в моих статьях о выставках. Сначала нездоровье, а потом обстоятельства помешали мне продолжать эти статьи, когда надо было и когда мне хотелось; теперь же, принимаясь снова за их продолжение, я все-таки должен сперва говорить не о выставках французской, голландской, японской, скандинавской, английской, наконец, о выставке афиш — вообще, о недавних выставках иностранных, — а о самоновейших русских: в Академии наук, в Академии художеств, в Обществе поощрения художеств. Одни из них уже открылись, другие открываются на-днях, и потому на них необходимо взглянуть наперед. Те все равно не уйдут, и о них никогда не поздно будет говорить. Меня иногда упрекали иные из моих читателей, а иногда и редакции, что я запаздываю со своими отчетами. Дорого, дескать, яичко в христов день. А я думаю, что это совсем не так или, по крайней мере, далеко не совсем так. Если в такой-то или такой-то выставке ничего другого нет, кроме того, что можно указать или что высказать именно вот в самую первую минуту, а потом, пожалуй, и вовсе ничего не стоит, то, право же, лучше, мне кажется, так ничего и не говорить. Придут, посмотрят, покалякают немножко, разойдутся, забудут окончательно и навеки. Значит, все равно, что ничего не было, ничего не выставляли, ничего не видали. Стоит ли тогда на такое негодное дело тратить и бумагу, и перо, и чернила, и типографию? Но если, напротив, в выставке было что-то такое, тогда нет греха говорить про нее или про то, что на ней было особенного, в хорошую или дурную сторону, — хотя бы даже капельку и попозже. Авось-то яичко будет красное и после христова дня. Христовых славельщиков и без меня довольно.
Иные жалуются, что у нас нынче расплодилось слишком много художественных выставок. Мне, напротив, кажется, что тужить тут нечего. Что хорошего было, когда прежде, во время оно, устроится весной в Академии одна единственная годичная выставка, все туда наведаются в указанный день и час, потом мирно разойдутся, и на том все художественные счеты кончатся — до будущего года. Что тут было хорошего? Право же, ничего. Ведь в те времена и вообще-то все мнения бывали у нас одноцветные, без всякой физиономии. Все шагали в одну ногу. Но с тех пор много воды утекло. Стали мнения разделяться. Стали разнообразные понятия и взгляды выходить понемножку наружу, не только в делах общих, европейских, касающихся целых народов, народностей, племен, но даже пошло вдруг так, что внутри одной и той же семьи началась разница вкусов, симпатий, преданностей и антипатий, любви и ненависти, энтузиазмов и презрении, о каких прежде и помина не бывало. Тургенев как-то пренебрежительно указывал на русские споры, ожесточенные, упорные, бесконечные, на которые будто бы понапрасну тратилось столько времени и сил. Но его мягкой, доброй, женственной натуре, столько понимавшей во всем русском, столько талантливо изображавшей многое из всего нашего народного, как-то чужда и антипатична была на этот раз такая черта нашего отечества, которая не антипатии заслуживала, а всего внимания и симпатии, всего изучения и глубокой отметины. Мыслители Европы понемногу начинают теперь указывать на то, что дух критики — одна из характернейших особенностей нашего народа. Из-за него нас нынче любят и уважают. И в самом деле, оно так и есть — это наша гордость и сила, везде, в чем хотите, и во всем народном, и в науке, и в литературе, и в искусстве. Не все же только из-за пустяков и невинных вздоров ссорятся и спорят у нас в обществе. Уж много людей, глядящих вглубь и дальше других, остальных. Из-за самостоятельного мнения и направления у нас идут уже кровопролитные (хотя и бескровные, по счастью, покуда) бои. И, мне кажется, чем дальше будет время итти, тем больше будет у нас розни и разнообразия мысли, и вкусов, и аппетитов во всем, во всем. Покуда же это в особенности чувствительно — в искусстве, в мирном, кротком, безобидном искусстве. И слава богу. Пускай разнообразные характеры, нравы, привычки, умения, способность к ошибкам и отстаиванию своего мнения окрепают, растут, мужаются, привыкают носить броню, учат руку владеть надежным оружием борьбы. Искусство, общий уровень, окончательные результаты всего художественного хода и движения — только выиграют.
Из числа открывшихся уже выставок две представляют совершенно противоположных вида и явления… Обе явились в академических залах, но ничего не имеют схожего одна с другою.
В залах Академии художеств компания художников, почти вся сплошь состоящая только из художников-молодежи и притом молодежи, которая только немного дней тому назад выступила из сословия учеников. Она рвется и мечется вперед, хлопочет, пенится и кипит, как молодое вино. В залах Академии наук, напротив, компания художников, почти все только пожилых или с проседью, которые видели уже много видов, да и показывали видов — тоже немало. Те все еще почти нигде не бывали, нигде еще себя не показывали, здесь первый их выезд, они выступают в свежих костюмчиках, неизмятых галстучках, фалдочках и воротниках. Эти — уже в поношенных фраках, с твердо сложившимися складками, в надеванных много раз перчатках и со шляпами-клак подмышкой, на которых пружины уже давно твердо отпечатались.
С кого начинать? Начну с последних. Ведь принято с beau sexe'a.
Когда на всемирной парижской выставке 1889 года выстроена была Эйфелева башня, — это уродливая, противная затея из железа тотчас же прославилась на весь мир. Тысячи, десятки тысяч людей уже из глубокой дали своих стран восхищались ею, а приехав в Париж, первым делом спешили полюбоваться на безобразное чудище и вскарабкаться на его террасы. Но все, что было художественного в Париже и Европе, с ненавистью и отвращением смотрело на башню, и Мопассан уехал из Франции вон, чтобы только от нее избавиться и долее не терпеть ее презренного кошмара. И, однакож, все это зло было не так велико, как то зло, что для перезванивания о новой художественной гадости, всем столько драгоценной, было тогда же выдумано в Париже и пущено на весь свет новое слово. Это слово было: „Le clou de l'exposition“ (гвоздь выставки). Это нелепое слово было еще нелепее самой Эйфелевой башни, но оно оказалось аппетитным и любезным для большинства, и с тех пор нет от него отбоя. Обрадовалась толпа, и твердит его вот уже целых десять лет. Десять лет! Мало это? Чего-чего только не перешло и не случилось в эти десять лет? Великие люди оказывались вдруг маленькими, маленькие — великими, нации роняли себя собственными же руками с пьедесталов, другие собственными же руками карабкались на крутизны, цеплялись зубами и все-таки падали под ударами кнутов, торжественные гимны раздавались рядом со скрежущими проклятиями, горькие слезы лились рядом со светлыми радостями, чего-чего только не перебывало и не сменилось, а банальное слово из Парижа все продолжает развеваться над миром, как благодатное знамя какое-то, и ласкать взгляды и вкусы толпы.
Пойдите на ту сторону Невы, между Дворцовым и Николаевским мостами, войдите в залы Академии художеств и послушайте тамошнее жужжание стройных затянутых дамочек, с высокими торчащими в потолок куриными перышками и галкиными крылышками, окиньте взором толпу черных сюртуков, и вы везде услышите раньше и чаще всего: „Le clou! le clou!“ (гвоздь! гвоздь!).
Впрочем, они все, может быть, только повторяют то, что в печати стоит?
О, господи боже мой, неужели на глупое слово износа нет? Неужели на него мало было десяти лет, целых десяти лет? Нет, видно мало. Да хоть бы кто-нибудь растолковал, что даже и в самом-то Париже, нашем главном университете, давно уже бросили, вышвырнули и позабыли то драгоценное словцо!
Но кто же, кто же, однако, оказывается теперь у нас самым clou новой выставки? Справляешься, прислушиваешься — и кто же выходит? О ужас, о срамота — не кто иной, как Семирадский со своей картиной „Христианская Дирцея в цирке Нерона“. Кто бы этого мог ожидать? Этакая картина и — clou!
Петербург все еще г. Семирадским не проучен. Ему все еще мало. Г-н Семирадский еще со времен своего юношества, когда кончал и кончил классы, обыкновенно выставлял свои вещи в Академии художеств. Их бывало немало, и все бьющие в нос, одна другой блестящее и колоритнее. Женщины, не то, что уже всегда раздетые, но уже почти все только кокотки старых и новых времен (других г. Семирадский как будто на свете и не видал), перламутр, сверкающая медь, бронза, материи и сандалии, римские туники, розы и радужные солнечные лучи — вот всегдашнее содержание его картин, часто громадных по размерам, но всегда ничего не стоящих по содержанию и выражению. Нынешний раз г. Семирадский бросил Академию, — может быть, недоволен, зачем мальчики и ученики будут судить и оценивать его посылку, ушел в другие места и к другим людям, может быть, говорил: „Давайте, мы и без тех обойдемся, со мной вы и так процветете наверное, я — сила и слава!“ Ион убавил нынче против прежнего размеры картины, повыкидал вон и перламутры, и бронзу, солнечных лучей также на нынешний раз нет, но из всего этого ничего лучшего не вышло. Даже нет обычных пышущих красок г. Семирадского, а сушь и деревянность фигур нынче выступают еще более обыкновенного. Уж лучше бы, кажется, продолжать попрежнему с перламутром и бронзой, хоть не так скучно было бы!
Задача была, однакоже, довольно важная, довольно интересная. Но — это смотря по человеку. Ее мог бы взять и самый ординарный академист прежнего времени, но также мог взять и самый что ни есть человек нашего времени. Для первого важны были бы только одни такие и сякие внешние подробности, формы, цвета, условные эффекты, для второго — дух, сущность, характеры, изображение времени. Г-н Семирадский, по сущности своей натуры и дарований, скорее принадлежит к первой категории художников, он только подновленный, модернизованный художник старого покроя, которому нет никакого дела до самой сущности картин своих, но который очень любит всякие мелочи и вздоры древнеклассической обстановки, привык ими заниматься превыше всего и только о них и думает. Он по преимуществу древнеримский и греческий бутафор. Но для нынешнего времени этих невинных пустяков было чересчур мало. Надо было подать самого Нерона, его безобразную душу, его отвратительный взгляд, его дикую мысль, его сумасбродное наслаждение. Ничего этого не вышло. Если не прочитать каталога, подумаешь, что произошло где-то, когда-то маленькое уличное происшествие: упал бык, сронил какую-то проходившую мимо даму, оба упали, публика смотрит. Никакого цирка нет на полотне г. Семирадского. Такие ли бывали цирки у Нерона, с десятками, может быть, сотнями тысяч безумных зрителей, из которых каждый, пожалуй, стоил самого Нерона — такой все это был ужасный, одичавший, озверелый народ, словно французы при Наполеоне III. Но где же весь проклятый блеск, вся проклятая роскошь императорских времен, где сумасшедшая радость толпы, вторящей своему императору и готовой целовать его пятки за всю мерзость, которую он им подносил на наслаждение. Ничего этого нет. Представлен какой-то узенький, тесный, мрачный переулочек среди высоких старинных построек, и тут Нерон, плохой толстый мужичонка, как будто нехотя отвертывается от неприятного ему зрелища, выдвигает локти, словно поворачиваясь уходить. Еще двое-трое, ровно ничем не останавливающих на себе внимания, поглядывают на упавших, позади них еще пары две человек, мужских и женских кукол, собираются подвинуться вперед и посмотреть — как все это вяло, ничтожно и неинтересно! Сама же растерзанная христианка — чем она должна была тут быть? „Необычайным чудом и прелестью пластики“, — говорит нам каталог в своем красноречивом тексте. Но такой прелести тут нет. Формы натурщицы — довольно ординарны, поза — просто мизерна и скомкана, так что сразу и не разберешь, в чем дело, скудная драпировка — несчастна и неумела. И оттого, в самом деле, недоумеваешь: чем тут было Нерону, хотя бы самому плотоядному и обезумевшему от чудовищных излишеств — чем тут было ему „любоваться“, „наслаждаться“? Мудрено, слишком мудрено. Нечем. Нам тоже.
И чтобы такую бедную, такую мало удачную вещь можно было назвать „гвоздем“ какой бы то ни было выставки?!
Всегдашний драбант по Риму и наперсник по искусству г. Семирадского, г. Бакалович, вышел на нынешний раз и того хуже. Избранный им, однажды навсегда, классический, условный, лакированный мир римлянок и гречанок наконец изменил ему, потому что никакое переливание из пустого в порожнее, хотя бы в самых льстивых и даже красочных формах, долго выносимо быть не может, и никакие гирлянды, античные столы и столики, браслеты, повязки и юбки уже более не спасут, когда промелькнула раз скука и пресыщение от бесконечного одного и того же. Правда, охотники на что угодно всегда найдутся, — собирателям и собственникам картин всегда так приятно показывать свой милый товар другим, приговаривая: „Но только посмотрите, как это тонко написано; какая тонкая кисть!“ Ох, уж эта толпа! Только про нее вечно и слышишь, особенно там, где в картине ровно ничего нет. Впрочем, что ж, когда именно в этом множество людей всего более нуждаются, только об этом и помышляют! Вот из трех картин г. Бакаловича одна, „Воспоминание“ (гречанка, сидящая на стуле, тупо и бездушно глядящая на какое-то ожерелье), уже и куплена. Значит — надо. Значит художник к будущему разу приготовит таких „Воспоминаний“ еще десяток.
Г-н Сведомский, такой же закоренелый классик и обитатель Рима, как двое предыдущих, представил со своей стороны однородный продукт: „Тибицену“, т. е. игралыцицу на дудочках. Сидит молодая девочка, с голыми руками, в большой соломенной шляпе, и дует во все щеки в раскрашенные дудочки; журавль слушает ее, переминаясь с ноги на ногу и, кажется, собирается пойти в пляс, в такт. И будто бы стоит писать, хотя бы и довольно колоритно, такой классический вздор!
Г-н Степанов, хотя и не классик, но принадлежащий к тому же отряду бутафоров, представил на выставку сценку „Бабушка спит“, — сценку неимоверно банальную и заезженную вот уже лет сто, а пожалуй, и больше, в комедиях, водевилях и у посредственных художников на картинах и картинках: бабушка спит в кресле у стола, лицом к зрителю, а ее расфуфыренная внучка, видно уже девчонка на все руки, вытягивает голову вперед, к двери, откуда молодой усач показывает ей запечатанное свое письмо. Вероятно, собственник тоже говорил друзьям: „Но посмотрите на милость, — как тонко написано! Юбочка, шелк, ручки, ножки, — ну и купил“. Ну, и дай им всем господь бог счастья с любезнейшим их вздором!
В числе других пожилых художников на этой выставке появляется также К. Маковский, художник, в сущности, богато одаренный от природы и начинавший когда-то так блистательно, так свежо и размашисто, что всех удивлял и радовал. Но это время давно прошло: он давно уже пишет все только большие французские будуарные панно и будуарные картины, либо французские маленькие конфетные головки. Но, однакож, оказывается, что и этот товар для многих у нас тоже нужен, и некоторые из выставленных вещей К. Маковского тотчас уже и куплены. Например, женская головка, в чепце (№ 98), конечно, „очень тонко написанная“ и, конечно, по-балетному улыбающаяся, „Хризантема“, т. е. молодая недурная женщина с серебряным орнаментальным обручем поперек лба, и черная „Венецианка“, без сомнения, тоже скоро будут куплены, а покуда про „Беседу“, повешенную по самой середке, уже и теперь можно всякий день слышать от истинных знатоков: „Ах, как эта старуха посредине, нянька или колдунья, вот та, что сидит между обеих барышень своих, в блестящих кокошниках и парадных сарафанах, ах, как она тонко писана!“ Значит, натурально, в самом непродолжительном времени ее тоже купят.
У этого же, когда-то столь замечательного и столько обещавшего художника есть еще два портрета на выставке: молодого мальчика в длинных волосах и его молодой матери, enface. Но тут уже, кроме комнатной обстановки, очень интересно написанной, блестящих ковров, целых гор яркого плюша, воздымающегося в фоне какими-то дымными солнечными горами и парами, и вообще, кроме всяких материй, шерстяных и шелковых, — уже ничего нет.
Еще другой из наших художников из прежних, г. Клевер, представил картинки: „Рыбацкая деревня“, „На рыбную ловлю“ и „Осень“. Все они указывают на очень умелого, привычного художника, уже много пописавшего картин, и тоже „ах, как тонко пишущего“, но жаль только, что он несколько переменил свою манеру. Большинство прежних пейзажей его (нередко, в самом деле, живописных) бросались всего более в глаза эффектным, живым, довольно правдивым освещением, которое, впрочем, иногда пересаливало каким-то рутинным ярким оранжевым фоном с яркими же черными полосами. Нынче — все почти серо, мутно и печально. Зачем же было бросать свет? Неужто вся природа в самом деле такова? Нет. Это тоже только своя манера и манерность. А одна манера чем лучше другой?
Еще один из прежних художников, ушедших из Академии, это — г. Лагорио, с неизменным синим южным морем, как атлас; чувствительный, задумчивый и кроткий, но также и бесцветный г. Пелевин; г. Сухоровский, автор „Нана“, приютившейся, наконец, где-то в Америке, а здесь — автор многих вовсе не интересных дам и дамочек; г. Галкин, любитель гладкого письма; г. Васильковский, всего чаще изображающий казаков и казацкие степи — по-французски, с шиком, понаторелостью и колоритом; г. Френц, певец залихватских охот, троек и собак; наконец, г. Саксен, не удовольствовавшийся своей недавней большой карикатурой на „Крейцерову сонату“ и потому теперь выступающий с маленькой карикатуркой-водевилем, где изображены пьяные (впрочем, иностранные) военные, валяющиеся в гусарских и иных костюмах по полу, в богатой гостиной, покуда какие-то барышни и горничные с любопытством и симпатией выглядывают на них из двери.
Все эти господа, вместе с некоторыми другими еще, написавшими много портретов и пейзажей, умеренно превосходных, образовали и образуют особое общество, носящее название: „С.-Петербургское общество художников“. Нынешняя их выставка — уже шестая. Но, признаюсь, она меня мало утешила. Утешить она должна, мне кажется, всего более — знаете, кого? — гг. декадентов. И не потому, чтобы на выставке было много декадентских картин. Нет, совсем нет, там нет ни единой не только декадентской картины, но даже декадентской черточки. Они еще не тронуты тою чудовищною нелепостью, тем безобразием фантазии, форм и красок, которыми так недавно блеснули у нас в Петербурге гг. декаденты, съехавшиеся с разных сторон в большую залу Штиглицевского музея. Они еще не ринулись, очертя голову, в модное болото и еще не расквасили там себе художественного своего носа, еще не растеряли своего художественного рассудка среди неимоверных глупостей. И в том их заслуга. Но дело в том, что гг. члены Петербургского общества художников, или, по крайней мере, выставка их, свидетельствуют о том, что их сердцу близок один из главных параграфов декадентского уложения: „Чтобы не было сюжетов в картинах! Да будут все картины без содержания, без мысли и без смысла! Иначе они недостойны именоваться художественными произведениями“. На основании такого прекрасного символа веры, вся почти выставка гг. петербургских художников (кроме редких исключений, кроме картин, например, Семирадского и немногих других) состоит из холстов, где есть портреты, пейзажи, этюды, головки мужские и женские, руки и ноги, затылки, всяческие материи (в том числе „Весна“ в зеленом бальном платье, с зелеными же бантами на голове, г. Скиргелло) — все подобное и многое другое есть, даже иногда вкус и уменье, одного только нет — картин. Неужто это хорошо? Было шесть, целых шесть выставок. Пора подумать и о деле. В этом обществе есть, несомненно, люди и с дарованием, и с головой, и с образованием. Удивительно, как им не претит, как им не тошно все только пробовать свое перо и никогда не писать настоящего текста.
Учись и совершенствуйся сколько хочешь, сколько в душу взойдет, чем больше — тем лучше, но весь свой век все только собираться да пробовать кое-что, слегка и понемножку, кажется, недостойно настоящего, важного, серьезного искусства.
Не век же все только угощать глаза и держать в загоне мысль, ум и душу. Пора и честь знать. А то век так и останешься на одной доске с акварелистами, которые никогда не дорастают до содержания — трудное для них это дело, тяжкое и сложное. То ли дело „пробовать“, „пробовать“, „пробовать“, писать кое-что, и не мудрствуя лукаво, не задумываясь ни о чем особенно, а — так себе!
А декаденты — не пример! Не пример, хотя бы их рекомендовали и одобряли, с горячими лобзаниями и задумчивыми глубокими взглядами, хоть целые оравы адептов и приверженцев, с академиками, профессорами и ректорами во главе. Впрочем, о них речь у нас еще впереди.
1898 г.
КОММЕНТАРИИ
«ВЫСТАВКИ». Статья впервые была опубликована в 1898 году («Новости и биржевая газета», No№ 27 и 55, 27 января и 24 февраля).
В статье даны обзоры выставок 1898 года. Первая из них — обзор выставки русских и финляндских художников. Эта выставка была организована Дягилевым на основе тех принципов, которые через некоторое время будут провозглашены группой «Мир искусства» и которые в лице Стасова найдут своего яростного врага и разоблачителя.
Необходимо отметить, что передвижники, ушедшие в Академию и разошедшиеся по этому вопросу со взглядами Стасова, продолжают ценить его как борца за русское национальное реалистическое искусство. Мясоедов писал Стасову 6 февраля 1898 года: «Что за иностранная саранча налетела на тощую ниву русского искусства? Что это за патриоты, которые тащат к нам первобытных чухонцев, шведов и норвежцев, французов, англичан, поляков и испанцев?.. Они оказываются выше того, что может дать русская школа, им надо декадентов, символистов, им по вкусу французский сифилис, англицкая грация, немецкая ходуля, финляндское безобразие, все, что угодно, только не русская жизнь, очень она уж им противна, слишком она уж им напоминает тех меньших братии, которые туго набили их большие кошельки». Письмо кончалось призывом к Стасову-борцу, как его определяет Мясоедов, обрушиться на «иностранную саранчу». — «Теперь… когда большинство художников (исключая Т-во) шатается и мечется, как угорелые кошки, неужели вы не найдете уместным сказать им горячее слово, напомнить им их достоинства и обязанности?» (Архив ИРЛИ) Возможно, что комментируемая статья является откликом Стасова на подобного рода запросы передовой художественной общественности.
В данной статье, критикуя художников декадентского толка, Стасов резко отделяет от них Серова и Левитана. И в дальнейшем он будет принимать меры к тому, чтобы удержать их в лагере художников-реалистов.
С резкой принципиальной критикой Галлена и Врубеля, произведения которых в комментируемой статье Стасова получают суровую отрицательную оценку, выступил в 1896 году М. Горький. В «Беглых заметках» («Нижегородский листок», 1896, № 152) он писал, что «главный гвоздь художественного отдела» и «самый интересный экземпляр» современного «художества» представляет картина Галлена. «Что это такое?» — ставил вопрос Горький. И отвечал: «Не знаю. Думаю, что и никто не знает… Вот сюжет картины. Голый человек, помещенный спиной к публике на ярко зеленом фоне, крадется и ловит за хвост белого сфинкса, ползущего по зеленому фону, лишенному перспективы… Снизу в зеленом поле воткнуто пять розовых цветочков полукругом… Это, очевидно, высшая мудрость, до которой мог дойти немудрый символист. Странное, грустное впечатление производит эта картина заблуждения человеческого ума». Не меньшее негодование вызывает у Горького и Врубель. «О новое искусство, — восклицает пролетарский писатель, — ведаешь ли ты то, что творишь. Едва ли. По крайней мере М. Врубель, один из твоих адептов, очевидно, не ведает. По сей причине он пишет деревянные картины, плохо подражая в них византийской иконописи, и, иллюстрируя одно из юбилейных изданий Лермонтова, приделал Демону каменные крылья, а на обложке либретто „Гензеля и Греты“ рисует карикатуры двух идиотов, вместо поэтической парочки: брата и сестры» («Беглые заметки». «Нижегородский листок», 1896, No№ 152 и 202).




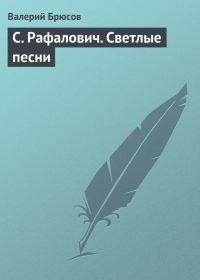
Комментарии к книге «Выставки. Обзор выставки русских и финляндских художников, организованная С. Дягилевым», Владимир Васильевич Стасов
Всего 0 комментариев