Юрий Карабчиевский ВОСКРЕСЕНИЕ МАЯКОВСКОГО
— Маяковский вот…
Поищем ярче — лица —
недостаточно поэт красив.—
Крикну я вот с этой, с нынешней страницы:
Не листай страницы!
Воскреси!
ВСТУПЛЕНИЕ
Маяковского сегодня лучше не трогать. Потому что все про него понятно, потому что ничего про него не понятно.
Что ни скажешь о Маяковском, как ни оценишь: возвеличишь, низвергнешь, поместишь в середину — ощущение, что ломишься в открытую дверь, а вломившись, хватаешь руками воздух. Бесконечно размноженный, он всюду с нами, тот или иной — у всех на слуху. Но любая попытка сказать и назвать— кончается крахом, потому что всегда остается чувство, что упущено главное.
Маяковского лучше не трогать, так спокойней, так безопасней. Но тронув, вспомнив, заговорив — пусть случайно, в разговоре о другом, мимоходом, — чувствуешь каждый раз необходимость хоть какую-то мысль довести до точки, хоть какому-то суждению об этом поэте придать полноту и определенность, достаточную если не для общего пользования, то для собственного душевного равновесия.
Это чувство и вынуждает рискнуть.
Но уж если решиться говорить о Маяковском, то только будучи абсолютно уверенным в своей в данный момент беспристрастности. Главное — это не быть предвзятым. Не искать подтверждений — вот что главное. Не иметь никаких предварительных мнений, никакого счета не предъявлять, а открыть и читать стих за стихом, как читают неизвестного ранее поэта, выстраивая тот мир и тот образ автора, какие выстроятся сами собой.
Так бы требовалось, но так невозможно, к чему притворяться. Маяковский — это не просто литературный факт, это часть нашей повседневной жизни, нашей, как принято говорить, биографии. И поскольку мы родились не сегодня, то могли бы сказать его же словами, что стихи его изучали — не по Маяковскому. Мы изучали их по воспитательнице в детском саду, по учительнице в классе, по вожатой в лагере. Мы изучали их по голосу актера и диктора, по заголовку газетной статьи, по транспаранту в цехе родного завода и по плакату в паспортном отделе милиции. И заметим, что никогда, ни в какие годы наше отношение к этим источникам не вступало в противоречие со смыслом стихов. Не было необходимости умолчания, не требовалось круто оборвать цитату, чтоб ограничить ее содержание тем, что полезно вожатой или милиции.
В газетах цитируют ведь и Блока. «О доблестях, о подвигах, о славе». — Стандартный заголовок. Тоже надо было заработать, дается не всякому. И однако именно это — не Блок. Потому что соответствующая строчка Блока, хоть и состоит из тех же слов, означает иное и звучит иначе. Потому что она — часть иного целого, и уже следующая строка, необходимо и естественно ее продолжающая, — губительна для газетного заголовка.
С Маяковским такого не происходит. Он весь — предшествие и продолжение не столько даже собственных строк, сколько цитат, из них извлекаемых. Можем ли мы об этом забыть, приступая к чтению?
Мы вечно помним Пушкину те два или три стиха да еще три-четыре странички интимной прозы, где он, как нам кажется, поддался не вполне благородным мотивам. Мы с легкостью проклинаем и с трудом защищаем Некрасова за единственный его подобострастный стишок, сочиненный в минуту страха и слабости. Мы даже для Мандельштама держим за пазухой (мало ли, авось пригодится) тот пяток неумело нацарапанных отрывков, который под пыткой вырвала у него эпоха. И вот мы начинаем разговор о поэте, у которого на десяток томов такого приходится едва ли один как будто не этого…
Тут, конечно, с готовностью возникает вопрос об искренности, измене и верности. Маяковский, допустим, был верен себе в служении злу, а Пушкин, всегда служивший добру, однажды ему изменил. Хороший повод для разговора о смысле этих важнейших слов. Но об этом, быть может, позже, сейчас интересно другое. То, что мы, совершенно непреднамеренно, поставили рядом два этих имени и тем уже одним в значительной мере предварили оценку. Противопоставили, но это не так уж и важно. Ведь нельзя же противопоставить Пушкину — Демьяна Бедного. «После смерти нам стоять почти что рядом…» Неужели — пророчество?
Сформулируем самую беспристрастную версию, наиболее популярный портрет героя.
Молодой блестящий поэт, человек большого таланта, новатор и реформатор стиха, бунтарь и романтик, увидел в Революции сначала также романтику, затем — объективную необходимость и самоотверженно бросился к ней в услужение. Постепенно он втягивается в ее круговерть, становится глашатаем насилия и демагогии и служит уже не Революции, а власти. Здесь он растрачивает всю свою энергию и весь свой талант, попадает в тиски цензуры и бюрократии, видит несостоятельность тех идеалов, которым служил, мучается совестью, мучается раскаянием, обо всем сожалеет и в полном отчаянии кончает жизнь самоубийством. Еще одна жертва, скажем, сталинских лет…
У этой картинки странное свойство. В общем она как будто бесспорна, однако в отдельности каждый пункт, каждая ее деталь под вопросом. Вопрос не обязательно выражает сомнение, он может лишь требовать разъяснений, но так или иначе все утверждения колеблются и слегка расплываются, и каждый отдельный вопрос еще разветвляется и порождает другие, побочные, любой из которых может, как знать, обернуться главным. Нет смысла пытаться ответить на них по порядку. Почитаем, подумаем, поговорим — авось что-то и прояснится.
Глава первая ЛИЦОМ К ЛИЦУ
1
Первое непосредственное впечатление от чтения раннего Маяковского — безусловная исключительная одаренность автора. Нет, в этом нас не обманули. Перед нами совершенно новый поэт, даже теперь, через семьдесят лет, ничего или почти ничего не утративший от своей новизны и оригинальности, неустанно изобретательный в обращении с предметом и словом. Не только все актуальные средства, но и отходы поэтического производства, все то, что отброшено профессиональной поэзией в область любительства и графоманства, используется им с неожиданной смелостью и становится полноправным, необходимым качеством сильного, насыщенного стиха. Еще даже не ясно, о чем и зачем, но сразу ощутима напряженность речи, звуковая, ритмическая, эмоциональная и все строки пронизывающая энергия.
Убьете, похороните — выроюсь! Об камень обточатся зубов ножи еще! Собакой забьюсь под нары казарм! Буду, бешеный, вгрызаться в ножища, пахнущие потом и базаром.Странный, принудительный ритм, как бы выкручивающий руки фразе, усиливает это чувство напряженности, создает почти физическое ощущение муки, едва ли не пытки. Душевная мука — первый личный мотив, на который мы отзываемся в стихах Маяковского и в подлинность которого не можем не верить. Между тем при сегодняшнем внимательном чтении уже с первых стихов выявляется многое, что мешает почувствовать и оценить эту подлинность.
Прежде всего — вполне сознательная, провозглашенная выраженность приема, необходимость читательского его использования и многократного возобновления. Первое чтение—почти всегда черновое. Требуется вначале отыскать рифму, оценить, хотя бы бегло, степень ее смысловой необходимости, соответственно расставить акценты в строке, вогнав вылезающие куски, а потом уже, все это помня, читать набело. Чтение Маяковского — это декламация, где всякое непосредственное впечатление перебивается памятью о репетициях. Оттого любой стих Маяковского, даже самый страстный и темпераментный, остается искусным пересказом чувства, но не его прямым выражением.
Так, одновременно с первым восхищением, возникает и наше первое сомнение: ощущение постоянной, необходимой дистанции между тем, что сказано, и тем, что на самом деле. Эта двойственность— первая дурная двойственность, сопровождающая чтение Маяковского. Есть, однако, и вторая, и третья. Среди самых ранних стихов существует один, достаточно часто цитируемый, где, быть может, всего пронзительней звучит душевная мука и жалоба:
Кричу кирпичу, слов исступленных вонзаю кинжал в неба распухшего мякоть: «Солнце! Отец мой! Сжалься хоть ты и не мучай! Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней. Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни! Время! Хоть ты, хромой богомаз, лик намалюй мой в божницу уродца века! Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека!»Это очень талантливые стихи. Здесь один из тех, скажем сразу, не столь уж частых моментов, когда хотелось бы соединиться с автором, пережить его боль как свою.
Хотелось бы — но никак невозможно, более того — абсолютно исключено. Потому что начинается этот стих со строчки чудовищной, от кощунственности которой горбатится бумага, со строчки, которую никакой человек на земле не мог бы написать ни при каких условиях, ни юродствуя, ни шутя, ни играя, — разве только это была бы игра с дьяволом:
Я люблю смотреть, как умирают дети.Это полезно перечитать дважды, чтобы после вернуться к тому отрывку, к боли и жалобе. Не правда ли, он выглядит теперь немного иначе?
Мы вдруг замечаем новую двойственность — двойную чувственность, двойную мораль, на которую сперва не обратили внимания. «Тобою пролитая кровь» — слезная жалоба автора, но ведь сам же он только что с таким сладострастием: «Слов вонзаю кинжал…» А тогда и порванная в клочья душа, и хромой богомаз, и уродец век, и последний глаз, и слепые — не слишком ли густо? Не слишком ли много членовредительства, чтоб сказать о своем одиночестве?
Повторим общеизвестную формулу: ранний Маяковский — поэт обиды и жалобы.
В чем состоит обида Маяковского? В равнодушии к нему окружающего мира. Мир живет отдельно, сам по себе, не торопится прославлять Маяковского, любить его и ему отдаваться. И за это мир достоин проклятья, презрения, ненависти и мести.
Святая месть моя! Опять над уличной пылью ступенями строк ввысь поведи! До края полное сердце вылью в исповеди!Эти строки, по сути, тавтологичны, потому что святая месть поэта — это именно то, чем полно его сердце и в чем состоит его исповедь. Месть и ненависть — «КО ВСЕМУ!» — так и называется стихотворение.
Неутоленная жажда обладания — вот первоисточник всех его чувств. Здесь, конечно, на первом плане женщина — как реальный объект вполне реальных и вполне понятных желаний («Мария—дай!»). Но это одновременно еще и знак, физиологически ощутимый символ отдающегося — НЕ отдающегося! — мира.
Вся земля поляжет женщиной, заерзает мясами, хотя отдаться; вещи оживут — губы вещины засюсюкают: «цаца, цаца, цаца!»Любопытно, что почти во всех воображенных картинах его будущего признания и величия, где сознательно, а где бессознательно, где развернутой сценой, где одним промелькнувшим словом, — присутствует этот навязчивый образ («Проститутки, как святыню, на руках понесут…»). Но все это в будущем, в светлом далеком завтра. Пока же мир не спешит отдаваться ни в виде женщины обобщенной, ни в лице конкретной желанной женщины. Не любит, не отдается, не обожает — значит, должен быть уничтожен! Но сначала — проклят и опозорен, втоптан в грязь, изруган, оплеван. И здесь, в ненависти и проклятьях, с максимальной, никем не превзойденной силой проявляется подлинный талант Маяковского, его неиссякаемая энергия, его неукротимая изобретательность. Именно здесь, в этой странной и жуткой области, он достигает самых высоких высот или, если угодно, самых низменных бездн.
Теперь — клянусь моей языческой силою! — дайте любую красивую, юную,— души не растрачу, изнасилую и в сердце насмешку плюну ей!Есть одна очень важная формальная особенность, роднящая эти безумные строки со строкой об умирающих детях: их принципиальная непроизносимость. Разумеется, читая, мы их произносим, и даже, быть может, достаточно четко и громко. Но язык наш не может при этом не испытывать неловкости, тяжести, сопротивления, как будто он движется в налипшем тесте.
«Изнасиловать» и «в сердце плюнуть» — эти действия невозможны в первом лице, да еще в будущем времени. Мы стараемся поскорей проскочить мимо этих кошмарных слов — дальше, в следующую строфу, в свободное пространство стиха. А там:
Севы мести в тысячу крат жни! В каждое ухо ввой…И т. д.
От обиды — к ненависти, от жалобы — к мести, от боли — к насилию. Только между этими двумя полюсами качается маятник стихов Маяковского. Изредка возникает третий мотив: любовь к неким обобщенным людям — но это всего лишь промежуточная точка на пути между ненавистью и обидой, едва различимый знак той земли, которая заерзает мясами, хотя отдаться. Реальных же, достоверно существующих точек — две, только две. Две точки, два полюса, две морали. Величайшая в мире боль, когда обидели Маяковского, — и физиологическая сладость насилия, когда обижает Маяковский, мстя за обиду. Причем и то и другое чаще всего выражается одними и теми же словами. Это как-то само собой разумеется. Здесь он не видит противоречий, для него их просто не существует. Между тем самые сильные и яркие, самые напряженные стихи и поэмы строятся на таких, предельно противоречивых, по сути, несовместимых друг с другом кусках.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется — и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам я — бесценных слов транжир и мот.Эти мастерские строки звучат энергично и страстно, так и просятся в цитату и выкрик — если воспринимать их у поверхности смысла и чувства. Любая попытка реализовать этот образ спотыкается о несовместимость его составляющих. Одно из двух: или нежная бабочка сердца — или грубый гунн, сначала кривляющийся, а потом радостно плюющий в лицо. А тогда уж и толпа, громоздящаяся на бабочку, — как-то не очень осуществимо.
И чем они все так противны поэту? Тем, что на женщине «белила густо», а у мужчины «в усах капуста»? Эта противность не только неубедительна, она вообще не свойство объекта. Очевидно, что она привнесена, навязана автором. Любому, чтоб было легче ненавидеть, можно навесить в усы капусту, согласимся, это несложно… Здесь первична, исходна — ненависть, а все остальные страшные ужасы — лишь ее оправдание и иллюстрация.
Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок, я — бесценных слов мот и транжир.Прямолинейная наглядность образа требует и прямолинейной реакции. «Обрюзгший жир» — это те самые люди, которые в данный момент сидят в зале и слушают стихи поэта. Трудно поверить, чтобы слушать стихи пришли одни лишь обрюзгшие и жирные. За что ж он их так? А ясно, за что: за «столько стихов шкатулок». Им не нравится, они не любят, не обожают, не отдаются, ерзая мясами. А тогда разговор с ними один: в усы — капусту, на щеки — белила, обозвать вошью и плюнуть в лицо.
И кстати… «Плюну в лицо вам», «в сердце насмешку плюну»… Оказывается, не так уж и много этих самых слов, чтобы можно было их транжирить и проматывать. Например, не любящие Маяковского — это всегда жир и обжорство, слепая кишка, желудок в панаме — прототип буржуя из окон РОСТА, обобщенный образ обидчика… Но, пожалуй, интереснее всего другое: как по-разному оценивает Маяковский одинаковые или близкие слова и образы в зависимости от того, к кому они относятся: к нему ли самому или к кому-то другому, кого он в данный момент назначает врагом.
Вот он издевается над лирическими поэтами: «Вы, обеспокоенные мыслью одной — изящно пляшу ли». И тут же: «невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и жегся». (Курсив везде мой. — Ю. К.) Он достает из-за голенища сапожный ножик, чтобы раскроить Небо «отсюда до Аляски», — и буквально в следующей строфе жалуется, что «звезды опять обезглавили». Он вытаскивает из груди собственную душу, чтоб ее, окровавленную, дать людям как знамя (вариант горьковского Данко), — а чуть позже, через пару страниц, предлагает сходные украшения, но уже совсем из другой материи:
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, как у каждого порядочного праздника — выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников.У него — окровавленная душа, у лабазника — окровавленная туша, всего-то и разницы. Но в первом случае это боль и жертвенность, во втором — веселье и праздник.
Я выжег души, где нежность растили…Предельная громкость произнесения маскирует смысл произносимого. На крике все звучит одинаково, и то ли «да здравствует», то ли «долой» — не сразу разберешь, да и нет возможности вдуматься. Но послушаешь раз и другой, адаптируешь ухо — и одно серьезнейшее подозрение возникает в сознании и растет и утверждается с каждым стихом. Ведь если верно, что выжег души… И если неверно. Если это всего лишь пресловутый эпатаж, что по-русски, как ни крути, означает неправду, то и тогда человек, такое повторяющий, и очень изобретательно и очень настойчиво, не может быть искренним, говоря:
Но мне — люди, и те, что обидели — вы мне всего дороже и ближе.Ясно, что это только маневр, рассчитанный на потерю бдительности. Поверят, а он подберется поближе — и плюнет с размаху в лицо, а то и похуже: возьмет да и тюкнет в затылок кастетом…
2
Но еще прежде, чем в нашем сознании утвердится этот образ губительного двуличия, мы ощутим другой отталкивающий импульс. В нас сработает как безусловный рефлекс, инстинкт самосохранения чувств. И не проклятья, не ругань, не эпатаж нас оттолкнут, Бог с ним, с эпатажем, — а тот материал, из которого сделаны самые яркие, наиболее выразительные части стихов Маяковского:
«Окровавленные туши», «душу окровавленную», «окровавленный песнями рот», «окровавленный сердца лоскут», «багровой крови лилась и лилась струя»… «У раненого солнца вытекал глаз», «жевал невкусных людей», «туч выпотрашивает туши багровый закат-мясник», «сочными клочьями человечьего мяса», «на сажень человечьего мяса нашинковано»…
Поэт не человек поступка, он человек слова. Слово и есть поступок поэта. И не только слово-глагол, слово-действие, но любое слово, его фактура, его полный внутренний смысл и весь объем связанных с ним ощущений. Те слова, что звучат из уст Маяковского на самых высоких эмоциональных подъемах его стиха, что бы ни пытался он ими выразить: гнев, жалобу, месть, сострадание, — живут своей независимой жизнью и вызывают то, что и должны вызывать: простое физиологическое отталкивание. Впрочем, очень скоро по мере чтения пропадает и это чувство. Нагнетение анатомических ужасов не усиливает, а ослабляет стих, вплоть до его полной нейтрализации. И не только оттого, что притупилось восприятие, но еще и от отсутствия однозначной нагрузки. Нравственный смысл, психологическая направленность того или иного кровавого пассажа не есть его собственное внутреннее свойство, а каждый раз произвольно задается автором. Отрицательные ужасы «Войны и мира», положительные ужасы «Облака в штанах» и «Ста пятидесяти миллионов», отрицательные, а также положительные ужасы внутри чуть не каждого стиха и поэмы… Ужасы, ужасы…
Но и уста, такое говорящие, не могут остаться девственно чистыми. Здесь работает закон обратного действия слова. Человек, многократно и с удовольствием повторяющий: «кровь, окровавленный, мясо, трупы», да еще к тому же время от времени призывающий ко всякого рода убийству, — неминуемо сдвигает свою психику в сторону садистского сладострастия.
В раннем, романтическом Маяковском этот сдвиг очевиден.
Именно здесь, на этом сдвиге, в такой романтике, произошла его главная встреча с Революцией.
Ко времени пришествия Революции Маяковский, единственный из всех современников, был уже готовым ее поэтом. И дело тут не в идейной его подготовленности, которая, кстати, очень сомнительна. Никакого марксизма, никаких социальных аспектов, насыщавших журналы и книги десятых годов, мы не встретим в тогдашних его произведениях. Даже слово «пролетарий» или хотя бы «рабочий» — тщетно искать, он такого как будто не слышал. Его народ — студенты, проститутки, подрядчики. Но все это не имеет никакого значения, здесь важно другое.
К семнадцатому году молодой Маяковский оказался единственным из известных поэтов, у которого не просто темой и поводом, но самим материалом стиха, его фактурой были кровь и насилие. Тот, кто на протяжении нескольких лет сладострастно копался голыми руками в вывернутых кишках и отрубленных членах, был вполне готов перейти к штыку и нагану.
На словах, только на словах. Но об этом только и речь.
3
У него была удивительная способность к ненависти. Он мог ненавидеть все и вся, от предметов обихода до знаков препинания («С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже»).
Каждый новый пункт его автобиографии кончается признанием в какой-нибудь ненависти.
Эта ненависть билась в нем и металась, прорываясь то в одну, то в другую сторону. В этом было что-то несомненно истерическое. Революция явилась для Маяковского благом прежде всего в том оздоровительном смысле, что дала его ненависти направление и тем спасла его от вечной истерики. На какое-то время он успокоился, обрел равновесие. Он стал ненавидеть только туда. Вся энергия была брошена водну сторону. Концентрация при этом вышла фантастической, даже для привычного к Маяковскому уха, так что многим пришлось привыкать заново.
Пусть горят над королевством бунтов зарева! Пусть столицы ваши будут выжжены дотла! Пусть из наследников, из наследниц варево варится в коронах-котлах!А еще Революция дала ему в руки оружие.
Раньше это были только нож и кастет, теперь же — самые различные виды, от «пальцев пролетариата у мира на горле» до маузера и пулемета. Он и пользовался ими отныне по мере надобности, но всем другим предпочитал — штык. Это слово стало как бы материальным выражением его отношения к миру: «пугаем дома, ощетинясь штыками», «штыки от луны и тверже и злей», «встанем, штыки ощетинивши», «дошли, штыком домерцав», «как штыком, строкой просверкав»… Ряд достаточно однообразный, но он продолжается в бесконечность.
Странно, именно этот ряд, с повтором простого короткого слова, в большей мере, чем любые другие страшные ужасы, заставляет задуматься над вопросом: обладал ли Маяковский воображением, этим первейшим свойством поэта, то есть попросту видел ли он то, что писал?
Представлял ли он, к примеру, в момент произнесения, как работает его любимый инструмент, как он туго разрывает ткань живота, как пропарывает кишки, дробит позвоночник?
Мы знаем, что в жизни Маяковский не резал глоток, не глушил кастетом, не колол штыком. Он и на войне-то ни разу не был и даже в партию, как сам признается, не вступил, чтобы не попасть на фронт. Он всегда действовал только пером («Перышко держа, полезет с перержавленным»). Так, может быть, это такая система образов и знаменитое «я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» следует прочитывать наоборот? В том смысле, что штык — это не штык, а перо, пулемет — пишущая машинка, а кастет… ну, допустим, сильное слово? И все это — только символы?
Теперь не промахнемся мимо. Мы знаем кого — мети! Ноги знают, чьими трупами им идти.Это как раз стихи о направлении, о том, что теперь-то оно известно. Но и это не страшно и не буквально. «Не промахнемся», «мети» — все это символы… Прекрасно, но что символизируют трупы?
А мы — не Корнеля с каким-то Расином — отца,— предложи на старье меняться,— мы и его обольем керосином и в улицы пустим — для иллюминаций.Нет, не выходит, не вытанцовывается. Есть слова, столь сильные сами по себе, что не могут быть тенью других слов, не могут выражать иные понятия, кроме тех, что положены им от века. Труп — это всегда труп, отец — это всегда отец, и поэт — это всегда поэт, человек с гипертрофированным воображением. Так представлял ли он себе все то, что писал, видел ли, допустим, эти самые трупы, ощущал ли чье-то мертвое тело под твердыми знающими своими ногами? Или, опять же, своего отца, объятого пламенем и бегущего по улице, — видел Маяковский или не видел?
Ситуация складывается таким образом, что любой ответ на этот вопрос губителен для поэта.
Если самые страшные в мире слова — это только символы чего-то иного, более мирного и обыденного, то что означают все остальные? Цена слова в такой языковой системе в конце концов свелась бы к нулю.
Если же значение слов не снижено…
Не станем притворяться, будто нам неизвестно, что метафора — всегда аналогия. Но аналогия предполагает мгновенное равенство, эквивалентность чувственного восприятия. «Идти трупами» не обязательно значит идти трупами — но нечто столь же жестокое и страшное: убивать много и без пощады, не жалея, не оглядываясь, не задумываясь. Поэтическая метафора тем и отличается от обыденного речевого штампа, что не является только тенью реальности, а имеет собственную живую плоть, вполне реальную в мире воображения. И в этом смысле «идти трупами» — это значит именно идти трупами, именно этот, буквально понятый смысл должен рождать необходимое ощущение. Например, Маяковский говорит:
Ко мне, кто всадил спокойно нож и пошел от вражьего тела с песнею!Вполне возможно, что это всего лишь аллегория — жестокой твердости и верности делу мщения. Но аллегория эта начинает работать только с того момента, как мы вообразим себе живого человека, производящего описанные действия. Человека, безусловно, ненормального, безумца-садиста: кто иной станет всаживать нож спокойно, да еще и петь после этого?
Итак, если все эти чудовищные строки, непроизносимые слова и невообразимые картины Маяковский употребляет только как символы, только во втором, переносном значении, уподобляя их речевому штампу (как говорят: «убийственно красив», «смертельно устал»), если он не чувствует их собственного жуткого смысла — то, значит, он человек без воображения и поэзия — чуждая ему область.
Но если он все это видит и чувствует, если все слова на своих местах и означают то, что и должны означать, — то дела обстоят, быть может, еще печальней. Тогда перед нами очень страшный и, вне всяких сомнений, больной человек. Перед нами тот самый садист-параноик, спокойно всаживающий нож по нескольку раз на дню и шагающий трупами, от тела к телу, распевая свои сумасшедшие песни…
Я думаю, ни одна из этих гипотез не ложна, но и не верна до конца, и истина, как это часто бывает и случае жестких альтернатив, помещается где-то в иной плоскости.
Застывшая детская обида Маяковского, ненависть к могущим и имущим, месть не отдающим и не отдающимся — сплошь и рядом действительно несет в себе черты патологии. Но и цена сильных и страшных слов в его поэтическом мире иная, в общем случае — более низкая. Она снижена, во-первых, частым употреблением, постоянным доведением стиха до выкрика, до предела слышимости, где и слабые слова звучат как сильные, а сильные уже почти не выделяются. А тогда и сами понятия и действия, обозначаемые этими словами, неизбежно падают в цене и утрачивают присущий им смысл. В этой неопределенности смысла теряется не только читатель, но и автор.
Я не знаю, плевок — обида или нет?
В самом деле, непрерывно плюясь, трудно выделить это действие из ряда прочих.
Но главное все же не в этом. Главное в том, что все без исключения стихи Маяковского, каждый его образ и каждое слово, существуют в конечном, упрощенном мире, ограниченном внешней стороной явлений, оболочкой предметов и поверхностью слов.
Это мир геометрических построений, рациональных логических связей и простых механических взаимодействий.
Обладал ли Маяковский воображением? Разумеется, и очень мощным. Но вся его безудержная фантазия, как в области изобретения образов, так и в области слова и словотворчества, удерживалась границами этого мира, его механическими законами. В этом — ключ ко всему Маяковскому.
4
Понятие поэзии достаточно расплывчато, ее определение нам вряд ли доступно. На него мог решиться лишь молодой Пастернак, да и то в форме суммы окольных утверждений, не имеющих прямого отношения к делу.
Это — круто налившийся свист, Это — щелканье сдавленных льдинок, Это — ночь, леденящая лист, Это — двух соловьев поединок. Это сладкий — заглохший горох…И т. д.
Согласимся, так можно до бесконечности.
Как все великие мировые понятия, поэзия не поддается определению, но мы можем попытаться найти названия хотя бы некоторым из ее особенностей, и если нам повезет, они могут оказаться главными.
Обратимся прежде всего к очевидному: поэзия занимается внутренней сутью явлений. Внешние качества людей и предметов, легко обнаружимые поверхностные признаки используются ею лишь как средство и способ для постижения тайного и скрытого.
Однако здесь существенна одна деталь. Внешнее не есть конечная цель, но оно и не препятствие к постижению внутреннего. Здесь неуместны геометрические аналогии, потому что внутреннее как предмет поэзии не содержится внутри внешнего, а пронизывает его и взаимодействует с ним. Поэтическое постижение — не анатомическое вскрытие, оно происходит не за счет разрушения оболочки, а за счет активного с ней взаимодействия. Великое значение поэтического образа, если можно о нем говорить обобщенно, в том именно и состоит, что с его помощью мы постигаем скрытую суть природы, людей и событий, никак не нарушая их естественной целостности, не внедряясь, не ломая, не убивая.
Так живет поэзия, так живут поэты.
Но не так, совершенно иначе живет Маяковский. Восприятие мира как чего-то целостного, пронизанного непостижимой тайной, было напрочь ему несвойственно. Он видел мир как совокупность частей, имеющих определенную геометрическую форму, механически соединенных между собой и действующих также по законам механики (абсолютно, кстати, ему неведомым, но как-то само собой разумеющимся). В этом мире форма всегда снаружи, содержание всегда внутри. Отсюда понятно, что надо сделать, чтобы увидеть и постичь содержание.
Детей (молодые литературные школы также) всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов. Если лошади при этом немного попортились — простите!
(«Как делать стихи»)Внутренности — это и есть внутреннее. Так наивно просто истолковывает Маяковский и разоблачительно-сложные выкладки своих друзей формалистов. На таком детски упрощенном представлении основано все его восприятие — и поэзии, и окружающей жизни.
Схематически это выглядит следующим образом.
Поэт — человек, умеющий говорить красиво и интересно. Его форма изъяснения — декларация. Он обращает на себя внимание, он привлекает к себе людей, он их убеждает и ведет за собой, куда посчитает нужным (трибун). Но объект его разговора ограничен всем тем, что находится в поле зрения: домами, людьми, лошадьми, трамваями… Все это, в обычном своем состоянии, не представляет ни для кого интереса, обо всем этом говорилось тысячи раз. Значит, надо сделать эти предметы необычными, привлекающими внимание. Для этого имеются две возможности:
— заставить их вести себя как-нибудь странно, как им несвойственно от природы;
— или же изменить их облик, исказить, деформировать, вплоть до выворачивания наизнанку, обнажения внутренностей, отсечения членов.
В мире нет ничего иного, только поверхность и внутренность. И всякое целое состоит из частей, каждая из которых, в свою очередь, состоит из частей и поверхностей. И материя бесконечна, как в макро, так в микро… Но это уже далеко и абстрактно, достаточно нескольких звеньев. А чтобы увидеть нечто новое, надо соединить друг с другом поверхности, раздуть, увеличить до огромных размеров — или взять любую и разломать, вывернуть, разорвать на части, обнажить живые влажные внутренности. А еще — вырвать один из кусков и поднять высоко, так, чтобы всем было видно, как он посверкивает оборванным краем или ярко сочится кровью («Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут»).
И живое — неживое, подход одинаковый, разница чисто внешняя:
…там, где у человека вырезан рот,— многим вещам пришито ухо!Такова в основных чертах эстетика Маяковского. Так рождается его гигантизм, гиперболизм, и так же рождается анатомизм, страсть к расчленениям, к разъятию плоти. На мгновение он достигает эффекта, и порой даже очень сильного, — но именно эффекта и лишь на мгновение, пока не пройдет первая оторопь и страшная картинка не станет привычной. А тогда окажется, что все расчленения лишь подчеркивают поверхностность восприятия: известно, что суммарная поверхностность частей всегда больше поверхности целого. И вскрытия, и выворачивания наизнанку опять не дают ничего нового: в поэтическом смысле внутренняя поверхность ничуть не содержательнее, чем внешняя. Но другого пути у Маяковского нет. Принуждение, насилие — вот его метод, здесь сошлись главные черты его личности: детская месть-обида, садистский комплекс — и поверхностно-механическое мировосприятие. Он постоянно насилует объект, чтоб добыть из него выразительность, и такое же насилие совершает над словом.
Его виртуозное словотворчество вызвано той же самой причиной, что и деформация материальных объектов. Чувством слова он был наделен замечательным — но только в ограниченном, поверхностном слое, доступном глазу и слуху. Правильно было бы о нем сказать, что он обладал чрезвычайно острым, порой гениальным, чувством словесной поверхности.
Это не значит, что он употреблял слова только в их прямом, обиходном смысле. Напротив, этого-то он как раз и не делал.
Я знаю силу слов, я знаю слов набат…Силу слов он знал, но не знал их тайны. Знал слова, но не знал Слова. Набат — это он понимал, но магии простой человеческой речи для него вообще не существовало. Он не чувствовал в слове его судьбы, не видел в нем свойств индивидуальности, не доверял ему, не признавал за ним никакой свободы. Даже в самых лучших его стихах, да нет, именно в самых лучших, слова нанизаны на строку, как на жесткий проволочный каркас, плотно пригнаны и прижаты друг к другу, каждое — на специальном месте, строго отведенном для него автором. Ни одно не может быть заподозрено в том, что заняло свое место само, по вольному выбору. Шаг влево, шаг вправо невозможен в этой жесткой конструкции. Тем, что сопротивлялись, свернули челюсть. И от этого слова, употребляемые прямо, лишены всякого люфта и объема, однозначны и плоски, как лист бумаги. Единственная возможность придать им объем — это употребить их в переносном смысле, что Маяковский в основном и делает. Образная плотность его стихов, их густая метафорическая насыщенность происходит, в сущности, не от хорошей жизни. Только так он и может избежать буквальности. Интуитивно он понимает необходимость расстояния между словом и понятием, но, не признавая самостоятельной жизни слова, его свободного взаимодействия с контекстом, добивается этого расстояния искусственно, путем построения сложной конструкции или с помощью непрерывного притока энергии. У Маяковского слово не парит над понятием, «как душа над брошенным, но не оставленным телом», — оно просто приподнято и зафиксировано в нужной позиции. Нет буквальности, но нет и свободы, и круг возможных ассоциаций так же жестко теперь закреплен за словом, как в его повседневном употреблении был закреплен за ним его буквальный смысл. Все эти построения, как угодно искусные, лишены пульсирующего объема, бесконечности ассоциативных ходов. Образ у Маяковского — не пучок ассоциаций, а линейный последовательный ряд, в лучшем случае разветвленный на два или три заранее заданных направления. Темперамент Маяковского — строго говоря, не темперамент, а энергетическое обеспечение. Постоянно чувствуешь жесткость исходной конструкции и принудительность тока энергии, не дающей строчке упасть на землю. Ощущаешь общее волевое усилие, группирующее слова определенным образом, напряженность, озабоченность и несвободу этого формально свободного стиха.
После перерыва, даже недолгого, возникает странное чувство: кажется, что если теперь вернуться к тем же страницам, то прежних стихов там уже не найдешь. Что все слова, оставшись без присмотра, порвали цепи и разбежались. Так оно, в сущности, и происходит, потому что опять и опять при повторном чтении необходимо собирательное усилие. Тяжелая работа — читать Маяковского, труд, утомительный чисто физически, лишенный творчества. Вся творческая работа за нас уже сделана автором. Нам остается повторить слово за словом, в нужном порядке, по возможности правильно расставив ударения, и вообразить в точности то, что ведено.
Маяковский вообще — поэт без читателя. Читатель Маяковского — всегда слушатель, даже если он сидит не в зале, а у себя дома, с книжкой в руках. Стихи Маяковского могут нравиться, ими можно восхищаться, их можно любить — но их нельзя пережить, они не про нас. И это, конечно же, не оттого, что Маяковский пишет всегда о себе, а, напротив, оттого, что о себе он не пишет. Его стихи всегда декларация, никогда не исповедь. И даже если он провозглашает: «исповедь!» — все равно декларация.
Избрав такой декларативный путь, он раз навсегда отказался от читателя, от партнера по творчеству, от равного себе собеседника. Он предпочел аудиторию. Любую, и даже враждебную.
Это взвело на Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы: «Распни, распни его?»Ни одного! Это надо себе представить. К кому же он обращался?
Обращение к враждебной аудитории — вернейший признак иллюзорности стиха. Не бывает поэта без друга-читателя, и стихи, грамматически обращенные к врагу, акустически все равно обращаются к другу. Нет поэта без сочувствующего собеседника, и нет поэзии без читательского сотворчества, через которое — и только через него — происходит ее осуществление.
Если довести эту мысль до конца, до парадокса, то можно сказать, что стихов Маяковского вообще не существует в природе, потому что нет и не может быть такого читателя, через которого они могли бы осуществиться.
5
Собственно поэзию нельзя опровергнуть, ибо она ни на чем не настаивает. Ее дело — открытие и констатация, каждый случай для нее — частный, каждый акт познания — индивидуален. Она самодостаточна и самоубедительна. Прекрасное должно быть величавым — именно в этом смысле.
Не то поэзия декларативная. Ее удел—постоянные хлопоты, та самая суета, которой не терпит служенье муз. Декларация берет относительную истину и утверждает ее как абсолютную. Это может быть решительно что угодно, общий концептуальный вопрос или любая бытовая мелочь, важно то, что декларированная истина требует постоянной заботы и защиты и, будучи однажды произнесена, никогда не оставляет в покое ее автора.
Маяковский декларативен всегда и во всем, от политики до погоды и формы одежды. И поэтому он никогда не спокоен, а всегда возбужден и насторожен, пребывает в вечной суете и заботе. Это безумно занятой человек. Он не может позволить себе ни минуты простоя, потому что как раз за эту минуту что-то может подвергнуться чьему-то сомнению, чье-то убедительное возражение может остаться без должного ответа. И приходится поэту неустанно трудиться, выискивая новые доказательства, и вынужден поэт, как осмеянный им ученый, «ежесекундно извлекать квадратный корень».
Это тяжелая, хлопотливая — и сугубо бумажная работа.
Вот еще один парадокс Маяковского, один из связанных с ним обманов. Уличный горлопан, певец площадных чудес был на самом деле сугубо бумажным автором.
Он провозгласил, он утвердил себя поэтом улицы, но и это ведь — только путем декларации, неустанно изобличая всех окружающих в том, что они не знают и не умеют того, что он умеет и знает. То была лишь одна, наиболее легкая, негативная сторона доказательства («А вы ноктюрн сыграть могли бы?», «Язык трамвайский вы понимаете?»). Но когда «улица безъязыкая», наконец, с его помощью обрела дар слова, то какой застрявший было крик вырвался из ее измученного горла? «Идемте жрать!» Стоило ли стольких хлопот и забот? Да и что иного, более интересного могла крикнуть эта обобщенная улица, улица-символ, улица-категория? На флейте водосточных труб никто не сыграл ноктюрна, но и Маяковский его не сыграл. Это было утверждение за счет отрицания, спор, выигранный на бумаге, при отсутствии другой стороны, в одинокой тиши кабинета, и уж после вынесенный — нет, не на улицу, а в закрытый, тесный и переполненный, враждебно-дружеский зал-аудиторию.
Известно, что он часто сочинял на ходу, распевая строчки себе под нос, и лишь после записывала книжку. Но это не меняет дела. За каждым стихом и за каждой строкой стоит скрупулезный кабинетный труд тяжкая бумажная работа. И даже не так: каждая строка его стиха есть выражение этой работы:
Гвоздями слов прибит к бумаге я.Я хочу сказать, что стих Маяковского выражает не столько мысли и чувства, сколько все те ухищрения и приемы, с помощью которых эти мысли выражены Трудом и потом пахнут его строки, потом автора и потом читателя:
Я раньше думал — книги делаются так: пришел поэт; легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак — пожалуйста! А оказывается — прежде чем начнет петься, долго ходят размозолев от брожения и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения.Это детское представление о поэтическом творчестве (сразу запел), то ли вспомненное, то ли придуманное Маяковским, в конечном счете ближе к истине чем более позднее взрослое открытие: долго ходят.
Что говорить, тяжел литературный труд Но работая, то есть взаимодействуя со словом, доводя каждую строку до последнего, до необходимого и единственно звучания, поэт как бы проявляет, проясняет образ, существовавший до и помимо него, вне зависимости от его усилия. Отсюда и естественность, живая самостоятельность готового, написанного стиха, отсюда и ощущение легкости при чтении («легко разжал уста»).
Я, конечно, имею в виду не смысловую облегченность, но отсутствие тягостной черновой работы с исходным, еще не поэтическим, материалом. Этой работы стих не содержит, она остается за его пределами. И здесь нет маскировки, или игры в прятки, или иного какого обмана. Путь к гармонии всегда мучителен и тяжек и в значительной степени дисгармоничен… Но он есть путь, а не цель. Поэзии нет без поэтического труда, но поэтический труд не есть поэзия.
Этой суровой закономерности не знает, не хочет знать Маяковский.
Он думает или хочет думать, что поэт, трудясь над черновиком, не ищет истину или гармонию, а, напротив, уже зная, как она выглядит, выстраивает для читателя ее портрет, чтоб и ему, читателю, стало ясно. «Глупая вобла воображения» как раз и занимается поиском средств и необходимых строительных материалов. Футуристический лозунг «обнажить прием», так охотно подхваченный Маяковским, происходит именно от этой подмены, от идеи механического наслаивания, одевания, декорирования, маскировки, которая чудится Маяковскому повсюду в «классической» поэзии. В действительности подлинная поэзия никогда не маскирует и не прячет приема, хотя и не выставляет его напоказ. Она его просто использует. Труд поэта, конечно же, велик и тяжек, но когда стих, наконец, написан, то его ценность в нем самом, а не в затраченных на него усилиях, о которых истинные поэты, как правило, тут же и забывают.
Маяковский не забывает о них никогда и не дает забывать читателю. Он убежден в самоценности своего труда, в поучительности его для других поэтов. Он списывает с черновика и публично демонстрирует двенадцать вариантов одной строки, включая самые неуклюжие, — и делает это, не теряя серьезности, с гордостью и удовольствием. Замечательно при этом, что все варианты действительно у него записаны. Замечательна также его уверенность, что это именно все варианты…
Глава вторая СЕКРЕТЫ МАСТЕРА
1
Мастерство Маяковского. В русской филологии эта тема вне конкуренции. Вряд ли о чьем-либо мастерстве писали так много, легко и охотно. Он и сам написал об этом большую статью, терпеливо и подробно, на многих примерах проследив всю внешнюю, всю очевидную сторону дела.
А ведь он действительно был выдающимся мастером. Поэтическим приемом как таковым, самостоятельно и осознанно примененным, Маяковский владел в совершенстве. Любителям поэтической атрибутики есть что процитировать в его стихах. Здесь, конечно, бывали разные периоды, но если из общей стихотворной массы выделить все разумно построенное, то можно составить внушительную книжку, полную стоящих плечо к плечу, плотно упакованных аллитераций, виртуозных рифм, сравнений и метафор.
«Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского, — пишет Юрий Олеша. — Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным перечислению всех его строк».
Олеша, конечно, преувеличивает, он пристрастен и ослеплен любовью. Вряд ли даже такой специалист, как он, мог обнаружить хоть одну завалящую метафору в таких, например, стихах:
Лучше власть добром оставь, никуда тебе не деться! Ото всех идут застав к Зимнему красногвардейцы.Разве только Олеша подозревал, что на самом деле красногвардейцы шли от одной заставы, и считал, что «ото всех» — это привычный для Маяковского гиперболизм?..
Но, конечно, если не придираться к словам, то Олеша, в сущности, прав: Маяковский — мастер метафоры. Сам Олеша был тоже мастер метафоры и это качество ценил в себе выше любых других. То есть именно эту способность он и считал талантом писателя.
«Я постарел, мне не очень хочется писать. Есть ли еще во мне сила, способная рождать метафоры?» — восклицает он в старости. Такая сила в нем все же оказывается, и тут же, на соседней странице, он приводит примеры вполне употребимых, новых добротных метафор. Но книги из них не выходит. А его единственная настоящая книга хоть и была густо расцвечена метафорами, но держалась отнюдь не на них, а на чем-то другом: на подлинности чувства, на движении личности, на простом и точном человеческом слове. И самое главное в этой книге — не сравнение женщины с цветущей ветвью или коленок ее с апельсинными корками, как считает сам постаревший автор, а простые слова об одиночестве и унижении.
Нет, я, конечно, не хочу сказать, что яркое метафорическое письмо не может выражать подлинных чувств поэта. Но метафора не может быть изобретена отдельно и навязана стиху извне, от автора. Сам стих, само движение поэтической мысли должно производить тот или иной прием с той же естественной необходимостью, с какой природа воспроизводит самое себя. Поэтический образ, какими бы средствами он ни был достигнут, возникает с единственной целью: зафиксировать подлинное ощущение автора. Передача этого ощущения читателю — есть уже второстепенная функция образа, неизбежное следствие, но не цель.
У Маяковского все обстоит иначе. Не фиксация и даже не передача, а сразу мимо и дальше — воздействие. Не забудем: он имеет дело с аудиторией.
Вот он собирается сообщить аудитории достаточно простую и ясную мысль: что он, Маяковский, — солнце поэзии и что это и почетно и обременительно. Этот образ, давно уже ставший готовой словесной формулой, надо как-то освежить, обновить, обратить на него внимание. Что делает Маяковский? Он выстраивает фантастическую историю о том, как настоящее солнце пришло к нему в гости и произнесло необходимую фразу. Рассказ, за неимением внутреннего содержания, ведется очень подробно и длинно, со всеми глаголами типа «пошел-пришел, сел-встал». И, конечно же, никакого фантастического мира не возникает перед читателем, и единственное обоснование любого действия — безоговорочная воля автора. Прием настолько принужден, принудителен, что переход в конце стиха на прямую декларацию — «светить всегда, светить везде» — воспринимается как явное облегчение, чуть ли не как глоток воздуха.
Этот стих-гипербола, стих-метафора может быть признан частной неудачей — но он не станет от этого неудачным примером. Потому что по такому же точно принципу строится большинство метафор Маяковского, в том числе и самые искусные и яркие.
2
Не будем торопиться с возражениями. Попробуем рассмотреть попристальней две-три из хороших, нет — из лучших, из самых знаменитых его метафор Например, вот эту:
Слышу: тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв. И вот,— сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он и новые два мечутся отчаянной чечеткой.Перед нами так называемая «развернутая метафора», небольшое сочинение на тему выражения «нервы расходились» или «нервы расшалились», употребляемого в быту в переносном смысле. Когда-то это выражение было само метафорой, останавливало на себе внимание слушателя, заставляло увидеть явление в новом свете.
Но с годами исчезла дистанция между словом и понятием, метафора состарилась и превратилась в речевой штамп. Казалось бы, для поэзии она потеряна. Но приходит Маяковский, производит простой анализ, вспоминает буквальное значение слов и сочиняет небольшой фантастический рассказ о бегающих по комнате нервах. Точно так же, по этой же точно схеме «горячее сердце» и «огонь души» превращаются у него в реальный пожар с пожарными в касках. Здесь же поэт опирается о собственные ребра, буквально и покорно реализуя выражение «выйти из себя»: «выскочу, выскочу…»
Что происходит? Происходит реализация речевого штампа, возврат ее к прямому буквальному смыслу, то есть окончательное убийство метафоры, но никак не ее рождение. Видимость жизни создается краткой агонией. Опять разъятие плоти, опять расчленение трупа! Маяковский верен себе. Впрочем, даже порочного сладострастия нет в этой трезвой конторской работе. Читатель может сам, по желанию, выбрать несколько общедоступных штампов, например, «кошки на сердце скребут», «сосет под ложечкой», «сошел с ума» — и попробовать развернуть их буквальный смысл. Он увидит, какое это скучное занятие, как много в нем сухой прямолинейной логики, как мало творчества.
Решение задачи содержится в условии, и каждая метафора Маяковского легко раскручивается назад, к очевидной исходной точке. Здесь нет иной, новой субстанции, иного, невысказанного объема. Это совсем не та метафора, что может быть определена только метафорически. Это просто еще одна картинка, более яркая по сравнению с исходной — чтобы вызвать более сильное впечатление, обратить внимание, убедить…
Нет смысла, да и было бы несправедливым говорить в этой связи о недостатках Маяковского, о его несостоятельности, неполноценности. Он абсолютно полноценен и состоятелен в том поверхностно-механическом мире, в котором живет и действует. Но таковы уж свойства этого мира, такова его ограниченность. Здесь конструкция — единственная реальность, построение — единственная форма творчества.
И поэтому там, где другой поэт скажет просто и предельно кратко: «Я, как щенок, бросаюсь к телефону на каждый истерический звонок» — там Маяковский для своей аудитории вынужден строить целое здание, сочинять фантастическую новеллу, с эстрадными шутками и звуковыми эффектами.
Тронул еле — волдырь на теле. Трубку из рук вон. Из фабричной марки — две стрелки яркие омолнили телефон. Соседняя комната. Из соседней сонно: — Когда это? Откуда это живой поросенок? — Звонок от ожогов уже визжит…И т. д.
Таким ощутимым, зримым трудом даются Маяковскому эти построения, он так неохотно с ними расстается… И здесь таится их повторная гибель. Поэтический образ — явление парадоксальное, мимолетность — залог его долговечности, он остается жить и утверждается в стихе лишь в том случае, если вовремя снят. Аналогия никогда не может быть полной, и повторная эксплуатация образа чревата его разоблачением. Кроме того, езда на образе очень быстро делает его заезженным, он легко превращается в авторский штамп.
Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, раструба трубки разинув оправу, погромом звонков громя тишину, разверг телефон дребезжавшую лаву. Это визжащее, звенящее это пальнуло в стены, старалось взорвать их…Это визжащее, звенящее это уже было исчерпано до конца двумя страницами раньше. Сколько еще занимательных историй можно рассказать о телефонном звонке только для того, чтобы убедить читателя, что герой поэмы действительно влюблен и взаправду взволнован?
Надо признать, что и эти сцены написаны на самом высоком техническом уровне. Движение стиха строго подчинено необходимому ритму, его энергия сначала тяжело нарастает, затем с облегчением прорывается, затем дробится и рассыпается, в полном соответствии со смыслом происходящего. Это писал большой мастер, талант которого в данной области не подлежит никакому сомнению. И как раз в этих замечательных строчках лучше всего видна ограниченность и механистичность его приемов. В принципе это ведь та же история, что и с солнцем, пришедшим в гости, только выстроенная энергичней и напряженней. Метафора понимается как аллегория, а еще точнее — как иллюстрация. Ее главная цель — наглядность. Смысл образа состоит не в том, чтобы ощутить непостижимость чувства (в данном случае — тревогу поэта о здоровье любимой), а в том, чтобы свести непостижимое к наглядному, к картинке, к сумме каких-то действий, доступных невооруженному глазу. Воображение не проницает оболочку реальности, не выходит в иной, трансцендентный слой, где возможно целостное восприятие мира, а, напротив, дробит реальность на части, заменяет ее другой реальностью, еще более низкого порядка, где принципиальная непостижимость заменяется практической неосуществимостью. Фантазия сводится к фантастике. Телефон не может изрыгать звоночины, которые будут палить в стены, а если сказано, что изрыгает, то это должно означать такую степень взволнованности автора, которую невозможно передать словами. Примерно таков подсознательный ход рассуждений читателя. Подсознательный. А каков сознательный?
«Протиснувшись… раструба трубки разинув… погромом громя…» Три деепричастия на один глагол. И на каждом — по нескольку косвенных падежей. Да два родительных, один на другом… Эти построения не случайны, все они функционально оправданы и выполнены очень искусно. Однако правильное их прочтение невозможно без обратной грамматической раскрутки. Стих сам не ложится на слух, он требует синтаксической расшифровки, выяснения всех иерархий и связей, только тогда он может быть узнан. Значит, опять — механическая работа, предшествующая чувственному восприятию. Эта задача может быть предельно простой, решаться в два или даже в одно действие, но она всегда присутствует в стихах Маяковского.
Неверно, что Маяковский ломает синтаксис, напротив, он его очень аккуратно использует. Структура фразы в своей основе остается у него незыблемой. Нельзя же считать разрушением синтаксиса пропуск очевидного члена предложения или широкое использование инверсии. Маяковский скрупулезно соблюдает грамматику, как иначе мог бы он опять и опять собирать вместе все свои дополнения и деепричастные обороты? Каждое чтение его стихов — это грамматический разбор предложения — именно отсюда и возникает первая усталость при чтении.
Во все концы, чтоб скорее вызлить смерть, взбурлив людей крышам вровень, сердец столиц тысячесильные Дизели вогнали вагоны зараженной крови.Можно ли воспринять эту строфу непосредственно, без грамматического разбора? Абсолютно исключено. Движение нашей мысли — именно мысли, не чувства — сразу же после чернового прочтения должно происходить в обратном порядке, от последней строчки до первой, то и дело петляя назад, то есть вперед, в поисках правильных подчинений. «Дизели вогнали вагоны». Ладно. Затем — непременный родительный падеж, да еще двойной. «Сердец столиц». Кто же — кого? Дизели столиц? Тогда что — сердец? Нет, дизели сердец, а уж сердца — столиц. Дальше идет деепричастный оборот, навешенный все на те же сердец дизели, причем эпитет «тысячесильные» их не укрепляет, а ослабляет, удаляя от подчиненных слов. И все это — «чтоб скорее вызлить смерть». Это надо будет особо иметь в виду при последнем, чистовом прочтении, потому что рифмуется слово «вызлить», после него так и просится запятая, а «смерть» ритмически тяготеет к следующей строке и оспаривает у дизелей право бурлить людей…
Итак, все грамматические связи как будто выявлены, теперь, ни на минуту о них не забывая, мы можем снова прочесть стих целиком. Но — поздно, слишком поздно, чуть-чуть бы раньше. Уже нарушена непрерывность движения, утрачена непосредственность восприятия, растрачены силы — и не на то, не на то… Вообще прерывность движения, разрывность мысли характернейшее качество стихов Маяковского. Не только слова в отдельной строке, но и любые другие элементы стиха сцеплены не смысловым и не образным единством, а внешним по отношению к стиху током энергии. Стих Маяковского в принципе фрагментарен. Он всегда состоит из отдельных строф, порой изолированных друг от друга, а чаще всего и сама строфа строится по фрагментарно-частушечному принципу. Вот, к примеру, одна из лучших:
А там, где тундрой мир вылинял, где с северным ветром ведет река торги,— на цепь нацарапаю имя Лилино и цепь исцелую во мраке каторги.Здесь совершенно очевидно, что две последние строчки — основные, а две предыдущие — вспомогательные и были сочинены во вторую очередь.
И дело тут не только в том, что в последних выражено главное действие, а в первых — его условие. Дело в том, как они все написаны. Понятно, что если в конце строки стоит имя собственное, то рифма, как правило, подбирается под него, а не наоборот. Но как раз «тундрой мир вылинял» не вызывает особого протеста. Зато «ведет река торги» — образ надуманный, и единственное его назначение — рифмоваться с каторгой. И опять здесь требуется повторное чтение, коррекция, на сей раз — интонационная, потому что сначала мы читаем «река торги» — два отдельных слова с двумя ударениями и даже раздвигаем их принудительной паузой, а уж потом, дойдя до конца строфы, обнаруживаем, что это составная рифма, возвращаемся и прочитываем верно: «рекаторги».
Или даже чуть-чуть иначе. Искусственность двух слов, должных составлять одно, сразу же нас настораживает, мы подозреваем, для чего это сделано, и осторожно несем эту составную игрушку до конца строфы, хотя еще и не очень уверены, что это вообще следует делать. Наконец, версия подтверждается, мы возвращаемся, читаем слитно (при этом строчка теряет существенную часть своего и без того зыбкого смысла) и затем перечитываем все сначала…
Разумеется, вся эта логическая работа происходит гораздо быстрее, чем здесь описано, с большей долей участия интуиции и чувства грамматики, но именно грамматики, а не слова и смысла., Окончательно расшифровав и уточнив строфу, мы можем восхититься искусством автора, но это восхищение чуждо катарсиса: красота изделия, эстетика вещи…
3
Любопытно, что сам Маяковский выше всего ценил в своем мастерстве то, что дальше всего отстоит от поэзии: способность изобретать, конструировать, делать, и никак не выделял те редкие моменты, когда ему удавалось приблизиться к внутренней сути.
«Наиболее примитивный способ делания образа — это сравнение» («Как делать стихи»). Между тем из всех поэтических тропов именно сравнение удается ему лучше всего, в том смысле, что образ, построенный на сравнении, хотя и не выходит за рамки наглядности, имеет все же наибольшую ассоциативную емкость:
Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного.И есть определенный класс метафор, родственных сравнению, произведенных от него, но порой ушедших так далеко, что это родство едва заметно. Я имею в виду метафоры, построенные на падежных согласованиях, в основном на родительном и творительном.
«В погоне угроз паруса распластал», вместо «угрозы—как паруса». Это снова грамматическое построение, но в нем Маяковский достигает предельной точности:
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка.Однако и здесь конструктивность, формальность мышления приводит к многочисленным срывам и сбоям. Прямые сравнения то каламбурно плоски («Лежит себе, сыт, как Сытин»), то построены на столь далеких друг от друга понятиях, что их сближение невозможно без специальной рассудочной работы. А тогда и сильная падежная метафора выступает уже не как способ видения, а как хитрая изобретательская уловка. Выигрыш в том, что здесь сравнение не стоит под прямым вопросом читателя: «Так ли — не так ли?», а становится грамматическим свойством предмета, как бы заведомо органическим. Несомненная и твердая правда синтаксиса выдает себя за правду образа.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили за тоски хоботом?Здесь двойная или даже тройная стена родительных падежей, и кому захочется ее расковыривать? Со временем и этот прием становится все суше, все умозрительней:
Это — он. Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов.Грамматика уже почти не прикрывает смыслового неприличия, и не надо ни родительный, ни предложный падеж возвращать в именительный, чтоб увидеть искусственность всей конструкции. Если даже принять, что спасательные круги парохода действительно напоминают очки товарища Нетте, то есть что их на пароходе два, а не больше, и что расположены они как раз где надо, с учетом поэтического антропоморфизма, — все равно ни круги, ни очки не похожи на блюдечки, уж тут ничего не поделать. Изначальная конструктивная установка: «чтобы, умирая, воплотиться в пароходы…» — потребовала такого именно образа, и он был выстроен — именно такой.[1]
Фрагментарность, дробимость всего его творчества приводит к тому, что чем мельче дробление, тем убедительней и неуязвимей часть. Отрывок всегда лучше поэмы, строчка всегда сильнее стиха. И как неразложимая целостность мира чужда и враждебна его восприятию, так и в творчестве его необходимость построения целого ощущается как тяжкая повинность, как труд, навязанный извне, нежеланный. Маяковский лучше всего — в короткой цитате, когда нет этого объединительного усилия. Но контекст все же остается контекстом. Ни один поэтический элемент не может существовать вне общей системы. Яркая строчка, сильный и точный эпитет порой приближают Маяковского к самой границе его замкнутого мира, но выйти за пределы ему не дано. «Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! Рухнули. Не выскочишь из сердца!» Зато это тщетное усилие выскочить ощущается тем явственней, чем лучше стих.
Не удивительно, что на таком напряжении он смог продержаться недолго. Две его первые, лучшие поэмы движутся почти на непрерывном подъеме, и спады (во «Флейте» более частые) еще вполне перекрываются силовым полем вершин. «Человек» уже гораздо слабее, а «Война и мир» — откровенная конструкция, предшественница будущих агитпоэм. В отдельных стихах он также все более в последние предреволюционные годы склоняется к демагогии и дидактике, от длинных морализирующих гимнов до скучнейших нападок на братьев писателей.
В этом смысле Революция — и в этом смысле тоже — явилась для него событием желанным, быть может, спасительным. Он уже начинал иссякать. Ограниченный набор деклараций был уже перепет «не раз и не пять». Революция не только влила в него новые силы, добавив к иссякавшей внутренней энергии свою, обобществленную, внешнюю, — она еще и принесла с собой смену критериев, так что механическая структура стала единственным образом мира, насилие — единственным способом жизни, демагогия — единственной формой общения. В этой родственной ему определенности Маяковский, наконец, находит себя. Тема одиночества надолго исчезает из его стихов, и, что бы мы ни думали об их качестве, в них впервые возникает чувство равновесия. Революция заменила ему духовность, дала ощущение абсолюта, без которого он метался от крайности к крайности. Не имея за душой никаких Других абсолютов, он принял этот безоговорочно, с первого же предъявления («Принимать — не принимать? Для меня сомнений не было») и верно служил ему до конца своей жизни.
Глава третья ПОЭЗИЯ И ПРАВДА
1
С первых дней Революции, опьяненный силой, вливающейся в его ослабевшие было мышцы, он впадает в какое-то истребительное неистовство. Он подталкивает в спину, понукает, требует, оставляя позади даже самых крайних представителей власти и призывая к уничтожению даже тех ценностей, которые были им важны и дороги.
Белогвардейца найдете — и к стенке, А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям по стенке музея тенькать. Стодюймовками глоток старье расстреливай!За пять лет до этого в Политехническом басовитый парень предлагал уничтожить музеи, «эти гробницы культуры». Кто мог отнестись серьезно? Это было безобидное хулиганство, желание обратить на себя внимание. Теперь — казалось бы, те же слова, но насколько страшнее смысл!
Старье охраняем искусства именем. Или зуб революций ступился о короны? Скорее! Дым развейте над Зимним — фабрики макаронной!Каждый из сторонников Революции хотел в ней видеть нечто свое, наиболее близкое и соответствующее. Маяковский увидел — массовое убийство, разрушение, уничтожение, затаптывание. Все эти сугубо революционные действия воспроизводятся им в первозданном виде, безо всяких оговорок и эвфемизмов. Созидательная сторона также наличествует, но она представлена мимоходом и чисто формально («Тысячи радуг в небе нагаммим…»). Души он в нее не вкладывает. Зато уж теперь, как никогда прежде, защищенный и легализованный объективным, общественным смыслом, он откровенно купается в сладостных волнах насилия и захлебывается ими, выражая бурный восторг:
Пули, погуще! По оробелым! В гущу бегущим грянь, парабеллум! Самое это! С донышка душ! Жаром, жженьем, железом, светом, жарь, жги, режь, рушь!Самое это! То, для чего он пять лет топился. То затаенное, сокровенное, что выплескивалось с донышка его души по частям в тех поэмах и многих стихах, теперь изливается целиком и впрямую. Теперь он, получает возможность и право и использует их на всю катушку, мобилизуя весь свой талант. Он стреляет, колет, режет и рубит, он размахивает всем, что попадается под руку. Все живое вокруг погибает и корчится в муках. С грохотом рушится «римское право» и «какие-то еще права». Здесь же рядом валяется апостол Петр «с проломленной головой собственного собора». Гардеробы топчут людей, столы протыкают их ножками. В этой жуткой оргии уничтожения, в сплетении изуродованных зданий и тел далеко не всегда можно понять, кто же именно должен гибнуть, а кто — торжествовать победу. Но это и не важно, это и не нужно. Здесь важен процесс, на него направлено все внимание и все лучшие чувства автора. И это именно он, автор, наслаждается и торжествует. Революция требует, революция оправдывает—и он готов, и он счастлив действовать.
Однако Революция в своих декларациях была далеко не столь безоглядна и не столь откровенна, как ее поэт. Попросту говоря, никто его не просил. Незачем было вскрывать механизм, разламывать оболочку действия, прорывать лбом бумагу гуманных декретов и лозунгов. Реакция власти была целиком отрицательной.
«Голову охватила „150 000 000“… Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все».
Он ошибся, это делали. Не кто иной, как В. И. Ленин дописал и улучшил поэму краткой записочкой Луначарскому, и теперь они всегда публикуются вместе:
«Как не стыдно голосовать за издание 150 000 000 Маяковского в 5000 экз.?
Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм».
Нет, ни Ленин, ни Троцкий, ни Луначарский (которого было за что сечь, кроме футуризма…), ни грозные комиссары ЧК не давили на Маяковского, не принуждали писать такие, к примеру, строки:
Фермами ног отмахивая мили, кранами рук расчищая пути, футуристы прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти.Бывшие слушатели университетов — Казанского, Цюрихского, Петербургского — хоть и были настроены на разрушение, но такую вопиющую пошлость принять не могли. Троцкий безоговорочно ставил «Облако» выше всего «революционного» Маяковского. Ленин, меньше знавший литературу, высказывался проще и резче: «Условимся, чтобы не больше двух раз в год печатать этих футуристов». Разумеется, и это уже была несвобода, и это уже было давление, но ведь важно, в какую сторону. Литературу, связанную с прежней культурой, тоже, конечно, давили. Но в те первые годы это делалось с большим разбором, не таким огульным, погромным, громовым нахрапом, каким рвался действовать Маяковский. Его же не только не принуждали, но всячески сдерживали и оттаскивали. Революционная власть, сама не страдавшая излишней мягкостью, то и дело ограждала от его нападок кого-нибудь из представителей старой культуры, которого еще намеревалась использовать: то Горького, то Брюсова, то МХАТ, то Оперу… Даже Сталин, можно сказать, его не устроил своей чрезмерной мягкостью к классовым врагам.
На ложу в окно театральных касс тыкая ногтем лаковым, он дает социальный заказ на «Дни Турбиных» — Булгаковым.Эти едкие строки о «новом буржуе» генеральный палач Советского Союза мог бы вполне отнести на свой счет. Известно, как нравились ему «Дни Турбиных», он самолично дозволил их постановку во МХАТе и то ли двенадцать, то ли пятнадцать раз смотрел спектакль из своей ложи, «тыкая ногтем лаковым». И когда, уже после смерти Маяковского, он снизошел до спасения жизни Булгакову, оградив его от смертельной травли, он тем ограждал его и от Маяковского, не пропускавшего ни одного театрального диспута без угроз и проклятий в адрес Булгакова.[2]
2
Его неистовство вызывало порой удивление даже у друзей и единомышленников. Что же касается аудитории, то не раз ему приходилось пресекать намеки из зала прямым и грозным вопросом:
— Вы хотите сказать, что я продался советской власти?!
Этого, по крайней мере, вслух никто сказать не хотел.
Но, добавим, это бы и не было правдой. Продался ли он советской власти? Он действительно получал большие гонорары и в некотором роде был советским барином: отдыхал в лучших домах отдыха, беспрепятственно ездил по заграницам, снимал дачи, имел домработниц и даже собственный автомобиль, едва ли не единственный в целой стране. И, конечно, это не могло не усиливать его чувства комфортности и соответствия. Но какая это была ничтожная плата в сравнении с тем, что он сделал сам! Никакие блага, никакие почести, ни те немногие, что воздавались ему тогда, ни даже те, что воздаются сегодня, не могут сравниться с его страшным подвигом, не могут служить за него платой.
Он дал этой власти дар речи.
Не старая улица, а новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского. С ним, еще долго об этом не зная, она получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы.
«Точка пули», «хрестоматийный глянец», «наступал на горло», «о времени и о себе»… Это ведь в языке останется, хотим мы того или нет. Но и язык партячеек и комсобраний, и ужас декретов, и бессмыслица лозунгов — с такой готовностью были им восприняты и с таким талантом преобразованы, что стали почти афоризмом, почти искусством. На все случаи советской жизни он создал пословицу-пустословицу, поразительно соответствующую этой жизни — не как поэтическая характеристика, но как обобщенная словесная формула, составленная из той же материи. Отныне любой председатель, любой секретарь сможет оживить свою речь цитатой: «Как сказал поэт…» И, казалось бы, дальше все та же жвачка, та же бессмыслица — но так искусно организованная, что как бы и смысл, и чувство, и строй души…
Нет, ни за плату, ни по принуждению такого совершить нельзя. Это так случилось, что выгода в основном совпадала, — как иначе, если служишь власти и силе? — но сама служба не была выбором, а единственно возможным способом жизни.
Он чувствовал двусмысленность своего положения, тому свидетельством множество оправдательных слов: «Не по службе, а по душе», «Вот этой строкой, никогда не бывшею в найме»… Он выстраивает сложные сооружения, чтобы объяснить себе и читателю кажущуюся принужденность своего пути.
И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас — доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне.В этих крылатых итоговых строчках — двойная неправда. Агитпроп, конечно же, был доходней. Александр Блок, всю жизнь «строчивший романсы», записал у себя в дневнике незадолго до смерти: «Научиться читать „Двенадцать“. Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда». То есть, иными словами — стать Маяковским…
Но и «себя смирял» — тоже неправда. Это запоздалая рассудочная формула, обобщенный ответ на упреки читателей и собственную ностальгию по юности. Ведь если наступал на горло собственной песне, то, значит, пел не свою, чужую! Этого Маяковский сказать не хотел, он так не считал, и этого не было. Велик соблазн ухватиться за эту нить, но она заведет нас в тупик, не стоит. Слишком много личной заинтересованности, да попросту слишком много таланта — для того, чтобы эти песни были навязаны кем угодно, пусть даже самим собой. И не верность идее в нем поражает, а именно соответствие ей. Было много талантливых людей, воспринявших идею как благо, но все они против собственного желания изменяли ей в своем творчестве. Таковы уж свойства живой души, она не может ужиться с мертвой догмой, и чем более человек талантлив, тем больше проявляется противоречие. Бабель, Заболоцкий, Багрицкий, Платонов, Зощенко… Можно продолжить. Пастернак тоже бы хотел, как Маяковский, и время от времени пробовал. Выходило ходульно и неестественно, он выдавал себя в каждой строфе. Слишком много в нем было живой, отдельной души, слишком много было Пастернака.
В Маяковском же — Маяковского не было, вот и вся страшная тайна. Пустота, сгущенная до размеров души, до плотности личности — вот Маяковский.
Милостивые государи! Заштопайте мне душу — пустота сочиться не могла бы.За двенадцать лет советской власти Маяковский написал вдесятеро больше, чем за пять предреволюционных лет. Он был не просто советским поэтом, он в любой данный момент был поэтической формулой советского быта, внешних и внутренних установок, текущей тактики и политики. И однако же то главное дело, которое он ставил себе в заслугу, не было выполнено, не было даже начато. Время свое он не отразил и не выразил.
В 40—50-е годы мы страстно читали его стихи, знали наизусть половину поэм, но что мы знали о времени? Это теперь мы можем дополнить его строки тем фоном, тем подлинным вкусом и запахом времени, который нам сообщили другие.
Время выражается только через личность, только через субъективное восприятие. Объективного времени нет. Маяковский же… Странно произнести. Между тем это очевидная истина. Маяковский личностью не был. Он не был личностью воспринимающей, он был личностью оформляющей, демонстрирующей, выдающей вовне, на-гора:
Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье.Вообще наше представление о нем как о личности складывается из чисто внешних черт: рост, лоб, глаза, челюсть, взмах руки и громовой голос. Он не был, но он выглядел личностью, и гораздо более яркой, чем личность. Обратим внимание на простую вещь: читая стихи, мы ведь постоянно это все представляем, да он и напоминает нам время от времени. А читая любого другого поэта, до или после? Нет, конечно же, нет. Там мы можем лишь отдельно припомнить внешность автора, но, читая, слышим скорее себя, и это тем верней, чем субъективней стихи. Суть поэзии — личностное восприятие, слововыражение от него неотрывно, но оно несет подчиненную функцию. Очевидно, что поэзии нет без слова, но качество слова, его адекватность и даже само его вещество существует лишь в отношении к восприятию — первичному, личностному, субъективному…
Маяковский — весь — вне этих категорий. Сам он это о себе хорошо знал и вполне сознательно декларировал:
Поэзия — это сиди и над розой ной… Для меня невыносима мысль, что роза выдумана не мной. Я 28 лет отращиваю мозг не для обнюхивания, а для изобретения роз.Он не был поэтом воспринимающим, он был поэтом изобретающим. То, что он сделал, — беспрецедентно, но все это — только в активной области, в сфере придумывания и обработки. Все его розы — изобретенные. Он ничего не понял в реальном мире, ничего не ощутил впервые.
Есть большой соблазн сказать (и говорят), что он расширил границы поэзии. Это, конечно, не так. Поэзия осталась там, где была, но он расширил сферу действий поэта, включив в нее собственно границы поэзии и еще многое за их пределами. Этому постоянному соотношению: граница — и то, что вне ее, — мы и обязаны потоку пустых версификаций, которыми на 4/5 заполнены тома его произведений. Он и в этом, как и во многом другом, уникален, и если уникальность есть мера гениальности, то прибавим сюда и это обстоятельство.
Он уникален и неподражаем, и печать его неповторимой личности — той самой спрессованной пустоты — несут даже графоманские строки. Но и самые лучшие, самые личные — не несут ничего иного. Вот, казалось бы, крик, идущий из сердца:
Я — где боль, — везде!
Нет сомнений, это сказал Маяковский, никто не мог бы, кроме него. Но эта строчка ровным счетом ничего не значит. Ни контекст поэмы, ни общий контекст Маяковского не дают оснований предполагать, что он чувствует какую-то боль кроме собственной. И даже независимо от контекста любая форма такого утверждения: я сострадающий, я сердобольный — работает против его содержания и не может быть воспринята всерьез. Это формула, выведенная не из собственных ощущений, а из общего, усредненного восприятия. Он подтвердил это лет через десять, подставив в нее другие координаты:
где пошлость, — везде!
Здесь в точности та же самая фигура используется уже в противоположном смысле, не в страдательном, а в винительном, точнее — в карательном. Что ж, можно и так. Но теперь она звучит уж совсем двусмысленно, и трудно удержаться от пародийного вывода: был везде, где боль, стал везде, где пошлость… Не стоит придавать ему серьезное значение. Маяковский и в прошлом послужил пошлости, но и в будущем достаточно мучился собственной болью.
Эта боль называлась, быть может, не очень красиво: боль детской обиды, уязвленного тщеславия, — но она болела достаточно сильно, мы это знаем. Здесь прокол в его душевной пустоте, именно здесь она и сочится. Маленький уголок души, где гнездятся боль и обида, — вот и все живое в большом Маяковском, остальное— только пустое пространство, заполненное внешней энергией. Но и это тоже не мало. Это то, что с ним примиряет, что делает возможным разговор с ним и о нем. Душевная боль всегда человечна, жалоба — всегда духовна. Жалоба на душевную боль, в конечном счете, всегда — молитва, потому что кто же может помочь, как не Бог?
Тело твое просто прошу, как просят христиане — «хлеб наш насущный даждь нам днесь».Здесь цитирование прямого адреса — лишь смущенное прикрытие прямого адреса.
3
Вот что исчезло из стихов Маяковского после революции — жалоба. И с нею — всякая возможность духовности. Только два-три раза возникают какие-то всплески, но они тонут в море коллективной пошлости, заполняющей теперь все свободное пространство его души, всю ее воспринимающую пустоту. Обобщенный, мертворожденный словарь позволяет лишь угадывать нечто живое и личное. Он и прежде питался общественным восприятием, но тогда оно не было столь однозначным, в нем было много степеней свободы, и какое-то из направлений движения могло совпасть с подлинным личным мотивом.
Теперь направление оказалось одно, и личный мотив с ним всегда совпадал, так что жаловаться больше было не на что. Не на что — но и нечем.
Многие из тех, кто любил Маяковского, кому нравилась «удача его движений», сочли эту перемену изменой. На самом деле измены не было, во всяком случае, с его стороны. Изменило или просто — изменилось, как угодно, то общественное наполнение, через которое он всегда воспринимал действительность. Всю, в том числе и себя самого.
В нас стойко сидит представление о том, что дореволюционный, романтический Маяковский одиноко и мужественно противостоял силе, а послереволюционный — силе служил. На самом деле этого не было. Он никогда не противостоял силе, а всегда противостоял слабости. Силу же — использовал. Сила застоявшихся мышц общества была использована им с огромным чутьем и талантом в его стратегии и тактике успеха. Все шло в дело: и оранжевая (желтая) кофта, и рост, и голос, и бездарность друзей, и полная готовность интеллигенции, к тому времени, говоря словами незабвенного Венички, достигшей таких духовных высот, что ей можно было с метра плевать в рожу, и она бы не шелохнулась.
Радостно плюну, плюну в лицо вам…Эти стихи он читал, тыча пальцем в конкретных людей в зале и даже плюя с эстрады в первые ряды, и все это—при полном доброжелательстве публики. Гак что «Голгофы аудиторий» следует признать поэтической гиперболой, выражением скорее его отношения к залу, чем зала к нему.
В 13-м году, начинающий поэт, он объездил с друзьями пол-России и нарвался лишь на несколько вполне благополучных скандалов. Он пишет об этом времени: «Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки».
Можно подумать, у него их были тысячи. Между тем за весь тринадцатый год он написал едва ли два десятка стихов, и почти все они были изданы.
Но сила в то время была слишком аморфна, разлита в атмосфере времени, чтоб он сам мог ощущать ее направленное давление. Не то стало после Октября.
Этот вихрь, от мысли до курка, и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды.Теперь он мог использовать внешнюю силу, лишь ей служа.
Именно по отношению к этой службе постоянно возникает вопрос о его искренности, возникает опять и опять, после всех ответов. Удивленный и расстроенный Пастернак написал ему на подаренной книге:
Я знаю, ваш путь неподделен. Но как вас могло занести Под своды таких богаделен На искреннем вашем пути?Здесь вопросительная, недоумевающая интонация явно пронизывает всю строфу целиком и относится не только ко второй, но и к первой и к последней строчке. Искренен ли, неподделен ли путь?
Странный все же вопрос.
Отчего он так актуален всегда, когда речь заходит о Маяковском? Не является ли сама его постановка свидетельством того, что данное явление расположено вне поэтической сферы? Что есть поэзия в конечном счете, как не точно выраженная искренность? Спросите, искренен ли Баратынский? Или Лермонтов — действительно чувствовал и думал то, что писал, или чувствовал одно, а писал другое, руководствуясь, к примеру, деловыми соображениями?
Не будем торопиться с ответом и выводом Продолжим немного нашу анкету, продвинем во времени, приблизим к Маяковскому.
4
Иль я не знаю, что, в потемки тычась, Вовек не вышла б к свету темнота, И я — урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста?Искренний ли поэт Борис Пастернак? Действительно ли он верил в эту арифметику, и верно ли, что плакатные «сотни тысяч» с их опереточным «счастьем» были ближе ему, чем друзья и родные, чем сто знакомых и незнакомых, но конкретных живых людей, которые, очевидно, приносились в жертву, раз возникла такая альтернатива: что ближе, а что не ближе?
Так можно спросить не об одном Пастернаке, да о нем-то, быть может, в последнюю очередь, но это и важно и страшно, что даже о нем…
И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней?Что за странность, чем это таким он мерится? И с каких это пор поэт в России стал мериться чем-то кроме стихов?
С каких… Да с тех самых пор. С тех пор, как все критерии сдвинулись с места и серая муть проникла в самые стойкие, самые заполненные души.
И, читая эти стихи Пастернака, мы не только не торопимся его уличить, мы просто надеемся, нам хочется думать, что он неискренен. Нам хочется думать, что он притворяется, со скоморошьей буквальностью повторяя привычные штампы, только для того, чтобы тут же воскликнуть:
Но как мне быть с моей грудною клеткой И с тем, что всякой косности косней?Это тоже еще немного риторика, но уже переход к самому главному, к тому, для чего и писались стихи:
Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста.И даже в этой прекрасной строфе, полной сдержанной силы и скромного достоинства, мы оказываемся перед неминуемым выбором: или две первые строчки, или две последние. А выбрав последние, должны принять, что «великий совет» и «высшая страсть» — это тоже скоморошья дразнилка, фига в кармане…
Вопрос об искренности того или иного художника, безусловно, актуален и в наше время, а тем более в то, легендарное. Однако оценка ответа не всегда однозначна.
Зощенко написал о Беломорканале и, говорят, сделал это совершенно искренне. «И вот, я делаю вывод: Роттенберг благодаря правильному воспитанию изменил свою психику и перевоспитал свое сознание и при этом, конечно, учел изменения в нашей жизни. И в этом я так же уверен, как в самом себе. Иначе я — мечтатель, наивный человек и простофиля».
Интересно, согласились бы зэки Беломорстроя с такой мягкой самооценкой автора? Хорошо хоть он допускает, пусть в негативной форме, саму возможность какого-то «иначе». Значит, была червоточина в его чистой искренности. Талантливый человек всегда ненадежен, вакансия поэта всегда опасна…
Да, конечно, поэзия и искренность — это в некотором роде синонимы. Но поэзия не может быть и бесчеловечной. И что тогда лучше — бесчеловечная искренность или человеческое притворство?
И это еще не последний выбор, здесь есть варианты.
Проще всего сказать о Маяковском, что он был неискренен. Это можно доказать многочисленными примерами, однако это вряд ли исчерпает вопрос. Декларативная поэзия, если признать ее существование, не может быть искренней в каждый момент, так как руководствуется не сиюминутным чувством, а некоторым исходным убеждением, не концепцией, окрашивающей восприятие, а заранее выбранной установкой, предопределяющей все, вплоть до средств выражения.
Вспомним, однако, Аполлона Григорьева: «Художество как выражение правды жизни не имеет права ни на минуту быть неправдою: в правде — его искренность, в правде — его нравственность, в правде — его объективность» (курсив А. Григорьева).
Я снимаю вопрос об искренности Маяковского не только потому, что он неразрешим до конца, но и потому, что его решение — неплодотворно. Я снимаю этот проклятый вопрос и ставлю вместо него другой: о правде. А на него мы, по сути, уже ответили
5
Леонид Равич, ученик и поклонник, рассказывает: «Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дернул за язык, тихо проговорил:
— Я люблю смотреть, как умирают дети…
Мы пошли дальше.
Он молчал, потом вдруг сказал:
— Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?»
Неужели вы думаете, что это правда? Так он мог бы сказать о любой своей строчке, о каждом стихе.
Трудность восприятия его стихов есть трудность нахождения соответствия, фиксации подлинных чувств и оценок. Задача эта неразрешима в принципе, потому что на том конце стиха — не вожделенная суть и правда, а произвольно выбранная оболочка, то есть снова знак, а не смысл.
Это был неутомимый дезинформатор. Не только истина в высшем смысле, но простая обыденная правда факта не имела для него никакого значения. И не то чтобы он всегда специально обманывал, но просто знать не знал такого критерия. Декларативность и полемический строй стиха чрезвычайно подчеркивают это обстоятельство. Почти ни одно его утверждение не выдерживает сопоставления с реальностью — ни с реальностью чувства, ни с реальностью быта, ни с реальностью, им же самим утвержденной в соседних стихах или даже в соседних строчках.
Любил ли он смотреть, как умирают дети? Он не мог смотреть, как умирают мухи на липкой бумаге, ему делалось дурно.
«Вам, берущим с опаской и перочинные ножи…» Кто поверит, что эти издевательские строки написал человек, смертельно страшившийся вида крови и действительно бравший с опаской перочинный нож и даже иголку? А все кровавые водопады с «сочными кусками человечьего мяса», как же они? Да точно так же. Грязь, пот, слюна, жевотина в изобилии текут по ступенькам его строк, и это все прекрасно уживается с его знаменитым гуттаперчевым тазиком, питьем кофе через соломинку и мытьем рук после каждого рукопожатия. То само по себе, а это — само. То — реальность изделия и воздействия, это — реальность жизни и быта. Разные вещи. Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано.
Он живет в удивительной семье из трех, на двусмысленном праве, на странном договоре — и пишет стихи о неких подонках, «присосавшихся бесплатным приложеньем к каждой двуспальной кровати».
«Будьте прокляты! — искренне кричит он всем сытым в 22-м голодном году. — Пусть будет так, чтоб каждый проглоченный глоток желудок жег! Чтоб ножницами оборачивался бифштекс сочный, вспарывая стенки кишок!» Такая изобретательность. А на даче в Пушкине устраивает воскресные приемы, многолюдные, человек на двадцать, и просит домработницу наготовить «всего побольше».
О своем личном импресарио — ведь был же у него и такой! — энергичном, хватком, напористом, шумном—он говорит: «Мне рассказывал тихий еврей…»
Он изобличает обывательское отношение к власти: «Мы обыватели, нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть» — и буквально на следующей странице рассказывает о пресловутом литейщике, который убеждается, что власть «очень правильная», помывшись в собственной ванне. Примеров не счесть. Отношение к правде факта и правде слова — вот, быть может, главный пункт его соответствия той общественной системе, которой он столь верно служил. Здесь эпоха великого словоблудия встретилась со своим великим поэтом и уже не расстанется с ним никогда. Большая общественная неправда отражается, дробится и преломляется в неправде и двусмысленности его личности.
Он прекрасно знал в себе эту двусмысленность и достаточно рано научился ее использовать.
В статье «О разных Маяковских» (каково название!) он предваряет публикацию «Облака в штанах» заявлением, что это другой Маяковский, не тот, что известен публике, а если она подумает, что такое-то место в поэме означает то-то и то-то, так нет, оно означает вот что… Примечательно, что возможность истолкования и даже сильнее — его необходимость была задана самим Маяковским, и ведь это при том, что в поэтическом смысле стих его, как правило, прост и логичен и, за редким исключением, образной расшифровки не требует.
Этот камушек покатил литературоведческую лавину. Формирование авторской личности Маяковского происходило в значительной мере за пределами его стихов, путем присвоения им весовых множителей, путем придания усиленного, конкретного смысла одним из его конструкций и приглушения, абстрагирования других. Например, «душу на блюде несу» — конкретная жертвенность, а «понедельники и вторники окрасим кровью в праздники» — абстрактный романтический бунт. Таким образом, расплывчатость облика работает не во вред, а на пользу. Если все, что он говорит, — это как бы не всерьез, не вполне так и может означать иное или попросту ничего не означать, — то выходит не так уж и страшно. Если кровожадность — это только поза, если орет, но никогда не вцепится или даже не думает того, что орет, — так и пусть себе, чего волноваться…
Это было второе важнейшее право (после права на жалобу), которое отняла у него Революция.
Когда реальные окровавленные туши повисли на реальных фонарных столбах, когда «серенький перепел» Северянин вынужден был навсегда покинуть Россию, опасаясь, чтоб в его настоящем черепе не кроился вполне материальный кастет, — угрозы и подстрекательские призывы Маяковского потеряли право на отвлеченность и символизм. Не столько изменился сам Маяковский, сколько изменилась цена его слова.
А потом топырили глаза-тарелины в длинную фамилий и званий тропу. Ветер сдирает списки расстрелянных, рвет, закручивает и пускает в трубу.Казалось бы, чем эта наглядная сценка страшней все тех же лабазников? Отчего мы в таком ужасе от нее шарахаемся и долго потом ощущаем в сердце мертвящий холод? Ведь тот же автор, та же тема, излюбленная, привычная линия… А разница в том, что теперь за страшным словом стоит подлинное страшное действие и более того — уже совершенное! И нет теперь никакой возможности, ну ни малейшей, перечислить куда-то безумный смысл этих слов, возвести их в гиперболу, в образ, в прием, черт знает куда, но только подальше от того единственного, что они означают…
И все же мы так сразу не можем смириться, слишком в нас силен интеллигент и обыватель. Мы начинаем метаться и искать окольных путей. Не может быть, говорим мы себе, немыслимо! Чтобы русский поэт… неважно какой, нарушитель там, разрушитель… но есть же границы! Чтоб вот так публично радоваться массовым казням? И не сочувствия искать для расстрелянных, а звонкой веселой рифмы? Каких-то тарелин, будь они трижды неладны… Нет, это слишком, так не бывает…
И от одной характерной черты Маяковского, от его комплексующего сладострастия, мы кидаемся к другой — к спасительной неоднозначности. Мы говорим себе: это он так, несерьезно. Это он врет, как всегда, а сам в глубине души сочувствует жертвам, как же иначе… Но для всех этих постыдных интеллигентских мыслишек у нас имеется только одно мгновение, отделяющее нас от следующей строфы. Маяковский помнит о своей многоликости и, чтоб не было пересудов «о разных Маяковских», в ключевых, политически важных случаях спешит поставить точку над i:
Лапа класса лежит на хищнике — Лубянская Лапа Чека.Здесь уже четко названы исполнители и выражено отношение. Но вот, опять-таки не без двусмысленности: трудно отнестись с безоговорочной симпатией к этой дважды повторенной страшной лапе. И тогда, быть может снова что-то почувствовав он выражается с окончательной определенностью:
— Замрите, враги! Отойдите, лишненькие!А это — как будто специально нам адресовано.
Обыватели! Смирно! У очага!Никакого сомнения — нам!
6
Странная губительная эманация исходит от этого человека. Губительная прежде всего — для правды. Нет таких воспоминаний о нем, нет такого рассказа о встрече с ним, где бы это не чувствовавалось. У любых, самых различных авторов мы обнаоуживаем одинаковое лавирование, ускользание от прямого выбора, потоки поспешных истолкований с явным давлением на читателя. Асеев, Зелинский, Перцов, Катанян… Бог с ними со всеми. Но другие, достойнейшие имена покорно становятся в этот ряд, как только приближаются к нашей теме.
Здесь, пожалуй, примечательнее всех — Корней Чуковский.
Он был старше Маяковского на десяток лет и ко времени первого их знакомства в 14-м году считая вполне авторитетным критиком. И вот как в 1940-м он рассказывает об этой встрече.
«Он вышел ко мне, нахмуренный, с кием в руке и неприязненно спросил: — Что вам надо?
Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью высказывать ему свое одобрение. Он слушал меня не долее минуты и наконец, к моему изумлению, сказал:
— Я занят… извините… меня ждут… А если вам так хочется похвалить эту книгу, подите, пожалуйста, в тот угол… к тому крайнему столику… видите, там сидит старичок… в белом галстуке… подите и скажите ему все…»
Обратите внимание на многоточия, которыми так щедро разбавляет Чуковский грубый ответ Маяковского. Он поясняет: «Это было сказано учтиво, но твердо». Видимо, многоточия как раз и должны выражать учтивость.
«„При чем же здесь какой-то старичок?“ — растерянно удивляется Чуковский.
— Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я — великий поэт… А отец сомневается. Вот и скажите ему.
Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку.»
Засмеялся и пошел. Отчего же не обиделся? А потому что он, интеллигент, в данный момент разговаривал с хамом, а интеллигенту полагалось умиляться хамству, а вовсе не обижаться.
С таким же умилением рассказывает Чуковский о злости, нетерпимости, высокомерии, каждый раз находя такие слова или, по крайней мере, пытаясь найти, чтобы это выглядело как достоинство. И, конечно же, неоднократно проговаривается.
Впрочем, некоторые из его проговоров только сейчас выглядят таковыми, а в момент написания были тем, что требовалось.
Чуковский рассказывает, например, как однажды привел Маяковского к издателю. Его сестры не понравились Маяковскому, они были «зобастые, усатые, пучеглазые». Да и сам хозяин оказался «белесым и рыхлым». Никаких других отрицательных черт, кроме указанных внешних данных, Чуковский не приводит, но и этих достаточно.
«Маяковский стоял у стола и декламировал едким фальцетом». (Разумеется, фальцет в приложении к Маяковскому выступает как чисто положительная характеристика.) Что декламировал? Ну конечно:
А если сегодня мне, грубому гунну…«Самая его поза не оставляла сомнений, что стоглавою вошью называет он именно этих людей и что все его плевки адресованы им».
Странно, плевки в лицо не пришлись по душе «этим людям». Видимо, они не были настоящими интеллигентами. Нет, они не плевались и не кричали в ответ, все же понимали, что стихи есть стихи, но некоторые, если верить Чуковскому, тихо вышли из комнаты. Корней Иванович, вспоминая об этом, ругает их, конечно, но как-то дилетантски: «засеменил», «одна из пучеглазых»… До Маяковского ему далеко.
«Случай этот произошел так давно, — признается Чуковский, — что многие его детали я забыл. Но хорошо помню главное свое впечатление: Маяковский стоял среди этих людей, как боец, у которого за поясом разрывная граната. Я тогда почувствовал, что никакие перемирия, ради каких бы то ни было целей, между ним и этими людьми невозможны, что в их жизни нет ни единой пылинки, которой он не отверг бы, и что ненависть к ним и к их трухлявому миру — для него не стиховая декларация, а единственное содержание всей его жизни…»
Ненависть — единственное содержание жизни… Нет, Чуковский здесь не продает Маяковского, он ему по-прежнему льстит. Просто надо учесть, что это писалось в такие годы, когда из всех человеческих (нечеловеческих) качеств ненависть имела наивысшую цену.
Смешно и неприятно и страшно наблюдать, как серьезный критик, культурный человек неуклюже подделывается под эту эстетику. Он делает вид, что любит ненависть. Он пытается убедить себя и читателя, что действительно считает сиюминутный эффект, бытовое, деловое действие стихов — высшим поэтическим достижением. Он покорно все далее идет за Маяковским и вместе с ним утверждает (а может, притворяется?), что бывают такие стихи — обращенные к врагам. Не формально обращенные, а по сути — стихи, предполагающие враждебную аудиторию, несочувствующего читателя, ненавидящего слушателя…
Притворяется — или так и думает? Искренен ли? — все тот же вопрос. И опять обернем его иначе: правдив ли?
Я позволю себе привести последний большой отрывок.
Разговор идет об Уолте Уитмене. «Неплохой писатель», — снисходительно замечает Маяковский и начинает выговаривать Чуковскому за низкое качество его переводов. Чуковский, естественно, оправдывается, а затем читает новые переводы, сделанные, по его мнению, именно так, как требует Маяковский. Но тот опять недоволен.
«— Стихи занятные, — сказал он без большого восторга. — Прочтите их Давиду Бурлюку. (Не правда ли, несколько однообразная реакция: то старичку, то Бурлюку.) Но все же в вашем переводе есть патока. Вот вы, например, говорите в этом стихотворении: „плоть“. Тут нужна не „плоть“, тут нужно „мясо“. — Я не прижмусь моим мясом к земле, чтобы ее мясо обновило меня. — Уверен, что в подлиннике сказано „мясо“.
Это очень удивило меня. В подлиннике действительно было сказано „мясо“. Не зная английского подлинника, Маяковский угадывал его так безошибочно и говорил о нем с такой твердой уверенностью, словно сам был автором этих стихов.
Таким образом, начинающий автор, талант которого я, в качестве „маститого критика“, час тому назад пытался поощрить, не только не принял моих поощрений, но сделался моим критиком сам. В голосе его была авторитетность судьи, и я почувствовал себя подсудимым».
Что нам в этом отрывке? Да много разного. Ну, во-первых, булыжное высокомерие Маяковского даже по отношению к Уолту Уитмену, которому он был очень многим обязан.[3]
Во-вторых, детская легкость приманки — на что ему еще было клюнуть, как не на мясо, излюбленную стихотворную пищу? И авторитетность судьи — не того, кто выносит суждения, а того, кто судит, того, кто засуживает… И, конечно же, радостное самоуничижение Чуковского и готовность быть подсудимым — вполне соответствуя времени.[4]
Но все это, в тех или иных вариантах, нам было известно и раньше. Главное не это. А главное то, что Корней Иванович, большой писатель, серьезный человек, сообщает нам, что в подлиннике было «мясо», а не «плоть», прекрасно зная (уж тут — никаких сомнений!), что в английском языке не существует двух разных слов для обозначения этих понятий! Есть одно слово: flesh — мясо, оно же плоть.
И читателю не надо знать английского подлинника и не надо угадывать его «так безошибочно», чтоб увидеть, что ему попросту дурят голову.[5]
Но зачем же так наивно, так по-детски обманывать читателя?
Я думаю, Чуковский просто не мог иначе. Взявшись писать о Маяковском, он автоматически включался в ту всеобщую систему вранья, которая вокруг Маяковского существовала и непрерывно подпитывалась эманацией его личности. Можно даже сказать, что здесь не было обмана, а правдивое существование в системе лжи. Потому что и читатель, взявшись читать о Маяковском, не ждал от автора никакой правды, а ждал очередной занятной легенды и заранее обещал не замечать противоречий:
Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!Глава четвертая БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ
1
Разумеется, массовость вранья о Маяковском объясняется не только его личными свойствами. То была организованная сверху кампания, ее старт был дан великой резолюцией, а финиша до сих пор не предвидится. Но особенность этой кампании в том, что объект ее не остается пассивным, а активно сотрудничает с каждым участником, каждый раз оборачиваясь под нужным углом.
Так было не всегда, и в 20-м году, когда тот же Чуковский лучше помнил детали событий, а главное, был чуть более свободен в своих суждениях, он писал о Маяковском несколько иначе:
«Порою кажется, что стихи Маяковского, несмотря на буйную пестроту его образов, отражают в себе бедный и однообразный узорчик бедного и однообразного мышления, вечно один и тот же, повторяющийся, точно завиток на обоях…
В самых патетических местах он острит, каламбурит, играет словами, потому что его пафос — не из сердца, потому что каждый его крик — головной, сочиненный, потому что вся его пламенность — деланная. Это Везувий, изрыгающий вату».
Здесь не только совершенно иное отношение, но и сам автор — совершенно иной: легкий, резкий, остроумный — талантливый.
Чуть позднее эта статья о Маяковском вошла в блестящую книгу о футуристах, лучшую и по сей день из всего, что о них написано (и немедленно оглоушенную бдительным Лефом по всем погромным лефовским правилам). В этой книге Чуковский не уничтожает Маяковского, напротив, он настойчиво выделяет его талант изо всей компании. Но делает он это без всякой скованности, еще не застыв, не оцепенев, еще свободно рассматривая все явление в целом, а не глядя Вию прямо в глаза…
Строго говоря, уже тогда футуристы были интересны Чуковскому лишь как окружение Маяковского, как его предшествие и фон для его работы. Еще не было дистанции восприятия, необходимой для каких-то общих выводов, но главное Чуковский увидел уже тогда. Он увидел, что Маяковский — «плоть от их плоти. Не будь их, не было бы и его».
2
Трое самых главных, самых деятельных и самых шумных поэтов-футуристов, по отдельности так живо описанных Чуковским, сегодня представляются нам чем-то усредненным, чем-то вроде почетного караула на встрече великого Маяковского, где мелькают лишь светлые пятна лиц и перчаток. А порой и совсем уж из другой области: вроде урок-телохранителей вокруг большого пахана… Кто из нас с сегодняшнего расстояния отличит Каменского от Крученых и обоих вместе — от Бурлюка? Кто, не будучи специально уполномоченным, добровольно захочет этим заняться? Совершенно очевидно, что те различия, которые нам удалось бы выявить, проделав неимоверно скучную работу, ничего не изменили бы в нашем отношении к этим безвозвратно забытым авторам.
Остается Хлебников. Титулованный гений, Председатель Земного Шара, Возрождение Русской Литературы (это тоже—не название процесса, а титул)…
Он, конечно же, был одаренным человеком. В его безумном, смещенном с осей бормотании, то детски наивном, то педантично ученом, проскакивают поразительно яркие и точные строки, а порой поэтический объем доходит до нескольких строф. И все же он не написал ни одного стихотворения и уж тем более ни одной поэмы.
Всякий текст Хлебникова — это только заявка, образец, сообщение о возможности. Он ни к кому не обращен, никуда не движется и ни к чему не приходит. Знаменитое хлебниковское «и так далее…», обрывавшее чуть ли не каждое чтение, — это и есть итог и концовка любого стиха.
Он обладал оригинальным лингвистическим чутьем, но в стихе оно проявлялось всегда рационально, с неуклонной болезненной конструктивностью. Самовитость слова, отрыв его от предмета, замена исконных чувственных связей и органических свойств восприятия строгими логическими законами, выводимыми по аналогии из частного случая, — все это очень хорошо укладывается в общую клиническую картину.
Хлебников был одаренным человеком, может быть, даже гениальным человеком, но такого поэта «Хлебников» — не было. Все же есть какая-то утилитарная значимость в каждом читательском контакте с поэтом, для чего-то же мы читаем стихи, что-то такое из них получаем. Но что, кроме запоздалого любопытства или чисто филологического интереса, может заставить нас сегодня читать Хлебникова? Какой возможен душевный контакт с его непрерывно распадавшейся личностью?
«Хлебников — не поэт для потребителя. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя».
Так писал о нем Маяковский. Замечено удивительно точно. Особое свойство языковых открытий Хлебникова — в том, что, не наполненные живым содержанием, не связанные движением личности, в собственном контексте они бессмысленны, в лучшем случае забавны, не более. Но зато, усвоенные другими поэтами, переваренные, измененные до неузнаваемости, как бы сами становятся содержанием и новым особым качеством. И это тем верней, чем сильней и богаче личность поэта.
Не было такого поэта — «Хлебников», но явление такое, и очень важное, в русской литературе было и есть.
Однако и такого футуриста тоже ведь не было. Он даже термина самого не мог принять, и предложенный им неологизм «будетляне», несмотря на буквальное значение корня, всей своей языковой сутью обращен не в будущее, а в прошлое. Так можно сказать обо всем, что он сделал. Быть может, именно потому он так легко прошел в будущее, а футуристы остались, затерялись в прошлом.
Его строки читали с шумных эстрад, его именем подписывали манифесты, печатали его на обложках сборников — сам же он был всегда в стороне или двигался пассивно в том потоке, куда в данный момент попадал.
Хлебников — одно, футуристы — другое. Это очень рано почувствовал Чуковский, это ясно понял Тынянов.
И если Хлебников — гениальный безумец, аналитик-изобретатель, то Крученых — уже просто скучный обманщик, Каменский — пустозвон-балагур, а Давид Бурлюк — еще и хитрый деляга. Что же связывало с ними всеми Маяковского?
Сначала попробуем ответить на вопрос, что связывало их друг с другом.
В те веселые годы Бурлюк так выражал свое кредо:
«Все человеческие отношения основаны только на выгоде. Любовь и дружба — это слова. Отношения крепки только в том случае, если людям выгодно друг к другу хорошо относиться».
Бурлюк уехал в 20-м году. В 22-м умер Хлебников. К футуристам примыкали новые люди, футуристы превращались в футуристов-лефовцев, взаимодействовали с наркомпросом, с пролеткультом, с Чека и с прочими порождениями нового времени, имевшими столь же красивые названия, — а некий принцип, их объединявший, оставался незыблемым, хотя и скрытым.
Бурлюк и Крученых 13-го года, Бурлюк и Брик 16-го года, Брик и Третьяков 22-го, Третьяков и Чужак 24-го… В чем сходство этих людей между собой? Только в одном: в их воинствующей бездарности.
С самого начала и до конца литературный союз русских футуристов был единственным в своем роде профессиональным союзом— это был союз графоманов.
Ни один посторонний, то есть талантливый, не мог бы долго существовать в этой группе. Пастернак, привлеченный личностью Маяковского, которого он очень высоко ценил, залетел однажды на огонек, едва не сгорел, но вовремя (а лучше бы раньше) спасся.
На протяжении примерно пятнадцати лет существования русских (московских) футуристов Маяковский был и оставался лучшим, талантливейшим, то есть попросту единственным. И это, конечно же не случайно.
Казалось бы, и прочие литературные группы не слишком изобиловали талантами. У имажинистов тоже был только Есенин, все же остальное — Мариенгоф… Поэт вообще профессия редкая, и скорее следует удивляться, что было их слишком много. Но нет, имажинисты — совершенно другое дело. — Мариенгоф был, возможно, не талантливей, чем Крученых, но Мариенгоф стремился быть талантливым. Он, в отличие от Крученых не возводил бездарность в ранг гениальности, не обманывал, не совершал подмены. Он сочинял плохие стихи, но он не выворачивал вверх дном критерии, так чтоб эти стихи считались хорошими. Он, быть может, тоже был графоманом, но о нем так и говорить не хочется, потому что он не был графоманом воинствующим. Он, скажем, был просто слабым поэтом. Он писал в 22-м году:
«Только академическое мастерство открывает путь изобретательному моменту в искусстве. Новаторское искусство всегда академично… Само понятие движения заключает в себе ранее пройденные этапы, то есть преодоление культурного наследия…»
Можно подписаться под каждым словом. В том же 22-м году Алексей Крученых организует выпуск специальной книжечки, где в четырех статьях рекламируются его стихи. Одна из статей называется «Слюни черного гения». Другая, подписанная самим Бурлюком, — «Бука русской литературы».
«После одеколона и рисовой пудры Бальмонта, после нежных кипарисового дерева (?) вздохов Ал. Блока — вдруг
Оязычи меня щедро, ляпач!..»Вот этот «ляпач» и решил все дело. Он и оязычил и надоумил.
3
Представим себе молодых энергичных людей, не обладающих никакими особыми талантами и мечтающих о всемирной славе.
Этой славы, по их наблюдениям, с минимальной затратой сил и времени можно достичь в искусстве. Осмотревшись, они убеждаются, что искусство неохватно велико и пугающе разносторонне. С их способностями, каждый из них это чувствует, можно выскочить разве что маленьким прыщиком на его бесконечной поверхности. Это, конечно, никуда не годится, надо что-то делать, где-то искать. И они находят. Идея приплывает к ним из Италии от благословенного Филиппо Томазо Маринетти. В его футуристическом манифесте содержалось буквально все, что требовалось, и даже кое-что сверх. Ни один манифест русских футуристов не смог провозгласить ничего такого, чего бы в принципе не было у Маринетти. И самоценность средств выражения, и конструктивность восприятия мира, и преклонение перед техникой, и преклонение перед силой, и даже оптимизм как основа мироощущения. Но главное, что подсказал Маринетти, был единственный способ завладеть миром: надо вывернуть общественный вкус наизнанку, так, чтобы талант оказался бездарностью, а бездарность — талантом. Эта формула обещала великие блага, и она, никогда не произнесенная в чистом и обнаженном виде, явилась основополагающим руководством ко всей деятельности футуристов. Все дальнейшее естественно и неотвратимо. Эпатаж общества, дискредитация искусства (старого, то есть, иными словами, всего), а также всех духовных ценностей, на которых это искусство строилось. Сначала все они попробовали в живописи, но там задача оказалась сложнее. Там пришлось работать среди мастеров. Пикассо разрушал, преодолевая, а не обходя искусство с левого фланга. Стихотворчество же — дело узконациональное и гораздо менее четко очерченное с точки зрения профессионализма.
Итак, поход на литературу…
Позитивный багаж был минимален, хватало двух десятков стихотворений на каждого, трех-четырех пунктов программы. Зато для оплевываний и проклятий использовалось все свободное место и все вообразимые средства.
«Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество».
Очень скоро, буквально за год-полтора, к футуристам пришла искомая слава. Стечение обстоятельств было идеальное. Предвоенные годы, кипение-бурление, вся Россия разделилась на два лагеря, и хотя сила формально на стороне реакции, демократия — в подавляющем большинстве. Все, что заявляло себя как бунт, воспринималось с симпатией и любопытством, всякий скандал разряжал атмосферу и освежал застоявшийся воздух. На все выступления футуристов публики набивалось сверх всякой меры, и это несмотря на необычайно высокие цены, также возбуждавшие пересуды, то есть тоже способствовавшие успеху. Никаких скандалов, по сути, и не было, любые эпатажные заявления встречались весело и доброжелательно. Не только символические плевки Маяковского, но и вполне реальные опивки чая, выплеснутые Крученыхом в первые ряды, не вызывали никакой обиды. Ширилась слава, росли сборы.
«Деньги? — сказал Маяковский Лившицу. — Деньги есть, мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам».
Один только перечень эпатажных нарядов, в которых он появлялся на выступлениях, говорит о том, что деньги имелись: желтая кофта, полосатый пиджак, красный смокинг, турецкая кофта, пиджак апельсинового цвета — это все в течение одного вечера. (Впоследствии, вспоминая это славное время, он будет рассказывать о том, как бедствовал, жил на бульварах и ел у знакомых.)
После одного из таких вечеров, на афише которого было написано «доители изнуренных жаб», газеты назвали группу футуристов «доителями одураченной публики». Это было верно только наполовину. Они-то, конечно, были доителями, но публика не была одураченной: она вообще таковой не бывает, а всегда получает то, чего ждет.
Игорь Северянин, «эгофутурист», познакомившись поближе с этими «кубо», писал с ужасом и возмущением:
Позор стране, поднявшей шумы Вкруг шарлатанов и шутов!И с удивительной прозорливостью добавлял:
Они — возможники событий, Где символом всех прав — кастет…Никто всерьез не разделил его опасений. Пресса ругалась, смеялась, издевалась — но и хвалила, выражала надежду. И это понятно. У футуристов в совокупности было все, что надо: и трезвый расчет, и деловая энергия, и наглость, и твердая беспринципность — но и теневой, осеняющий гений Хлебников, и реальный, вполне живой Маяковский…
Втянули? Примазались? Казалось бы, очевидно. Не будь среди них тогда Маяковского, кто бы стал о них говорить сейчас, кто бы вспомнил их имена? Все так, и все же совершенно иначе. Понятно, что Маяковский был необходим футуристам (всем обобщенно — «Гилеям», Лефам, Рефам…) как единственный среди них несомненный талант и как единственный профессионал. И у них было нечто несомненно реальное, в любой момент ощутимое! А поскольку они были не разлей вода (так всегда объявлялось почтеннейшей публике), то как бы и все они, несуществующие, становились реальностью.
Но и они ему были нужны.
В их самом первом совместном манифесте, с его знаменитым Пароходом Современности, по меньшей мере два декларативных пункта принадлежат лично Самому Маяковскому: о «парфюмерном блуде Бальмонта и мужественной душе сегодняшнего дня» и еще — «стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования».
Не надо думать, что это случайные выкрики, имеющие чисто скандальный смысл. Все тогда продумывалось очень тщательно.
«Мужественная» душа Маяковского могла ощущать себя таковой, только находясь в определенном отношении и к чужим (Бальмонт), и к своим («мы»). Враги, чужие, блуд, чириканье — это уже как бы само собой, но трудно не увидеть закономерности и в непременном наличии у главаря-горлопана старшего друга-наставника. Кто же он? Сначала — женоподобный Бурлюк, «с лицом и повадками гермафродита» (Б. Лившиц). Потом—Брики, он и она, тоже в среднем составляющие нечто среднее, и даже фамилии — как два варианта одной…
Но, конечно, этим значение «мы» не исчерпывалось. Маяковский должен был в каждый момент ощущать себя частью направленной силы, и двое-трое боевых крикунов, готовых, как казалось, глотку порвать за друга создавали ощущение такой принадлежности. Впоследствии принадлежность к вполне реальной и гораздо более мощной силе не отменила этого положения. Просто к цепкой защите родных имен прибавились жестокие драки с «чужими своими» за право соответствовать и выражать.
И была еще причина, быть может, главная, по которой Маяковский и футуристы нуждались друг в друге и друг к другу тянулись. Это — совпадение сферы действий. Уникальный и бесспорный талант Маяковского располагался именно в той самой области, где действовала бездарность всех остальных: в области оболочек, средств воздействия, механических разъятий и сочленений, декларативных утверждений и самохарактеристик — то есть в том рациональном, упрощенном мире, где жила его пустующая душа. И как ни отличался он от остальных, как ни велика была между ними дистанция, это все же дистанция, а не пропасть. Его стихи выделяются с первого взгляда, но они немыслимы в другом сборнике, как он сам немыслим в другом сборище.
Он был не просто сам по себе, он был коронованный король графоманов и так же нуждался в их шумной свите, как они — в его несравненном величии.
4
В ранней юности Маяковский был причастен к подполью. В тридцать лет Каменский летал на аэроплане. В предоктябрьские дни тридцатидвухлетний Хлебников посылал Александру Федоровичу Керенскому, которого он еще совсем недавно ввел в число Председателей Земного Шара, издевательские письма и телеграммы, называя его Александрой Федоровной. (Это гениальное изобретение впоследствии позаимствовал у него Маяковский для своей Октябрьской поэмы.)
Этим списком, пожалуй, исчерпывается летопись смелых поступков будетлян-футуристов. Никто из них ни разу не вступился за слабого, никто никогда не воспротивился силе, если иметь в виду не номинальную силу, а реальную, главенствующую во времени. Начало первой мировой войны — это взлет патриотического самосознания и возможность заработать на лубках и открытках.
Ах, как немцам под Намюром досталось по шевелюрам. Немец рыжий и шершавый разлетался под Варшавой.Такие и прочие стишки Маяковского предшествовали наскипидаренному Юденичу.
Но затем господствующее настроение в обществе сменяется на антивоенное. Горький спасает его от фронта, устраивает чертежником в автошколу. Его сестра, с восторгом, выходящим за всякие рамки, напишет, что Володя «за одну ночь выучился чертить автомобили». Сам Маяковский скажет об этом скромнее: «притворился чертежником». Он исправно исполняет все поручения, и 31 января 17-го года начальник школы генерал Секретен награждает его медалью «За усердие». А уже через месяц после этого события Маяковский арестовывает генерала, отвозит его в Думу и сдает в карцер. Разумеется, он действует не один, а в составе большой веселой компании, но он, по свидетельству очевидца, «один из самых активных». За что? Такой вопрос не ставился. «Решили, раз министров свезли в Думу, значит, надо доставить туда и этого господина». Это был первый поступок Маяковского после Февральской революции, и он в те дни с большим увлечением рассказывал о нем Горькому…
Наконец, наступает для всех неожиданный и все-таки долгожданный Октябрь. Магическое слово «переворот» — то самое, о чем мечтали футуристы. Отныне сила не бурлит в обществе, а твердо и сурово стоит у власти. Футуристская ориентация в этих условиях легко предсказуема.
К двадцать третьему году все футуристы, разбросанные до тех пор по различным изданиям, группируются вокруг Брик-Маяковского «Лефа». И если дооктябрьские программные воззвания писались сообща или кем придется, то программа Лефа целиком сочинена Маяковским. Это значит, что разговоры о его отдельности и непричастности не имеют под собой никаких оснований.
Отличается ли эта программа от всех предыдущих?
Только приспособленностью к моменту. Стилистика полностью та же и тот же смысл: скандал, нахрап, хвастовство и угрозы. Главное отличие касается не стиля, а того, с чем ежеминутно соотносится текст, того стержня, вокруг которого он обвивается.
Этот стержень — твердая жесткая власть.
«Мы будем бить в оба бока:
тех, кто со злым умыслом идейной реставрации приписывает акстарью действенную роль в сегодня (жирный шрифт—авторский),
тех, кто проповедует внеклассовое всечеловеческое искусство,
тех, кто подменяет диалектику художественного труда метафизикой пророчества и жречества».
Такое рычание — вниз и в стороны. А вверх — преданнейшие улыбки и умиленный самоуничижительный лепет:
«Сейчас мы ждем лишь признания верности нашей эстетической работы, чтобы с радостью растворить маленькое „мы“ искусства в огромном „мы“ коммунизма».
Так незыблемая глыба слова «мы» при первой серьезной проверке оказалась маленькой и легко растворимой.
И опять, как и в прежние времена, корень зла и главное препятствие в жизни — «старики», «академики», читай — профессионалы. Но теперь есть к кому апеллировать, есть кого просить о поддержке.
«Не рискуя пользовать их в ответственной работе, Советская власть предоставила им — вернее, их европейским именам — культурные и просветительские задворки.
С этих задворок началась травля левого искусства. Власть, занятая фронтами и разрухой, мало вникала в эстетические распри, стараясь только, чтобы тыл не очень шумел, и урезонивала нас из уважения к „именитейшим“.»
Любопытная какая вещь. С задворок травили левое искусство, а власти пришлось урезонивать левых, то есть тех, кого травили. Отчего бы это? И снова:
«Классики медью памятников, традицией школ — давили все новое».
Опять давят — теперь уже классики. И опять надо власти кого-то урезонивать. И кажется, опять не классиков…
«Но мы всеми силами будем бороться…
Теперь мы будем бороться…
Мы будем бить…
Мы будем бороться…»
Давайте остановимся на минуту, давайте подумаем вот о чем. Ну хорошо, они, эти люди, называвшие себя футуристами, лефовцами, хотели писать как-то иначе, не так, как классики, не так, как традиционалисты, не так вообще, как все вокруг. Не будем выяснять, что значит писать «так». Они хотели иначе, по диагонали, одними предлогами, мало ли как. В конце концов это личное дело каждого. Можно ведь и не читать, если не нравится. Но зачем, но за что бороться? Откуда эта жажда немедленного избиения всех, как сказали бы теперь, инакомыслящих, откуда и зачем этот погромный пафос, визгливая истерия нетерпимости?
Конкуренция?
«Товарищи по Лефу! Мы знаем: мы, левые мастера, мы — лучшие работники искусства современности».
Казалось бы, при таком самомнении разве может быть страшна конкуренция? Пусть прозябает на задворках новой культуры устаревшее «классическое» искусство, пусть медленно умирает в тоске и немощи, зачем же бить его приверженцев «в оба бока»?
«Мастера и ученики Лефа! Решается вопрос о нашем существовании. Величайшая идея умрет, если мы не оформим ее искусно».
Да что за паника, что за суета? И как это может умереть идея, тем более если она величайшая? И кстати, о чем вообще речь, какая такая идея?
Ну да, конечно, идея футуризма. Однако же в чем она? Напрасно мы будем искать ее формулу в их декларациях. Ни тонкий, ни жирный шрифт не дадут нам прямого ответа.
Убить старое, утвердить новое. Старое — все, кроме футуризма. Убить — понятно. Но что утверждать? Заумь еще живет в последних, как их называл Ходасевич, романтиках, но уже едва теплится и почти не декларируется, а лишь упоминается невнятно и нежирным шрифтом. А дальше — сплошные противоречия. Скромные фразы о вторичности искусства, о его служебном Сложении в жизни никак не сочетаются с громовыми криками о великом значении футуризма. Производство искусства, конструктивизм, технизация — вот, казалось бы, общий принцип (кстати, противоположный и враждебный зауми), но и он понимается всеми по-разному. Кушнер говорит, что вдохновение умерло, Чужак говорит, что не умирало, Брик говорит, что вдохновение — фикция и его вообще никогда не существовало. (Читая Брика, в это легко поверить.) Одни предлагают учиться у рабочих и повторять их производственные приемы, другие предлагают учить рабочих понимать футуристические стихи. (В 22-м голодном году это было абсолютно необходимо рабочим.) Одни советуют, убив искусство, обшарить на прощанье его карманы, чтобы использовать какую-то часть из «производственно-художественного арсенала, наработанного академиками». Другие призывают не прикасаться к трупу и пробавляться исключительно собственными средствами. Убить, впрочем, — призывают все. Убить, свергнуть и воцариться самим — вот и вся позитивная программа Лефов. И если старое, живое искусство властвовало лишь непрямым способом, отсутствуя в мире, занимаясь собой, то искусство графоманское, антиискусство, не могло захватить ключевые позиции без особых административных мер и без подтверждающих документов.
Вывернуть общественный вкус наизнанку! Легко сказать, но как это сделать практически? Пока существует вокруг и рядом устаревшее, то есть нормальное искусство, о вывернутости не может быть и речи. Пока есть искусство, есть и возможность сравнения, с использованием прежних, пусть полумертвых, критериев. Пока мир еще не полностью сошел с ума, «величайшая в мире идея» будет в опасности. Единственный выход — диктатура, насилие, использование твердой власти и ей служение.
Признание футуризма государственной эстетикой стало вожделенным конечным пунктом славного пути бунтарей-скандалистов. Этой цели они так и не смогли добиться. Им была отведена другая роль, менее почетная, но не менее важная.
Система подавления, какой бы она ни была крайней в своих аппетитах, всегда нуждается в еще большей крайности, в сравнении с которой она выглядит либеральной. Это принцип двух следователей, «плохого» и «хорошего», это принцип «Головокружения от успехов». Футуристы были той козой и тем петухом, которых можно было выпускать время от времени из тесной камеры, куда поместили искусство. Эта игра продолжалась не очень долго, но они свою роль сыграли отлично. И, конечно же, там, наверху, куда они смотрели с таким подобострастием, им не отвечали должным уважением. Кроме прочего, там еще сохранились люди, читавшие в прошлом кое-какие книги. И каким бы ни был их литературный вкус, он был вкусом и принадлежал культуре.[6] Объективно они, быть может, и делали общее исторически необходимое дело разрушения, уничтожения и подмены, но субъективно, на слух, не могли мириться с истошными воплями футуристов, со всем этим скрежетом, лязгом и звоном, который издавала лефовская банда. Так что «урезонивание», на которое жаловались лефовцы, то есть разжатие их железных челюстей на горле полузадохнувшейся литературы, могло быть и искренним со стороны начальства. Здесь, как это часто бывает, совпали физиологическая брезгливость — и трезвый дальний расчет.
Нет, футуризм не годился для роли государственного искусства. Он был слишком шумен и непрезентабелен. Он, конечно, заложил основы будущего, и, пожалуй, в литературе соцреализма не найдется ни одного существенного качества, которое бы не содержалось на страницах Лефа и с этих страниц не провозглашалось. Но делалось это уж слишком прямолинейно. Здесь всякая верная государственная мысль доводилась до парадокса, до карикатуры, до полного и явного идиотизма…
В качестве последней, исчерпывающей иллюстрации я хочу в заключение этой главы привести отрывок из одной статьи. Я знаю, читателю будет трудно поверить, что она действительно существует, и поэтому я отсылаю его в библиотеку, куда он, естественно, не пойдет, но от сомнений, надеюсь, избавится. М. Левидов. О футуриме необходимая статья. Леф № 2, апрель— май 1923.
Чем замечательна статья Левидова? Тем, что Левидов, в отличие от друзей его лефовцев, нормальным человеческим языком излагает всю нечеловеческую суть их движения. Соответствовало ли это планам футуристов, не знаю. Быть может, он оказывает им медвежью услугу, быть может, он проговаривается. Что ж, для нас это тем более ценно.
Я рискую ослабить впечатление от чтения этих отрывков, но не могу удержаться, чтоб не сказать: я был потрясен. Причина и следствие, анализ и синтез неожиданно поменялись местами. Все наше сегодняшнее разоблачительство оказалось избыточным и наивным. Мы снимаем, снимаем парадные одежки и лживые маски, мы затрачиваем уйму энергии, добираясь, как нам кажется, до скрытой истины. Мы говорим: искусство всегда оппозиционно, поэтому все диктатуры его подавляют. И думаем, что это хоть и верно сказано, но все же слегка гипербола. Мы говорим, что вокруг — дешевый оптимизм, машинное массовое производство, что в нем и для него нет ничего святого — и думаем, что дошли не только до истины, но и до некоторого парадокса, до гротеска, подсвечивающего эту истину. Мы пишем фантастические романы о выхолощенном обществе будущего, где искусство производится на специальных фабриках, а вдохновение выдается отмеренными дозами — и полагаем, что это и впрямь фантастика, и гордимся своим воображением, способным вероятное доводить до невозможного. Так вот, оказывается, что одежки и маски были действительно надеты впоследствии, а продукты нашего разоблачительства, все эти гротески и парадоксы, никакими не были парадоксами, а реальной и жесткой программой действий.
Итак, «О футуризме необходимая статья». Мне хотелось прокомментировать каждую фразу. Я сдержался и ограничился молчаливым курсивом.
…Осуществляя идею революции как обнажения приема, футуризм не только обнажил публичный прием, но превратил его в проститутку, сделав прием доступным всем и каждому.
(…) Итальянский футуризм ставит ставку на сильного. Прекрасно! Сейчас этим сильным кажется фашизм. Завтра этим сильным скажется революция.
Всякое движение в мире, ставящее сейчас ставку на сильного, — ставит ее объективно на революцию, каковы бы ни были субъективные его устремления (…)
Теперь время закладывать фундамент фабрики оптимизма.
Руками футуристов.
Тех, кто возглашает:
— Алло, жизнь!
— Здравствуй, жизнь! Ты трудна, но проста. В тебе нет святости, ты не нуждаешься в благословении, — ты жизнь, к стенке ставящая священников всего священного.
Священен лишь оптимизм (…)
И отсюда вывод, совершенно непреложный, сначала пугающий, но такой простой:
— Всякое искусство в революционной стране — не считая футуризма — имеет тенденцию стать или уже стало, или на путях к становлению — контрреволюционным. Не футуристическое искусство в период революции — а этот период не баррикадами и гражданской войной измеряется — является тихой заводью пессимизма.
Борясь с искусством — до конца, до уничтожения его как самостоятельной дисциплины, футуристы утверждают оптимизм.
(…) Фабрика оптимизма строится сейчас в России. Расчетливого, умного, рабочего оптимизма. Одно крыло фабрики — на свой страх и ответственность сооружают футуристы. Это то крыло, где будет производиться для массового потребления оптимистическое искусство. Машинным способом производиться, лучшими техническими приемами.[7] Вдохновение будет выдаваться ежедневным пайком, строго отмеренными порциями, — работникам этого крыла (…)
Алло, жизнь! Ты — материал нынче, тебя организуют, делают. Так если делаем и организуем жизнь, — неужели не сделаем, не сорганизуем искусство? Неужели чижики помешают?
Маяковский весело смеется.
Глава пятая СХЕМА СМЕХА
1
Маяковский весело смеется.
Во всей невозможной статье Левидова эта фраза — самая фантастическая.
Маяковский никогда не смеялся.
В этот странный душевный дефект так трудно поверить, что даже близкие к нему люди часто оговариваются: «смеялся». Полонская даже написала «хохотал», и Лиля Юрьевна Брик, более трезвая, да и знавшая Маяковского ближе и дольше, одернула ее: «Никогда не хохотал!»
Он иногда улыбался, довольно сдержанно, чаще одной половиной лица, но никогда не смеялся вслух, тем более — весело. Веселый смех означает расслабленность, что совершенно было ему не свойственно, как и всякое естественное, неподконтрольное движение.
Будто бы вода — Давайте мчать, болтая, будто бы весна — свободно и раскованно!..Для Маяковского это такое же невыполнимое действие, такая же литературная гипербола, как и желание выскочить из собственного сердца. Он всегда напряжен, всегда организован, всегда озабочен собой.
Предельно доброжелательный Пастернак понял это с первого же знакомства, отметив его железную выдержку и то, что Маяковский в обыденной жизни просто «не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым».
Нечто подобное отмечали многие его современники. «Он прочел эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки» (К. Чуковский).
Вот это похоже.
Юмор Маяковского… Притча во языцех, уже как бы и не два, а одно слово, и кто усомнится в его правомерности?
Вот необходимые доказательства.
«— Коля звезда первой величины.
— Вот именно. Первой величины, четырнадцатой степени».
«— Сколько должно быть в пьесе действий?
— Самое большое пять.
— У меня будет шесть!»[8]
Смешно, не правда ли?
Это реплики, приводимые современниками в качестве наиболее ярких иллюстраций.
Ну ладно, это в быту, в повседневной жизни. То ли дело эстрада! Сохранилось множество ответов на записки и реплик на устные выкрики. Известно, к кое значение придавал он таким выступлениям. Это было для него не менее важно, а подчас и гораздо важнее стихов. Он тщательно готовился к каждому вечеру, многие остроты сочинял заранее, а порой и самые записки с вопросами. И вот как это выглядело в конце концов:
— Маяковский, каким местом вы думаете, что вы поэт революции?
— Местом, диаметрально противоположным тому, где зародился этот вопрос.
— Маяковский, вы что, полагаете, что мы все идиоты?
— Ну что вы! Почему все? Пока я вижу перед собой только одного.
— Да бросьте вы дурака валять!
— Сейчас брошу.
И так далее.
Конечно, можно вполне допустить, что эти и другие такие же шутки вызывали громовый хохот аудитории. Аудитория, а лучше сказать толпа, над чем только не хохочет и всегда громово. Известно, как быстро она воспламеняется, как легко в ней возникает цепная реакция, какой достаточно ничтожной искры. И нельзя сказать, что не надо уменья, чтобы высечь эту искру. А чтоб высекать ее постоянно, когда потребуется, необходимы еще и внешние данные, и голос, и энергия, и самоуверенность, и много всякого, и что угодно, но только не чувство юмора.
Юмору Маяковского много страниц посвятил Валентин Катаев.
Вот одно из его свидетельств.
«Оба слыли великими остряками…
— Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.
И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритональным басом:
— Тимерзяев.
— Сдаюсь! — воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки. Маяковский милостиво улыбнулся.
Своего профессора Булгаков назвал: Персиков».
Оставим в стороне натянутость этой сцены, ее суесловие. Чем-то она напоминает рассказ Чуковского с его «мясом» в уитменовском подлиннике. Но отметим, каким примитивным примером вынужден иллюстрировать Катаев несравненный юмор своего героя. И еще отметим, что Михаил Булгаков, не только настоящий, действительно остроумный, но и этот, придуманный хитрым автором: восхищенный, но ядовито, ядовитый, но с поднятыми руками, — невысоко ценит остроумие Маяковского и уж во всяком случае в нем не нуждается.
Все сцены с участием Маяковского, пересказанные ли им самим, вспомненные или сочиненные очевидцами, поражают арифметической прямолинейностью, безысходной скукой придуманных острот, несущих запах вымученности и пота, даже если они были изобретены на ходу, а не заготовлены впрок заранее. Нам известна, пожалуй, лишь одна сцена, рассказанная также Катаевым (и Ахматовой), несомненно имевшая место в действительности, где звучит не механический ответ-каламбур, как желток в яйце, содержащийся в вопросе, а живой, неожиданный юмор. Но только здесь Маяковский уже не герой, а скорее жертва.
«Они встретились еще до революции, в десятые годы, в Петербурге, в „Бродячей собаке“, где Маяковский начал читать свои стихи (под звон тарелок, — добавляет. Ахматова), а Мандельштам подошел к нему и сказал: „Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр“.»
Это сказано действительно очень смешно. Эта шутка, как и всякая хорошая шутка, бесконечна по объему ассоциаций, то есть обладает всеми свойствами образа. Так шутит не заведомый развлекатель-затейник, а серьезный человек — веселый человек, не занимающийся специальным изобретением острот по той простой и естественной причине, что обладает настоящим чувством юмора. С таким человеком говорить Маяковскому не о чем, а вернее — не на чем. Он просто не знает языка.
«Маяковский так растерялся, — признается Катаев, — что не нашелся, что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко».
По существу, это бывало с ним всякий раз, когда он сталкивался с подлинным юмором, с подлинным умом и с подлинным талантом. Но он сам так выстроил свою жизнь, что это действительно бывало не часто.
«Перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр!»
Ему бы хлопнуть себя по колену, рассмеяться, пригласить шутника за стол, выпить по рюмочке, потрепаться за жизнь… Но для этого надо было быть другим человеком: не столь выстроенным, менее сделанным, без железной выдержки, позволяющим себе, человеком, умеющим весело смеяться.
Нет, никакого такого юмора не было у Владимира Маяковского. Была энергия, злость, ирония, была способность к смешным сочетаниям слов и даже способность видеть смешное в людях — а все-таки чувства юмора не было.
2
Как строятся остроты и шутки Маяковского? Они строятся, причем все без исключения, по формально-каламбурному принципу.
«Маяковский был божественно остроумен. Он мог бы повторить о себе слова Мятлева: „Даже к финским скалам бурым обращался с каламбуром“.»
Этот вдохновенный пассаж Корнелия Зелинского неверен как минимум дважды. Во-первых, слова не Мятлева, а Минаева, мог бы помнить доктор филологических наук. Во-вторых и главное — вторая часть решительно противоречит первой, потому что божественное остроумие — это никак не способность к каламбурам. Каламбур не только не исчерпывает остроумия, но в некотором роде его исключает.
Поговорим немного об этом предмете. Начнем с того, что остроумие бывает двоякого рода.
Есть способность составлять остроты и шутки с помощью определенных известных приемов: игры слов, созвучий, совмещений несовместимого. Эта способность есть знание самих приемов, сознательное или интуитивное, и привычка, умение ими пользоваться.
Это — каламбурное остроумие. Именно так, по каламбурному принципу, строятся все остроты Маяковского от полностью беззубых до самых удачных. Здесь всегда, сквозь самую яркую краску, просвечивает четкий логический пунктир, и любой, как угодно запутанный клубок может быть размотан к исходной точке.
— Олеща пишет роман «Ницше»!
Это он прочел заметку в отделе литературной хроники…
— «Нищий», Владимир Владимирович, — поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной. — Роман «Нищий».
— Это все равно, — гениально отвечает он мне.
В самом деле, пишущий роман о нищем — причем надо учесть и эпоху и мои особенности как писателя — разве не начитался Ницше?
Здесь Олеша рубит сук, на котором сидит. Он сам опровергает гениальность шутки, четко объясняя ее логическую схему. Есть подозрение, что схема была еще проще, еще логичней, чем полагает Олеша. Слово «Нищий», напечатанное с большой буквы, у человека, постоянно настроенного на каламбур, да еще и написавшего о «крикогубом Заратустре», — не могло не вызвать в памяти Ницше. А заключительный «гениальный» ответ Маяковского — не что иное, как стандартная концовка для всех таких ситуаций. Каламбурист подменяет или переставляет слово, слушатель-партнер ему возражает, уже заранее давясь от смеха, и шутник гениально отвечает: «А это все равно». Цирковой отработанный номер…
Нет, я ни в коем случае не хотел бы низвести каламбур до положения ругательства. Каламбур, как и сабантуй, бывает разный. Каламбур бывает приятный, бывает красивый, более того, он бывает очень смешной. Я хочу лишь сказать, что каламбурное остроумие в самом своем принципе механистично и потому, как правило, неглубоко и не живет долее текущего момента. Все хорошо на своем месте. Каламбур поверхностен — и прекрасно, не всегда же нам необходима глубина. Каламбур хорош, брошенный вскользь, в косвенном падеже, в придаточном предложении. Но он выглядит нелепо и претенциозно, когда занимает место высокого юмора. И он становится безумно назойливым и скучным, когда стремится заполнить собой повседневность.
Нет более скучных и унылых людей, нежели упорные каламбуристы. Вот ты разговариваешь с ним, разговариваешь и вдруг замечаешь по особому блеску глаз, что он тебя совершенно не слышит, что он слушает не тебя, а слова, да и то не все, а одну только фразу. Он случайно выхватил ее из текста и теперь выкручивает ей руки и ноги, тасует суффиксы и приставки, выворачивает наизнанку корни. Лихорадочная механическая работа совершается в его усталом мозгу. И когда, наконец, каламбур готов, он выпаливает его как последнюю новость, огорашивая тебя в середине слова, и приходится вымучивать вежливую улыбку, тихо сожалея о смысле недосказанного. А твой собеседник уже вновь наготове, нацелил уши, навострил когти, ни минуты простоя и отдыха…
3
Итак, каламбурное остроумие… Но есть и другое — подводное, глубинное, несводимое к формальным закономерностям, необъяснимое с помощью логики — божественное хотя бы в том уже смысле, что не дается ни знанием, ни тренировкой, а только талантом.
Чувство юмора — это природный талант, и оно не исчерпывается остроумием и далеко не — всегда через него выражается. Юмор — явление всеобъемлющее, это не окраска и не подсветка, это способ видения, способ жизни. Понятие юмора трансцендентно, так же, как и понятие поэзии, и так же магически неисчерпаемо. Человек, объясняющий смысл анекдота, нелеп не потому, что говорит очевидное, а, напротив, потому, что пытается осуществить невозможное. Но ни анекдот, даже самый глубокий — а бывают очень глубокие, — ни острота, ни шутка, ни комическая ситуация, ни вообще все комическое вместе взятое — не заполнят и не отразят юмора, разве только одну из его сторон.
В словарях литературоведческих терминов на это слово даже нет отдельной статьи, а пишут: ЮМОР — см. КОМИЧЕСКОЕ. Не смотри «комическое», читатель, смотри «трагическое»! Потому что подлинный юмор всегда трагедиен в своей основе. Нет, я имею в виду не мрачные шутки, не черный юмор и не юмор висельников. Настоящий юмор всегда исходит из глубокого чувства трагизма жизни, из ее потрясающей, головокружительной серьезности.
Возьмем тот же анекдот как ближайший пример. Чем измеряется глубина анекдота? Тем количеством трагизма, которое он в себе содержит. Лучшие темы — тюрьма, болезнь или смерть, то есть такие, трагизм которых заведом и не нуждается в подтверждении. И так же самый глубокий юмор свойствен народам самой страшной судьбы: евреям, полякам, русским…
Юмор и поэтический образ — вот два единственных средства, два способа видения, мышления, чувствования, с помощью которых мы можем объять необъятное, постичь непостижимое, овладеть ускользающим. И бывает так, но это редчайший случай, когда они объединяются в одном человеке, — тогда возникает величайшая концентрация поэтической энергии, любой своей частицей обнимающая весь мир. Тогда это — Шекспир, Пушкин, Мандельштам…
Я думаю, нам уже не надо повторять, что речь идет не о комических образах, — комическое входит сюда как частность. Речь идет о юморе как исходном фоне, на котором происходят любые события, о юморе как основе жизни в ее глубоком и тайном смысле, о юморе как важнейшем принципе взаимосвязи понятий и явлений.
Человек без юмора может быть талантлив и даже умен. Он может обладать и острым взглядом и точным словом. Более того, он может так построить свою жизнь и свое творчество, что этот недостаток никогда не проявится, его просто не будет существовать. В литературе та или иная нехватка проявляется лишь в ответ на запрос читателя. Если авторский мир органичен в своей ограниченности (вот и нам не уйти от невольного каламбура) и не претендует на чужой ареал, то запроса может никогда не возникнуть. Отсутствие хлеба в овощном магазине не есть недостаток. Иное дело, если автор претендует на нечто, к чему неспособен. Он толкает читателя на запрос, выявляя тем самым отсутствие ответа…
Мы знаем примеры самой высокой поэзии, существующей целиком вне сферы юмора, в ограниченном вследствие этого и все же бесконечно обширном слое. Это прежде всего Александр Блок и, конечно же, Борис Пастернак.
Ограниченность их, вообще говоря, номинальная, потому что и тот и другой, обладая мощным талантом и чувством меры, никогда или почти никогда не входят в соприкосновение с собственными границами, следовательно, их никак не ощущают. Ни они сами, ни их читатели. Граница — понятие динамическое, она возникает как ощутимая реальность только при попытке ее пересечь…
Маяковский, в отличие от Пастернака, не знает предела в своей экспансии, он легко пересекает любые границы и в ответ на спровоцированный им же запрос выдает механическую игрушку — заводной каламбур. Он и есть тот назойливый каламбурист, неустанный охотник за словом и фразой, убивающий и расчленяющий жертву, чтоб создать нечто новое и удивительное.
Взгляните, вместо руки нога, нос на лбу, а ухо на заднице. Смешно, не так ли? Интересно, не правда ли? Тайна юмора и тайна поэзии подменяются одним и тем же способом — путем механической имитации.
Была бы баба ранена, зря выло сто свистков ревмя,— но шел мужик с бараниной и дал понять ей вовремя.Этот чисто каламбурный пустой стишок назван программно «Схема смеха» и прокомментирован следующим образом: «Каждый, прочтя этот стих, улыбнется или засмеется. В крайнем случае — заиздевается, хотя бы надо мной». На самом деле «крайний случай» — единственное, что здесь остается читателю.
По сути, вся поэтика Маяковского основана на одном каламбурном принципе. Его метафора, реализующая речевой штамп, есть не что иное, как вариант каламбура, а лучшие из его каламбурных острот строятся на реализации штампа.
— Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают!
— Я не печка, не море, не чума!
Этот знаменитый ответ на записку (почти наверняка им же самим заготовленную, слишком она звучит ритмично и слишком письменно) приводится многими вспоминателями в качестве наиострейшей остроты. Между тем это не что-нибудь новое, это наш добрый старый знакомый — реализованный штамп, разоблаченная метафора.[9]
Сведение переносного смысла к буквальному — вот высшее достижение Маяковского как в области построения образа, так и в области построения юмора. Те же истоки и тот же результат. И так же мы можем предложить читателю самому воспользоваться этим методом, чтобы убедиться, с какой дошкольной простотой извлекается решение из условий задачи.
Например, Луначарский говорит, выступая: «Боюсь, присутствующий здесь Маяковский разделает меня под орех».
Что должен крикнуть Маяковский из зала?
Подумайте. Правильно!
— Я не древообделочник!
4
Понятие юмора существует издревле, хотя слово стало употребляться недавно, всего лет двести назад. За это время юмор, не только как термин, но как категория восприятия мира, претерпел существенные изменения, становясь все более объемлющим понятием, и в то же время все более личностным. Для двадцатого века уже характерно непременное включение в систему юмора личности автора. И это справедливо не только для литературы, но и для простого устного общения. Такая демократическая эволюция, с одной стороны, уравнивает говорящего с собеседником, с другой стороны, дает ему особые преимущества: уверенность в себе, свободу действий и, в конце концов, право на подлинный пафос.
Всякое художественное произведение, существующее в атмосфере юмора, — не только смешное, не только комическое, а даже скорее сугубо серьезное — обладает одним отличительным качеством. Я назвал бы это качество самозащищенностью..
Что я имею в виду?
Главным образом, невозможность второго смысла, не предусмотренного автором, лишнего, ненужного, быть может, обратного, в конце концов — пародийного.
Ни один поэт не застрахован от неудач, от слабости или минутной фальши. А уж случаи авторской глухоты можно отыскать почти у каждого.
Маяковский любит глухоту поэтов, ему импонирует чужая слабость. Он с удовольствием приводит примеры:
Мы ветераны, мучат нас раны.
Не придет он так же вот.
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги.
Это Брюсов, Уткин, А. К Толстой. Но и к Пушкину приставляет он свою «лесенку».
«Довольно, стыдно мне… Чтобы читалось так, как думал Пушкин, надо разделить строку так, как делаю я».
Действительно, подобного рода ошибки, связанные с возможностью ложных звучаний, с неразделением слов, со слабостью знаков — хоть и встречаются у самого Маяковского («От Батума, чай, котлами покипел…»), но, быть может, не чаще, чем у других. Но зато трудно найти ему равного в области дурной пародийной двусмысленности, целиком идущей от отсутствия юмора, от неспособности увидеть в готовом стихе то, чего автор туда не вкладывал:
Ты что-то таила в шелковом платье.
На теле твоем — как на смертном одре — сердце дни кончило.
У стихов нет внутренней самозащищенности, они если как-то и защищены, то извне — громовым голосом автора. В ранний период молодому Маяковскому удавалось перекрикивать второй смысл, и гул, остающийся в ушах у читателя, подчеркивал необходимую звуковую тональность. С годами эта способность все больше терялась, и все явственней проступала сквозь строчки стихов обезьянья морда автопародии:
Любовь не в том, чтоб кипеть крутей, не в том, что жгут угольями, а в том, что встает за горами грудей над волосами-джунглями… …под блузой коммунисты, грузят дрова. Цвети, земля, в молотьбе, и в сеятьбе. Я себя под Лениным чищу. …так хотел бы разрыдаться я, медведь-коммунист.Или пресловутое, тысячекратно читанное:
Я достаю из широких штанин…
Такое чувство, будто сам Александр Архангельский сидит с ним незримо за одним столом и то и дело подталкивает его под локоть или даже прямо водит пером. Впрочем, порой начинает казаться, что это слишком и для Архангельского. Он даже в самой смешной бессмыслице оставался в каких-то разумных рамках. Он бы не решился написать, например, такое:
Время родило брата Карла — старший ленинский брат Маркс.Так жестоко посмеяться над бедным автором мог только сам Маяковский.
Он умел делать смешными других — многих. Для этого не требовалось чувства юмора, достаточно было чувства смешного в сочетании с изобретательностью и энергией. Юмор оказался необходим для другого — чтоб не выглядеть смешным самому. Тут и обнаружилась недостача. И то, что у другого могло бы сойти незаметно, для Маяковского стало губительным. С ним случилось самое, быть может, страшное, что только может случиться с поэтом: он превратился в карикатуру на себя самого.
Для сегодняшнего молодого читателя именно с этой карикатуры начинается знакомство с поэтом Маяковским и ею порой ограничивается. Даже если он обнаружит впоследствии, что в этом облике есть совершенно иные черты, общая подавляющая атмосфера пародии не даст почувствовать их серьезности. И, конечно, такое восприятие поэта нарушает действительную пропорцию, но так ли уж сильно грешит оно против истины?
Глава шестая ЛИЦО И МАСКА
1
Это был очень странный человек. Высокий рост, при относительно коротких ногах; каменные (памятниковые) черты лица, укрупненный нос, укрупненные губы; далеко выступающая нижняя челюсть, непреклонная жесткость которой не смягчалась даже полным отсутствием зубов; большие глаза, временами очень красивые, большей частью довольно страшные. В его облике было что-то невсамделишное, какая-то принудительность формы, как бы раздутость. Пожалуй, он был похож на переростка, как будто мальчику лет тринадцати ввели какой-то ужасный гормон (есть у Л. Лагина такая повесть) и он быстро-быстро увеличился в размерах и стал на равных и даже свысока общаться со взрослыми дядями и тетями.
Среди тонконогих, жидких кровью, трудом поворачивая шею бычью, на сытый праздник тучному здоровью людей из мяса я зычно кличу.На этом образе поэта-великана, обладателя физической и духовной мощи, строилась эстетика Маяковского и на этом держалась его идеология: сначала — идеология разрушения, потом — идеология оптимизма. Между тем, он не был ни очень сильным, ни, тем более, физически здоровым. Он был просто болезненным человеком, с юности абсолютно беззубым, с вечно распухшим гриппозным носом, с больной головой и влажными руками. И тут вряд ли виновато южное происхождение и переселение в зимние страны. Он постоянно простужался и болел и в Крыму, и в Евпатории. Болея, проявлял ужасную мнительность, без конца мерял температуру, однажды разбил подряд три градусника…
Физически он также был не сильнее среднего мужчины с нормальным ростом.
«Так что слова его: „С удовольствием справлюсь с двоими, а разозлить — и с тремя“, эти слова, — замечает современник, — надо рассматривать как поэтическую фигуру».
Скажем так: и эти слова…
Не только в стихах — в повседневной жизни он редкое слово сказал в простоте, чуть не всякое его проявление было фигурой. В его внешности, в походке, во всех повадках присутствовал непременный театральный эффект, невзаправдашность, выстроенность, декоративность. Даже постоянное его курение на самом деле курением не было: он, не затягиваясь, набирал и выпускал дым. Да и рост его — 189 см—не был сам по себе фантастическим. Вероятно, он был не выше Третьякова, не намного выше Бориса Пильняка. Но он неутомимо играл огромность, убеждая себя, читателя, зрителя…
В его общении с людьми, далекими и близкими, не было ни прямоты, ни равенства, он знал лишь покровительство или подчинение.
Все детские критерии и подростковые страсти сохранились в нем, но увеличились в размерах и так перешли во взрослую жизнь. Преклонение перед любой силой, перед всем крупным и многочисленным; боязнь показаться смешным и слабым; деление мира на врагов и друзей, на чужих и своих, на наших — не наших; жестокость и в то же время плаксивость; ненависть к старшим и страх перед ними; и наконец, затаенное, застенчиво-наглое, болезненно-изломанное отношение к женщине.
К Маяковскому, как, быть может, ни к кому другому, применим психоаналитический ключ (пусть это отмычка — неважно, лишь бы мог открывать). Если все истоки поведения и характера взрослого человека обнаруживаются в детстве, то насколько же ярче они должны проявляться у заторможенного переростка, одаренного к тому же несравненным талантом яркой словесной формулировки! Не надо быть специалистом и посвященным, чтобы в настойчивых жалобах гиганта-самца увидеть перевернутые детские страхи. «Голодным самкам накормим желания, „проститутки, как святыню, на руках понесут“» — эти построения слишком демонстративны, слишком громки и слишком нервозны, чтобы означать что-либо иное, кроме тайной неуверенности в себе. А образ отдающейся — неотдающейся женщины (земли, славы, толпы и т. л.) и вовсе не нуждается ни в какой расшифровке.
Эту детскую неуверенность Маяковского зорко подметил Бенедикт Лившиц, чуть не с первого их знакомства в 13-м году. Уже была написана «Кофта фата»; «Пусть земля кричит, в покое обабившись; „Ты зеленые весны идешь насиловать!“;…Женщины, любящие мое мясо, и эта…» Но Лившиц, человек наблюдательный и умный, к тому же хорошо знакомый с психоанализом, обратил внимание и на то, как Маяковский распевает стихи Игоря Северянина, тогда еще любимого им поэта, сильно акцентируя первую строчку: «С тех пор, как все мужчины умерли…».
Лившиц пишет:
«Зачем с такой настойчивостью смаковать перспективу исчезновения всех мужчин на земле? — думал я. Нет ли тут проявления того, что Фрейд назвал Selbst-minderwertigkeit, — сознания, быть может, только временного, собственной малозначительности? (…) Я высказал свою догадку Володе — и попал прямо в цель».
Можно только изумляться тому искусству и той активности, с которыми двадцатилетний Маяковский выстраивал себя как личность, и в чужих, и в своих глазах. Тот небольшой уголок души, где гнездилась его подлинная боль-обида, он использует как универсальный источник чувств, сублимируемых в любые другие виды, так что даже на подмененном мотиве остается отпечаток исходной подлинности. Не то ему болит, на что он жалуется, а совсем, быть может, противоположное, но закон сохранения, заложенный в нашем сознании, говорит нам, что исходная боль существует. На этой подмене все и основано, в этом смысле, быть может, и «смирял» и «на горло», и сами эти строки — тоже подмена, с использованием совершенно иной энергии…
Позднее, в 22-м году, уже несколько успокоившись и утвердившись, введя свою жизнь в определенный ритм, он опять возвращается к теме любви и женщины и вновь совершает очередную трансформацию, в соответствии с новым общественным наполнением. Он переводит свою былую обойденность из чисто чувственного — в социально-материальное русло. Но зато уж теперь он ее называет. Одна подмена введена, но другая отброшена. Оказывается, в юности он не мог любить. Он не мог любить, потому что сидел в тюрьме, он не мог любить, потому что не было денег (?), он не мог любить по тысяче разных причин, но зато уж теперь доподлинно ясно, что он не насиловал зеленых весен, а вовсе даже наоборот:
О, сколько их, одних только весен, за 20 лет в распаленного ввалено!Тридцатилетний Маяковский разъясняет двадцатилетнего, опровергая его и разоблачая. Это неизбежно: в его мире подмен разъяснение — это и есть разоблачение:
У взрослых дела. В рублях карманы. Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся, глазастый.Тайная зависть к миру взрослых, которые знают то, чего ты не знаешь, и могут то, чего ты не можешь, конечно же, существовала у всех. Но редко у кого она так законсервировалась, с такой полнотой перешла в юность и зрелость. Застывший эгоцентризм Маяковского (отметим умиленное «шлялся, глазастый») существовал среди страхов и подозрений. Он мог чувствовать себя на высоте и в безопасности, только погружая все окружающее в грязь. Да, любовь доступна взрослым, но у них она — гадость и мерзость:
Нажрутся, а после, в ночной слепоте, вывалясь мясами в пухе и вате, сползутся друг на друге потеть, города содрогая скрипом кроватей.Те же самые желания и страсти у него, у поэта, — достойны и трогательны и имеют красивые метонимические названия:
Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское…Если прибавить сюда тягу к расчленениям, навязчивую символику замещений («сплошное сердце, сплошные губы» или подряд, буквально в соседних строчках: «как солдат бережет свою единственную ногу», «как собака… несет перееханную поездом лапу») и сверх прочего, уже с некоторой натяжкой, но тоже пригодное к применению, единственное упоминание в стихах об отце: «обольем керосином» — то получим в избытке все необходимое для успешной работы «венской делегации», как любил выражаться другой Владимир Владимирович…
Для себя же отметим в очередной раз — изначальный, неизбежный, последовательный характер подмен и замещений в поэтическом мире Маяковского. Здесь, в конечном счете, каждая строчка является не тем, за что себя выдает. Каждый раз приходится помимо стиха, а очень часто вопреки ему конструировать подлинный предмет и мотив. Дело же это хлопотное и ненадежное. Надо знать, когда написано, для чего, кому, почему и так далее, и кто же все это может знать? «Воспаленной губой припади и попей…» Попей, попробуй…
2
Есть такая пантомима у Марселя Марсо, очевидно, традиционная в этом жанре. Актер примеряет различные маски, снимает одну, надевает другую, и вдруг одна из них, самая неестественная, приходится ему настолько впору, что накрепко прирастает к лицу и никак не снимается. Он мучается, но ничего не может поделать, его усилия составляют жуткий контраст с парадным выражением, застывшим на маске-лице, и так он и умирает, со сведенными руками, с этой нелепой гримасой.
С самой ранней юности, или даже с детства, Маяковский конструирует себя как личность, непрерывно экспериментируя и проверяя результаты. Естественно, что выход на широкую публику, не абстрактную читательскую, а конкретную зрительскую, был ему абсолютно необходим. Он надевает и примеряет различные маски и вместо зеркала смотрится в зрительный зал. Лишь по некоторым переходящим признакам можно попытаться составить представление, что в них есть от него самого, от его подлинного лица. Лица же мы никогда не увидим и только по аналогии с другими людьми можем предполагать его существование.
Система масок, то грозных, то жалобных, — это и система его личности, и его поэтическая система. Его многоликость отмечалась всеми. «Маяковский обладал свойствами многих людей, — замечает К. Зелинский. — Кто он? Человек с падающей челюстью, роняющий насмешливые и презрительные слова? Кто он? Самоуверенный босс, безапелляционно отвешивающий суждения, отвечающий иронически, а то и просто грубо?.. Разным бывал Маяковский… Самое сильное впечатление производило его превращение из громкоголосого битюга, оратора-демагога… в ранимейшего и утонченнейшего человека… Таким чаще всего его знали женщины, которых он пугал своим напором».
Каким же все-таки его знали женщины, утонченнейшим — или пугавшим напором?
Думается, не столько напором пугал он женщин (многие сочли бы это за достоинство), а главным образом неестественностью, дурной, отчуждающей неожиданностью, резкой сменой настроений и построений. Как на вращающемся круге в театре: нажатие кнопки — и поле битвы с разбросанными там и сям трупами уплывает куда-то влево и вглубь, а перед нами — уютный домик рыбака. Однако какой уж там уют, после трупов…
И все же, как это часто бывает, чем пугал, тем и притягивал. И не только и не столько женщин.
Его оглушительное громыхание и снисходительное покровительство; его заметность в любой среде, театральность, зрелищность его облика; его, наконец, стойкая слава, менявшая лишь ярлыки и оттенки, — все это было источником тяги, которую испытали самые разные люди. Надо было иметь серьезное предубеждение, какую-то заведомо враждебную позицию или конкурирующий интерес, чтобы не попасть под его обаяние. Внешняя неожиданность поступков и жестов, постоянное ожидание этой неожиданности, ну хотя бы реплики или каламбура, — играли здесь не последнюю роль. И, конечно, контрастность его поведения резко увеличивала цену и вес всех положительных проявлений. «Он к друзьям милел людскою ласкою, он к врагам вставал железа тверже». Параллель очевидна. О нем будут также писать с умилением, что он хорошо относился к друзьям, заботился о матери и о сестрах, любил детей и животных.[10] Любое нормальное человеческое движение, пусть представленное в микроскопических дозах, вырастет в решающую добродетель — по контрасту со всем его общедоступным обликом.
Все рассказы друзей о его повседневных достоинствах насыщены и исполнены ярких чувств, все примеры — убоги и смехотворны.
Так, доброта (в воспоминаниях Олеши и Катаева) иллюстрируется предложением денег в долг или вопросом о здоровье по телефону. Мощный интеллект (в пассажах Эренбурга) подтверждается зауряднейшими разговорами и уже известным нам ответом на записку: «Я не печка, не море, не чума…»
И это не только в поздних пересказах, так часто бывало и в жизни. Любой намек на доброжелательство со стороны главаря-демагога был лестен и вызывал благодарность. Любое живое слово из гипсовых уст воспринималось как подарок и откровение..
Просмотрим с десяток его фотографий, начиная от самых ранних и кончая последними. Мы увидим, как твердеют его черты, как все меньше остается в них человеческого, подвижного и мимолетного. Последовательный монтаж из портретов Маяковского — это леденящее душу зрелище. На наших глазах живое лицо подростка, с еще не оформившимся выражением, превращается в застывшую маску переростка. И вот уже от одного снимка к другому только чуть изменяется выражение губ да папироса перемещается из угла в угол…
Его портрет не удался ни одному художнику, а попытки были у самых именитых. И единственное исключение — гравюра Могилевского, ставшая эмблемой театра на улице Герцена. Ее успех определился не столько талантом автора, сколько исключительным свойством задания. Могилевский не пытался изобразить лицо, он копировал маску.
Глава седьмая КНЯЗЬ НАКАШИДЗЕ
1
Неподвижная маска, нарисованные декорации — таков Маяковский двадцатых годов и особенно заграничных поездок.
…ночи августа звездой набиты на густо!Эти строчки восхитили Юрия Олешу. «Рифма, — говорит он, — как всегда, конечно, великолепная, только ради нее и набито небо звездами».
И тут же, как это часто с ним бывает, спохватывается, чувствуя, что сказал не то. И, как все биографы Маяковского, разряжает обстановку за счет самоуничижения:
«Возможно, впрочем, что я педант — ведь ночь-то описывается тропическая, для глаза европейца всегда набитая звездами!»
Но со стихами связан какой-то разговор, и Олеша не может его не привести:
«Когда он вернулся из Америки, я как раз спросил его о тех звездах. Он сперва не понял, потом, поняв, сказал, что не видел». Ах, опять спохватываться бедному Олеше, опять выкручиваться тем же макаром!
«Пожалуй, я в чем-то путаю, что-то здесь забываю. Не может быть, чтобы он, головою над всеми…»
Ну, конечно, не может быть! А если Олеша помнит именно так, то, значит, он педант и склеротик, и недостоин, и сам признается, и готов подписать любой протокол…
«Не может быть, чтобы он, головою над всеми, — не увидел, что созвездия нарисованы по-иному, что звезды горят иные!»
Нет, не для того семь лет Маяковский мотался но заграницам, чтобы выяснять, какие там иные созвездия.
И вообще — не для того, чтобы что-то выяснять. Строго говоря, все стихи о загранице он мог бы написать, не выезжая из Москвы. Писал же он когда-то о страшном Чикаго и не жаловался на недостаток информации, и сам потом утверждал в «Открытии Америки», что Чикаго описан им верно. Изготовлял же он бесчисленные плакаты РОСТА, не видя в глаза живого белогвардейца или даже современного ему крестьянина. Что мы знали о Западе до поездок Маяковского? Что там — эксплуатация человека человеком, культ чистогана, мерзость и грязь. Что мы узнали из его стихов? Что там действительно эксплуатация, и мерзость и грязь, и культ чистогана. Чем могли бы мы порадовать наши глаза, уставшие от лицезрения эксплуатации? Прогрессивно-освободительными движениями и, конечно, техникой, техникой, техникой, сработанной честными рабочими руками. Так оно и вышло в точности.
И как ночи августа набиты звездой ради рифмы, для формального соответствия, точно так же набиты чем надо и разделены на необходимые рубрики все отсеки и закоулки западной жизни. Все, что удивляло за границей Маяковского, удивило его еще в Москве, все, что обрадовало, — радовало дома.
Пропер океаном. Приехал. Стоп! Открыл Америку в Нью-Йорке на крыше. Сверху смотрю: это ж наш Конотоп! Только в тысячу раз шире и выше.В этой точной пародии Александра Архангельского не хватает только одного — злости. И даже не злости, а злобы.
Между тем к середине двадцатых годов, уже изрядно устав возвеличивать, Маяковский за границей пытается обрести второе дыхание.
Горы злобы аж ноги гнут. Даже шея вспухает зобом Лезет в рот, в глаза и внутрь. Оседая, влезает злоба.Но и в этой злобе, даже в ней, чувствуется уже что-то ненастоящее, декоративное, бумажно-плакатное. Ну на что ему, собственно, злиться?
Весь в огне. Стою на Риверсайде. Сбоку фордами штурмуют мрака форт. Небоскребы локти скручивают сзади, впереди американский флот.Слова, призванные означать враждебность, никак не выполняют своего назначения. «Весь в огне» — это просто такое яркое освещение. Форды «штурмуют» — но, опять-таки, мрак. Локти же, скручиваемые небоскребами, — это уж и вовсе что-то надуманное, так можно сказать лишь от чувственной лени.
Нет, даже злоба Маяковского неподлинна в этом кошмарном враждебном мире, из которого он обычно возвращался домой, лищь «последний франк в авто разменяв».
Он честно расходует весь набор формальных приемов, давно отработанных на отечественных объектах: проклятья жирным, громление старья, призывы использовать собор под кино или вбить, раскачав, в мостовые тела «Вандерлипов, Рокфеллеров, Фордов»… Он даже прибавляет нечто новое — заграничную атрибутику и словарь. Этот нехитрый прием в путевых зарисовках используют впоследствии все наши полпреды стиха, от Константина Симонова до Андрея Вознесенского.
Берется любое английское слово, рифмуется с русским — и читатель чувствует, без особых усилий, что он в Америке.
Я злею: «Выйдь, окно разломай,— а бритвы раздай для жирных горл». Девушке мнится: «Май, Май горл».Как известно, Маяковский языков не знал и по сноскам-переводам под его стихами можно составить исчерпывающее представление о его словарном запасе. Язык его заграничных стихов напоминает язык «американских русских», которых он с презрением передразнивает: «Я вам, сэр, назначаю апойнтман. Вы знаете, кажется, мой апартман?» По его же собственному выражению, «в горле застревают английского огрызки» — не в том горле, для которого острые бритвы, а в своем, родном, маяковском, горле, которое надо беречь от простуд. Он мог бы знать язык, а мог бы не знать, дело не в этом. Дело в том, что, декорируя стих огрызками английского, он нарушает законы восприятия, а это бы должно было его тревожить.
«Сидишь, глазами буржуев охлопана. Чем обнадежена? Дура из дур». А девушке слышится: «Опен, опен ди дор».Такая сценка. Казалось бы, неплохо придумано. Он, значит, по-русски, а ей-то кажется… На самом деле придумано плохо, главным образом потому, что — придумано. Не может живая американская девушка думать такими словами, такими звучаниями. Эти построения, с их русской транскрипцией, копирующей скорее «заграничное» написание, нежели английское произношение, могут слышаться только самому Маяковскому. Это он, а никакая не американская девушка, сначала аккуратно построил свое «ди дор», а затем, как обычно, задним числом, подобрал к нему созвучную русскую фразу с ее глубочайшим социальным смыслом («глазами буржуев охлопана»).
Интересно, что механистичность этого приема сохраняется при всех возможных преобразованиях. Допустим, он написал бы английские слова по-английски и без ошибок. Прямота и поверхностность способа, которым создается «иностранность» обстановки, все равно бы сохранилась. И мало того, сохранилась бы неестественность. Весь фокус, вся идея стихотворения в том, что девушка видит сквозь толстое стекло, как произносятся чужие, непонятные слова, а слышит при этом свои, родные. Но для русского читателя — все наоборот. В контексте русского стихотворения думать пли говорить на чужом языке может только чужой человек, не мы. Мы не можем воспринять чужой язык как родной и, значит, никак не можем почувствовать эту американскую девушку, встать по её сторону стекла. И, следовательно, опять выходит, что эти американские фразы слышит Маяковский, а не она.
Пушкинский хлебник с его «васисдасом» уместен и замечателен как раз потому, что эта точная шутка-метонимия подчеркивает его чуждость, немецкость в русской среде…
Я так подробно задержался на этом приеме из-за некоторой формальной его новизны, а также из-за того, что с первого взгляда он представляется наименее уязвимым.
Из прочих упомяну еще один, также сегодня широко применяемый, который, по аналогии с кинематографом, я назвал бы методом блуждающей маски. Состоит он в отождествлении автора с объектом стиха. «Я помню: я вел Руставели Шотой с царицей Тамарою шашни…» «И вот, я меч, я мститель Арсен…» «Позволь мне, как немцу, как собственному сыну…»
Прием этот, особенно в частом употреблении современных преемников Маяковского, сильно отдает шизофреническим бредом («Я кубинец, я Гойя, я голая женщина, мне кажется, сейчас я иудей» и так далее). Но зато он позволяет предельно простыми средствами имитировать самые важные вещи: мощь поэтического воображения и глубину сострадания.
Многие другие не стоят и нескольких слов. Поэт ездит по заграницам и, вместе с мыльницей и гуттаперчевым тазиком, таскает с собой набор трафаретов — тех же окон РОСТА с окном в окне — отверстием для головы. Как бойкий провинциальный фотограф, он вставляет в них то одно, то другое лицо — то француза, то испанца, то американца. Одно окно — для жирного буржуя, другое — для оглупленного рабочего, третье — для сознательного активиста. И два отдельных окна для женщин: для богатой продажной н для честной бедной… Необходимое соотношение между плохим и хорошим соблюдается со скрупулезной аккуратностью. Если быстрый поезд — то «сталью глушит», если Бруклинский мост — то с него кидались в Гудзон безработные, а если песня разгоняет уныние, то какая это песня в стране джаза? Ну, конечно, вы уже догадались: «Мы смело в бой пойдем за власть Советов!»
Ну скажите честно, надо ли было ехать в Америку, чтоб написать, например, такое:
«Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом линча, т. е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре».
2
Итак, если что-то и примиряет с Западом, так это — техника, техника, техника.
«Вы любите молнию в небе, а я—в электрическом утюге», — сказал Маяковский Пастернаку. Эта фраза призвана служить иллюстрацией его пристрастия к технике и всяческим изделиям рук человеческих. Однако ведь ею в такой же степени можно иллюстрировать и нелюбовь к природе.
«Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки… В расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь».
Эти его воспоминания детства изложены во вполне уже зрелом возрасте, и здесь не просто красивая фраза, а недвусмысленная декларация. И, однако, все это — как бы следствия, опосредованные, вторичные впечатления. Первое же, что бросается в глаза, когда читаешь такие заявления Маяковского, — его техническая малограмотность.
Он вообще довольно мало знал. Когда он, то в одном, то в другом месте, заявляет о своей нелюбви к книгам, то это не избыточность пресыщения, а попытка утвердить и возвысить свою недостаточность. То он отвергает только толстые книги, то книги про любовь, то книги про сыщиков, то вообще всю беллетристику. «Что делать?» для него образец романа. Он в упор утверждает на публичных диспутах, что можно хорошо писать, ничего не читая, и милейший Луначарский всерьез и многословно ему возражает. И, конечно, всегда не просто мнение, не просто позиция, но нажим, требования, проклятья, а то и хуже того.
«Когда Володя учился в пятом классе, — вспоминает его сестра, — распространение в магазинах и на лотках получили книжки о похождениях английских сыщиков. Многие ученики 5-й гимназии увлекались этой литературой… По его инициативе был организован поход против этой литературы. Группа гимназистов под предводительством Володи собирала ее по всем классам и торжественно предавала огню». Собирала… Словно книги там были рассыпаны. Представим себе эту банду подростков во главе с долговязым тяжелочелюстным Володей, как они шумно врываются в классы, вырывают из рук у ребят искомые книги (да, наверно, любые, поди разберись на ходу), обыскивают парты, вытряхивают портфели…
Повзрослев, он уже не сжигал книги, но неприязненное к ним отношение сохранил до конца своих дней.
«Никогда ничего не хочу читать… Книги? Что книги!»
Как всегда при чтении Маяковского, вооруженные весовыми множителями, мы расцениваем эти строчки как эпатажные, употребленные в каком-то ином смысле, означающие высшую степень чего-то — отчужденности, горечи, разочарования… Между тем здесь один из немногих случаев буквального соответствия смыслу. Он на самом деле ничего не читал. Его «рабочая комната» на Лубянке поражает отсутствием книг. На вопрос анкеты: «Есть ли у вас библиотека?» — он отвечает: «Общая с О. Бриком…»
Некультурность Маяковского, вообще говоря, могла бы быть его сугубо частным делом, если бы не подрывала в самой основе пафос его антикультурной позиции. Одно дело — восстание против культуры, другое — нападение на нее извне. Одно дело — отрицание культуры человеком, ее усвоившим и ей принадлежащим, в этом сеть определенное моральное право и бесспорный личный трагизм. И другое — отрицание скопом и в массе того, что задето лишь по поверхности. В его выборе между культурой и цивилизацией, между культурой и техникой нет не только преодоления и отказа, в этом выборе нет и самого выбора, по сути, он тривиален.
Но и его преклонение перед техникой также основано на незнании, на поверхностном восприятии, на дикарском восторге:
Смотрю, как в поезд глядит эскимос… А если Кавказ помешает — срыть?.. Аж за Байкал отброшенная, попятится тайга…Отрицая культуру и отвергая природу, он в противовес им утверждает то, о чем имеет лишь самое отдаленное представление…
Младший современник Маяковского Андрей Платонов, в отличие от него хорошо разбирался в технике. И он действительно ее любил. Но он любил не внешние ее атрибуты, не удобства, ею доставляемые, а скрытое изящество инженерных решений, красоту взаимодействия машины и мастера. Мы никогда не найдем в его произведениях ни дикарского восторга перед машиной, ни тем более противопоставления машины природе. У Платонова техника предстает как часть природы, как одно из ее чудесных проявлений, ставшее ощутимым и наблюдаемым благодаря искусству и умению человека. Но и человек у него — часть природы, так что никакого противоречия быть не может.
Маяковский не то чтобы любит технику — он любит блага, ею доставляемые, а ей поклоняется как источнику благ. Красота техники — красота пользы. Но при этом он не может избежать деталей, технических и вообще профессиональных, и здесь таится для него серьезная опасность. Как раз в подробностях и деталях то и дело проявляется его неосведомленность, хотя не всегда ее можно отделить от неосведомленности грамматической.
Рубанок в руки — работа другая: суки, закорюки рубанком стругаем.Ясно, что строгать можно только доски, суки же и закорюки — срезать, состругивать.
Или другой пример, подмеченный Квятковским: «Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло…» — вместо «ствол к стволу». «Очевидно, — замечает Квятковский, — что поэмы, прижатые заглавиями жерло к жерлу, стали бы стрелять друг в друга».
Он говорит о движении морских транспортов. «узлов полтораста накручивая за день», полагая, что узел — это мера расстояния, в то время как это мера скорости.
Или снова «Кем быть»… Вообще это кладезь. От первой, такой зримо материальной строчки «У меня растут года» (так и хочется спросить: откуда?) до последней, с ее педагогической универсальностью… Но мы-то сейчас о технике.
Там — дым здесь — гром Гро- мим весь дом…Так звучно рассказывает поэт маленьким детям о заводе, где делают паровозы. Видимо, он надеется, что им известно еще меньше, чем ему. В ряде случаев это, быть может, и так. Но зато дети не знают и стихотворческих тонкостей и не оценят полностью рифмующихся строчек: здесь гром — весь дом. Вот Юрий Олеша, тот бы, конечно, отметил, что только ради этой прекрасной рифмы и громим мы весь дом. Какой дом? А черт его знает! Громим…
Он сам признается — в других стихах, в другое время, для другого читателя: «может, я стихами выхлебаю дни, и не увидав токарного станка». Это не мешает его педагогической работе в области техники и разных производств.
Клепочный завод князя Накашидзе остается для Маяковского подсознательным идеалом и, видимо, источником информации. И если не клепки для бочек то винты и гайки выступают как единственные реальные детали, которые он использует по назначению:
Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты.Вот, наконец, совершенно безопасные строчки. Винты для гаек… Что может быть проще? Стоп! Для гаек или для гайки? Несколько гаек на один винт — это вещь вполне представимая. Но несколько винтов для одной гайки?!
Ах, вы скажете, надоело, оставьте ваши придирки. Ну это такая собирательная гайка, единственное число в значении множественного, Маяковский его очень часто использует: «звездой набиты», «винты для гайки»…
Не-ет, скажу я, так не выходит, потерпите еще минутку. В первой строчке множественное — это множественное, и во второй винты — это тоже винты. Значение числа определено, и уже не может быть никаких замещений. А поставил он здесь единственное число все для той же внутренней рифмы, чтоб винительный падеж множества гаек рифмовался с родительным падежом одной: я гайки — для гайки. И бросается банда винтов-насильников на одну-единственную бедную гаечку, и все это — ради прекрасной рифмы. Не такой уж, кстати, прекрасной…
И коль скоро речь зашла о стихах для детей, то вспомним и некоторые другие, уже в связи не с машиной, а с поэтической техникой, — «Что такое хорошо и что такое плохо?». Вспомним, к примеру, это название, уместное разве что в обратном смысле, в каком-нибудь лихом парадоксе Хармса. Все эти приторные поучения, стерильные образцы для подражания, халтурные согласования строчек: «это вот», «пишут тут»… Переросток, так и не ставший взрослым, он не представлял себе иного обращения с детьми, кроме прямой скуловоротной дидактики.
Он и взрослых всегда поучал и воспитывал, и со взрослыми читателями обращался, как с детьми. Кого он только не учил в своей жизни! Он учил поэта, он учил рабочего, он учил крестьянина, он учил ученого. В переносном — но и в прямом смысле. Его чистота и нетронутость в научной области, естественно, превосходит нетронутость техническую. Это позволяет ему с легким сердцем требовать от неведомой ему науки поменьше заниматься всякими теориями (главное — поменьше читать всяких толстых книг), а быть ближе к жизни и практике:
На книги одни — ученья не тратьте-ка. Объединись, теория с практикой.Замечательно здесь постоянство позиции в столь сложном и для многих не решенном вопросе. Как будто не прошло пятнадцати лет от юношеского «Гимна ученому» с его знаменитым квадратным корнем, призванным раз и навсегда напугать читателя своей жуткой оторванностью от жизни, — до этих зрелых, заметно усталых, но исполненных все того же детского пафоса строк…
3
Между тем Юрий Олеша рассказывает: «Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно — иметь собственный автомобиль, и то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказалась его любовь к современному, к индустриальному, к технике…»
Это было необычно, можно поверить. И легко представить себе разговоры «в наших кругах».
Конец 28-го года. Начало массовых раскулачиваний. Первые вредительские дела. Соловки переполнены до отказа. Хлеба не хватает, введены карточки. Надо было очень любить технику и именно той самой любовью, какой любил ее Маяковский, чтобы именно в это время… Нет, не в Америке. Олеша забыл. В Париже, который к тому моменту успел смертельно надоесть Маяковскому. Он жалуется на это в письмах Лиле и намеревается ехать на отдых в Ниццу и Монте-Карло. Хлопоты, связанные с покупкой, также отнимают много сил и времени. Он обсуждает в письмах и телеграммах систему, мощность двигателя, цвет и наконец останавливается на «сером реношке»…
Как и в прежние эпатажные времена, он продолжает удивлять публику. Он любит путешествовать — и путешествует, другие не любят и сидят дома. Он любит технику — и покупает автомобиль, другие не любят и ездят в трамвае. Трамвай — это разве техника? Это склоки, это жди, это стой и трясись. Техника — то, что создает удобства, комфорт и всяческую приятность. Техника — это социализм.
Как будто пришел к социализму в гости, от удовольствия — захватывает дых. Брюки на крюк, блузу на гвоздик, мыло в руку и… бултых!Вот предел мечтаний, вот счастье, вот светлое завтра. Поэт-бунтарь, не жалевший сил для борьбы с отжившим старьем, сжигавший книги, крушивший соборы, расстреливавший картинные галереи, казнивший министров, актеров, коммерсантов, — показывает нам, наконец, для чего он все это делал.
Бултых!
Не надо думать, что этот мещанский рай возник перед ним лишь в последние годы, в результате общественного разложения. Он и в молодости держал у себя перед глазами точно такие картинки:
Мой рай — в нем залы ломит мебель, услуг электрических покой фешенебелен. Там сладкий труд не мозолит руки, работа розой цветет на ладони…Интересно было бы спросить Олешу, как он думает, личный шофер товарищ Гамазин тоже служил выражением любви Маяковского к технике? Ведь, как ни странно (совсем не странно), Маяковский был абсолютно беспомощен в обращении с любыми техническими средствами и так-таки и не смог научиться водить свой собственный автомобиль.
4
Это был очень скучный человек. Там, где не было эстрады, аудитории, состоящей хотя бы из одного слушателя, там, где не было объективно заданного сценария, театрализованного сюжета отношений, — там разговаривать с ним было не о чем, разговаривать было не с кем. Рита Райт рассказывает, как однажды несколько вечеров подряд пыталась записывать за Маяковским все интересное, что он выскажет. Все вечера он играл в карты, ничего примечательного не сказал. «Все осталось в стихах», — поясняет она. Это верно в двояком смысле. В том, который имеет в виду Райт, но еще и в том, что ничего кроме ничего сверх в нем никогда не было. Его внутренний мир вполне соответствовал стихам любого периода и часто бывал беднее стихов, но никогда не богаче.
Вторая половина его творческой жизни, примерно с 23-го года, — это уже окончательно плоский, двумерный, а порой одномерный период, но это не значит, что вне стихов существовал какой-то объемный подлинник. Подлинника вообще не было.
Его космос и ранее был выстроен линейно, путем прямого увеличения размеров обыденных и повседневных предметов. Теперь же он окончательно замыкается на том, что соответствует ему по степени сложности. В его абсолютизации руководящих установок, стиля жизни и отношений, в его стремлении возвести в ранг вечности эту бренную мешанину понятий и слов нет ни насилия над собой, ни намеренного сужения кругозора. Это и есть мир Маяковского, никакого другого не существует. Его собственная, личная бездуховность окончательно, хочется сказать — органически — сливается с коллективной бездуховностью и пошлостью.
Пройдут года сегодняшних тягот, летом коммуны согреет лета, и счастье сластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах.Какому пародисту, какому Архангельскому, какому вообще постороннему человеку, не содержащему в себе этой пошлой сласти, содержащему хоть что-нибудь кроме нее, — по силам такие строки?
Тоскливая ограниченность его кругозора еще настойчивей, чем в прямых декларациях, бросается в глаза в его многочисленных в последнее время сатирах. Сатира, еще более, чем апологетика, лишена дистанции восприятия. «Я волком бы выгрыз бюрократизм…» Никого не минуют учреждения и чиновники, но люди обычно живут другим, а туда — попадают. Маяковский же этим и в этом живет. У него бюрократы и те, кто с ними борется, выступают как величины одного измерения и, в лучшем случае, равных порядков. В конце концов это приводит к тому, что Маяковский, борясь с чиновником, не убивает его, а, наоборот, утверждает.
Но нигде так не проявилась его ограниченность и отсутствие всякой духовной опоры, как в изобличении мещанства и быта.
Он объявляет быт своим главным врагом, он раздувает любую мелочь общежития до размеров национального бедствия. Весь былой пафос борца и трибуна, всю оставшуюся энергию разрушения он устремляет в эту узкую щель.
Опутали революцию обывательщины нити. Страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните — чтоб коммунизм канарейками не был побит.Вот кто угрожает коммунизму — канарейки.
(Только не надо вспоминать о любви к животным. Это тема других, отдельных стихов, принадлежность другой маски. Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Впрочем, в Водопьяном у Лили Юрьевны есть и канарейка — подарок Маяковского.)
Этот страстный призыв: сверните головы! — прозвучал в 21-м году. Через восемь лет — та же тема, та же опасность и столь же актуальна. Но прибавился коллективный опыт. Оказалось, что лучше сворачивать головы не канарейкам, а их владельцам: «Изобретатель, даешь порошок универсальный, сразу убивающий клопов и обывателей».
Что же он сделал, обыватель Маяковского, чем он страшен и чем опасен? Из потока проклятий и общих фраз попытаемся извлечь его страшную вину, обрекающую его на неминуемую гибель, отдельно от канареек и вместе с клопами.
«Человек приспособился и осел… пережил революцию… завел абажуры и платьица…» Не борется вместе с «нищим Китаем», а, напротив, опасается собственных бурь. «Будучи очень в семействе добрым, так рассуждает лапчатый гусь: „Боже меня упаси от допра,[11] а от МОПра[12] — и сам упасусь.“»
Не правда ли, очень по-человечески рассуждает лапчатый гусь? Вот за то его и убей!
Не один Маяковский писал о мещанстве, было много разных писателей. И, конечно, король среди всех — Зощенко. Но какая бездна отделяет его от Маяковского!
Зощенковский обыватель показан так, что, кажется, ни одна деталь не потеряна, и в то же время чудесным образом сохранена огромная дистанция взгляда, непрерывная соотнесенность с миром. Человек как бы взвешен в мировом пространстве, оно окружает его со всех сторон, вбирает его в себя и противостоит ему. Сам он об этом не имеет понятия, тычась в свои примуса и калоши, но это знает про него автор и постоянно ощущает читатель. И от этого вселенского соотнесения обыватель Зощенко еще более ничтожен — но и значителен в своем ничтожестве, порой же — просто величествен. Разумеется, здесь и речи не может быть не только о призыве к уничтожению, но и о простом осуждении. Жизнь не осуждает и не прославляет зощенковского героя, она через него осуществляется.
Совершенно иначе у Маяковского. Его мещанин — мурло и гад, осужденный еще до стиха или пьесы (в полном соответствии с юридической практикой времени). Разговаривать с ним решительно не о чем, и интересен он лишь как вредный паразит, разновидность насекомого (недаром — «Клоп»), как одно из препятствий на пути настоящих людей все к тому же светлому завтра. Но и противостоит ему не Вселенная, а вот это самое светлое завтра — в виде каких-то больших машин, создающих материальную основу счастья, и зданий, тоже непременно больших: просторные палаты, белые халаты, светлые окна, гладкие полы — что-то вроде санатория для работников ЦК. Масштаб ничтожный, по сути — никакой. Осуждение примуса и гитары в пользу трактора и духового оркестра. Что такое трактор? Большой примус. Что такое оркестр? Большая гитара. Большое мещанство против малого мещанства — вот и вся официальная философия Маяковского.
5
И здесь происходит неотвратимое, то, чего и следовало ожидать. Пафос обличения оборачивается автопародией, но уже и стилистической и смысловой.
Там и сям карикатуры на мещан и обывателей выглядят как шаржи на самого автора, лишь стоит сличить их с соседними строчками или с известными фактами жизни.
Вот портрет ненавистного мещанина, обвинительная речь Маяковского:
Давно канареек выкинул вон, нечего на птицу тратиться. С индустриализации завел граммофон да канареечные абажуры и платьица.А вот здесь же, буквально через несколько страниц — его защитительное выступление:
— Купил, — говорите; Конешно, да. Купил, и бросьте трепаться. Довольно я шлепал, дохл да тих, на разных кобылах-выдрах. Теперь забензинено шесть лошадих в моих четырех цилиндрах.Здесь все то же самое, только увеличено. Вместо канареек — кобылы-выдры, вместо граммофона — серый «рено». Примус—трактор, гитара—оркестр…[13]
Да и Присыпкин-Баян в его «Клопе» — не раздвоенный ли это образ автора, с нормативными разговорами о загнивающем Западе и большой тягой загнивать так же? «Какими капитальными шагами мы идем по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия…»
Кто это говорит? Конечно, Баян, сатирический отрицательный тип. Но обнаружить мы это можем лишь по двум ориентирам, специально вставленным автором в его речь. В остальном это типичный монолог Маяковского. Я бы даже сказал, что «розы на данном отрезке» менее смешны и менее пошлы, чем «счастье сластью огромных ягод на красных октябрьских цветах».
И уж совсем без всяких изменений и вставок, с рюмкой в руке и селедкой на вилке, мог бы произнести Баян исполненные пафоса строки поэта: «Теперь, если пьете и если едите, на общий завод ли идем с обеда, мы знаем — пролетариат победитель и Ленин — организатор победы».
Поразительно, до какой степени ведущие пародийные персонажи Маяковского похожи на него самого — характером поведения, кругом интересов, стилем речи и стилем жизни. Бюрократ из бюрократов главначпупс Победоносиков — обнаруживает несомненные черты Маяковского, и не какие-то второстепенные, а самые важные. Тщеславие, доходящее до анекдота, абсолютизация высших чинов и рангов и всей атрибутики советской жизни, движение «к социализму по стопам Маркса и согласно предписаниям центра», мешанина из секса и партийной демагогии. Все сходится, вплоть до отношения к «акстарью» и излюбленных приемов риторики.
Маяковский. Спускался в партер, подымался к хорам, смотрел удобства и мебель… Не стиль, я в этих делах не мастак. Не дался старью на съедение. Но то хорошо, что уже места готовы тебе для сидения. Его ни к чему перестраивать заново — приладим с грехом пополам… А если и лампочки вставить в глаза химерам в углах собора…
Победоносиков. Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе Четырнадцатом. Но, конечно, в согласии с требованиями РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под мореный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах…
Маяковский. Где еще можно читать во дворце — что? Стихи. Кому? Крестьянам!
Победоносиков. Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, когда…
Или другой пример «победоносного» стиля: «Многие эстетические места и вычурности надо сознательно притушевывать для усиления блеска другими местами» («Как делать стихи»).
А символическая пантомима в той же «Бане», поставленная угодливым режиссером, — разве это не пародия на творчество Маяковского?
Стоит ли после этого удивляться, что все его положительные персонажи выглядят как двойники отрицательных.
Фосфорическая женщина: «Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты…»
Как будто не существует никакого живого слова, никакого критерия, стоящего вне этого плоского мира, вне этого круга понятий.
Голосует сердце, я писать обязан по мандату долга.
Так выражает свое подлинное рвение, свой ставший натурой служебный пафос, поэт Победоносиков, он же Баян, он же Фосфорическая женщина Маяковский. В прежнее время этот собирательный тип был дебоширом, бунтарем и громилой — когда это было выигрышно и безопасно. Теперь, с той же энергией и искренностью, его сердце руководствуется мандатом, выданным на голосование «за».
Так что же есть искренность, и что есть подлинность, и что же такое человеческое сердце? В данной замкнутой системе отношений эти понятия утрачивают всякий смысл.
6
Стихи, написанные. Маяковским в последние два-три года жизни, — это, за очень редким исключением уже не просто автопародия, но тотальная, захлестывающая пошлость, поражающая своим непрерывным избытком.
В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть.Именно так писал бы Победоносиков, если бы он писал стихи. Кто еще мог увидеть пламенеющий красный цвет, да еще республик, в дрожи тела, а также «в поцелуе рук»?
Мы теперь к таким нежны — спортом выправишь немногих,— вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих.Не хватает длинноногих, недовыполнен план, кое-какие коротконогие выправлены, но этого все еще мало, и в соответствии с нуждами народного хозяйства длинноногих приходится выписывать из Парижа, разумеется, временно, пока не будет налажено собственное отечественное производство…
А ведь это письмо Татьяне Яковлевой, в которую он был как будто всерьез влюблен и с которой перед тем встречался ежедневно на протяжении полутора месяцев — как раз тогда, когда писал Лиле Юрьевне о Париже, надоевшем «до бесчувствия, тошноты, отвращения». Он уехал, а она осталась, он тоскует, ревнует — казалось бы, все по-человечески. Но так прямо, без подмены оснований и мотивов, Маяковский написать не мог. Лицемерие? Опять и опять это слишком простое слово претендует на то, чтобы выразить суть. Не лицемерие, а неправда, маска, личина — как единственный способ существования. И действительное слияние личного с общественным — личной неправды с общественной пошлостью.
Стихотворение в этой системе понятий выступает как особый вид дезинформации и не может выражать подлинных мотивов, а может лишь сублимировать их энергию, переводя ее в нечто объективно значимое. «Я не сам, а я ревную за Советскую Россию». А тогда уже как следствие: не в том несчастье, что любимая женщина отдается другому, а в том, что — классовому врагу.
Не тебе в снега и в тиф шедшей этими ногами, здесь на ласки выдать их в ужины с нефтяникамиРечь, конечно, не о героических нефтяниках Каспия, а о парижских нефтяных магнатах. Именно этим буржуям-толстосумам вынуждена — но не должна! — выдавать на ласки свои длинные ноги очаровательная Татьяна Яковлева. Должна же она выдавать их другим — кому подскажет классовое сознание (не ее, конечно, а наше). Если бы она выдала литейщику Ивану Козыреву, только что вселившемуся в новую квартиру, или тем же рабочим Курска, добывшим первую руду, то основании для ревности, этого дворянского чувства, у Маяковского вроде бы не должно было быть. Но такая вероятность затуманила бы ситуацию, н он ее не рассматривает. Он бросает на полстрофе частушечный хорей с его пригородной куртуазностью и переходит на резкий революционный дольник:
Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук.Не будем спрашивать зачем. Ясно и так: для выполнения общественного долга.
Не хочешь? (Не хочет!) Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем.Так все та же подростковая обида на недоданность, выступавшая под самыми различными масками (вспомним «Облако», буквально: «Мария — не хочешь?»), трансформируется теперь в политический факт, в событие жизни страны и народа.
Тезис о футуризме как государственном искусстве осуществляется им в одностороннем порядке. Он не только объявляет интересы государства (то есть высшего, недосягаемого руководства) своими личными интересами, но и наоборот — свои личные нужды трактует как общественное явление. При этом он подробно документирует свою жизнь, как если бы это была жизнь страны или города. Это относится и к самой главной, единственной, по сути, его привязанности.
Глава восьмая ЛЮБОВЬ
1
Отдельное издание поэмы «Про это» было иллюстрировано фотографиями. Это были фотомонтажные листы Родченко с различными изображениями Лили Юрьевны Брик, вплоть до ее фотографии в пижаме (не более, но по тем временам не мало).
О причинах такой «раздеваловки» много спорили. Я думаю, что в числе прочих мотивов здесь была необходимость фиксации. Он стремился закрепить отношения с этой женщиной чем-то более вещественным и материальным, нежели собственные стихи. Есть такое чувство, что, несмотря на все декларации, где-то далеко в глубине души он воспринимал стихи и вообще слова как нечто непрочное и эфемерное. Фотография же — материальна и несомненна, она настоящий документ и памятник…
И вот он выставляет свою любовь напоказ, давая читателю — не только множеством строк, где громко названо «имя Лилино», но и прямыми ее фотографиями, — давая читателю желанное право: публично и вслух обсуждать эту женщину, а заодно и его самого, со всей его явной и скрытой жизнью.
Что же это были за отношения? И ведь не только с ней, но и с нашим мужем, другом, подчиненным и в то же время начальником, таинственным бакалавром марксистских наук, которого Бог (или Дьявол?) послал Маяковскому в неотлучное приложение к его возлюбленной…
Это ему, ему же, чтоб не догадался, кто ты, выдумалось дать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты.Постепенно привыкаешь к тому, что неправда — всеобщая повинность его биографов, как бы клятва верности его двусмысленной тени. Естественно, что в вопросе об отношениях с Бриками — отношениях действительно запутанных, двусмысленных, не всегда ясных и самим действующим лицам, — все вспоминатели проявляют полное единство и дружно заполняют любые объемы туманом ничего не означающих слов.
«Он выбрал себе семью, в которую, как кукушка, залетел сам, однако же не вытесняя и не обездоливая ее обитателей. Наоборот, это чужое, казалось бы, гнездо он охранял и устраивал, как свое собственное устраивал бы, будь он семейственником. Гнездом этим была семья Бриков, с которыми он сдружился и прожил всю свою творческую биографию».
Так вспоминает Николай Асеев, лучший друг и первый приближенный лефовских лет. Деликатное скольжение по паркету, вкрадчивая ходьба в носках и на цыпочках… Но в этом вкрадчивом, бесшумном скольжении Асеев то и дело помимо желания наталкивается на реальные обстоятельства и сразу же ставит в тупик читателя.
Что значит «не вытесняя и не обездоливая»? Значит, мог возникнуть и другой вариант, более подходящий к слову «кукушка»? И как слова «прожил творческую биографию» могут относиться к семье и к дому, к чужому или не чужому «гнезду»? Что же там было на самом деле, с кем он жил «творческую биографию», с Лилей Юрьевной или с Осипом Максимовичем? Или же семейные отношения ограничивались для него равным общением с ними обоими? Не похоже, чтоб это было так.
Если вдруг прокрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганье одеялово, знаю — запахнет шерстью паленной, и серой издымится мясо дьявола.Вот какое семейное гнездышко охранял и устраивал, как свое, Маяковский. И в предсмертной записке (к которой мы, конечно же, еще обратимся) он написал: «Моя семья — Лиля Брик», а не Лиля Юрьевна и Осип Максимович. Действительно ли Маяковский нежно и искренне дружил с Осипом Бриком или это были иные отношения, более сложные и запутанные, быть может, более деловые?
По форме этот наш вопрос — риторичен и уже содержит в себе ответ. Однако на деле он решается не так-то просто.
«Дорогой, дорогой Лилик!», «Милый, милый Осик!..», «Целуй его (Осю) очень…», «Мы» с Оськой по возможности ходим вместе и только и делаем, что разговариваем о тебе. (Тема — единственный человек на свете — Киса)…
В этих письмах, с их кокетливо-детскими интонациями, с дурашливым искажением слов, нежность Маяковского распределяется чуть ли не поровну. Осип Максимович ходит вусмерть зацелованный, причем Маяковский даже указывает куда: «Целую Оську в усы». Или еще лучше: «Целую Оську в» — а дальше многоточие. И лишь спустя какое-то время догадываешься, что рисунок справа продолжает фразу: что-то вроде губ с чем-то вроде усов…
Только ясные количественные указания дают возможность правильно распределить его любовь: «Целую 1000 раз тебя и 800 Оську». Все же Оську на 200 меньше…
Но все эти поцелуи не проясняют картины, а, наоборот, еще больше затуманивают. Потому что суровую дружбу соперников мы еще как-то можем себе представить, но нежная любовь любовника к мужу — это уже нечто непредставимое, это выше любых возможностей.
В небольшой книжечке для детей Лиля Юрьевна рассказывает, как в 20-м году они, с Бриком и Маяковским, поселились в огромной пустой квартире и, чтобы не отапливать много комнат, жили втроем в одной, самой маленькой. Я думаю, дети не только старшего, но и по меньшей мере среднего возраста не могли, читая, не задаваться вопросом, как же выглядело это тройное житье, ну хотя бы кто где спал, — тем более что Лиля Юрьевна в своем рассказе акцентирует внимание на ночном времени: как Маяковский встает с постели, открывает дверь, впускает щенка…
Повторим еще раз, что в подобных вопросах нет бестактности и подглядывания в замочную скважину. Маяковский сделал все возможное, чтобы самые интимные детали его жизни могли обсуждаться как общественные явления, как исторические события, как факты жизни страны. Скромные разговоры о лирическом герое неуместны, когда речь идет о Маяковском. Нет, это не герой поэмы, это сам автор, Владимир Владимирович, а это — его возлюбленная, Лиля Юрьевна, а рядом — муж ее, Осип Максимович. Он всегда рядом, даже если отсутствует…
2
Злым демоном Маяковского называл его Луначарский. А еще либеральствующий наркомпрос видел в нем средневекового разбойничьего патера, заранее отпускающего своей лефовской шайке любые, самые страшные грехи… На всех диспутах, где умеренный Луначарский пытался защитить остатки искусства от банды воинствующих графоманов, он ощущал присутствие Осипа Брика, хотя тот был сугубо кабинетным человеком и предпочитал отсиживаться дома. Громы и молнии метал Маяковский, однако во всем, что касалось позиции, направленности, отношения к текущему моменту, Брик, как правило, бывал определяющим. Незаурядность его как идеолога и наставника вполне очевидна. Он был начитан, знал языки, очень точно чувствовал конъюнктуру и очень ловко умел ее использовать.
Главный тезис был — дискредитация искусства и замена его производством. Книгу должна заменить газета, на смену картине идет раскрашенный ситчик. Искусство — опиум для народа, столь же вредная выдумка, как и религия: «Надо ежедневно плевать на алтарь искусства». (Очевидно, что в той самой статье Левидова изложены основные идеи Брика.) При этом он сыпал марксистскими цитатами—эту литературу он знал в совершенстве, по крайней мере такое производил впечатление.
Его фамилия — Brick, — безусловно, значащая. Он был тем краеугольным кирпичом, на котором держалось здание Лефа и которым, при необходимости, мозжили головы всем врагам и отступникам. Его влияние на лефовцев было огромным, он умел увлечь каждого в отдельности, сам при этом оставаясь холодным и трезвым. Его раздвоенные водевильные усики невозмутимо возвышались над всеми страстями.
«Целое поколение изломанных людей!» — в ужасе восклицает художница Лавинская, тоже вроде бы жертва идеологии Брика и лефовского образа жизни. Страшную картину всеобщего растления рисует она в рассказе об этом обществе. Все лефовцы, по ее представлениям, делились на жертв и растлителей. Циничный врун и соблазнитель Брик, жестокий, фанатичный иезуит Третьяков, пошлый смердяковствующий Крученых…Ничего святого, никаких принципов, только конъюнктура и текущая выгода. Многие играли двойную игру. После полного распада Лефа в 30-м году, когда все остались у разбитых корыт, хитрый Асеев сказал Лавинской: «Вы, художники, были дураками. Надо было ломать чужое искусство, а не свое…»
Маяковского Лавинская причисляет к жертвам. Так ли это было На самом деле? По-видимому, и так и не так. Маяковский отчасти слушался Брика, отчасти делал вид, что слушается, и ломал он как раз не свое, а чужое искусство. Его талант, его слава, его авторитет, его, в конце концов, профессионализм, единственный в этой славной компании, — были очевидны всем и внутри Лефа, и, главное, за его пределами, вне стен квартиры в Водопьяном, в Гендриковом. Он слишком хорошо знал себе цену, чтобы дословно выполнять инструкции Брика и даже — чтоб дословно их повторять. Достаточно сравнить его собственные выступления со статьями и высказываниями Брика. Маяковский, при всем громыхании, не то чтобы мягче, но как-то скругленней, гибче. Брик — резок, однозначен, определенен, ему-то терять нечего.
«Пушкин не создатель школы, а только ее глава. Не будь Пушкина, „Евгений Онегин“ все равно был бы написан. Америка была бы открыта и без Колумба».
Кто это? Казалось бы, кто угодно, в том числе Маяковский. Звучит вполне по-нашему, по-лефовски, и нечто подобное повторялось едва ли не на каждой странице журнала. На самом деле именно Маяковский именно так сказать бы не мог. Слишком просто в эту стройную шизофреническую формулу подставляется и его дорогое имя, и заглавие любой из его поэм. Он был достаточно трезв и бдителен, чтобы, активно взаимодействуя с Бриком, гнуть свою персональную линию. Злой демон не столько соблазнял Маяковского, сколько вдохновлял его и питал.
Но Осип Брик был не только теоретиком, он был еще и писателем, сочинителем, и как раз его художественное творчество представляет для нас особый интерес. Разумеется, не в качестве предмета искусства, а в качестве особого документа, способного, например, подтвердить или опровергнуть Лавинскую, а также пролить некоторый свет на его отношения с Маяковским и Лилей Юрьевной. Нет, он пишет не документальную прозу, но, как человек абсолютно и бесповоротно бездарный, переносит впрямую в диалоги своих бумажных героев те «научные» схемы, согласно которым, по его представлениям, должна двигаться живая жизнь и которым он сам в этой жизни следует.
Герой его повести «Не попутчица», коммунист и начальник чего-то тов. Сандраров, влюбляется в прекрасную нэпманшу Велярскую. А его секретарша и жена тов. Бауэр… Впрочем: «Я не жена, тов. Тарк, — говорит она его сопернику по партийной лестнице. — У коммунистов нет жен. Есть сожительницы». Так вот, сожительница тов. Сандрарова тов. Бауэр возмущена предательством своего начальника, то есть мужа, то есть сожителя, и призывает его к порядку. А он, в свою очередь, возмущен ее отсталостью в вопросах морали и вынужден объяснять ей элементарные правила коммунистического образа жизни:
«Мы ничем друг с другом не связаны. Мы — коммунисты, не мещане, и никакие брачные драмы у нас, надеюсь, невозможны?»
«Никакой супружеской верности я от тебя не требую. Но делить тов. Сандрарова с какой-то там буржуазной шлюхой я не намерена.»
В дальнейшем муж Велярской, коварный нэпман, толкает ее на знакомство с Сандраровым, чтобы использовать этого партийного деятеля в своих корыстных нэпманских целях. Велярская полюбляет Сандрарова (тот является к ней под чужой фамилией — жуть как интересно, просто дух захватывает) и хочет от него любви и любви, а он все никак, а вместо того учит ее Коммунизму:
«Если бы я был буржуй, мне было бы наплевать, но я, к сожалению, коммунист»
«Какой вывод?»
«Вывод такой: — либо я должен сделаться буржуем, либо вы должны стать коммунисткой».
Велярская нехотя расстается с Сандраровым, идет к мужу (у буржуев так и осталось — муж) и просит достать ей «Азбуку коммунизма»…
Что для нас ценно в этой бредятине? Система взглядов и отношений, а также система понятий и слов. Здесь неважно, что Брик осуждает, а что поощряет, а важно, на что он обращает внимание, что фиксирует и как называет. Это ведь не какое-то воображенное пространство, не плод, допустим, творческой фантазии, а школярски буквальный перенос на бумагу его представлений о реальном мире. Это сразу стало ясно большинству читателей, тех, кто знал Брика и кто не знал. Высокий правительствующий критик писал: «Между автором и той пошловатой средой, которую он изображает, не чувствуется ни вершка расстояния».
Пошловатой… Слабовато сказано!
3
Леф (МАФ, Реф — неважно) был одновременно и салоном, и вертепом, и штурмовым отрядом, и коммерческим предприятием.
В этом свете и следует рассматривать наш треугольник. И трудно здесь что-либо утверждать с определенностью, но многое становится допустимым. Например, некоторое соглашение, долговременный деловой союз, смесь подлинной страсти, трезвого расчета и взаимовыгодных обязательств, чтоб «не вытесняя и не обездоливая», то есть чтобы каждый получал свою долю.
Отношение к Брикам как к эксплуататорам, державшим в доме раба Маяковского, ограничивавшим все его свободные движения и выжимавшим из него все живые соки, — такое отношение абсолютно несправедливо. С точки зрения внешнего наблюдателя оно, быть может, и выглядит так, но внутри — совершенно иначе. Там, внутри их жизни, в Водопьяном, в Гендриковом, он нуждался в дружбе Осипа Максимовича едва ли не так же, как в любви Лили Юрьевны, и скорее не мог существовать без них, чем они без него. Так что соотношение числа поцелуев выбрано им не случайно…
Взгляните на рукопись любого стиха Маяковского: там нет ни одной запятой (мы же знаем, он их ненавидел). Все знаки препинания в его произведениях, начиная с 16-го года, расставлены Бриком. Черновик всякой новой вещи он прежде всего отдавал Брику: «На, Ося, расставь запятатки». Казалось бы, невелика работа, но она лишь одно из проявлений того участия, которое принимал Брик в делах Маяковского.[14] Его глаз и его рука присутствуют почти на каждом этапе — от первого обсуждения идеи и замысла до последней редактуры и сдачи в печать. Во время работы над поэмой «Ленин» Маяковский едва ли несколько раз раскрыл сочинения Ленина, — все необходимые материалы подобрал для него Брик. Они хорошо дополняли друг друга, и если Брик не умел писать, то Маяковский не умел читать. На протяжении всех пятнадцати лет их дружбы Маяковский пользовался эрудицией Брика, его умением работать с книгой, его политическим и редакторским нюхом, его, наконец, спокойной уверенностью в верном выборе направлений и неизменным чувством своей правоты. И уж если говорить об эксплуатации, то скорее Маяковский его эксплуатировал, нежели он Маяковского. Отдадим должное Осипу Максимовичу: он ведь никогда не претендовал на соавторство, даже там, где имел на это полное право (например, в сценарии «Москва горит»), и слава безутешной вдовой плелась не за ним…
Можно, конечно, сказать (и говорят), что как раз в этом — в участии и влиянии Брика — вся беда и трагедия Маяковского. Что, не будь Брика, он бы не соблазнился, не стал писать агиток и лозунгов, а остался бы чистым лириком. В этих спекуляциях столько же смысла (да и вкладывают в них подчас тот же самый смысл), как в утверждении, что в России не было б Революции, если бы не влияние инородцев. Не будь Троцкого, Зиновьева и, допустим, Дзержинского — мирно бы трудился русский народ, совершенствуя систему либеральной демократии под отеческим взором царя-батюшки и святой православной церкви. Не будь Осипа Максимовича Брика — прошел бы Маяковский мимо революции, не бросился бы в железные ее объятья, а сидел бы где-нибудь в стороне, пил бы водку с Есениным, вино — с Мандельштамом и писал об одиночестве и любви…
Здесь из многих очевидных возражений существенней всех одно: весь послеоктябрьский Брик-Маяковский уже содержится в раннем Бурлюк-Маяковском. Но об этом мы уже говорили, не стоит снова…
Нет, не только любовь к Лиле Юрьевне вынуждала Маяковского дружить с Осипом Бриком. Он сам выбрал себе друга-наставника по своим наклонностям и разумению. Злой демон? Что ж, это возможно. Но нельзя его представить вообще без наставника, как немыслимо увидеть в этом качестве доброго ангела…
4
Как бы то ни было, что бы ни значило, Брики были единственной семьей Маяковского, со всем тем, что бывает в семейной жизни: ласками и ссорами, дружбой и враждой, любовью и ненавистью.
Что же касается интимной стороны вопроса, то кто, кроме одного из троих, мог бы внести необходимую ясность? Все прочие окружавшие Маяковского люди, даже самые-самые близкие, терялись в догадках. Например, Вероника Полонская пишет:
«Я никак не могла понять семейной ситуации Бриков и Маяковского. Они жили вместе такой дружной семьей, и мне было неясно, кто же из них является мужем Лили Юрьевны. Вначале, бывая у Бриков, я из-за этого чувствовала себя очень неловко».
Читатель воспоминаний разделит эти чувства Полонской и так и останется в недоумении и неловкости (кто же является?..), если только ему не повезет, как мне, и в его руки не попадет экземпляр рукописи с краткими пометками на полях, сделанными рукой самой Лили Юрьевны:
«Физически О. М. не был моим мужем с 1916 г., а в. В. — с 1925 г.».
Поверим ей, это похоже на правду, да и больше нам никто ничего не откроет.
Существует устный рассказ Лили Юрьевны (быть может, впрочем, и записанный ею) как раз об этом 16-м годе: о какой-то веселой компании, невольной измене, слезах раскаяния — и о ровном, спокойном, ласковом голосе Брика. Этот голос, лишенный эмоциональных крайностей, мог найти место любой неуместности и любую катастрофу умел представить как нормальный этап большого пути. С этого этапа и начался их путь, основанный на взаимном уважении, а также на полной сексуальной свободе (в которой, впрочем, по всей видимости, нуждалась только одна сторона). Вспомним: «Что делать?» — их любимая книга…
Так что, надо думать, ревность Маяковского была лишь вначале направлена на Брика, что и отразилось во «Флейте-позвоночнике». Да и там, по-видимому, «настоящий муж» — уже не совсем настоящий. Это скорее объект литературной игры, обобщенная точка приложения ревности. Маяковский не мог бы так долго, нежно и ровно дружить с соперником.
Осип Брик был при Лиле Юрьевне чем-то вроде старшей подруги, товарки, всегда умиленной и снисходительной. Видимо, такой уж он был человек, что его устраивала эта роль. Разве стали бы всякие нужные люди, в том числе и высокие грозные гости, регулярно съезжаться на чай к одинокому Брику?
Между тем, гости съезжались. Лиля Брик — переменчивая, умная, жгучая, естественная, как всякий избалованный ребенок, во всех своих капризах и порывах — была бесспорным центром внимания. Это место — центра — ревниво оберегалось и ее близкими, и ею самой. На свет ее глаз, «горячих до гари», мужчины тянулись, как мотыльки, и кто знает, какую роль в ее выборе играли советы доброго друга?
По-видимому, после нескольких лет любви Маяковскому отводилась сходная роль, и он с этой ролью также смирился, но, в отличие от Брика, без всякой готовности, далеко не сразу и не мирным путем.
В конце декабря 22-го года, вскоре после возвращения из Берлина, возникает странный разрыв-перерыв в его отношениях с Бриками. Два долгих месяца он сидит на Лубянке (куда деться от двусмысленности этого адреса и всякой фразы, его включающей?) под строгим домашним арестом. Выходит только за папиросами, не звонит по телефону, ни с кем не видится, сидит, распухший от детских слез, пишет Лиле горестные открытки и письма — и пишет большую поэму…
Что случилось? А вот, сейчас узнаем. Друг Асеев нам, верно, расскажет.
«На пороге 23-го года между Маяковским и ближайшими окружавшими его людьми (так в носках и на цыпочках именуются Брики. — Ю. К.) была серьезная принципиальная размолвка. Дело в том, что революционные годы, круто оборвав все бытовые установки… вновь и наголо вопросы личного устройства… передовая общественность… волны Нэпа…»
И так далее, и так далее, вы не поверите — семь страниц с цитатами из разных классиков, вплоть до заметок Крупской о Ленине. И, наконец, на восьмой странице:
«По взаимному уговору Маяковский расстался с самым близким ему человеком (как же все-таки, с человеком или с людьми?) на определенный, обоими обусловленный срок — два месяца, для того, чтобы пересмотреть свой внутренний багаж… так как „так жить“ становилось немыслимо» (кавычки Асеева).
Итак, «серьезная принципиальная размолвка» произошла из-за выеденного яйца, но — «по взаимному уговору». А теперь пусть выскажется Лиля Юрьевна, предоставим ей слово.
«Личные мотивы, без деталей, коротко, были такие: жилось хорошо, привыкли друг к другу, к тому, что обуты, одеты и живем в тепле, едим вкусно и вовремя, пьем много чая с вареньем. Установился „старенький, старенький бытик“. Вдруг мы испугались этого и решили насильственно разбить „позорное благоразумие“. Маяковский приговорил себя к 2-м месяцам одиночного заключения… В эти два месяца он решил проверить себя».
Отметим, как тонко выбраны детали комфорта, такие трогательно безобидные, особенно это варенье… Здесь все выглядит немного иначе, не так ли?
Маяковский сам себя приговорил, сам себя оставил без сладкого. И решил проверить. Но только в чем же? Сможет ли не пить чая с вареньем, есть не вовремя и невкусно? Или, может, и они в эти два месяца не пили, не ели и жили в холоде? Разумеется, ничего подобного не было. Принимали гостей, веселились и пили не только чай.
Выходит, быта испугались все трое, а сослали на Лубянку одного Маяковского, продолжая жить-поживать по-прежнему, а быть может, даже еще веселее — без громоздкого, назойливого и мрачного Володи.
А как же «позорное благоразумие»?
Все это ерунда и неправда.
Ясно, что была обида, ссора, было выяснение отношений, а потом Маяковского убедили, что это он один во всем виноват и должен один понести наказание, а заодно и посидеть не торопясь, подумать, как будет вести себя дальше. В том, что не было «взаимного уговора», что стороны были неравноправны, что имелась в виду какая-то вина Маяковского, его преступление перед Лилей Юрьевной, неважно, подлинное или мнимое, — в этом нет никаких сомнений. Это ясно высказано и в поэме, и в письме его, написанном в те самые дни:
«Я не грожу, не вымогаю прощения…» И там же: «Я вижу, ты решила твердо…» Она решила — как же иначе! Хотя, уж верно, не без совета Брика. И дальше — кое-что о причинах: «Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя боль». Вот!
Известен еще один рассказ Лили Юрьевны о том, как Маяковский, вернувшись из Берлина, выступая перед широкой аудиторией, пересказывал берлинские впечатления Брика, выдавая их за свои. Своих же впечатлений никаких не имел, поскольку все дни и ночи в Берлине просидел за картами. Его недостойное поведение глубоко возмутило Лилю Юрьевну и будто бы послужило непосредственным поводом для ссоры, или, если угодно, размолвки.
Это уже больше похоже на правду, это не чай с вареньем. Но даже если повод был именно этот, причина все же в другом. Причина была — его приставание, его требование верности и постоянства, то есть тех самых мещанских добродетелей, от которых, по всем исходным установкам, он должен был бежать как черт от ладана. Легко обличать мещанство массы, каково-то отказываться самому!
Он никак не хотел становиться бриком, сколько его ни ставили. Он требовал для себя особой роли и особой доли.
И давайте сами не будем ничего сочинять, давайте обратимся к последнему свидетельству, самому правдивому из всего, что мы здесь прочитали. Не беда, что это произведение — художественное, оно художественное, но не очень, не настолько, чтоб нельзя было ничего понять. Здесь вымысел сводится к перемене полов и замене возможных обстоятельств невозможными, а так, в основном, — все очень узнаваемо… Я, конечно, имею в виду бессмертную повесть Брика, написанную, как и поэма Маяковского, как раз в то самое время, по свежим следам.
«Ты разговариваешь со мной, как с девчонкой, которая до смерти надоела. Если я тебе не нужна — скажи. Сделай одолжение. Уйду и не заплачу. А вола вертеть нечего».
«Тов. Бауэр, не думаю, чтобы такие скандалы соответствовали правилам коммунистической морали. Я предлагаю временно прервать нашу связь. Надеюсь, вы не возражаете? — Идите».
Вот и все. Что тут можно добавить? Разве только то, что «вола вертеть» — излюбленное выражение Маяковского…
И, однако же, не следует пренебрегать оговоркой Асеева. Если видеть на том, другом берегу не одну Лилю Юрьевну, но обоих Бриков (что справедливо хотя бы географически), то исправительно-трудовая отсидка Маяковского приобретает более широкий смысл. Начинался Леф — и журнал, и группа, — предприятие хлопотное и сложное. Надо было слегка придавить Маяковского, добиться большего послушания, чтоб оградить серьезное важное дело от случайностей, связанных с его импульсивностью и чрезмерно разросшимся самомнением. Он слишком часто забывал о накачках Брика и, как тот выражался, «нес отсебятину».
28 декабря — 28 февраля. Срок был соблюден с нечеловеческой точностью, вплоть до часов и минут… Нет, все же было что-то жуткое в тройном союзе… Пахло, пахло и серой и шерстью паленной…
5
И странную поэму написал Маяковский за эти два месяца ссылки в уединение. Казалось бы, она действительно «про это», а вчитаешься — все-таки больше про другое. Недаром ее тема впрямую не названа. «Про что что, про это?» — спрашивает автор и слово любовь, подсказанное рифмой, зачем-то заменяет многоточием. Не затем ли, чтоб допустить возможность и другого, нерифмованного ответа.
Если отбросить всю научную фантастику, все картины аллегорических превращений и многословно реализующие каждый речевой оборот, то останется несколько ярких и крепких кусков, где выражены те же основные мотивы, что и в дооктябрьских стихах и поэмах: обида, ревность и ненависть.
Ревность и ненависть. Но к кому? Нет более уклончивого произведения, чем эта, самая конкретная поэма, изобилующая деталями повседневности и иллюстрированная фотографиями. Традиционная маяковская, доведенная здесь до максимальной количественной концентрации, изливается куда-то в абстракцию, в ничто:
Но дыханием моим, сердцебиеньем каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз зубом, искрежещенным в звериный лязг ежью кожи, гнева — брови сборами триллионом пор, дословно — всеми порами, в осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон не приемлю, ненавижу это всеПо-разному выражал свою ненависть Маяковский, бывало по душе, а бывало по службе, не всегда эти чувства сливались в одно. Но здесь не может быть никаких сомнений, здесь такая напряженность, здесь искренне, по душе, как никогда — не приемлет и ненавидит. Только что же именно?
Казалось бы, самое время назвать и вложить в эти последние несколько слов последний и главный заряд, смертельную дозу… Но тут он как бы опоминается, останавливается, приходит в себя и заканчивает вяло и разрыхленно, отделываясь незначащими, общими словами:
что в нас ушедшим рабьим вбито, все, что мелочинным роем оседало и осело бытом даже в нашем краснофлагом строе.Обыденщина, мелочинный рой, сердце раздиравшие мелочи… В поэме, однако, этот повтор столь настойчив, что не может не настораживать. Неужели все-таки чай с вареньем?
Чай не чай, но ясно, что ответ, адресат должен совпадать с повседневным бытом и может быть найден только там, где этот повседневный быт располагался, — не на невском мосту, не в придуманном нэповском доме, а в квартире Бриков, на четвертом этаже, несколькими страницами выше.
Там есть главка, где имеется все необходимое для полноценной, добротной ненависти. Называется эта главка — «Друзья».
Рита Райт рассказывает, что встретила Маяковского в те самые дни на той самой лестнице. Думала, он за ходил к Брикам, оказалось—нет, не заходил, лишь стоял и слушал.
А вороны гости?! Дверье крыло раз сто по бокам коридора похлопано. Горлань горланья, оранья орло ко мне доплеталось пьяное допьяна.Пьяное допьяна. Пить чай перестали и, наказав себя перешли на шампанское. Новый, суровый и какой там еще, ну, в общем, коммунистический быт…
Даже здесь, едва назвав предмет своей ненависти он тут же отступает, кидается в сторону и торопливо размывает изображение, превращая его все в тот же туманный эвфемизм:
Я день, я год обыденщине предал…
Но уже понятно, что обыденщина, квартирошный дымок и ненавистный быт — это не просто вкусная еда и теплая ванна, против которых он, честно говоря, ничего не имеет. Повседневное окружение его любимой. вороны-гости, друзья-соперники — вот главное препятствие на пути его любви. Это и названо всеми нехорошими словами, принятыми в то время к употреблению. И самое страшное, корень трагедии — в том что ведь и сама любимая — неотъемлемая часть всего этого, и если он ни в чем ее не обвиняет, то только оттого, что любит:
Скажу: — Смотри, даже здесь, дорогая, стихами громя обыденщины жуть, имя любимое оберегая, тебя в проклятиях моих обхожу.Трагична, безвыходна любовь Маяковского, неустранимо препятствие на ее пути, по крайней мере в этой, сегодняшней жизни. Но поэме Маяковского в 23-м году до зарезу необходим оптимистический выход, без него она состояться не может. И Маяковский такой выход находит, убивая себя и воскрешая в будущем, в далеком и замечательном тридцатом веке. Там он, может быть, снова встретит свою любимую: «Нынче недолюбленное наверстаем…» А препятствие? А не будет никакого препятствия. Его, препятствие, не воскресят:
Чтоб не было любви — служанки замужеств, похоти, хлебов…Все, по сути, сказано достаточно ясно. Убийство соперника (или соперников), по всей видимости, они сменялись достаточно часто) заменяется невоскрешением. Результат, в конце концов, тот же самый, но зато — никакой уголовной ответственности, ни в житейском, ни в поэтическом смысле.
«С тех пор, как все мужчины умерли…» Эта строчка оплеванного им Северянина остается для него такой же заманчивой и в тридцать лет с той же силой стучит в его сердце, как стучала в двадцать…
6
Он нравился женщинам гораздо меньше, чем его менее приметные друзья, и в сто раз меньше, чем ему бы хотелось.
Надо думать, все у него в жизни было: и поклонницы, и почти постоянные романы, но как далеко это было от того, к чему он стремился! Он хотел всеобщего обожания, убийства наповал с первого взгляда, с одного каламбура. Он ведь был пленником больших чисел. Миллион любовей, миллион миллионов любят. Между тем его пугались и с ним скучали. Вне стихов и карт его как бы и вовсе не было. И в зрелые годы, как в годы юности, земля-женщина оставалась спокойной и не ерзала мясами, хотя отдаться.
По-видимому, все же он явился причиной одной-двух серьезных любовных трагедий, но и это его мало устроило.
Он вообще многим причинял боль, но хотел не этого: он хотел обладать. Однако ни одна из его главных любвей: ни Лиля Брик, ни Татьяна Яковлева, ни Вероника Витольдовна Полонская — никогда не принадлежали ему безраздельно. В этом прежде всего заключался трагизм его жизни.
После «разлада» 23-го года было еще купе на двоих в международном ночном вагоне, ленинградская гостиница, московские чтения поэмы и, наконец, совместная поездка в Ялту. Но что-то сдвинулось необратимо, и уже в середине 24-го он объявляет, что «любви пришел каюк». Отныне, или, скажем, с начала 25-го, Лиле Юрьевне лучше знать, тройственный союз Ося — Лиля — Володя приобретает, наконец, успокаивающую симметрию. Треугольник становится равнобедренным.
Впрочем, какую ни взять фигуру, Лиля Юрьевна окажется на главной вершине. До самого последнего дня его жизни она была для Маяковского женщиной номер один, предметом безоговорочного восхищения и неустанного поклонения. Об этом знали решительно все, в том числе и те немногие женщины, которым судьба его была не безразлична. И это тоже не способствовало их решимости… Но и она зорко берегла свое первенство и, легко относясь к его увлечениям, не терпела и намека на нечто всерьез глубокое, на чье-либо владение его душой и самое главное — его стихами. Вообще в тайных своих отношениях он мог быть свободен и с кем угодно, но на людях, публично, печатно — не смел ей никогда изменять. Публичное чтение им стихов, посвященных Татьяне Яковлевой (неважно кому, важно—не ей!), навсегда осталось в ее глазах самой страшной его изменой.
Говорят, его гибель была воспринята Лилей Юрьевной с искренним удивлением и огорчением, но без трагизма. После похорон у Бриков пили чай, шутили, говорили о разных разностях…
Вскоре она вышла замуж за Примакова, большого командира и немного литератора, и признавалась, что абсолютно счастлива с ним. А после того, как его расстреляли, — за Василия Абгаровича Катаняна, писавшего о Маяковском солидные толстые книги.
И повсюду, до самой своей смерти в 45-м году. Осип Брик, тоже женившийся, был вблизи нее, опекал, поддерживал, объяснял ей задним числом все ее поступки.[15] Удивительная эта связь между ними продолжалась до самого его конца, и конец этот был воспринят Лилей Юрьевной как первое подлинное несчастье. Она говорила своей знакомой: «Когда умер Володя, когда умер Примаков — это умерли они, а со смертью Оси умерла я».
7
Однако она прожила еще целую жизнь, больше тридцати лет, и умерла восьмидесятишестилетней… Нет, не старухой. Она умерла восьмидесятишестилетней женщиной, покончив с собой из-за несчастной любви!
Я решаюсь уделить этой замечательной женщине еще пару кратких страничек — поверьте, она этого стоит.
Лиля Юрьевна была умным и тонким человеком и, не в пример Осипу Брику, человеком, одаренным в слове. Ее немногочисленные воспоминания написаны хорошим русским языком, просто, точно и даже порой остроумно. Но главное в ней, конечно, не это, главное — дар быть женщиной. Не только в бурные лефовские годы, но и в старости, и почти до самой смерти она была окружена мужчинами, и не просто собеседниками, но — обожателями. Только роскошь и богатство могли поспорить с постоянством этого окружения. Ее дом был собранием различных коллекций и редких изделий: картины, фарфоровые масленки, расписные подносы, браслеты и кольца…
На этой эстетской, почти бескорыстной любви к драгоценностям, на умении увидеть прекрасную вещь и безошибочно оценить ее стоимость и сошлись они в последние годы с предметом ее последней страсти. Это был известный кинорежиссер, человек оригинальный и одаренный. Он искренне восхищался удивительной женщиной, он попросту был от нее в восторге, но, конечно, полной взаимностью ей отвечать не мог, тем более что к этому времени женщины — не только старые, но и молодые— вообще перестали его интересовать… За это его, как у нас водится, арестовали и судили, и четыре года его жизни в лагере, для него вполне унизительных и нормально тяжелых, были сказочными в жизни лагерного начальства. Их бы можно было назвать «французским периодом». Кофе, коньяк, шоколад — все шло прямиком из Парижа, лишь на краткий миг задерживаясь в Москве.
Наконец, после долгих ее хлопот, его выпустили на год раньше срока. Лиля Юрьевна хорошо подготовилась к встрече. Прославленной фирме со звучным названием были заказаны семь уникальных платьев — очевидно, на каждый день недели. Он приехал — но только на несколько дней, повидаться и выразить благодарность, и уехал обратно в родной город, прежде чем она успела их все надеть…
Что-то в ней надломилось после этой истории — сначала в душе, а потом и в теле. У себя дома, на ровном месте она упала и сломала шейку бедра. Вообще говоря, в таком возрасте эта травма неизлечима и по большей части смертельна. Однако ее друзья убеждены и сейчас, что она — поправилась бы и выжила, если… если бы не любовь. Каждый день она ждала, что он приедет. Он писал красивые сочувственные письма, и когда ей стало ясно, что надеяться не на что, — она собрала таблетки снотворного, прибавила к тем, что давно хранила на всякий случай, и проглотила их все, сколько нашла.
8
Я думаю, теперь, после этой краткой новеллы, нам уже не нужно специальных эпитетов, чтоб почувствовать незаурядность этой женщины и понять, как мог наш герой такое долгое время находиться под неусыпным ее обаянием, в ее почти безраздельной власти.
В 16-м году ей было двадцать пять, на шестьдесят лет меньше, чем в семьдесят шестом. Представим себе, как, двигаясь обратно во времени, угрожающе растет ее женская сила.
Посвященные ей «Флейта-позвоночник» и особенно «Лиличка! Вместо письма» — это, пожалуй, самое подлинное из всего написанного Маяковским. Ни преданность своим, ни ненависть к чужим, ни даже обида на всех и вся никогда не были им столь талантливо выражены. Только здесь, в изъявлении этой любви, он порой проницает оболочку слов и прикасается к самому настоящему. Да, и это всего лишь фрагменты, и это всего лишь несколько строк, но и это тоже немало, подите попробуйте…
Дым табачный воздух выел. Комната — глава в крученыховском аде. Вспомни — за этим окном впервые руки твои, исступленный, гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе. День еще — выгонишь, может быть, изругав. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав.Поразительна эта точная человеческая интонация — среди фигур и рассудочных построений. Конечно, крученыховский ад и сердце в железе проглатываются не без некоторой заминки, это неизбежное у Маяковского протезирование там, где не хватает собственного органа, но зато две последних строки безукоризненны, и он сам это очень и очень почувствовал и даже не решился дробить их на части.
И дальше:
Выбегу, тело в улицу брошу я. Дикий, обезумлюсь, отчаянием иссечась. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас.Здесь тоже все на удивление по-человечески, и даже «иссечась» не режет слуха, потому что отчаянье — настоящее.
На этом, собственно, стих и кончается, дальше — привычные декорации, какие-то истории и примеры, какой-то слон, какой-то бык, вперемежку с романсовыми красивостями («суетных дней взметенный карнавал…»), и только заключительная строфа возвращает нас к простоте и правде чувства:
Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша? Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг.Лиля Юрьевна любила фотографироваться. Есть одна примечательная фотография последних лет и даже, быть может, месяцев. Цветная, но кажется черно-белой и только подкрашенной красным. Потому что никаких иных цветов нет на ней, только красный и черный. Она сидит в красноватом кресле, одетая во что-то бордово-черное. На заднем плане — шкаф-секретер темного красновато-коричневого цвета, и в нем, среди черных и серых корешков, выделяются несколько красных томов Маяковского. Прислоняясь к ним, отчасти их заслоняя, стоит черно-белый портрет последней ее любви. Это очень живописный восточный человек с седоватой большой бородой и живыми глазами. Глаза Лили Юрьевны затенены, погружены в глубокие черные глазницы на красноватом, с черными впадинами, лице. Она причесана гладко, с открытым лбом, и что самое страшное — очень похожа на ту далекую, тридцатилетнюю, с композиций Родченко. Только нет плоти в ее лице, и череп туго обтянут кожей, и во всем ее облике та значительность, какую несут в себе мертвецы. Наш взгляд, погруженный в эту картинку, введенный в зловещую черно-красную комнату, постоянно занят сопоставлением. Два лица: живое—там, на портрете, и мертвое—в кресле, на переднем плане. Старуха, не сумевшая, не захотевшая состариться, перешедшая при жизни в посмертное существование… Ямами двух могил вырылись в лице твоем глаза.
И когда мы вспоминаем, наконец, Маяковского, нам приходит в голову любопытная мысль: о глубоком родстве его с этой женщиной, выявленном полувековой дистанцией. Все различия, такие, казалось бы, резкие, несущественны перед лицом бездны, зато сходство обнаруживается решающее. И не столько в обстоятельствах смерти, где оно очевидно и как раз поэтому может быть оспорено: неудачная любовь, неотвязная болезнь, в конце концов, сам факт самоубийства, — сколько в чертах мировосприятия, в отношении к смерти и старости.
Глава девятая БЕССМЕРТИЕ
1
Лиля Брик умерла задолго до собственной смерти и, быть может, действительно вместе с Осипом Бриком. Это общий удел всех лишенных способности стариться. Быть старым дано далеко не всякому, доживающему до преклонного возраста, но лишь тем, кто живет естественной жизнью, соответствуя, а не противясь времени.
Казалось бы, Маяковский — иное дело, он ведь прожил ни много, ни мало на полстолетия меньше. На самом деле различие чисто формальное. Это различие способов самоутверждения и, соответственно, различие масштабов времени. Оставаясь всю жизнь переросшим застывшим подростком, он состарился уже к тридцати годам. Все стихи после поэмы «Про это», а в большой степени и сама поэма, написаны уже как бы на выдохе, на остатках растворенного в крови кислорода. «Во весь голос» — последний выплеск, агония, вступление не в поэму, а в смерть. И не только потому, что так реально случилось, а по смыслу и строю самой этой вещи, завершенной по всем Аристотелевым канонам, не требующей ни предшествия, ни продолжения и содержащей в себе всего Маяковского, все его ничтожество и все величие…
Но задолго до этого, в тридцать лет, после поэмы о воскрешении, началось его посмертное существование. Он безумно не хотел, он не умел стареть, он всегда проклинал, презирал старость: «У меня в душе — ни одного седого волоса…» Но сначала проклинал, а потом — заклинал: «Нет, не старость этому имя…» — и ведь это всего лишь на тридцать первом году!
Да и все бесчисленные убийства в его стихах и поэмах — не есть ли это вытесненный страх смерти? Он говорил другим, что страшится не смерти а старости, в этом был некоторый эстетизм. На самом деле он безумно страшился того и другого. Он спасся от фронта, отказался от дуэли,[16] бесконечно заботился о своем здоровье, и брезгливость его была не одним лишь рефлексом, но в значительной степени боязнью заразиться.
Спрашивается, кто не боится смерти, но редко у кого этот страх приобретает такой болезненный, параноидальный характер.
Одно из главных противоречий его жизни состояло в том, что, смеясь над непостижимым и вечным, плюя, юродствуя, издеваясь, он именно этого — непостижимого и вечного — больше всего страшится и желает. Поставив рацио, разум, расчет, материальную ощутимость и пользу в основу своей громогласной религии, он, как и многие подобные люди, остается в душе — не верующим, нет — но мнительным и суеверным дикарем, заклинающим все силы природы, чтоб спастись от неминуемой смерти. Он использует все способы, какие знает, — просьбы, молитвы, проклятья, лесть — чтобы уговорить, заговорить вечность. Он обращается то к Богу, то к Веку, то к Науке, он обращается непосредственно к людям будущего — и в то же время опасается любого ничтожества и спешит нейтрализовать любую конкуренцию, где бы она ему ни почудилась. Он декларирует всесилие произносимых им слов — а в душе постоянно в нем сомневается и вынужден непрерывно его подтверждать. Его гложет сомнение в самоценности слов, безличных, хоть даже и им придуманных, в их способности утвердить его имя в грядущем. Любой, даже деформированный им, язык, даже стих, состоящий из одних неологизмов, кажется ему чересчур анонимным. И он вводит прямо в стихи это имя, так, чтобы оно мелькало повсюду: в заглавии, в тексте, в рифмованной подписи…
Но и этого всего ему мало, мало. Он опасается, что завоеванные им позиции никогда не будут достаточно прочными, пока они располагаются в области духовного, в этой странной, зыбкой, чуждой ему стране. Здесь все неуловимо и ненадежно, и то, что сегодня гранит и мрамор, завтра, может быть, — дым и труха.
И он обращается к самому верному — к реальному-материальному граниту-мрамору (он же бронза, он же чугун).
Не было в русской литературе, да, думаю, ни в какой иной, другого писателя, столь же поглощенного идеей рукотворного памятника. Разве только Гоголь, в безумной тоске, потерявший всю свою былую тонкость, написал однажды: «Завещаю не ставить надо мною памятника» — да и то был жестоко спародирован Достоевским. Но и он, не требуя, а отказываясь, имел в виду памятник над могилой («надо мною»), но уж никак не скульптуру на площади. Маяковский же бредит именно площадью. Он не может примириться с поэтической традицией и предоставить черни заботу о регалиях, о грядущем распределении чинов и рангов. Уж ломать традицию, так до конца, здесь она ему, быть может, наиболее ненавистна. Он сам себе и поэт, и чернь.
Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту — ну-ка, дрызнь!Динамиту — это, конечно, кокетство или, если угодно, образ. Но вот «полагается по чину» — это серьезно.
Он не кричит в стихах: «Поставьте мне памятник!» Он тоже отмахивается, ему не надо. Но что поделать, если чин таков, что хочешь не хочешь, а полагается.
Здесь он напоминает скорее не Гоголя, а его карикатуру, Фому Опискина, пародийность которого так зорко увидел Юрий Тынянов.
«Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою — ведь мы свои же люди,— пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм».Этот монолог в устах Маяковского звучит почти как цитата.
«— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо, не надо, не надо!»
Но стихи одно, а жизнь другое, и, как часто бывает у Маяковского, действительное его отношение к предмету выражается не в стихах, написанных всегда для того-то и того-то, а в частных разговорах и публичных спорах. Здесь он никогда не говорит «наплевать», здесь одно упоминание слова «памятник» вызывает в нем почти религиозный восторг, и сам он никогда не упускает случая лишний раз произнести это вожделенное слово, как бы и вправду заклиная пространство и время.
«Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых, — сказал он однажды Есенину. — Что вы эту глину на ногах тащите?» — «Я глину, — ответил Есенин, — а вы — чугун. Из глины человек сделан, а из чугуна что?» — «А из чугуна, — воскликнул Маяковский, — памятники?»
Когда иссякает бойцовский запал, когда исчерпаны все каламбуры, заготовленные на неделю вперед, когда лучшие, отборнейшие остроты разбиваются о скептицизм собеседника, — ему остается самый убедительный и самый вещественный аргумент.
— Вот на этом месте, — говорит он многократно и в самых различных местах, — прямо на этом месте мне будет поставлен памятник.
И он оказался прав: памятник был поставлен. Заслуженно ли? Конечно, заслуженно. Незаслуженно памятников не ставят.
2
«Непримиримые враги Октября, его тайные недоброжелатели и противники, пробравшиеся в партию и вне ее, всячески отравляли жизнь Маяковскому…»
Так в 39-м году сокрушается друг Асеев. Но конец его истории оптимистичен.
«Но сталинские слова прозвучали, и никто не отнимет славы и чести у лучшего, талантливейшего поэта нашей эпохи!» (курсив Асеева).
Здесь уместно вспомнить, когда впервые прозвучали эти знаменитые слова. То была личная резолюция на письме Лили Юрьевны Брик, посланном Сталину в конце 35-го года. В этом письме, написанном, как всегда, достойно, просто и ясно, Лиля Юрьевна жаловалась, что великий поэт, отдавший свой талант революции, не признан обществом, в достаточной мере не издан и не увековечен должным образом. И вождь самолично красным карандашом черканул: «Обратить внимание… Был и остается… Безразличие… — преступление». И даже так: «Если понадобится моя помощь, я готов. Привет! И. Сталин».
Чего-то он вдруг залюбил Маяковского, очевидно, настал подходящий момент. Это поняли, должно быть, и Осип Максимович с Лилей Юрьевной.
Конечно, он больше любил мертвых. Но ведь не всех, далеко не всех. Многие мертвые до сих пор не полюблены, многие даже не похоронены, и тени их в официальной вселенной еще долго будут скитаться, ожидая погребения…
Вождь народов был капризен и своенравен, и кто знает, какие именно строки убедили его в разгар после-кировских оргий в актуальности и пользе данного поэта.
Разве в этакое время слово «демократ» набредет какой головке дурьейМожет быть, эти?
Или более конкретные и энергичные:
Плюнем в лицо той белой слякоти, сюсюкающей о зверствах Чека!Скорее всего и те, и эти, и еще сотни и сотни прочих, если он потрудился прочесть. Есть у Катаняна забавный рассказик, называется «Сталинские лозунги». Там он прослеживает на протяжении нескольких лет почти буквальные совпадения строк Маяковского с печатными высказываниями вождя…
Через десять дней после письма Брик в редакционной статье газеты «Правда» Маяковский был торжественно объявлен великим поэтом революции. Поэтом резолюции, по меткому выражению Е. Г. Эткинда. Не просто чернь, но Главная чернь, Генеральная — одобрительно махнула рукой. И пошла машина, завертелись колесики. Две волны двинулись почти одновременно: волна страха, смертей и несчастий, неслыханных даже для этой страны, — и волна посмертной славы Маяковского.
«В этой, второй своей, смерти он неповинен».
Пастернак верен своей любви и по-своему, по-пастернаковски прав.
Но мы-то не связаны никакими личными чувствами и можем позволить себе признать: конечно, повинен.
Это первая, физическая смерть Маяковского явилась неожиданностью и несчастьем, вторая — была им хорошо подготовлена. И была она в наших глазах не смертью, а желанным вторым рождением.
Любопытна эволюция официальных ведомств, к которым относили Маяковского вожди. Ленин обращался к наркому просвещения, Сталин — к куратору госбезопасности: «Товарищ Ежов, очень прошу…» Разумеется, дело не в одном Маяковском, так менялась подчиненность литературы, однако обратим внимание на то, какие взаимно обратные роли должны были по отношению к нему играть эти ведомства. Лучезарный наркомпрос призывался усмирять и давить, будущий шеф НКВД — поощрять и возвеличивать. И это почти не вызывает у нас удивления. Как будто само собой разумеется, что в качестве доброй феи Маяковского выступает главный чекист и никто другой. Есть такие стишки — «Солдаты Дзержинского»: Тебе, поэт.
Тебе, поэт, тебе, певун, какое дело тебе до ГПУ?И дальше певун отвечает, какое дело.
Есть твердолобые вокруг и внутри — зорче и в оба, чекист, смотри!Казалось бы, нет никакого резона всерьез воспринимать эти служебные строчки как выражение действительного настроения автора. Но тут важен словарь. Твердолобые — это ведь несогласные, упорствующие в особом, ошибочном мнении, двух толкований здесь быть не может. Эпитет этот далеко не случаен, он уже употреблялся Маяковским прежде и именно в этом смысле. «Чтобы вздымаемые против нас горы грязи и злобы оборотил рабочий класс на собственных твердолобых». А это значит, что функции Чека-ГПУ он понимал ясно и трезво, без всякой ложной романтики.
Быть может, это звучит прямолинейно, но присутствие ГПУ за его спиной на протяжении последнего десятилетия ощущается почти непрерывно. Я бы даже сказал, что вся его огромная фигура постоянно говорит об этом присутствии. Не один раз на публичных выступлениях, прочтя про себя записку, он объявляет: «А на это вам ответит ГПУ!» И в стихах, когда не хватает пороху для эффектной концовки, он обращается к помощи грозных органов, справедливо полагая, что достаточно одного лишь их упоминания, чтоб считать законченным любой разговор.[17]
Здесь можно возразить, что стихи-то дрянь, эти, да и все им подобные, не надо бы их вообще упоминать. Надо брать поэта в его удачах… Что ж, на протяжении всей этой книги мы честно старались рассматривать лучшее или, по крайней мере, то, что считалось лучшим в каждый период. Но в данном случае как раз наоборот, в проходном тексте нагляднее видно, каким материалом заполняет автор пустоты своей души. Мы видим, что карательная интонация всегда на случай у него под рукой.
И, конечно, интерес к карательным органам не был чисто академическим. У него было много друзей-чекистов, разумеется, самых высоких рангов. Как правило, он получал их из вторых рук, от вездесущего Осипа Брика, и в случае каких-либо разногласий они бы скорее приняли сторону Осика, но в мирное время охотно дружили с Маяковским. Все они любили литературу (уже тогда!), многие пописывали. Чуть не на каждом собрании Лефа присутствовал кто-нибудь из этого ведомства. Года с двадцать седьмого они стали ходить уже пачками: близкие друзья, просто знакомые, поклонники Лили Юрьевны…[18]
Одному из таких друзей, комиссару Украинского ГПУ В. М. Горожанину и посвящено стихотворение «Солдаты Дзержинского». С ним вместе Маяковский путешествовал по югу, с ним в соавторстве написал сценарий—о наглых происках английской разведки… (Этот опыт Горожанин использует по-своему, когда вскоре, еще при жизни Маяковского, будет сочинять сценарий процесса над ведущими украинскими интеллигентами.)
Есть у Маяковского и личное оружие, и, конечно, право на его ношение, которое надо возобновлять ежегодно. Его друзья из ГПУ приезжают к нему в гости на дачу и там учат его стрелять. Есть стихи и об этом:
Поляна — и ливень пуль на нее. Огонь отзвенел и замер, лишь вздрагивало газеты рванье, как белое рваное знамя.И если правда, что в судьбе поэта ничто не случайно, то прибавим сюда еще и адрес, навсегда соединившийся с его именем:
Лубянская площадь, Лубянский проезд.
Куда? К Маяковскому, на Лубянку…
А среди его друзей-чекистов Горожанин был даже не самым важным. Самым важным и самым страшным, и, быть может, в то время для целой страны, был, конечно же, Яков Агранов — один из высших чинов ГПУ, начальник секретного политотдела, в будущем — первый заместитель Ягоды.
Список его заслуг бесконечен. Он руководил пытками матросов-кронштадтцев, он лично приказал расстрелять Гумилева (так что счеты с литературой имел особые); потом его назначат расследовать дело Кирова, и он пересажает пол-Ленинграда, и подготовит дело Зиновьева — Каменева, и принесет еще столько всяческой пользы, что даже после смещения Ягоды, при Ежове, сохранит свое положение.
Но пока в свободное от службы время (а может, и нет, как раз в служебное?) он регулярно ходит на чаепития в Гендриков, дружит с Бриком, а больше с Лилей Юрьевной, не забывает нежно любить Маяковского — тот ласково называет его «Аграныч» — и беседует с ними о разных разностях. Известно, что он был близким другом и многолетним соратником Сталина. Уж не он ли впоследствии, в тридцать пятом, подсунул нужные строки под грозный ноготь, под жирный палец?..
3
И вот чугунно-бронзовый идол на гранитно-мраморном пьедестале становится уже почти осуществленной реальностью.
Но все эти хлопоты — сами по себе, а червь сомнения точит и точит.[19] Червь сомнения точит, и можно сказать, что вся деятельность по возведению памятника происходит уже слегка по инерции, с заметным оттенком отчаянья. Ему достаточно рано открылось, что памятник не избавит от физической смерти, что она все равно наступит — и навсегда. И вот он мечется в этом детском кошмаре — нелепо, не по возрасту, не по росту, но что поделать, от себя никуда не уйдешь.
Потому что бессмертие для Маяковского — это не отвлеченный фигуральный термин, не слава, пусть даже и материализованная; бессмертие — это не умирать самому, это жить физически, жить вечно, вот таким живым, как сейчас…
«Но за что ни лечь — смерть есть смерть. Страшно — не любить, ужас — не сметь».И ему остается только одна лазейка, в которую он устремляет свою надежду:
Вижу, вижу, ясно, до деталей. Воздух в воздух, будто камень в камень, недоступная для тленов и крошений, рассиявшись, высится веками мастерская человечьих воскрешений.Эти строки воспринимаются сегодня как горькая шутка, как подсвеченная иронией откровенная фантастика. Но ведь эта же тема проходит сквозным пунктиром почти через все его крупные вещи: «Война и мир», «Человек», «Клоп», «Баня»… Что это значит? Неужели они вправду был так наивен, что верил в научное воскрешение, в какую-то рассиявшуюся мастерскую с тихим большелобым химиком?
Действительно ли верил — это трудный вопрос, он смыкается с вопросом об искренности Маяковского и не может быть решен до конца. В данном случае можно утверждать одно: что такая вера, а точнее сказать, такое суеверие — вполне в его духе, то есть хорошо ему соответствует.
Он был человеком без убеждений, без концепции, без духовной родины. Декларируя те или иные крайности, он ни в чем не мог дойти до конца и вечно вынужден был лавировать. Он провозглашает цинизм своей эстетикой, цинизм и пренебрежение чьим-либо мнением — и стремится любым способом покорить аудиторию. Он напрочь отвергает литературу — и делает все, чтобы в ней остаться. Своей религией он объявляет всеобщее братство — а служит зыбкой догме сегодняшнего дня, на глазах ускользающей из-под ног…
И так же колеблется у него под ногами зыбкая почва его атеизма.
Известно, какую силу, какое спокойствие дает Вера истинно религиозным людям. Но странным образом такую же силу (такую ли, меньшую — кто измерит?) дает подлинный Атеизм — не пожалеем и для него прописной буквы. Потому что бывает пошлое безмыслие — э, какой там Бог! — а бывает стойкая убежденность, трезвый вывод рационального ума. И более того, этот вывод бывает выстрадан: хорошо-то вам с Богом, а вот попробуйте так!
Вера или безверие — не столько вопрос убеждений, сколько состояний и душевных свойств. (Я, конечно, сейчас беру две крайности, два идеальных случая: несомненной, честной, искренней веры и честного, искреннего неверия.)
Верующего примиряет с жизнью ее мимолетность, бренность ее реалий и в то же время присутствие в ней несомненных для него признаков Бога: Красоты, Поэзии, Разума.
Атеист примиряется с жизнью иначе, через сознательное восприятие ее трагизма. Он переживает жизнь как высокую трагедию и приходит к выводу, что только потому она и прекрасна. Жизнь принадлежит к высокому жанру, и за эту высоту приходится расплачиваться.
Каждый человек боится смерти, но верующий принимает ее как должное, потому что она — лишь краткое страдание, лишь переход в иную, лучшую жизнь. Но и атеист принимает смерть без протеста, потому, во-первых, что она неизбежна, и еще потому, что — необходима. И здесь, пожалуй, сходятся пути подлинного атеиста и подлинного верующего. Эта встреча прекрасно выражена в гимне Смерти Баратынского:
О дочь верховного Эфира! О светозарная краса! В твоей руке олива мира, А не губящая коса. Недоуменье, принужденье — Условье лучших наших дней. Ты всех загадок разрешенье, Ты разрешенье всех цепей.Верующий черпает силы для жизни из своей прямой приобщенности к Богу — через молитву, знамения, ощущение благодати, но более всего — через гармонию мира.
Атеист не знает, отрицает Бога, но черпает силу из того же источника — чувства приобщенности к мировой гармонии.
Так, видимо, и должно осуществляться на деле мирное сосуществование идей, или, вернее, различных душевных состояний, различных мироощущений.
Но вся эта идиллия летит к чертям, как только тот или иной лагерь присваивает себе эпитет «воинствующий». Воинствующий атеист, воинствующий христианин… Здесь они опять становятся сходны, но уже как сходны любые крайности. И неважно, вера, неверие — путь один. Суета проповедничества, скука, дидактики, страх принуждения, ужас погрома… Все сплетается в какое-то жуткое месиво, в безумный кошмар нетерпимости. В промежутках наступает похмелье, произносятся дежурные оправдания. У одних это называется — бес вселился, попутал дьявол, у других — неизбежные издержки и досадные перегибы.
4
Маяковский был воинствующим атеистом, и воинственность его всегда налицо, но вот сам атеизм — вызывает сомнения. Его атеизм — не итог, не вывод, в нем не чувствуется никакого пути.
В нем нет обоснованности, убежденности, а отсюда—спокойствия и достоинства. Маяковский не столько отрицает существование Бога, сколько пытается его оскорбить, оплевать, унизить и тем уничтожить.
Он жестоко обижен: ему недодали женщин, денег и славы.
И вот он бегает, мечется под огромным небом, и кричит, и плюется, и трясет кулаками, и угрожает то ножом, то кастетом. Но никто не боится его угроз, никто их всерьез не принимает. И он, при всем своем значительном росте, выглядит мелко и суетливо. Сто семьдесят или сто девяносто сантиметров — с высоты небес ведь одно и то же.
Эй вы! Небо? Снимите шляпу! Я иду! Глухо.Во всем этом сквозит неуверенность, пробивается страх. В его богохульстве ощутим порог, который он нерешается переступить, и вовремя сам себя притормаживает.
Пустите! Меня не остановите. Вру я, вправе ли, но я не могу быть спокойней.Здесь «пустите» звучит как «держите крепче». Его бунт против Неба — не бунт, а мелкий дебош и уж совсем не отрицание Бога.
Разумеется, я не хочу сказать, что Маяковский был верующим человеком. Но он и не был настоящим атеистом. Да, он был слишком рационален и выстроен, чтоб ощутить сверхъестественную тайну бытия. К тому же вера никак не сочеталась бы с избранной им системой масок, с маской сначала циничной, потом — респектабельной. Но при этом еще он был слишком поверхностен, чтоб подняться до подлинного атеизма.
И веры нет, и неверия нет, и тогда остается одно: суеверие. Известно, как болезненно он был суеверен.[20] Кроме множества традиционных примет, он придумывал еще и свои собственные, обожал всяческие совпадения и пугался всяческих совпадений.
Но главное суеверие Маяковского не было личным его изобретением, а являлось достоянием общества: вера в науку.
Есть любовь к науке — и вера в науку, это совершенно разные вещи. Есть любовь к поиску и эксперименту, к красоте построений, к таинству творчества. Есть, наконец, восхищение ясностью мысли, преклонение перед силой духа и разума. Но есть наивное, провинциальное, а точнее, дикарское суеверие: вера во всемогущество ученых, в бесконечные возможности научного метода.
«Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять?» — этот древний парадокс не ставит в тупик наукопоклонников. Наука прежде всего может, а там разберемся, что это еще за такое дальнейшее «не».
Маяковский отказался от веры в Бога, унизил ее в меру своих возможностей — и остался без всякого утешения, один на один со своим переростковым страхом. Не мог же он всерьез утешаться грядущим братством народов — это был материал для стихов и плакатов, тема и средство общения с аудиторией, для себя же любимого требовалось нечто иное. И он кидается в наукопоклонство. Просветительский тезис о том, что религия всегда возникает из суеверия, порожденного страхом и неосведомленностью, как нельзя лучше подходит к Маяковскому.
Что мне делать, если я вовсю, всей сердечной мерою, в жизнь сию, сей мир верил, верую.Что это значит — верить в сей мир и сию жизнь? Он подробно объясняет это в следующей главке, которая так прямо и называется — «Вера». Вера Маяковского, бог Маяковского — это не просто мир или жизнь, это такой особый НИИ, институт воскрешений, с тихим химиком. (Почему не инженером, не математиком? И еще — назойливая параллель: «Рассиявшись, высится веками…» Что это? А вот: «В расступившемся тумане — ярче неба…» Ну разумеется. Все тот же клепочный завод незабвенного князя!)
Два дела, две миссии, две ипостаси есть у всемогущей божественной науки: во-первых, через технику, создавать комфорт и удобства; во-вторых, через черт его знает что, через химию, что ли, — воскрешать из мертвых.
Примечательно, что поэму «Про это» он писал под впечатлением не только разрыва с Лилей, но еще и слухов о Теории относительности. Смешно и нелепо, а подумать — естественно. Он ведь слышал только то, что хотел услышать. В его представлении всякое открытие приносит пользу в одном из двух направлений. Теория относительности не создавала прямых удобств — следовательно, работала на бессмертие.
Рассказал ему о ней Роман Якобсон, ненадолго приехавший из Европы, он же был свидетелем его восторгов. «Я совершенно убежден, — воскликнул Маяковский, — что смерти не будет! Будут воскрешать мертвых! Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, чтобы я так и не понял. („Не может быть, чтобы он, головою над всеми…“) Я этому физику академический паек платить буду…»
Разумеется, после всех расспросов он остался при своем мнении.
Каково же должно было быть его первое действие в связи с открывшейся перспективой? Ну конечно, придумывание вывески, лозунга, заодно подтверждающего ранг и чин. Он решает срочно дать радиограмму Эйнштейну: «Науке будущего — от искусства будущего».
Радиограммы он так и не дал, но с идеей письма Эйнштейну носился долго и, быть может, к счастью для себя, не послал. Он бы узнал, чего доброго, что проблема долголетия мало волнует Эйнштейна, что тот не сомневается в собственной смерти и не надеется на воскрешение и даже, быть может, хотя и любит науку, но верит скорее все-таки в Нечто Другое…
5
Наукопоклонство как форма суеверия, как альтернатива религиозной вере возникло задолго до Маяковского и являет собой предмет коллективного творчества. Но частная идея о научном воскрешении, хотя и она не принадлежит Маяковскому, имеет все же одного конкретного автора.
Я, конечно, имею в виду Николая Федорова. О Федорове многие сейчас говорят и пишут. И едва ли не каждый упоминает Маяковского как главного поэтического выразителя его главной философской идеи. Поэтому стоит, быть может, и нам уделить воззрениям Федорова чуть больше внимания, чем полагалось бы в книге о другом предмете и другом человеке.
Федоров никогда не отрекался от Бога, он во всех своих основных построениях исходил как будто из христианской догматики, из православной концепции троицы. Однако при этом он так прагматически истолковывал эту концепцию, так безоговорочно изгонял из нее всю ее мистическую основу, что в конце концов оставлял одну оболочку, заполненную крайне-позитивистским и уж никак не христианским содержанием.
Для него существовало только дело, только действие и только с единственной целью: воскрешение предков. Всякая приверженность трансцендентному осуждалась как вреднейшее суеверие, осуждались даже ученые мира, все скопом — за недостаток веры в силу науки.
Федоров, в отличие от Маяковского, не занимался вопросом собственной смерти, но ненавидел смерть как общественное явление. Пафос Баратынского был ему чужд, как был ему чужд любой артистизм, любой парадоксальный, нетождественный подход. Для него польза равнялась пользе, вред равнялся вреду. Он был человеком сильной воли и прямого, в упор, анализа. Смерть есть величайшее в мире несчастье, главная беда и причина бед, следовательно, главная задача человечества, да попросту единственная его задача — это борьба со смертью. Со смертью вообще как явлением природы. Человечество обязано бросить на это все силы и всю энергию — именно все и всю, без остатка, буквально, без оговорок. Все должны проникнуться любовью к «отцам», чувством неоплатного долга перед ними. Он будет оплачен только их воскрешением. Всю современную человеческую деятельность, за исключением разве добычи хлеба, Федоров объявляет подменой, развратом, кощунством. Вся промышленность — порнократическая служба, все искусства — производство мертвых идолов, «живых лишь в воображении городского идолопоклонства».
Он проклинает, ненавидит жизнь в городах и всякую городскую деятельность, но еще более — всю живую природу, все спонтанное, естественное, неподконтрольное. «Природа есть слепая сила, несущая в себе голод, язву и смерть». Природа всегда, во всех проявлениях глубоко враждебна человеку и обществу, и ее надо не просто использовать, но покорить, подчинить, подавить… Преобразовать до неузнаваемости. Стопроцентная регуляция природы человеком есть залог всеобщего воскрешения. Как оно конкретно произойдет, с помощью какого «тихого химика», Федоров, конечно, сказать не мог. Но знаменитый тезис Фохта о том, что мысль относится к мозгу, как желчь к печени, был ему чрезвычайно близок. Он и повторял его почти буквально, развивая и доводя до конечного вывода. Организм — машина, сознание — продукт, соберите машину, и сознание к ней возвратится. Главное, Федоров был убежден, что решение задачи возникнет само, если люди поймут, что дело воскрешения предков — это их единственное общее дело, перестанут растрачивать свою энергию на гарантии в будущем и комфорт в настоящем и всю ее обратят в прошлое. Об аскетической жесткости этих требований можно судить хотя бы уже по тому, что комфортом он считал любую личную собственность, даже на книги, даже на идеи. Даже энергия, уходящая на продолжение рода, да не даже, а в первую очередь она, должна быть направлена вспять, на предков. «Родотворная сила есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на воскрешение жизни разумных существ». (Здесь нельзя опять не вспомнить Уолта Уитмена: «Запружены реки мои, и это причиняет мне боль…» Все реки, и прежде всего те, что имеет в виду Уитмен, должны были быть запружены, чтоб вертеть колеса «общего дела».)
Федоров обладал необычайной памятью, о его эрудиции ходили легенды. Тем более замечательно, что все его тезисы, все его конструктивные «научные» сентенции предстают как почти неизменные цитаты из чеховского «Письма к ученому соседу».
— Увенчавшийся блестящим успехом опыт произведения искусственного дождя посредством артиллерийского огня или вообще огненного боя, посредством взрывных веществ, дает новое назначение войску.
— Хлеб есть сила, и всякая деятельность человеческая, умственная и физическая, есть проявление этой силы.
— При регуляции же метеорического процесса сила получается из атмосферы.
— Сновидения должно причислить отчасти к болезненным явлениям, отчасти к праздной жизни. Они составляют проявление тех сил, которые не перешли в работу…
Конечно, сегодня об этом учении нельзя говорить на полном серьезе. Улыбка — не обязательно едкая, даже необязательно снисходительная, пусть доброжелательная, пусть умиленная, — но какая-то улыбка должна смягчить неправдоподобную жесткость этих конструкций. Тогда же, в конце прошлого века, множество умных и тонких людей поначалу отнеслось к учению Федорова с серьезным вниманием. Даже Достоевский не избежал. (Он, первый увидевший бесовщину, увидел одну, и глаза закрывал на другую, и сам проповедовал третью…)
Конечно, мир, построенный Федоровым, не только смешон и детски наивен. Он поражает широтой замаха, он красив и страшен, как Дантов ад, он почти величествен. Но, как всякий проект общественного спасения, скорее все-таки страшен.
Он страшен прежде всего — несвободой. Федоров не был настолько наивен, чтобы полагать, что люди, все без исключения, добровольно примут его проект. И однако он требовал всеобщего участия. Естественно, что все его практические замыслы, если можно, конечно, их так назвать, основывались на первоначальном принуждении, на рабском—он так и выражался — труде, со временем переходящем в труд добровольный. Вообще идея личной свободы представлялась ему одной из самых вредоносных западных выдумок. Он говорил об этом впрямую: «Освобождение личности есть только отречение от общего дела и потому целью быть не может, а рабство может быть благом, вести к благу». Сожалел об отмене крепостного права и введении дворянских вольностей. Всеобщая воинская повинность выступает в рамках его философии как главный способ объединения людей и направления их сил на общее дело. Примечательно, как при всем своем пацифизме Федоров любит слово «армия». Главный практический его инструмент — это «единая армия народов, производящих исследования и опыты».[21]
Вообще многие его декларации, не только по смыслу, но даже по форме, удивительно напоминают постановления и лозунги недалекого грядущего времени.
«Солнечная система должна быть обращена в единую хозяйственную силу…»
При таких хозяйственных вселенских масштабах он был не только воинствующим патриотом, но убежденным и, как во всем, жестким проводником имперской идеи. Все русское хорошо, все плохое — не русское. В России даже запустение кладбищ — вполне простительная случайность, на Западе ухаживание за могилами — отвратительная «полицейская выправка и желание подбелить смерть». Мало того. Оказалось, что русская имперская политика счастливым образом совпадает с целями общего дела. Россия, видите ли, в своей экспансии осуществляет великую миссию «собирания», что впоследствии обеспечит использование армий народов для уничтоже… то есть покорения природы и всеобщего поголовного воскрешения.
Разумеется, в нем не было и тени юмора. Даже Лев Толстой в сравнении с ним — шутник и затейник. (Он однажды пошутил, что если быть последовательным, то уж надо бы сжечь и все книги. Федоров затрясся от злости, заболел и едва не умер.) Всякий, кто не разделял его взглядов, в лучшем случае становился ему безразличен, в худшем — вызывал его ненависть. Так перестал для него существовать быстро опомнившийся Достоевский («мистик, — говорил о нем презрительно Федоров, — убежденный в существовании каких-то иных миров…»). И так в настоящего врага превратился Толстой, отказавшись заняться проповедью общего дела…
Примиряет с Федоровым только то, что его идея, помимо его желания, просто внутренне рассчитана на неосуществление. Ведь он не только не отвечает, но, по сути, и не ставит главных вопросов: каким образом и что же дальше.
Это встают из могильных курганов, мясом обрастают хороненные кости…Ну восстали мертвые, расселись в Космосе, как птицы на ветках, и что же теперь им делать? Снова заниматься любовью и искусством, воссоздавать уничтоженную культуру, лишь в музеях сохранившую свои атрибуты? Но какую, какого же века? Или процесс воскресения бесконечен и во всем обозримом нами будущем все новые и новые поколения должны подниматься из тихих могил — для чего? — для того, что Николай Федоров именует жизнью: для бесполого, безликого существования во вселенском концлагере? Да, в концлагере убивают, а здесь воскрешают. А не все ли равно? Федоров живой, ненавидящий смерть, решил величайший вопрос бытия не только за живых — он решил и за мертвых. А ведь он их не спрашивал. А быть может, для них, для мертвых, воскреснуть, да еще для такой замечательной жизни, какую он им уготовил, — сто раз мучительней и страшней, чем для нас умереть?..
6
Но для Маяковского учение Федорова было просто незаменимой находкой. Оно соответствовало почти по всем показателям. Оно импонировало и его механицизму, и нелюбви к природе, и нелюбви к свободе, и наукопоклонству, и другим суевериям, и близоруко-умиленной модели будущего. Почти все здесь должно было прийтись ему впору, даже, как это ни странно, аскетизм. Нет, он сам, конечно, не был аскетом, далеко нет, он любил комфорт (с гневом отказывался от гастрольной поездки, если не было билета в международном), но идея аскезы ему нравилась, и он постоянно в нее играл. Не только ненависть к собственности (чужой), но и настойчивые напоминания о своем бессребреничестве и неустанные клятвы в бескорыстии — все это работало на романтический образ «не для денег родившегося».
Разумеется, он не читал Федорова («на книги одни ученья не тратьте-ка!») и о работах его узнал понаслышке. Художник Чекрыгин пересказал ему вкратце основные «научные» положения. Но большего ему и не требовалось. Отныне он стал убежденным и страстным приверженцем новой веры, стал, подобно Федорову, в научных слухах ловить совпадения и подтверждения и слух о Теории относительности воспринял именно в этом качестве.[22] Его склонность к фантастике как методу творчества в данном случае совпала со свойствами темы, и из поэмы в поэму стал путешествовать заманчивый образ: научно, марксистски, материалистически воскресающего человека.
Надо признать, что в интерпретации Маяковского этот проект теряет часть наукообразия, иллюзию последовательности и завершенности, но и теряет вместе с тем почти всю свою жесткость. Та самая, совершенно необходимая улыбка возникает в его произведениях не только впрямую, в виде легкой иронии, но и косвенно, как литературная условность. Вне зависимости от формы произведения, оно заявлено как художественное, и, следовательно, даже в самой прямой декларации остается место для символа и аллегории. Да и некоторые конкретные положения смягчены за счет «научной» обоснованности. Нет всеобщего переключения творческой энергии, ее хватает и на то, и на это, и на любовь, и на работу по воскрешению, и работой этой занимаются не все подряд, а только специальные ученые-химики. Но главное — воскрешают тоже не всех, а только немногих. Так что никакого такого равенства не соблюдается в коммунистическом раю Маяковского, во всяком случае по отношению к мертвым.
Но какой же принцип, какой критерий принят в этом совершенном мире, в этом, наконец-то достигнутом, светлом завтра? Ведь речь идет не о раздаче похлебки и даже не о присуждении чинов и регалий. Ничего себе выбор: воскрешать — не воскрешать!
Давайте мы на минуту притворимся, что не помним, не читали поэмы Маяковского. Давайте попробуем сами придумать, какое качество он мог предложить для отбора людей. Какой человек из нашей паскудной эпохи может подойти для золотого века? Добрый? Невозможно себе представить, такого эпитета нет в словаре Маяковского. Умный? Уж это, казалось бы, ближе. Но нет, тоже никакой вероятности. Эта характеристика — для вождей. Талантливый? Можно не комментировать. Под неусыпным надзором Брика это слово могло быть употреблено разве что насмешливо-иронически.
Совершенно очевидно — и нечего тут гадать, — что никакое душевное, вообще никакое внутреннее качество неуместно в системе оценок Маяковского. Его критерий может быть только внешним:
Она красивая — ее, наверно, воскресят. Недостаточно поэт красив…Но красота или даже красивость — это, в конце концов, человеческие качества, в которых, если очень захотеть, можно увидеть и образ добра. В дальнейшем он отказывается и от этого, ограничиваясь социально-обобщенными категориями. В пьесе «Баня», где, кстати, идея воскрешения окончательно теряет поэтическую неопределенность, овеществляясь в уэллсовской (эйнштейновской?) машине времени и тем переходя обратно в «научный» ранг, — в этой пьесе в далекое коммунистическое будущее переносятся уже энтузиасты и труженики, а за бортом остаются бюрократы, подхалимы и прочие классовые враги.
В этом смысле «Клоп» стоит особняком. Здесь, как это часто бывает с Маяковским, он бессознательно пародирует сам себя, пародируя и свои суеверия. Здесь не только разогревание замерзшего пьяницы, к которому сводится воскрешение, но и весь научно-технический прогресс и все социалистическое будущее. Вспомним хотя бы зал заседаний, где вместо людских голосов — радиораструбы и механические руки для голосований… Естественно, что в современных постановках на Западе в этой пьесе все так и трактуется: будущее — как пародия на социализм, а изобличаемый отсталый Присыпкин — как единственный живой человек. Но это уже дела режиссерские, у нас заботы иные. Не будем путать трактовку — и замысел, пародию — и автопародию. Ирония Маяковского в адрес будущего — это всего лишь доброжелательная усмешка, а живое, человеческое в Присыпкине — результат безуспешной борьбы его автора со всем человеческим.
Но главное расхождение Маяковского с Федоровым—в вопросе направленности и объекта. Преданность предкам, любовь к отцам — ничего нелепее для него не придумать. Его взгляд был направлен исключительно в будущее, прошлое начиналось с него самого. Федоров был наивен и нетерпим, но его искренность и самоотречение бесспорны. Коллективизм Федорова фанатичен и подлинен. Коллективизм Маяковского — демагогичен, это способ воздействия, способ общения и в конце концов — способ прожить, путь к психологическому благополучию. Как выражается его герой-двойник: «Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором».
Глава деcятая СМЕРТЬ
1
И вот человек, смертельно страшащийся смерти и всего, что может ее приблизить, громогласно провозгласивший своей религией продление и возобновление жизни, — пишет за два дня прощальную записку и стреляет себе в сердце. И его нет…
Мы читаем историю с известным концом, и конец этот маячит у нас перед глазами, и смещает акценты, и круто меняет ракурс. Всякая жизнь завершается смертью, но не всякая — насилием над собой. Он это сделал и оставил нам чувство несчастья и мучительный вопрос «почему?». Точка пули в его конце есть точка под вопросительным знаком, для него — конец, а для нас — начало бесконечных споров и домыслов. Я даже допускаю, что этот вопрос был с самых первых страниц единственным, всерьез занимавшим читателя, и он терпел все прочие наши рассуждения ради единственного ответа. Разумеется, он будет разочарован: такого ответа нет и не может быть. Нет ответа, заключенного в одной фразе, не нуждающегося ни в каких уточнениях, не доступного никаким возражениям. Мотивация — вообще загадочная вещь, а тем более мотивация такого поступка, а тем паче совершенного таким человеком.
Самоубийство — почти всегда неожиданность. Вряд ли кто-нибудь всерьез мог предполагать, что Марина Цветаева повесится, и тем более — когда и где именно. Но коль скоро это произошло, каждый, кто знал ее жизнь, характер, стихи — мог бы назвать не одну, а несколько причин, любой из которых было бы достаточно. Самоубийство Маяковского всех застало врасплох, в том смысле, что никто не мог назвать ни одной причины, и поэтому каждый называл несколько, объединяя вместе все неприятности, какие только приходили в голову. Но и вместе они не становились причиной.
Неуспех выставки, отсутствие Бриков, замужество Яковлевой, разрыв с Рефом, провал «Бани», наконец, грипп…
Помню, в школе, когда учитель литературы упоминал об этом пресловутом гриппе, мы переглядывались и кивали: ну ясно, сифилис! (Тем более, что недавно прочли, ничего не поняв, стихотворение с таким названием.) Кто же станет всерьез говорить о гриппе как о причине самоубийства!
И хотя сифилиса уж наверное не было, нельзя не признать, что в этих подозрениях, не в сути их, а в самом наличии, есть своя закономерная логика. Это логика личности Маяковского, его двойственности, его вросшей маски и неправды каждого его проявления, вплоть до самого страшного и трагического.
Что школьники, — образованные взрослые люди, самые талантливые из взрослых людей пали жертвой этой неправды.
Бедная, удивительная Цветаева, с присущей ей искренностью и страстью, но и с присущей лишь ей любовью к лингвистике, бросила в мир слова о самосуде, о суде поэта над собой как единственно возможном суде над поэтом. Много позже Борис Пастернак повторил этот возглас почти дословно, а Юрий Анненков даже припомнил фразу, будто бы сказанную ему Маяковским перед последним отъездом на родину. В том смысле, что, мол, тебе хорошо, ты остаешься в Париже, а мне вот надо туда, к ним…
Прав Булгаков: кто пишет сентиментальней, чем женщины? Разве что некоторые мужчины.
Умный злой Ходасевич никого не убедил: он был хоть и умный, но злой. Романтическая покаянная версия была принята большинством голосов. В общем случае это выглядело следующим образом.
Великий поэт, целиком и навек отдавшийся власти, всегда ощущавший полное с ней совпадение — в стиле речи и стиле жизни, в дальней цели и сегодняшней пользе, в подходе к событиям и методе действий (вариант: никогда не согласный полностью, всегда метавшийся между искренней лирикой и вынужденной службой текущей политике), — этот человек вдруг видит, что все не то. Что не то? А все. Ну, к примеру, нет свободы печати и слова, и вообще не соблюдаются права человека. И выходит, что он жестоко ошибся, что вся его жизнь и вся работа — насмарку и, более того, он причастен и значит, повинен. И ему просто ничего не остается, как, раскаявшись, произнести себе приговор…
Эта легенда — хороший пример отвлеченных умозрительных построений, перенесений на далекий чуждый объект собственных жизненных установок.
Заявим сразу: в данном пункте мы должны решительно отмежеваться от всей либеральной интеллигенции и присоединить свой одинокий голос к голосу государственной критики.
Он не мог разочароваться в окружающей жизни, потому что не знал никакой другой. Он был плотью от плоти этой реальности, ее отношений, ее языка, круга ее интересов. Ее правда была его единственной истиной, и как бы он мог ее изобличить, никогда не выходя за ее пределы?
Поездки на Запад ничего не меняли, магический круг был очерчен в Москве, и там же был задан угол зрения. И как не видел он под этим углом тропических звезд, так и не мог увидеть ничего такого, что бы привело его к независимым выводам. Более того. Постоянная зависимость от внешней силы, наполненность ею нигде так не чувствовалась им, как на Западе. Там шумный успех его выступлений и лекций, каждый раз словно возрождавший заново золотые дни футуризма, — этот успех действительно был не одной лишь личной его заслугой — но триумфом великой страны, ее гордого имени. Здесь как раз тот самый редкий случай, когда пышная официальная формула, за вычетом кое-каких деталей, в основе своей соответствует истине.
Параллель между Маяковским и Есениным, выводимая множеством западных критиков из основной «покаянной» легенды, служит лучшим ее опровержением.
Есенин — тот действительно пытался себя сломать, приспособить, вогнать в железную схему. У него не вышло. Потому что, при всех своих ужасных качествах, он был прежде всего живым человеком. Он действительно и отчаялся, и раскаялся, и измучил близких, и измучился сам. Но его мука и его раскаяние очень слабо вязаны с общественной ложью. Внутренний мир для него был важнее внешнего. Эта власть была ему не по сердцу, но и он ей был не по зубам. Да, он ломал себя и пристраивал, но делал это всегда неуклюже и с какими-то постоянными проговорами. Вспомним хотя бы стихи о преемниках Ленина:
Еще суровей и угрюмей Они творят его дела…И, конечно, велик соблазн утверждать, что его погубили государство и общество, однако это и здесь не так. Ему было плохо по разным причинам, и по этой, в частности, тоже. Но главный его конфликт заключался внутри него. В конце концов, в Европе и Америке он пьянствовал, дрался и дебоширил и впадал в отчаянье не меньше, чем в России. Он нес свою трагедию в собственной душе. И в его стихах последних лет, и, особенно, в его последней поэме все это есть: и тоска, и раскаяние, и почти ежедневное прощание с жизнью. Зато здесь, в отличие от всего, что производил Маяковский, нет ни врагов, ни житейских тягот, ни жалоб на чью-то несправедливость. Даже краткая характеристика места действия: «этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов» — дана лишь как общий фон, а отнюдь не в оправдание собственной вины. Это был действительно суд на собой, вот тот цветаевский самосуд, ей бы такое сказать про Есенина — в самую было бы точку.
Маяковский же сам был всегда схемой, на любых взлетах оставался конструкцией. И наличие руководящей догмы эту конструкцию только усиливало, сообщало ей необходимую жесткость. Это был его главный внутренний стержень, негнущийся позвоночник Души. Та самая флейта…
Совесть, а тем более муки совести вообще не входили в эту систему, раскаяние было чуждым, инопланетным понятием. То есть слово такое уже начинало звучать, но означало оно не душевную муку, а признание своей вины перед властью и в прессе сопровождалось словами «лицемерное» и «чистосердечное».
Его боль — всегда была болью обиды, никогда не болью раскаяния. Разочарование? Но в чем же именно? В чем бы мог разочароваться неустанный певец несвободы, всю жизнь призывавший давить, пресекать, устранять? В том, что это действительно делалось? Или вдруг осмотрелся (в отсутствие Бриков) и решил: многовато? А сколько хотел? И с какого момента, с какого количества, после какого мероприятия? Что тут гадать — не было этого. Я не верю тем немногим запоздалым свидетельствам, где он предстает сокрушенным скептиком, и, даже если б они были верны, не вижу смысла в противопоставлении нескольких невнятно пробормоченных слов — всему тому, что мы знаем о нем с достоверностью, что наполняло всю его жизнь до самых последних дней.
Нигде — ни в стихах последних лет, ни в статьях, ни в выступлениях, ни в частных письмах — нет ни намека на разочарование, а тем более какое-то чувство вины.
Не тешься, товарищ, мирными днями—, сдавай добродушие в брак. Товарищ, помните: между нами орудует классовый враг.Такие призывы с подробными инструкциями, как распознать кулака и вредителя под личиной благонамеренного гражданина, писались им не в 18-м году, а в зрелом и близком 28-м. А еще ближе, в 29-м, — «подлинному фронту купе и кают» — умиленный гимн свободно путешествующего, обращенный ко всем безвылазно сидящим. А еще — несмолкающий крик души: «долой из жизни два опиума — бога и алкоголь!» Вот что тревожит его в это чудное время. (Не тревожит? Врет? Это не возражение. Мы всегда довольствовались тем, что имеем.) И, наконец, одно из самых последних:
Энтузиазм, разрастайся и длись фабричным сиянием радужным. Сейчас подымается социализм живым, настоящим, правдошним.[23]В начале января 30-го года он заявляет на публичном собрании: «То, что мне велят, это правильно. Но я хочу так, чтобы мне велели». Это почти точное повторение его недавних стихов: «Я хочу, чтоб в конце работы завком запирал мои губы замком».
В конце января его приглашают (велят) читать «Ленина» в Большом театре. Он счастлив, волнуется, возбужден: «Политбюро будет… Сталин будет… Пожалуй, самое ответственное выступление в жизни». Чтение проходит с большим успехом, в правительственной ложе долго аплодируют.
В феврале он составляет список приглашенных на выставку и первыми вносит членов политбюро и прочих руководящих товарищей.
20 марта выступает по радио с чтением антирелигиозных стихов.
7 апреля подписывает письмо «К писателям мира» — по поводу злобных выпадов римского папы, публично заявившего, что в СССР подавляют культуру и религию.
Ведет переговоры о поездке в колхоз, планируемой на конец апреля, и только еще не может решить, ехать ли ему с писательской группой или одному к Виктору Кину, который шлет ему настойчивые приглашения из района сплошной коллективизации…
А 11-го не является на выступление, 12-го пишет свое письмо, а 14-го утром, едва закрылась дверь за Полонской, несомненно зная, что она еще рядом, услышит, вернется, — левой рукой, ведь он был левша… хотя правой, возможно, было удобней…
Итак, перед нами два варианта: или коренной пересмотр позиций совершился буквально за два-три дня, или причина совершенно в другом. Причина, конечно, в другом. Вот последнее, предсмертное письмо Маяковского, давайте перечтем его, самое время.
ВСЕМ!
В том, что умираю, не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля — люби меня.
Товарищ правительство, моя семья это — Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят —
Как говорят — «Инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться.Владимир Маяковский. 12.1V.30 г. Товарищи вапповцы — не считайте меня малодушным. Сериозно — ничего не поделаешь. Привет.
Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться. В. М.
В столе у меня 2000 руб. — внесите налог. Остальные получите с ГИЗа. В. М.
Два совершенно различных чувства, два разных страха возникают при этом чтении.
Первый страх очень слабо связан с содержанием, а скорее — с целью, местом и временем. Он всеобъемлющ, и он заведом и с готовностью заполняет собой любое случайное слово. Человек собирается умереть — это очень страшно. И он говорит об этом— неважно что, но сознательно обговаривает обстоятельства, готовит себе эту казнь… Уж куда страшней?
Но есть и второй страх, не менее страшный. Это страх невстречи, непопадания, страх соскальзывания в пустоту.
Его тогда почувствовали очень многие, даже Бедный Демьян бормотнул в некрологе о «жуткой незначительности» письма. Дело, конечно, не в незначительности, дело в подлинности и соответствии, то есть в том, во что мы каждый раз упираемся, пытаясь понять Маяковского. Последняя записка, предсмертный выкрик — здесь, казалось бы, невозможны никакие подмены, это может крикнуть лишь сам человек, его подлинная суть, его нутро… Оказалось — нет, нечто другое. «Александр Иванович, Александр Иванович?.. Но никакого Александра Ивановича не было».
Конечно, можно сказать иначе, что и в этом есть определенная последовательность, он до конца остался верен себе. Пусть так, но только себе — не подходит. Нет такого себя, нет такого Я, не может быть такого живого человека (тогда ведь еще живого…). Верность же маске, а точнее, системе масок… Что ж, если эта формула не бессмысленна — пусть остается.
Весь шлак эпохи, мусор повседневности выражен в этом страшном письме.
«Ермилов… вапповцы… доругаться…»
Заседательский юмор, конторские хлопоты. Он все оставлял на своих местах, ничего в этом мире не рушил.
«Товарищ правительство… если ты…» Такая подчеркнуто фамильярная форма, стиль показного партийного равенства.
К кому конкретно он обращается? К бывшему наркомпросу Луначарскому, только что снятому со своего поста за то самое либеральное «луночарство» столько раз клейменное Маяковским? Или к предсовнаркома Рыкову, уже выразившему публично лицемерное раскаяние и готовому передать свой отяжелевший портфель сопящему рядом Молотову? Или прямо к Сталину? Уж он-то незыблем. Но тогда бы он должен был выразиться иначе, ну хотя бы «товарищ ЦК», как написал позднее один из его преемников. Иди это такая обобщенная фигура, означающая «товарищ советская власть»? Но ведь речь идет не о символе веры, здесь вполне конкретная деловая просьба: устроить сносную жизнь семье, то есть попросту распределить наследство…
Что гадать, мы никогда не выявим правды, потому что нет ее в этой записке, как не было в нем самом.
Все не то, чем кажется, и не то, что есть, за одной подменой стоит другая, и даже предсмертные стихи — не предсмертные, а взяты из черновика поэмы, с наспех замененной, обобщающей строчкой: «Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень…» Так возникла эта мало понятная взаимность болей, бед и обид — с жизнью. В оригинале было чуть-чуть по-иному, что для стиха всегда означает — совершенно иначе:
Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи Млечпуть — серебряной Окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.Это написано летом 29-го, обращено скорее всего к Полонской,[24] и взаимность здесь даже очень к месту, она подчеркивает равновесный характер стиха и, в сочетании с массовым каламбуром (исперчен) и с канцелярским неологизмом (Млечпуть), выражает спокойную констатацию, пусть горькую — но не трагедию.
В апреле тридцатого ему внезапно потребовалось совершенно иное содержание. И он заменил три коротких, но решающих слова…
Так что ни письмо, ни стихи в письме не дадут нам никаких положительных сведений о подлинном душевном состоянии автора, не говоря уже о причинах, его побудивших.
Здесь, конечно, самое время признать чрезмерность и суетность наших претензий, их оскорбительный прагматизм. Он ведь был никому не обязан. Даже если он сам вполне осознавал причины и побудительные мотивы, — с какой стати он должен был их объявлять? Для нашего комфорта, для душевного спокойствия, для удобства наших построений и выводов? Он уходил один, он отказывался от мира и имел право не сентиментальничать с ним, не изливать душу, не раскрываться. В этот миг он, быть может, впервые в жизни имел полное моральное право на презрение, на плевок, на отмашку. Но вот этого-то он как раз и не сделал! Ладно, пусть не исповедь, не раскрытие, пусть любая отписка, чтоб только не сплетничали, но уж тогда и не вапповцы, и не Ермилов, и не старый отрывок, перелицованный по случаю, как бездушная, но еще пригодная вещь…
И однако же он застрелился, уж тут без обмана. Он написал «умираю» — и действительно умер, и эта страшная правда в данный момент важнее для нас всех прочих неправд и подмен. А причина… Если мы не будем чересчур прямолинейны и не станем требовать сейчас, немедля, краткой и исчерпывающей формулировки, то, быть может, нам удастся что-то понять и хотя бы приблизительно представить то состояние, в котором он жил последние несколько дней. Здесь главное — не гнаться за новизной, не бояться повторить известное.
Неуспех выставки, отсутствие Бриков, замужество Яковлевой, разрыв с Рефом, провал «Бани», наконец — грипп…
3
«В том году великий поэт был окружен врагами, которые давили, сжимали в психологические тиски (многого мы не знаем), и самоубийство 14 апреля— это убийство».
Так пишет Лавинская.
Что же это были за такие враги, кто именно, если верить Лавинской, да и многим другим, почти дословно ее повторяющим, убил Маяковского?
Вообще говоря, окруженность врагами не должна была его чересчур травмировать. Он всю жизнь воевал с бесчисленными врагами, действительными, а по большей части мнимыми — это был его способ существования. В этом он, как, быть может, ни в чем другом, был слепком со своего государства.
К марту — апрелю 30-го года число его литературных врагов, и верно, увеличилось на много единиц за счет перехода в эту категорию почти всех бывших друзей. Каждый новый раскол лефовской группы кое-что добавлял к этому списку, но решающими явились два события: выставка и его вступление в РАПП.
Он придумал устроить персональную выставку — рефовцы требовали коллективной. Сперва как будто все утряслось, в декабре на юбилейном вечере в Гендриковом было общее веселье с дурашливыми здравицами, с комсомольскими играми, с переодеваниями, с шампанским, которое, по требованию юбиляра, все приносили с собой. (Строго-настрого было предупреждено, чтоб не являться по двое с одной бутылкой, а нести по штуке на каждого.) Развесили афиши, транспаранты и ленты. Дружно спели кантату на стихи Кирсанова:
Кантаты нашей строен крик, Наш запевала — Ося Брик. Владимир Маяковский, Тебя воспеть пора. От всех друзей московских Ура, ура, ура!Загадывали шарады, изображали картины, делали шуточные доклады. Не меньше вкуса и не больше пошлости, чем на любом другом лефовском вечере. Но любопытны некоторые детали. Мейерхольд, кроме обязательного шампанского, приказал еще доставить на квартиру Бриков театральные костюмы и маски. Каждый выбрал по вкусу и соответствию. Маяковский нацепил козлиную маску, сел верхом на стул и громко серьезно блеял. Его приветствовало сборище ряженых.
Единственным непереодетым оказался Пастернак, зашедший после давнего разрыва, чтобы поздравить и выразить искреннюю дружбу, за что был изгнан с позором, в слезах и без шапки. «Пусть уйдет… — мрачно сказал Маяковский, сняв козлиную маску и оставшись в своей. — От меня людей отрывают с мясом…»
А через месяц на официальное открытие выставки не пришел уже ни один из рефовцев, кроме разве что Осипа Брика, и никто, кроме Шкловского, — из старых друзей. С мясом или без мяса — оторвались все.
8 февраля тот же самый Кирсанов (ура, ура!) напечатал в газете гневную отповедь другу-предателю: «Пемзой грызть, бензином кисть облить, чтобы все его рукопожатья со своей ладони соскоблить?» (17 апреля он же на траурном митинге со слезами на глазах читал с балкона «Во весь голос». Такие это были люди, гвозди бы делать. Председательствовал в похоронной комиссии Артемий Халатов, за десять дней до того приказавший вырвать портрет Маяковского из всего тиража журнала «Печать и революция».)
Но ни друзья, обернувшиеся врагами, ни враги, превратившиеся в настороженных друзей, даже в совокупности еще не составляли тех страшных «психологических тисков», о которых пишут биографы. И те, и другие были только следствием, послушным, хотя порой искаженным, отражением процессов, более мощных и более общих.
Последний год жизни Маяковского был переломным в истории государства. Его значение трудно переоценить, здесь возможны только превосходные степени. В величайшей стране величайшая власть в истории концентрируется в руках величайшего в мире подонка. Болтуны-конкуренты под его гипнотическим взглядом с яростью набрасываются друг на друга, плюются, кусаются и грызутся насмерть. С позором выслан обессилевший Троцкий — такой умный, такой начитанный, такой грозный, такой изощренный… Дышат на ладан Рыков и Томский. Бухарин колотит себя кулаком в грудь, каясь в своих пацифистских бреднях. Начинается сплошная коллективизация и двадцать пять тысяч городских надсмотрщиков[25] призваны обеспечить порядок на сельских плантациях. Переход к новейшей социальной формации совершается и в капитальном строительстве, и пунктиры на месте будущих каналов уже готовы превратиться в жирные линии, досыта напитавшись чем надо.
Первая сталинская пятилетка начинает свое победное шествие, параллельно с базисом формируя надстройку. Наконец-то фантастические тезисы Брика-Левидова обретают реальную силу, становятся руководством к прямым действиям, и не в частном случае, а в масштабе целой страны. Всякое искусство — контрреволюционно. Левидов добавляет «не футуристическое», но это, когда-то яркое, слово давно уже увяло, пожухло и осыпалось. Всякое! Идет процесс усреднения, унификации, перехода к взаимозаменяемости. Любая выступающая из рядов голова должна быть приплюснута или откушена. Кто-то приседает, кто-то тянется вверх. И вот — перед нами Маяковский. Что будем делать?
Нет, конечно, любому руководству понятно, что здесь и речи быть не может о противостоянии или даже о недостаточно твердом стоянии за. Эта сторона и не обсуждается, вопрос совершенно в другом: как в эпоху сплошной коллективизации поступить с этим ярким человеком, на которого указывают извозчики на улице, имя которого из уст в уста передают по тротуарам прохожие, с человеком, который и ростом, и голосом, и каждым словом, пусть даже буквально повторенным вслед за газетной статьей, мгновенно выделяется в любой толпе? Что с того, что он непрерывно клянется в верности и доказывает эту верность всеми доступными средствами, если сам факт его существования в новой, унифицированной системе отношений есть вопиющее нарушение порядка и строя? Он слишком громок, слишком заметен и назойлив и в любой случайный момент маячит в поле зрения власти. Любая общественная ахинея, вложенная в его громовые уста, приобретает печать его мастерства и пусть внешние, но явные черты искусства. И при этом всегда-то он лидер, всегда великий и самую унизительную шестерочью службу исполняет с таким гордым и важным видом, как будто сам же ее для себя придумал. Между тем как и лидером, и великим при жизни мог быть отныне только один человек. (Портрет, вырванный из журнала, сопровождало приветствие Маяковскому, где было и это слово — «великий». Есть свидетельство, что именно оно послужило главной причиной.)
В середине декабря в «Правде» публикуется директива ЦК «О единоначалии», а уже 21-го, в пятидесятилетие, — первый беспрецедентный захлеб всех газетных полос, с многочисленными подписями именитых будущих смертников, со стихами Жарова и Демьяна Бедного. (Славословных стихов Маяковского — нет, но нет и ничьих других, кроме этих. Славить в одах не партию, не ЦК, а конкретного, вот этого живого человека — тогда еще было внове. Еще помнили о «ленинской простоте», еще звучали в ушах слова о ничтожной роли личности и истории. Новая эпоха только начиналась, и пророков она выбирала сама, в соответствии с собственной сутью… А стихи Маяковского «Даешь материальную базу» появятся позже, 27-го, рядом с речью вождя о ликвидации кулачества, законом о выселении нетрудового элемента и сообщением о расстреле попов-поджигателей.)
Очень похоже, что именно с этого времени у самого высокого руководства или даже у самого-самого высокого окончательно утвердилось мнение, что Маяковский, такой, как есть, не нужен больше, а порой даже вреден.
Можно возразить, что ведь были и другие поэты, не менее талантливые и к тому же не столь безоглядно верные. Ну так в том-то и дело! Ахматова не обижалась на звание попутчика, не называла себя пролетарским поэтом, не спорила о месте в рабочем строю и не нарушала никакого строя. Она была в стороне, сама по себе, на своем одиноком месте. До нее еще очередь могла дойти, но не в этот бурный реконструктивный период.
Маяковский же всегда был ихним, своим, строевым, бритоголовым, рядовым, беспрекословным — и в то же время вечным главарем-заводилой, непременным генералом-классиком, не то чтобы нарушающим строй, но всегда выделяющимся из строя. Именно в этой, своей, адекватной себе системе он изжил себя, он стал анахронизмом, он всем, в конце концов, надоел…
Тут бы нам, кажется, самое время продолжить братание с Перповым-Асеевым и с авторами гневных статей в «Огоньке», повторив вслед за ними: началась травля. Но это была бы неправда. Травили — действительно, как собаками дичь, — представителей «новобуржуазной» литературы и некоторых «примкнувших к ним попутчиков»: Пильняка, Чуковского, Булгакова, Замятина, Мандельштама, Платонова… Каждая статья об их произведениях, любое выступление (в том числе и Маяковского) было науськиванием и доносом. Маяковского же никогда не травили, зачем Учинять, не было этого. Его достаточно много ругали, в основном, конечно, рапповские критики, но в эти последние месяцы жизни — не больше, чем в предыдущие. Он привык к ругани, он в ней существовал, от нее отталкивался и ею питался. Что же изменилось? А изменилось то, что теперь за той же самой руганью, а еще больше за молчанием, промалчиванием — он почувствовал ледяное дыхание власти. Столь любимые им законы диалектики начинали работать против него. «Стар — убивать, на пепельницы черепа!» Время солистов и лидеров кончилось, наступала эпоха комсомольских хоров. Он подлежал придавливанию и обмятию, надо было превратить его в Светлова-Кирсанова или сбросить (бросить?) с парохода современности.
И конечно, запрет на выезд в Париж (тут снова у нас — братание) был очень серьезным, быть может, переломным моментом. Неважно, какая из версий верна: Брики надавили на своих чекистов или сами чекисты подсуетились (тоже, надо полагать, не без ведома Бриков) — важно, какое сильное действие оказал этот факт на его состояние и на отношение к нему окружающих.[26]
Девять раз он пересекал границу Союза, легко планировал все путешествия, договаривался о встречах и выступлениях, назначал заранее число и месяц — получение визы на выезд было для него простой формальностью, как для жителя какой-нибудь Латвии. И вот впервые — отказ. Недоверие власти! Ничего страшней нельзя было придумать. Та самая объективная внешняя сила, которая наполняла его многие годы, придавая ему объем и устойчивость, теперь, казалось, его покидала, уходила в невидимый какой-то прокол. Он стал заметно терять форму, опадать, как воздушный шар.
Он мечется в поисках компенсации, опровержения, подтверждения и еще чего-то, что вернуло бы ему направленность — и придумывает юбилейную выставку как своеобразный памятник при жизни — по чину, то есть подтверждающий ранг и чин.[27] (Ненависть ко всяческим юбилеям, неоднократно им провозглашенная, противоречит этой идее не больше, чем все остальное — всему остальному.). Многословно, нервно и не очень уверенно объясняет он друзьям необходимость выставки, втайне еще надеясь, что все так и бросятся помогать ему в этом государственном деле. Ничего подобного не происходит. Друзья поначалу еще кривят рты, изображая одобрительные улыбки, но Главискусство, ФОСП и прочие органы откровенно изъявляют свое равнодушие, а то и прямое неодобрение. После долгих хлопот удается выбить небольшое помещение и гораздо меньше денег, чем требуется. Он вкладывает собственные деньги, сам прибивает плакаты, клеит и красит. Редакции газет не высылают вырезок, пресса дружно молчит об открытии, приглашены руководители страны и партии, а не приходят даже знакомые. Все расползается. Популярность его еще велика, рядовая публика ходит активно, но мало ему от этого радости. Мало радости. Он, величайший поэт массы, знает лучше, чем кто бы ни было, что никакой массы, в сущности, нет, что масса — фикция, отвлеченный термин, атрибут демагогии, не более… Вот если бы те, что в Большом театре, буквально несколько человек, аплодировавших ему из правительственной ложи, еще недавно, еще в январе, он так поверил, так обнадежился… Но нету чудес и мечтать о них нечего. Есть только масса ненужных людей и книга записей с дурацким списком профессий: работница, врач, глухонемая, гравер, точильщик, лишенец, повар…
И, конечно, все это переплетается, так что не найти ни концов ни начал, с неудачами в литературной работе. За год после возвращения из Парижа он написал с десяток проходных стихов и одну неудачную пьесу. Пьеса неудачная, ему это ясно, в разговоре с немногими оставшимися доброжелателями он это с горечью признает. В ней есть два-три живых персонажа, несколько ярких и даже блестящих острот, но все это тонет в общей ходульности текста, в стерильной пустоте положительных образов и главное — в отсутствии драматургии. Месяцы вынужденной, тяжкой работы, когда он сам сажал себя под арест, задавал себе уроки на каждый день или просил об этом Полонскую, — вся эта каторга была напрасной. И сейчас же самофиксация, ранг: не вышел из него ни Мольер, ни хотя бы Эрдман, которому он мучительно (и справедливо) завидует.
Никогда еще отсутствие в нем духовной основы не проявляло себя так вещественно и страшно, как в этот последний год. Возможности комбинаторики давно исчерпаны, механический-геометрический Эвклидов мир приходит в упадок, выскребывается до дна, иссякает необратимо.
«Исписался!»
Он остро реагирует на каждый выпад, на каждый слушок. Он ругается, объясняет, оправдывается. И единственная его несомненная удача — «Во весь голос» — несмотря на вернувшуюся было энергию и прежнее виртуозное мастерство, звучит как заявление в высшие органы, как развернутое самооправдание.
В этих условиях вступление в РАПП нельзя рассматривать как случайность. В декабре 29-го года «Правда» публикует директивную статью, где содержатся уже все основные принципы будущей унификации литературного процесса. Дальнейшее обострение классовой борьбы, необходимость консолидации и так далее. Почти сразу после этого мудрый Брик начинает сближение с Авербахом. Маяковский сначала сопротивляется, но потом, по-видимому, соглашается, что из всех «перевалов», «рефов» и «кузниц» РАПП — единственная литературная группа, пользующаяся доверием власти и пригодная для того, чтобы стать основой союза писателей. Сам Брик поначалу, как всегда, остается в тени и выталкивает на манеж Маяковского. Что-то будет? Их совместный с Лилей отъезд в Лондон (опять — ровно на два месяца!) — это не только заслуженный отдых от почти непрерывных истерик друга, но и, видимо, способ выждать и оценить обстановку.
В эти дни как раз открывается конференция Маппа, и Маяковский выступает на каждом заседании, громит аполитичное искусство. Он предельно, в меру оставшихся сил, стремится соответствовать всей атмосфере. Он ссылается на слова товарища Молотова, он повторяет фигуры обвинительных заключений, он направляет весь полемический пыл на то, чтобы решительно соглашаться, он жует в точности ту же жвачку, что и все остальные, даже в слове, даже в построении фразы не позволяя себе никаких маяковских штучек.
А в цирке репетируют водяную феерию по его сценарию, где кулак, иллюстрируя бухаринскую ересь, норовит мирно врасти в социализм, но тонет в бурных водах пятилетки…
Но рапповцы принимают его сдержанно, а феерию ругают на худполитсовете за недостаток положительных героев (в цирке!).
В Ленинграде, куда перевозят выставку, перепутаны часы на афише, и даже масса дезинформирована и почти не ходит. Маяковский простужен, слабеет, хрипит, он впервые в жизни пускает петуха на публичном чтении, и врач говорит ему, что дело плохо, что надо было в молодости ставить голос, прежде чем заняться такой сугубо актерской работой…
А Главрепертком тормозит «Баню», и когда ее, наконец, выпускают на сцену — неотвратимый провал в ленинградском «Народном доме» словно бы переползает следом за автором, тут же кинувшимся обратно в столицу, и повторяется в Москве у Мейерхольда. Все к одному!
Никаких специальных нападок нет, то, что потом назовут нападками, — это всего лишь несколько критических фраз в большой — о другом — статье Ермилова. Но есть равнодушие, кое-где, быть может, подчеркнутое. И это гнетет его пуще любых нападок. Он психует, он заводится от каждой мелочи и преувеличивает каждую мелочь, и теряет силы, и теряет голос и остатки уверенности в себе.
Наконец, последняя капля в море общественных бед: выступление в Плехановском 9 апреля.
Трудно сказать, действительно ли в этом зале было больше враждебных голосов, чем когда-либо прежде. Лавут успокоил бригадника Славинского, что так уже бывало и все обходилось, Маяковский всегда побеждал. Но на этот раз не обошлось, не могло обойтись. Он пришел на выступление, готовый к разгрому, и был разгромлен.
Не было ни заранее заготовленных шуток, ни рождаемых на ходу каламбуров. Был мрачный, бесконечно усталый, совершенно больной человек, не всегда понимавший, что происходит в зале, — и тупая молодежная аудитория, новое пролетарское студенчество, толпа начетчиков и зубрил, пришедших специально пошуметь, побазарить, размяться после непривычной умственной работы по изучению основ политэкономии.
Уж они повеселились!
Все перевернулось с ног на голову. Он оказался сам одной из тех жертв, которых обычно так безошибочно выбирал в толпе любого состава, для того чтобы в этих чувствительных точках пронзить аудиторию, пришпилить к стульям и раз навсегда над нею возвыситься. Ему продемонстрировали его же оружие, ему вернули его приемы: и вопросы с заранее известным ответом, и ответы, не связанные с вопросами, и уничижительные клички, и нахрап, и перекрикивание — весь демагогический арсенал, вплоть до самого последнего аргумента: незримого образа грозных органов…
Сам себя насадивший на дурацкий крючок «понятности массам», он теперь извивается в немыслимых конвульсиях, стремясь принять такое положение, чтоб не чувствовать в себе этой чуждой стали, чтоб была не боль, а, напротив, одна приятность. «Понятно?» — спрашивает он аудиторию. Она отвечает: «Нет, не понятно!» — Крючок врезается. Он срочно читает другой отрывок, подходит к нему с другого бока, объясняет, акцентирует, задыхается. «Ну, теперь понятно?» — «Не-а, и щас непонятно!» — «Ну как же, товарищи, не может быть, поднимите руки, кому мои стихи понятны». — Поднимают лишь несколько человек из зала, самых сердобольных…
Представим себе этот жуткий вечер: тусклый свет, почти полумрак, бесконечно его раздражавший, давивший на психику; на сцене — мечущийся Маяковский, с трудом преодолевающий спазмы в горле; в аудитории — насмешливый рев и гогот, да два испуганных доброжелателя (один из которых ничего не находит лучше, как показать ему в перерыве тот самый вырванный из журнала портрет), да полное отсутствие содержания во всем, что, в истерике, в спокойной ли злобе, выкрикивают два враждующих лагеря: сцена — и зал. Все какое-то словно нарочно придуманное, и даже главным заводилой зала служит крикун по фамилии Крикун…
Жаль нам Маяковского?
Признаемся: жаль смертельно. Перечтя столько его стихов, повторив столько им сказанных фраз, проследив столько поступков и фактов жизни, невольно чувствуешь себя соучастником и испытываешь не только вполне естественную авторскую нежность к герою, но и простое сочувствие к человеку очень талантливому, не очень счастливому и вот попавшему еще и в такую беду… Здесь, впрочем, соединяется сразу многое. И то, что мы знаем, чем все это кончится и то, что, видя его мучения, все готовы забыть и начать сначала, и то, что нам уже и самим надоело вскрывать и разоблачать, и сейчас, глядя на эту эстраду, чувствуем вдруг: не по нам эта шапка… И уже все то объективно ужасное, что он, конечно же, сделал, как бы отделяется от его фигуры и уплывает в аудиторию сливаясь с ее идиотским гоготом. И хочется нам вскочить и воскликнуть — не в зал, а куда-нибудь туда, за кулисы — «Отпустите его! Это ведь только подросток. Это же вечный несовершеннолетний, он больше не будет. Отпустите его, ну хотя б на поруки, — к маме, к Брикам к друзьям — если есть, если могут быть у него друзья.»
Но такой возможности нам не представится мы можем только смотреть и слушать. Что же он читает всей этой своре, хрипя и едва не плача? «И жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашей буче…» Так он пытается их убедить в своей нужности для них и полезности так он учит их понимать себя.
Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни наглей, Присевших на школьной скамейке Учить щебетать палачей.Вот какие стихи пришлись бы для этого случая. Но их написал не он, а другой, совершенно другой поэт
Нет, уж, видно, была здесь своя неизбежность своя особая, страшная логика.
Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель — Достоин такого рожна…Он начал спокойно, хоть и устало, с бесспорной тирады: «Колоссальная индустриализация Советского Союза уничтожит всякую меланхолическую лирику!» а закончил растерянными самооправданиями, упреками залу, истерикой и немотой. Это можно было предвидеть заранее. Соревнование в преданности и верности не могло быть выиграно отдельной личностью, даже такой, как он. Его выигрывала усредненная масса, безъязыкая уличная толпа, специально построенная и организованная. Улица все же присела и заорала. Но только не голосом Маяковского, а чьим-то более соответствующим. И от этого ора он сам онемел и в ужасе бежал, забыв свою трость, чего прежде с ним никогда не случалось.
4
Крепко держа все это в уме, нам и следует двигаться дальше.
Женщины.
За три последних года их было три, тех, что вызывали серьезные намерения, и волновали они не только его, но, именно ввиду серьезных намерений, и бессменную владелицу его души, «царицу Сиона евреева».
Легче всего обошлось с Натальей Брюханенко. Их роман как-то очень естественно перешел в деловые, дружеские, редакционно-издательские отношения. «Глаз в Госиздате останавливать не на ком, кроме как на товарище Брюханенко».
С Татьяной Яковлевой все оказалось сложнее и гораздо глубже задело всех участников.
В первом посвященном ей стихотворении он и с ней пытается, как с Брюханенко, по-простому, по-пролетарски: «Я эту красавицу взял и сказал: — правильно сказал или неправильно? — Я, товарищ, — из России, знаменит в своей стране я, я видал девиц красивей, я видал девиц стройнее…» Оказалось, сказал неправильно. Оказалось — она не «товарищ».
Сорок дней осенью двадцать восьмого были радостны и до предела насыщены, но уже весной двадцать девятого он очень ясно осознает, что и здесь, фатально, в который раз, он — не единственный. Он, конечно, знал об этом и раньше, но, как всегда, каждый раз заново, надеялся на подавляющее, уничтожающее, захватывающее действие своего обаяния. Как всегда, ошибся.
«У меня сейчас масса драм, — пишет Татьяна матери. — Если бы я даже захотела быть с Маяковским, то что стало бы с Илей, и кроме него есть еще двое. Заколдованный круг».
На самом деле — даже два заколдованных круга, и в одном она, а в другом — он. Потому что и она постоянно чувствует, что, при всех его неистовых призывах и клятвах, ежедневных цветах, телеграммах и письмах, место Первой женщины, властительницы, остается занятым в его душе.
«Все стихи (до моих) были посвящены только ей. Я очень мучаюсь всей сложностью этого вопроса».
Однако властительница и сама не на шутку встревожена. Такого серьезного увлечения в его жизни, пожалуй, не было. Она осведомлена обо всех подробностях (Эльза Юрьевна ведет прямой репортаж). В письмах к ней Маяковского об этом — ни слова, но есть неожиданная дружеская просьба: отправить деньги некоей женщине в Пензу (сестре Татьяны). Возвращается он из Парижа тоже какой-то иной, более независимый и отчужденный, с новыми мыслями и заботами: письма в Париж, переводы в Пензу и эти ужасные, не ей посвященные, публично прочитанные стихи… Да и приехал он только на два месяца, проследить за постановкой «Клопа», и уезжает обратно наутро после премьеры. Это уже 29-й, февраль. Оттуда, из Парижа, он с наивной хитростью усыпляет бдительность своей повелительницы: «И в Ниццу, и в Москву еду, конечно, в располагающем и приятном одиночестве». Он опять возвращается на время, только до осени. Пишет письма, получает письма, шлет телеграммы… И, видимо, в этот последний период до него доходит не все, что отправлено. Чья инициатива и кто здесь действовал, ГПУ или лично Лиля Юрьевна? Известно лишь (свидетельство Риты Райт), что после смерти Маяковского все письма к нему Татьяны Яковлевой были сожжены Лилей Юрьевной — лично…
И еще одна важная инициатива исходит также от Бриков. В мае 29-го года Осип Максимович знакомит его с Вероникой Полонской. Это был безошибочный шаг. Очень красивая, очень молодая и, по-видимому, очень простая н искренняя, она сразу влюбила в себя Маяковского и после неизбежной первой оторопи, привыкнув, привязалась к нему сама.
Начинается его двойной роман: в письмах — с Яковлевой, в жизни — с Полонской.
«По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а чаще». Так он пишет Яковлевой в те самые дни, когда уже регулярно (и чаще) у него бывает Полонская.
В июле он, как всегда, уезжает на юг, там нервно ждет писем от Яковлевой, шлет ей тревожные телеграммы, но там же, в Хосте, встречается с Полонской, и, когда они расстаются на время, он и ее засыпает телеграммами. (Так что те самые спорные строки «я не спешу и молниями телеграмм…» могли действительно относиться и к той, и к другой.)
Осенью он хлопочет о поездке в Париж, очевидно, для того, чтобы вернуться обратно с Яковлевой, — а Полонскую нежно любит, называет «невесточкой» и строит с ней планы на будущее.
Последняя телеграмма Яковлевой отправлена 3 августа, а последнее письмо — 5 октября, уже после запрета на выезд.[28] Она еще там немного сомневается, еще ожидает его приезда, а уже до нее доходят слухи, что он собрался жениться. Можно только догадываться, кто эти слухи приносит, но они ведь не слишком далеки от действительности. Так что его неприезд в Париж она воспринимает как добровольный, тем более что, поживя на Западе, люди быстро забывают, что такое запрет…
В январе он узнает о ее замужестве и, действительно, очень переживает, но сразу же требует от Полонской узаконить их отношения. («Эта лошадь кончилась, — успокоил он Лилю, — пересаживаюсь на другую».)
И вот тут-то пора сказать о главном. Вся беда в том, что Вероника Витольдовна — и она, Господи, и она! — не принадлежала одному Маяковскому, а была ведь женой другого (Яншина). Она хорошо относилась к мужу и никак не решалась открыться. Все это по-житейски очень понятно. Но понятно и то, что Маяковскому в их отношениях, в этих вырванных у внешней жизни часах, в необходимости, едва получив, отдавать — виделся какой-то неизбежный ряд, страшная, тяготеющая над ним закономерность, вечное проклятье необладания.
Полонская никак не разводится с Яншиным, Полонская не хочет оставить театр — это факты не ее, а его биографии, еще и еще одно подтверждение вечного заговора обстоятельств, всегдашней его обделенности. Он лихорадочно мечется в поисках выхода из этой, как кажется ему, ловушки, он то клянется ей в вечной любви, то угрожает ей, оскорбляет, оплевывает. Мучает ее, изматывает себя, а тут еще, действительно, непроходящий грипп и прочие сопровождающие обстоятельства… Он доходит до того в последние дни, что в любом окружении, на любой площадке, будь то ресторан, квартира друзей или даже собственная его комната, чувствует себя, как на той эстраде в Плехановском: везде ему чудятся насмешки, враждебность, унижение. Он, такой сильный, такой наполненный, такой всегда великий и гордый, теперь бессилен, пуст и смешон. Смешон! — вот самое страшное, вот катастрофа. 12 апреля он составляет меморандум, в котором по пунктам, канцелярская душа, набрасывает план разговора с Полонской, решительного и последнего. Там дважды повторяется это слово: «я не смешон при условии наших отношений» и еще: «нельзя быть смешным!» Там же он записал о самоубийстве: «Я не кончу жизни, не доставлю такого удовольствия худ. театру». Бред, безумная смесь понятий, в общем-то свойственная ему от природы, но в эти последние несколько дней ставшая сутью существования.
Полонская в ужасе и отчаянии, она просит его обратиться к врачу, отдохнуть, расстаться на какое-то время — все это лишь усугубляет его безумие. Непрерывные скандалы, страшные сцены, то садистские, то мазохистские приступы… Перед нами совершенно больной человек. Но не временно, как считает Полонская, а больной постоянно, больной всегда, переживающий резкое обострение, дошедший теперь до крайней черты.
5
«Мысль о самоубийстве, — пишет Лиля Юрьевна, — была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях… Всегдашние разговоры о самоубийстве! Это был террор».
Однажды (по другой версии — дважды) он уже стрелялся в молодости. Тогда, если верить его рассказам, пистолет дал осечку, и он не стал повторять. В этот раз он тоже — вынул обойму и вложил только один патрон. Он еще надеялся выжить…
Где-нибудь в случайной компании, за картами, совершенно на ровном месте, он вдруг слегка отворачивался в сторону, хлопал в ладоши и произносил чуть ли не радостно: «К сорока застрелюсь!» (Когда был моложе, называл другую цифру: «К тридцати пяти — обязательно!») Здесь, конечно, проявлялся его страх перед старостью, которой он боялся еще больше, чем смерти, но была здесь и стойкая навязчивая идея, уже потерявшая исходные корни, лишенная причинного ряда:
А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою…Все упоминания в стихах о самоубийстве давно уже собраны вместе и много раз перечислены. Но есть и другие, не менее частые:
…я увенчаюсь моим безумием…
…уже наполовину сумасшедший ювелир…
…от плача моего и хохота морда комнаты выкосилась ужасом.
…на сердце сумасшедшего восшедших цариц…
..да здравствует — снова — мое сумасшествие!..
…пришла и голову отчаяньем занавесила мысль о сумасшедших домах.
Конечно, всегда готово возражение, что это поэтические фигуры, не более. Но ведь с таким же успехом можно сказать, что и те, самоубийственные строки — тоже фигуры. Мы знаем теперь, что это не так, что это не только так.
И по камням, острым, как глаза ораторов, красавцы-отцы здоровых томов, потащим мордами умных психиатров и бросим за решетки сумасшедших домов!Откуда такой кровожадный счет психиатрам?
Разговор о психическом здоровье поэта — штука тонкая и обоюдоострая. Легко ли здесь отделить черты патологии от характера личности и характера деятельности? Известно, что вообще к людям искусства врачи применяют иные критерии и рамки нормы для них существенно шире. А иначе — кого из русских писателей мы могли бы назвать нормальным? И здесь Маяковский не исключение, а лишь подтверждение закономерности.
«Я не помню Маяковского ровным, спокойным, — говорит Полонская. — Или он был искрящийся, шумный, веселый… — или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражался по самым пустым поводам. Сразу делался трудным и злым».
«Какой же он был тяжелый, тяжелый человек!» — вторит ей Эльза Триоле. Описав несколько безумных скандальных выходок, она поясняет: «Рассказываю об этих незначительных случаях оттого, что характерна именно их незначительность, способность Маяковского в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела…»
Жизнь его и близких к нему людей отягчалась еще ведь и рядом странностей, ни одну из которых мы, конечно, не можем назвать болезнью, но которые в общем создавали свой нездоровый фон.
Мания чистоты, боязнь заразиться.
Мания преследования, боязнь воров и убийц.
Ипохондрия, мнительность — все эти бесконечные градусники.
Мания аккуратности: педантично раскладывал вещи, каждую на свое непременное место, безумно злился, если что-то оказывалось не там, где положено.
Сюда же можно отнести (а можно выделить особо) вечные занудливые придирки ко всякому обслуживающему персоналу, от ссор с собственными домработницами — до вызова директоров ресторанов и писания длинных обстоятельных жалоб.
И, наконец, самое главное: навязчивая мысль о самоубийстве, усиленная страхом смерти и старости, бесконечно опасная сама по себе, — смертельная на всем этом фоне.
Все обстоятельства последних месяцев и особенно последних апрельских дней были словно специально сведены и направлены на то, чтобы усугубить его болезнь.
Его состояние ухудшается на глазах. Резкая, полярная смена настроений становится все более и более частой, вот уже и по нескольку раз на дню, — как будто чья-то нетерпеливая рука все быстрее прокручивает фильм его жизни, торопясь увидеть конец…
Любого дополнительного препятствия в этом состоянии было достаточно, чтобы оказаться последним толчком. Таким препятствием стал отказ Полонской (бросить театр, не ехать на репетицию, остаться немедленно и навсегда в этой комнате, сейчас же объявить мужу и т. д.).
Его меморандум («не кончу жизни»), все его поведение в это утро говорят о том, что, даже написав письмо, он еще не принял твердого решения. Лиля Юрьевна свидетельствует, что подобные письма он писал уже не один раз. Полонская могла согласиться и остаться, пистолет мог не выстрелить, кто-то мог помешать — и все бы опять обошлось. Но только думается, на этот раз—ненадолго. У него уже не было сил уцелеть, он был обречен.
6
Полонская едва притворила дверь, как раздался выстрел. Вернувшись, она застала его еще живым, он еще пытался поднять голову…
Первыми набежали чекисты, благо бежать им было ближе других, на Лубянку с Лубянки. Первый снимок — распластанного на полу Маяковского — Агранов лишь однажды показал лефовцам чуть ли не из собственных рук. Тело сейчас же перенесли в Гендриков, комнату опечатали, и даже Лилю Юрьевну туда допустили гораздо позже.
Был понедельник. Брики приехали во вторник 15-го на четверг назначили похороны. Маяковскому по чину полагался орудийный лафет, но ввиду самоубийства его посмертно понизили и выдали простой грузовик. Татлин обил его железом, Кольцов сидел за рулем Все речи естественно, были—«о разных Маяковских» точнее говоря, о двух. Один был великий поэт революции (после смерти это уже разрешалось), оптимист и непримиримый борец, другой — слабый, больной человек подменивший первого. Расходились только в вопросе, на сколько времени: на месяц, на несколько дней, на миг… Все были в общем-то правы Демьян написал в газете: «Чего ему не хватало?» — и тоже был прав.
Наследство — поначалу, видимо, скромное но обещавшее разрастись до солидных размеров — поделили между семьей Маяковских и Лилей Юрьевной. Отныне сносная, даже очень сносная жизнь им была гарантирована.
А для бедной Полонской «товарищ правительство» не без помощи Лили Юрьевны, обернулось суровым кремлевским чиновником с хорошей фамилией Шибайло. Он предложил ей путевку в дом отдыха. Она отказалась.
Глава одиннадцатая ВОСКРЕСЕНИЕ
1
Итак, обстоятельства, приведшие Маяковского к гибели, наблюдаемы и вполне поддаются названию. И, однако же, отодвигаясь во времени, явственно чувствуешь, как все они стягиваются в одну роковую точку, и словно бы видишь ту самую руку, крутящую фильм. И совсем уже странное возникает чувство: что рука эта не вполне враждебна Маяковскому, что жизнь его в последние месяцы была ускорена, сжата во времени, специально для того, чтоб во всю длину распрямиться в ином существовании.
Маяковский умер ровно в тот самый момент и в точности той единственной смертью, какая была необходима для его воскресения. Я, конечно, имею в виду не физический акт, но посмертную жизнь его произведений, его имени и его рабочего метода.
Выполним контрольное упражнение: представим себе, что он прожил еще лет пять или шесть. Мы увидим, что каждый последующий момент его вероятной физической жизни несет в себе серьезную опасность для жизни посмертной. Прежде всего: что бы он мог еще написать? Съездив в колхоз с писательской группой, он бы выстроил такую страну Муравию, что не только «Марш двадцатипятитысячников», но и «150000000» показались бы детской игрой. А ведь дальше — голод 32-го, Беломорканал 34— го и множество прочих славных событий. Он, по точному выражению Михаила Кольцова, «каждый день дышавший злобой этого дня», нагрузил бы тома своих произведений таким непомерным грузом, что они бы, глядишь, и раздавили в конце концов весь хрупкий слой сегодняшнего сочувствия. И давний романтический Маяковский, даже без наших наблюдений и выводов, стал бы распадаться на глазах у читателей, как распался, следов не найти, романтический Горький…
Но добавим ему от щедрот своих еще два-три года физической жизни. Опасность, до глупости очевидная, возникнет уже с другой стороны. Даже мирно и тихо женившись на Полонской, живя в кооперативной квартире (на которую он еще успел записаться), окончательно приглушив темперамент и голос, став заурядным литературным совслужащим (каким он уже, по сути, и стал) — он бы, надо думать, был все равно уничтожен, если не за былую свою заметность, то уж точно — за чекистские связи.[29] Брики ведь уцелели только благодаря его славе, он же сам уцелел — только благодаря своей смерти.
И казалось бы, такой мученический конец мог еще более, чем самоубийство, способствовать полноте и длительности его посмертного существования. Для другого это бы, может, и так, для него — иначе.
Образ Маяковского как поэта и личности всегда складывается из двух частей: из читательского восприятия, своего и чужого — и из совокупности всех проявлений его официального признания. Нет, это не обычное взаимодействие собственного и привнесенного, это не тыняновский «Пушкин в веках» — явление действительно чуждое, внешнее, пусть с трудом, пусть не всегда до конца, но хотя бы в принципе отделимое от живого поэта. Рукотворный памятник Маяковскому — обобщенный, Бесплановый, всематериальный — есть неотторжимая, едва ли не главная, часть его совокупного образа, его собственное центральное требование к жизни, наполнение жизни, смысл существования. Лишить его посмертный образ всего того, что в нем составляет памятник, — значит говорить о другом человеке и другом поэте, о таком из «разных Маяковских», которого не было.
Страшное уничтожение властью, ничего существенного не изменившее в посмертной поэтической судьбе Мандельштама и даже, быть может, прибавившее что-то Пильняку или Артему Веселому, — было бы губительным для Маяковского. Как губительным было бы смещение назад, допустим, к двадцать третьему году, к последним из самоубийственных строчек («прощайте, кончаю, прошу не винить»), оно также лишило бы его памятника — он бы просто не успел его заслужить.
Семь последних тучных лет его жизни, семь тощих лет его творчества, эти семь отчасти уже посмертных лет — для того специально и были назначены. Этот словно бы творческий замысел внешних сил по отношению ко всей судьбе Маяковского наполняет его жизнь странным и жутким значением.
2
Жизнь поэта, естественно и очевидно, завершают его последние стихи. Смерть может застать человека в любом состоянии, но смерть поэта с удивительной точностью останавливает его перо на нужных словах, таких, чтобы после служили ключом и символом.
«Инцидент исперчен» — последние стихи, переписанные рукой Маяковского, но сочинены они на много месяцев раньше. Последние написанные им стихи — это или «Марш двадцати пяти тысяч» («Враги наступают, покончить пора с их бандой попово-кулачьей»), или, быть может, «Товарищу подростку» («Мы сомкнутым строем в коммуну идем и старые, и взрослые, и дети. Товарищ подросток, не будь дитем, а будь— боец и деятель!»). Что ж, мы, конечно, могли бы сказать, что как раз эти стихи хорошо выполняют выпавшую им роль — ключа и символа. Но тогда перед нами — карикатура, не портрет, не облик, в конечном счете — не жизнь. Все это в значительной мере соответствует истине, и однако же хотелось бы думать, что не только жизнь Маяковского, но и наш разговор о нем заслуживает более серьезного завершения.
И поэтому мы, в полном соответствии с нашим предметом, повторим подмену, уже ставшую традиционной, и лишим последние стихи Маяковского ранга последних стихов. В этот ранг, давно и вполне заслуженно, возведена его последняя поэма.
Вступление в поэму «Во весь голос» — это квинтэссенция всего его творчества, сгусток его поэтической личности или того, что ее заменяло. И, конечно, главная тема этой предсмертной вещи — заклинание далекого прекрасного будущего, утверждение своего живого присутствия в нем, то есть снова, так или иначе — своего воскресения. Выпишем несколько с детства заученных строк:
Слушайте, товарищи-потомки, агитатора, горлана-главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. Я к вам приду в коммунистическое далеко не так как песенно-есененный провитязь. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима.Как бы мы ни относились к содержанию этих стихов, мы не можем не признать их поразительной силы, их абсолютной словесной слаженности. Безошибочно верно выбраны в поэме все интонационные переходы, все акценты расставлены с безоговорочной точностью, достойной великого мастера. Яркость словесных формулировок доведена до высшего пилотажа, почти все они сегодня входят в пословицу.
Единственная дань «научной фантастике» — развернутое сравнение стихов с войсками, но и этот кусок энергичен и не слишком длинен. Однако же давайте здесь остановимся, проявим некоторую тенденциозность, благо это нам не впервой. Давайте ухватимся за этот недлинный хвостик и вытащим кое-что покрупнее.
Только ли «к жерлу прижав жерло» — невозможный, неосуществимый образ? А само по себе «жерло заглавий»? А «кавалерия острот» — вообразима ли она? Да и весь строчечный фронт, так красиво словесно построенный, выстраивается ли в реально зримую картину?
Не выстраивается, но самое главное, что этого словно бы и не надо. Вся эта часть поэмы Маяковского — лучший пример виртуозной демагогии, мастерской подгонки под заранее заданный, чисто умозрительный, вполне бумажный шаблон.
В исходном пункте — старый наш друг речевой штамп. Надо было показать аудитории (настоящей? будущей?), что стихи — боевые. Значит, естественно, страницы — войска, рифмы — пики и тому подобное.
Поиск соответствующих аналогий — вот задача, которую выполняет стих, а подогнанные под исходную задачу аналогии не могут быть точны и единственны. Их необязательность очевидна. Пики рифм и кавалерия острот могли быть пиками острот и кавалерией рифм, от этого мало бы что изменилось. На одной странице строки — железки, на другой — линии войск, строчечный фронт. Как связать? А никак, не берите в голову, все это только слова. «В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая…» Помню, в детстве, специально заучивая эти, бесконечно любимые мной стихи, я никак не мог заставить себя раз навсегда разобраться и не путаться в родительных падежах. В курганах книг, в курганах строк, железки строк, железки рифм… Только взрослая трезвая логика позволяет, и то без особой уверенности, расставить все эти слова по своим местам.
Двигаясь в обе стороны от этого центра, к концу и началу поэмы, мы обнаружим другое, не столь явное, но более важное противоречие, лежащее в основе всей маяковской поэтики.
О чем, собственно говоря, поэма? Она — об авторе. В ней сосуществуют две параллельные темы: грядущее заслуженное воскрешение — и развернутая самохарактеристика, которая и делает его заслуженным.
«Вы, возможно, спросите и обо мне». Потомки мало что знают о поэте, его стихи им неизвестны или недостаточны, и вот поэт вынужден сам рассказывать, кто он такой и чем занимался. Это с одной стороны. А с другой: «заглуша поэзии потоки… как живой с живыми…» Стих войдет в грядущую жизнь, станет обиходным и нужным. Но тогда — наденьте очки-велосипед, все в порядке, и не о чем беспокоиться. Казалось бы, так, и, однако, чуть дальше возникают те самые курганы книг, похороненные в них стихи и железки строк, лишь случайно обнаруживаемые в общей окаменелой куче. Значит, что же, стих не прорвет громаду лет и хребты веков? Начинаем заново. Славы нет— и не надо, признания нет — и пускай. Пускай нам общим памятником будет. Умри, мой стих, как рядовой, безымянный. Но если так, если автор примирился и с этим, — зачем же тогда тянуться и превышаться и вздымать выше всех голов партийные книжки? Зачем на самом высоком пафосе выкрикивать немыслимое «Це-Ка-Ка», заклиная этим гортаным клекотом не только будущее, но и настоящее?
Всех этих взаимоистребительных зигзагов было бы более чем достаточно, чтоб дискредитировать, разодрать на части, уничтожить любое произведение. Но удивительным образом для Маяковского они остаются вполне безопасными, ибо касаются лишь тех понятий, которые чужды его системе: чувства реальности, чувства факта, наконец — действительной мотивации.
Самое поразительное в этой поэме — то, что в мире оболочек она совершенна. Более, чем какое-либо другое произведение, она наводит на мысль о «нечеловечьей магии», о некоей сверхъестественной силе, наполняющей пустые исходно слова. Недаром Юрий Тынянов, острый читатель, заметил как раз в связи с этой вещью, что стихи Маяковского были «единицами скорее мускульной воли, чем речи». Ни образный, ни смысловой подход не выявят главного в поэме: направленного, мощного потока энергии, почти не связанного с содержанием слов, а как бы проносящегося над ними и захватывающего все, что попадется в пути. Это уникальное произведение, где каждая строчка крылата и нет ни одной правдивой, производит жуткое впечатление.
Над бандой поэтических рвачей и выжиг…
Так и видишь, как он, воскресший в будущем, тяжелый, мрачный, не знающий смеха, огромный как кустодиевский большевик, давя и расшвыривая поэтов, пробирается к какой-то трибуне, непременно высокой и рассиявшейся неживым хирургическим светом, и вверх-вниз и вперед-назад движется огромная челюсть.
Помилуй Бог, уж не сам ли дьявол и есть?
Не в первый раз, вслух или мысленно, произносим мы это слово. Что оно означает в нашем контексте? Наполняется ли каким-то конкретным живым содержанием или остается простым ругательством, обобщенным выражением отталкивания, неприятия?
Вряд ли возможен серьезный и однозначный ответ на этот вопрос. Между тем, охотников обсудить его найдется сегодня немало.
3
Новое религиозное возрождение, которое мы как будто вокруг наблюдаем, не столько приобщило нас к истинной вере(какова она, истинная?), сколько вернуло нам бога и дьявола(особенно дьявола!) в качестве универсальных средств выражения. Мы вновь получили удобный инструмент, легко приложимый к любой ситуации, к любой судьбе, будь то человек или целый народ. Это — дьявол, говорим мы уверенно, а это — не дьявол. А вот это — не дьявол, но кое-что в нем от дьявола. И все становится на свои места, все неясное обретает ясность, больше нечего выяснять, больше не о чем спорить. Заманчиво, верно?
Целиком переведенный на эти рельсы, разговор о нашем герое катился бы сам, без всяких усилий, и занял бы несравнимо меньше места и времени. Конечно, сейчас, уже после всего, что сказано, даже краткое изложение этой версии будет выглядеть цепью ненужных повторов. Но коль скоро мы тронули эту тему, позволим себе небольшую избыточность, назовем хотя бы несколько главных из ряда очевидных ориентиров.
Итак, дьявол. Антипоэт. Миссия его в этом мире — подмена. Культуры — антикультурой, искусства — антиискусством, духовности — антидуховностью.
Был избран подходящий молодой человек: тщеславный, с неустойчивой робкой душой, но с высоким ростом и сильным голосом, то есть резко выделяющийся по внешним данным. За сто лет до того держателем высшего дара, носителем божественного огня, явился человек ниже среднего роста, со смешной, по сути дела фамилией. Для дьявольского замысла была необходима яркая, заметная издали оболочка и такое же яркое, значащее имя.
Сначала его лишь направляли и подпитывали. Отсюда, с одной стороны, огромная энергия, с другой — еще живое выражение лица, без улыбки, но все-таки живое, не маска. Позднее, допустим, к 15-му году, состоялась окончательная передача его души в чертово ведомство.
Подмена — цель, но она же и средство. Поэтому подмена всегда неполная. Никакое человеческое восприятие не справилось бы с откровенной имитацией, лишенной всего человеческого. И вот ему оставляют любовь к женщине, обиду и душевную боль. Призывы к надругательству над всем, что свято, уравновешиваются героической демагогией: «Душу вытащу, растопчу, чтоб большая…» (В то время он еще часто употреблял это слово, но всегда только в механическом смысле, как отдельный, вынутый из тела предмет.)
Дальше идет соблазнение женщиной, кровавый договор… классический ход, отработанный на протяжении многих столетий, 17-й год, хаос, катастрофа, все перевернуто с ног на голову, а у новой власти, у механического общества — уже свой готовый великий поэт. Поэт, которого признает Блок, уважает Горький, прославляет Цветаева…
Он честно отрабатывает каждый пункт договора, он проявляет фантастическую трудоспособность, с пользой расходуя каждый квант сообщенной ему энергии. Менее чем за десять лет он успевает вывернуть наизнанку любой аспект окружающей жизни, снабдив его яркой привязчивой формулой.
К середине двадцатых годов из его души почти полностью вытесняется все человеческое — и в это же время ему начинают постепенно уменьшать подачу энергии, вплоть до полного ее перекрытия. Дело сделано, он больше не нужен и со временем будет лишним.
Однако его заслуги были отмечены.
Ему был сообщен последний импульс, чтоб он мог написать последнюю поэму. Не поэму даже, а только вступление, но в этом как раз и главный подарок. Он был просто спасен, убережен от поэмы. Зато вся подаренная ему энергия сконцентрировалась в этом небольшом отрывке и достигла такой степени плотности, что источник ее почти очевиден.
«С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемо-хвостатых…»
Наконец — последняя страшная милость, дарованная ему низшими силами: за великие труды и верную службу ему даровали трагедию. Его жизнь, все более к этому времени становившаяся похожей на пошлую историю, неожиданно для всех завершилась трагедией, в подлинности которой никто не мог сомневаться. Из чиновничьих склок, из халтурных страстей тридцатого советского года был переброшен незримый мост в романтическое бунтарское прошлое. Самоубийство примирило с ним многих и многих и окрасило в цвет высокой трагедии каждую строчку его стихов и каждый его поступок. Он получил все возможные виды памятников, миллионные тиражи, многотомные исследования. По всему миру оплеванные им интеллигентики ползают на коленях с лупой в руках над каждой им написанной буковкой. Договор был выполнен до конца. И как знать, не входил ли в него еще пункт о реальном физическом воскрешении — не в том же, конечно, буквальном виде, но, допустим, в слегка измененном? Тогда и это будет исполнено, у них без обмана. Вот только дождутся подходящих событий, чтоб не так, не зазря…
Мы даже могли бы предположить, слегка продолжив эту игру, что чудесное воскресение Маяковского уже имело место в советской реальности, столь богатой всякими чудесами. Произошло это, разумеется, в виде фарса и сразу в трех ипостасях. Три поэта: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Каждый из них явился пародией на какие-то стороны его поэтической личности.
Рождественский — это внешние данные, рост и голос, укрупненные черты лица, рубленые строчки стихов. Но при этом в глазах и в словах — туман, а в стихах — халтура, какую разве лишь в крайнем бессилии позволял себе Маяковский.
Вознесенский — шумы и эффекты, комфорт и техника, и игрушечная, заводная радость, и такая же злость.
Евтушенко — самый живой и одаренный, несущий всю главную тяжесть автопародии, но зато и все, что было человеческого…
Все они примерно в одно время прошли через дозволенное бунтарство, эстрадную славу, фрондерство, полпредство. Все, впрочем, в соответствии с собственным жанром, намного пережили возраст Маяковского и, будем надеяться, проживут еще долго и окончат жизнь без трагедий. Ни обостренного чувства слова, ни чувства ритма, ни, тем более, сверхъестественной энергии Маяковского — этого им было ничего не дано. Но они унаследовали конструктивность, отношение к миру как к оболочке, отношение к слову как к части конструкции, отношение к правде слова и правде факта как к чему-то вполне для стиха постороннему. Они возродили кое-что из приемов: положительную самохарактеристику, блуждающую маску, дидактику… И еще из предыдущей своей инкарнации они заимствовали одну важнейшую способность: с такой последней, с такой отчаянной смелостью орать верноподданнические клятвы, как будто за них — сейчас на эшафот, а не завтра в кассу…
Так, ведомые логикой личности Маяковского, мы становимся объектом его же пророчеств: «Профессора разучат до последних нот, как, когда, где явлен. Будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть о богодьяволе, Заметим, однако, сходство идиота с воскрешающим химиком: тот тоже лобастый…
Ну конечно же, мы не можем такой подход принять за серьезное средство анализа. И вообще спекулятивная эта конструкция нам хорошо и давно знакома. Она ведь есть не что иное, как все та же развернутая метафора, буквально преследующая нас по пятам. Крайние иррациональные понятия используются лишь как прикрытие метода. И так же мы поиск точного имени заменяем готовым прозвищем, кличкой.
Но ведь прозвище тоже — оно подходит не всякому. Здесь же есть ощущение, что очень подходит и даже как будто бы объясняет. Не оттого ли это, что странность судьбы Маяковского и впрямь выходит за рамки человеческой странности, а его недосказанность как поэта располагается совершенно в иной сфере, нежели то, что мы зовем поэтической тайной?..
4
Здесь, однако, нам следует остановиться. Все-таки область потустороннего остается за пределами нашей системы понятий, а если и соприкасается с ней, то лишь самым краем, той очевидной периферией, что доступна любому непосвященному.
В этих условиях смерть героя, даже такого бессмертного, немедленно, или почти немедленно, обрывает
сюжет повествования. Конец жизни — конец движения, что бы там еще ни говорилось после. И если наш разговор не окончен, если есть необходимость его продолжить, мы должны примириться с тем, что он будет статичен — или подчинен другому ритму, другой мелодии. Это тем более справедливо, что тема посмертной судьбы Маяковского неизбежно переходит в тему других поэтов, то есть в тему их большей или меньшей причастности к тому, что составляло его суть как поэта.
Существует взгляд, согласно которому наши самые главные желания всегда исполняются. Только каждый раз силы судьбы, ловко пользуясь нашим несовершенством: неточностью слов, несходством критериев, — выдают нам то, чего мы просили, но не то, чего ждали.
Маяковский получил свое воскресение, но не в федоровском „научном“ смысле, не путем синтеза нужных молекул и наращивания мяса на мертвые кости (кстати, сожженные в крематории — соответствовало ли это его убеждениям?). Он получил вожделенное свое воскресение в той предельно осуществимой форме, какую допускают законы жизни и смерти по отношению к поэту и человеку. Но при этом выбор инварианты, то есть тех основных, определяющих качеств, которые бы дали возможность говорить не о воздействии, а именно о воплощении, был сделан судьбой по собственному ее разумению, без дополнительных вопросов к заказчику. Он писал прошение на имя химика: „заполните сами…“ Возможно, скорый ответ из будущего не показался бы ему целиком положительным. Но мы-то, глядя со стороны и отчасти уже из этого будущего, ясно видим исполнение его желаний. Другой вопрос — насколько это нам по душе…
Цветаева написала о Маяковском: „первый в мире поэт масс“. Она, конечно, повторила (или предварила) расхожий штамп. Однако из этих уст все звучит иначе, из этих рук хочется все принять. Задумываешься: как знать, может, и здесь есть своя правда. Поэт масс — не обязательно поэт для масс, но поэт, отразивший какие-то стороны массового сознания, вобравший, сгустивший и сконцентрировавший ее, массы, способ отношения к миру. Любопытно, что после сигнала сверху первым воплощением Маяковского, пусть формальным, но зато легко узнаваемым, была именно масса — масса пишущих. Внедрение его имени в газеты и радио, включение произведений в школьные программы привело к быстрой переориентации графоманского, или, скажем, любительского потока. Масса пишущих очень скоро обнаружила, что писать под Маяковского» интересней и легче, чем под Блока или Есенина, особенно если сатиру и юмор и прочую гражданскую лирику. Внешняя стихотворная атрибутика была здесь выражена ярче и четче, вместе с тем неравностопный размер избавлял, как казалось, от необходимости точной подгонки строчек, давал ощущение размаха и свободы. Отсутствие чего-то кроме, чего-то сверх чувствовалось в гораздо меньшей степени, чем в имитациях классического метра и строя. И вот стенгазеты всей страны, а затем и редакции газет и журналов заполняются строчками, разбитыми в лесенку, составными рифмами, звучными суффиксами и осторожными неологизмами. Народ пишет о несданных зачетах, о недовыполненных обязательствах, о врагах народа, о бодрости духа и о прочих важных проблемах дня…
Полноценных, профессиональных воплощений пришлось еще дожидаться долго, для них нужна была смена поколений. Но характер их можно было предсказать заранее по прижизненному влиянию Маяковского, а вернее, по прижизненному его внедрению в творчество разных поэтов. Внедрение это было всегда тем сильнее, чем больше обнаруживалось совпадений, и тем губительней, чем талантливей был поэт:
Для Асеева, Кирсанова, Сельвинского и прочих близость к Маяковскому была безусловным благом. Они отточили свое мастерство, они оценили вкус профессии, узнали во всех деталях, «как делать стихи».
Крупной дозой Маяковского в разное время облучились и большие поэты: Пастернак, Заболоцкий. Доза, по счастью, оказалась не смертельной и лишь способствовала поэтическому иммунитету.
Пастернак, однако долгое время находился в критическом состоянии.
…что ты не отчасти и не между прочим Сегодня с рабочим, — что всею гурьбой Мы в боги свое человечество прочим, То будет последний решительный бой.В этом лефовском шедевре его еще нетрудно узнать. Есть стихи того же, лефовского времени, где он менее узнаваем:
Уместно ль песнею звать содом, Усвоенный с трудом Землей, бросавшейся от книг На пику и на штык?(«Но землю, которую завоевал…»)
Лесенка здесь, признаюсь, моя, но стихи — действительно Пастернака.
Сейчас нам уже нелегко представить, насколько серьезной была ситуация.
«Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружились непредвиденные технические совпадения, сходные построения образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось».
Лучшего не требовалось!
Не опомнись он вовремя (а лучше бы раньше), не было бы у нас Пастернака, а было бы полтора Маяковских или, скажем, 1,75, если за четверть признать Асеева.
Сфера совпадений очерчена им очень точно: совпадения преимущественно технические и лежат в области построений. Пастернак, в отличие от Маяковского, не разламывал, не расчленял реальности, он строил с помощью «бога детали» ее целостный образ. Но образ этот он именно строил, конструировал и в — том совпадал с Маяковским. В этих точках они зацеплялись намертво, и Маяковский, как человек более сильный во всех зримых, внешних проявлениях, неуклонно втягивал в себя Пастернака. Мы должны быть по гроб жизни благодарны Брикам и всей лефовской веселой компании за то, что они оттолкнули, исторгли из себя его чуждую душу, вместо того чтоб навек ее поглотить.
Все изменяется под нашим Зодиаком, Но Пастернак остался Пастернаком.Эта эпиграмма Александра Архангельского звучит сегодня как вздох облегчения.
5
И был еще один большой поэт, в одиночку получивший в полном объеме то, что, быть может, причиталось нескольким. Этот не спасся, не уберегся. Вернее, не убереглась…
Для Марины Цветаевой «ранний» и «зрелый» периоды разделяются не Революцией и даже не отъездом на Запад. Граница проходит в промежутке, через стих «Маяковскому». Различие периодов — принципиальное, и это при том, что двух разных людей в ней не было. Цветаева ранняя, Цветаева поздняя, молодая, зрелая или стареющая — это одна и та же женщина, удивительна в ней как раз неизменность и верность себе. Здесь все всегда на крайнем пределе: предельная страсть, предельная искренность, предельная боль и горечь. Как ни относиться к стихам Цветаевой, она вечно останется самой трогательной, самой больной, всем нам болящей, фигурой в русской поэзии. Она, в отличие от Маяковского, всегда подлинная, всегда единственная, с открытым, вернее сказать, обнаженным (порой до назойливости) лицом.
Но одно совпадение существовало, и оно оказалось решающим. Это, конечно, роковая заданность, изначальная конструктивность мышления и особенно — отношения к слову. В ранний период конструктивный стержень еще перекрывается, обволакивается естественным ритмом и строем речи. В дальнейшем этот стержень послужил крючком, за который из гармонических струй ее вытащили на твердую жесткую палубу. Скажем, на палубу ледокола:
Сегодня — смеюсь! Сегодня — да здравствует Советский Союз! За вас каждым мускулом Держусь и горжусь: Челюскинцы — русские!Насколько иначе звучала эта тема у другой, ранней Цветаевой: «Мне имя — Марина, мне дело — измена, я бренная пена морская»! Между этими периодами — водораздел, он ясно обозначен и громко назван.
Превыше крестов и труб, Крещенный в огне и дыме, Архангел— тяжелоступ — Здорово, в веках Владимир!Это сильные, точные, крепкие стихи, но отчего же их всегда так грустно, так страшно читать? Оттого, что после них — потоп. После них начинается совсем иная Цветаева, не столько выражающая себя через слово, сколько слово насилующая, терзающая, чтоб оно ее, будь оно проклято, выразило. Надоевшая ей «уступчивость речи русской» сменяется войной не на жизнь, а на смерть.
Всякое истинное новаторство есть нарушение только для косной традиции, по отношению же к законам природы, гармонии, восприятия, творчества — оно всегда лишь более точное их соблюдение. Есть одно, диктуемое этими законами, необходимое качество стиха, без которого он распадается: самочитаемость. Стих может быть как угодно сложно устроен, но он должен читаться сам, без помощи внешних приемов, не содержащихся внутри просодии. Такие приемы, не доверяя стиху, всегда навязывают ему актеры, и то же самое бывает с поэтами, если их умозрительная установка не укладывается в гармонический строй, не сживается с жизнью слова.
Чтоб высказать тебе… Да нет, в ряды И в рифмы сдавленные… Сердце — шире?Так жалуется (и не раз) Марина Цветаева на стесненность стихотворной формы, на ограниченность ее возможностей. Все эти рифмы, строфы — только помеха на пути свободного изъявления чувств. И она права. Она права правотой человека, изъясняющегося, а не живущего стихом.
Ощущение искусственности поэтической речи, вообще говоря, не признак слабости, скорее даже наоборот. Оно стоит того, чтобы быть преодоленным гармонией. Но только в этом единственном случае оно имеет право на существование, вернее, на предшествование творчеству. Однако в стихах зрелой, второй Цветаевой оно не предшествует, а сопутствует и почти всегда остается в остатке. Рационально, умозрительно построенный стих не вмещает в себя полноты авторских чувств, он давит их принудительным ритмом, ограничивает необходимостью рифмовки, постоянно идет не в ногу с автором. Самочитаемость напрочь ему не свойственна, она для него губительна. Будучи прочтен сам по себе, он не только не выразит того, что надо, но не дай Бог добавит еще и лишнего… И вот автор начинает его усмирять, скручивать, давить на каждое слово, чтоб оно выражало не то, что выражает, а подлинные чувства и мысли. (Еще раз заметим, что у Цветаевой мысли и чувства всегда подлинные и только стих уж так неудобно устроен…) Это делается с помощью переносов фраз, обрывов строки, выделений курсивом, но более всего — различными знаками. Стихотворение становится целой пьесой со сложной системой знаков-ремарок, число которых порой превышает количество слов. Чтение превращается в разыгрывание спектакля. Это действие, утомительное для читателя и унизительное для поэта, поглощает все силы и все внимание, не дает почувствовать собственно стих. Но не это ли и требовалось?
Читатель ни на минуту не оставлен в покое, он должен следить, он должен произносить, одни слова громче, другие тише, и опять громче, и еще громче, и сделать паузу, и оборвать вовремя… И все эти сложные внешние действия призваны или заменить недостающие, или приглушить нежелательные собственные, внутренние свойства стиха.
Piccicato'ми… Разрывом бус! Паганиниевскими «добьюсь!» Опрокинутыми… Нот, планет — Ливнем! — Вывезет!!! — Конец… На-нет…В этих стихах, даже разбитых в маяковскую лесенку (на сей раз уже автором), ни одно слово не живет само по себе, каждое сжато или растянуто, вздернуто или приплюснуто. А называются стихи всего лишь «Ручьи». И они о ручьях.
Разумеется, и во втором цветаевском периоде есть свои несомненные взлеты. Временами она вдруг как бы просыпается от страшного сна, где все, как и полагается в страшном сне, подчинено несуществующим закономерностям и изливается в свободном, живом стихе. Однако и здесь результат стиха — не зримый или звучащий образ, а звучная формула, афоризм, порой достаточно громкий и яркий, но не знающий эха и последействия…
От этой, выматывающей силы и нервы, неблагодарной борьбы со стихом она с облегчением уходит в вольную прозу. Ее достижения здесь бесспорны. Здесь она умна, артистична, щедра и богата. Проза Цветаевой— это подвиг, вполне достойный ее нищей мучительной жизни. Но и здесь обнаруживается водораздел между органическим и конструктивным, хотя, возможно, и не столь однозначно отнесенный ко времени. Пожалуй так, что временная рамка очерчивает скорее не момент написания, а предмет разговора: человека, событие. Там, где предмет определен и ясен, то есть, как правило, в прошлом и давнем, проза Цветаевой точна и насыщенна. Там же, где предмет не особенно четок, где нет необходимости, а есть лишь повод, — там опять совершается насилие над словом, там слово подменено словами, там фразой, абзацем, страницей подменяется мысль. Заведенная ею пружина речи каждый раз должна раскрутиться до конца. Вместо самочитаемости — самораскрутка, механическая ее модель. Ни один период не может кончиться, пока не будут перечислены и как-то использованы все однокоренные слова или все, допустим, слова с данной приставкой. Тайное, глубинное родство — слов и слов, слов и понятий — заменяется поверхностным, механическим — грамматическим их родством.
Эта лингвистическая карусель превращает картину мира в мелькание звуков, кружит голову, выматывает CHJpJ, ничего не дает душе.
«Маяковского долго читать невыносимо от чисто физической растраты. После Маяковского нужно долго и много есть».
Эти точные слова первой, богатой Цветаевой можно с успехом отнести к ней же бедной, второй.
Формальное сходство ее стихов этого, второго периода со стихами Маяковского бывает почти дословным.
Пожарные! — душа горит! Не наш ли дом горит? До эйфелевой рукою Подать! Подавай и лезь. Не хочу в этом коробе женских тел Ждать смертного часа! Я хочу…И т. д.
Но поразительней всего это сходство там, где дело касается социальной тематики. Здесь и пафос тот же, и те же картинки, даже нечто вроде окровавленных туш.
Поспешайте, сержанты резвые! Полотеры купца зарезали. Получайте, чего не грезили: Полотеры купца заездили. («Но-жи-чком на месте чик лю-то-го помещика»)И та же, не дающая покоя, ненависть к сытым и толстым, и изобличение мещанского быта, вплоть до многострадальных перин, и та же вечная жалоба на бедность и обойденность. Разница только в том, что Цветаева не ездила в международных вагонах, а на самом деле, в реальной жизни — была до конца своих дней голодной и нищей. Но тем более, но именно поэтому декоративный наряд Маяковского выглядит на ней неуклюже, с чужого плеча, тем нелепей звучит его суетное обличительство. Сопоставление почти всегда не в пользу Цветаевой. Ибо, отдадим должное Маяковскому, он предъявляет то, что имеет, а имеет он только маску. У Цветаевой же всегда из-под маски стиха выглядывает подлинное ее лицо, единственно нам интересное. Отсюда неотвязное побуждение: отодвинуть маску, отбросить стих, разглядеть знакомые живые черты…
Она любила Маяковского и Пастернака, Пастернак был ей кровным, предельно близким, едва ли не слившимся с ней, так ей казалось, но при этом он был слишком закрытым, герметичным и как пример — безопасным. Маяковский всегда оставался далеким и в то же время — на виду, на ладони. И так был велик подспудный соблазн, так явственен путь…
В ней было достаточно много мужского, она тоже порой чувствовала себя грубым верзилой, ломовиком, таким же архангелом-тяжелоступом… Нельзя не заметить что эти стихи — и о ней самой.
Потому и не влияние — а внедрение, неотвязное присутствие Маяковского в чуждой ему душе другого поэта. Чуждой — а все же в чем-то важном сходной и родственной…
О Маяковском и Пастернаке она написала в прозе — живо, кратко и точно. Но, называя характерные черты каждого, словно бы не заметила — и не заметила, и конечно бы ни за что не признала, — что сопоставляет не эпос и лирику, а поэзию — и непоэзию. Причем делает это так энергично, что порой хочется вступиться за Маяковского. Но примечательней всего критерий сходства.
«Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века (1932 г. — Ю. К.): отношению к России. Здесь Пастернак и Маяковский — единомышленники. Оба за новый мир…»
От такого текста уже недалеко до челюскинцев, и да здравствует, и все это — путь из Парижа в Москву и дальше — в Чистополь и Елабугу…
Вам — просветители пещер — Призывное: СССР,— Не менее во тьме небес Призывное, чем: SOS.Так способ выражения — через конструкцию, через лозунг и декларацию — становится способом восприятия времени, способом понимания мира (нового). Здорово, Владимир!
6
И сегодня, кроме трех пародийных поэтов, есть по Крайней мере один серьезный — быть может, вообще самый серьезный, — в творчестве которого по высшему разряду, на уровне, о котором только мечтать, — возродился? воскрес? воплотился? — живет Маяковский.
Иосиф Бродский.
Первое побуждение при этом имени — отвергнуть не только прямую преемственность, но вообще какое бы то ни было сходство.
Чуждый суетного самоутверждения, всегда стоявший сам по себе, никогда никому не служивший, изгой и изгнанник — Бродский по всем ориентирам жизни и творчества уж скорее противоположен, чем близок Маяковскому. Культура и революция, прошлое и будущее, человек и государство, Бог и машина, наконец, просто добро и зло — все эти важнейшие мировые понятия в системах Бродского и Маяковского имеют противоположные знаки.
Но разве система взглядов определяет поэта? В этом деле главное — творческий метод, способ восприятия мира и его воссоздания.
Что ж, казалось бы, и тут — никаких параллелей. Традиционно уважительное обращение со словом, нерушимый классический метр, спокойное, без разломов, движение, где самый большой катаклизм — перенос строки, скромная, порой нарочито неточная рифма. Что общего здесь с Маяковским?
Но в том-то и дело, в том-то и фокус, что Бродский — не подражатель, а продолжатель, живое сегодняшнее существование. Это совершенно новый поэт, столь же очевидно новый для нашего времени, каким для своего явился Маяковский. Маяковский обозначил тенденцию, Бродский — утвердил результат. Только Бродский, в отличие от Маяковского, занимает не одно, а сразу несколько мест, потому что некому сегодня занять остальные.
Бродский не только не в пример образованней, он еще и гораздо умней Маяковского. Что же касается его мастерства, то оно абсолютно. Бродский не обнажает приема, не фиксирует на нем внимание читателя, но использует весь запас поэтических средств с хозяйской, порой снисходительной уверенностью. Все ладится у него в руках, ничто не выпирает, не падает на пол, и даже, казалось бы, вовсе пустые строки оказываются необходимыми в его контексте, несущими свой особый заряд. Восхищение, уважение — вот первое чувство, возникающее во время чтения Бродского и всегда остающееся при нас. Второе — то, что возникает после, а вернее, то, чего после не возникает.
Стихи Бродского, еще более, чем стихи Маяковского, лишены образного последействия, и если у Маяковского это хоть и важный, но все же побочный результат конструктивности, то у Бродского — последовательный принцип. Силу Бродского постоянно ощущаешь при чтении, однако читательская наша душа, жаждущая сотворчества и очищения, стремится остаться один на один не с продиктованным, а со свободным словом, с тем образом, который это слово вызвало. И мы вновь и вновь перечитываем стих, пытаясь вызвать этот образ к жизни, и кажется, каждый раз вызываем, и все-таки каждый раз Остаемся ни с чем. Нас обманывает исходно заданный уровень, который есть уровень разговора — но не уровень чувства и ощущения.
Есть нечто унизительное в этом чтении. Состояние — как после раута в высшем свете. То же стыдливо-лестное чувство приобщенности неизвестно к чему, то же нервное и физическое утомление, та же эмоциональная пустота. Трудно поверить, что после того, как так много, умно и красиво сказано, — так и не сказано ничего.
Приходилось ли вам обращать внимание, как тяжело запоминаются эти'стихи? Мало кто знает Бродского наизусть и только тот, кто учил специально. Это оттого, что внутренняя логика образа почти всюду подменяется внешней логикой синтаксиса. «Часть речи» называется книга Бродского и так же — сборник, ему посвященный. Это грамматическое название, конечно же, дано не случайно. Но, быть может, было бы еще точнее — «Член предложения». Потому что, при всем внимании к слову, не слово составляет у Бродского основу стиха, и не строчка, и даже не строфа — а фраза. Наиболее ярко этот принцип проявляется там, где одно предложение тянется через несколько искусно построенных строф, но он, как правило, сохраняется и в самых коротких стихах. Неизменно соблюдаемое расстояние между ритмическим и синтаксическим строем и дает мгновенное чувство глубины и объема, пропадающее после чтения. Оттого, кстати, большие стихи, из строфы в строфу переносящие фразу, выглядят всегда значительней и глубже. Фраза может и не быть формально четко очерченной, а существовать как некая недоговоренная в строфе, никак не договоримая мысль. Она переливается, переливается, каждый раз сливаясь еще с одной каплей, вызывая томительное ожидание, что вот-вот прорвется свободным потоком и станет ясно, куда и зачем. Но в конце так и остается лежать ртутным выпуклым озерцом на дне последней строфы.
Очень талантливый человек Бродский.
Саднит в груди от его стихов.
Быть может, такие стихи писал бы Онегин, когда бы преодолел тошноту к труду. Но конечно — до того, как влюбился в Татьяну…
Кстати, об Онегине. Вот одно не доказательное, но любопытное совпадение — стиль передразнивания классики, вплоть до рифмовки.
Маяковский:
Дескать, муж у вас — дурак и старый мерин, Я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сегодня утром должен быть уверен…И т. д.
Бродский:
Однако, человек, майн либе геррен, Настолько в сильных чувствах неуверен, Что поминутно лжет, как сивый мерин…И т. д.
Можно выстроить и другие цепочки, демонстрирующие прямое сходство. Например, вот эту:
Дней бык пег, Медленна лет арба. Наш бог бег. Сердце наш барабан.Маяковский
Каждый пред Богом наг Жалог наг и убог В каждой музыке Бах В каждом из нас Бог Ибо вечность — богам. Бренность — удел быков… Богово станет нам Сумерками богов.Бродский[30]
Различие или даже противоположность смысла не играют здесь существенной роли. Гораздо важнее интонация, ритмика, отношение к слову, к материи стиха и просто — к материи. Важно то, что и на этот раз мы имеем дело с оболочкой сути, с заключенной в искусный сосуд пустотой. Но если пустующая душа Маяковского еще имела свой болевой центр, время от времени в стихах проявлявшийся, то теперь отпала необходимость и в этом. Новое время, новые песни. Эпоха Маяковского лишь декларировала отказ от высоких и сильных чувств, новая эпоха его осуществила. Сегодня, когда, совсем наоборот, декларируется верность нравственной и культурной традиции, глубина подмены достигла предела. Не только положительные моральные ценности, но как бы и сама реальность жизни становится неким фантомом. Из всех жанров остается один только жанр: пародия. Сегодня все прозаики пишут памфлеты и фарсы, все поэты — иронические изложения, где всякое подлинное чувство взято в кавычки. Все кривляются, дразнятся, даже самые серьезные держат наготове у кончика носа растопыренные пальцы рук. И уже неясно, что пародируется: реальная жизнь, или та литература, которая прежде ее выражала, или та, что могла бы сегодня выразить… Если раньше критерии были сдвинуты, то теперь они обойдены стороной. И Иосиф Бродский — сегодняшний лучший, талантливейший, из читательских, не из чиновничьих рук принимающий свой бесспорный титул, — свидетельствует об этом лучше и талантливей всех.
С одинаковой серьезностью — и несерьезностью, с той же грустью и той же иронией, с тонкостью, с неизменным изяществом он пишет о смерти пойманной бабочки, о смерти женщины (нет, не любимой, просто той, с которой когда-то… неважно), наконец, о смерти маршала Жукова и еще наконец — о смерти Марии Стюарт. Умно и искусно ведомая фраза разветвляется, сходится по всем грамматическим правилам и кончается там, где поставлена точка.
Страшно.
Какой там Онегин, скорей электронный мозг. «Услуг электрических покой фешенебелен…»
Сам процесс движения в пространстве и времени, именно как физическая категория, очень занимает Бродского. Все свои эвклидовы оболочки до него исчерпал, выскреб Маяковский. Но Бродский и здесь идет дальше него, он строит, уже вполне сознательно, в заведомо искривленном и бесконечном пространстве. Однако провозглашенная им бесконечность лишь снаружи кажется таковой. Взятая на вкус, на поверку чувством, она обнаруживает явную ограниченность. Да это и признается порой в открытую.
Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут — тут конец перспективы.Бесконечность находит предел в знаменательной точке. Дальше действительно двигаться некуда. Конец перспективы.
Неуклонный процесс рационализации, отчуждения мастерства от души художника происходит сегодня в новейшей русской поэзии. Живое присутствие в ней Маяковского утверждается не столько его многотрудным стихом, сколько активной жизнью той новой эстетики, которой он был носителем и провозвестником.
7
Неуклонный процесс рационализации, отчуждения мастерства от души художника происходит сегодня в новейшей русской поэзии. Живое присутствие в ней Маяковского утверждается не столько его многотрудным стихом, сколькко активной жизнью той новой эстетики, которой он был носителем и провозвестником.
Ироническая маска вместо самовыражения, грамматическая сложность вместо образной емкости, и в ответ с читательской стороны — восхищение виртуозной техникой речи вместо сотворчества и катарсиса… Похоже, что этот путь — магистральный, и в стихах ведущих, лучших поэтов, именно лучших, быть может, великих, яркая поговорочная точность формулы целиком заменит глубинную точность слова и образа. Понадеемся, что этого не будет. Боюсь, что будет.
Маяковский — как засасывающая воронка, всякое сближение с ним губительно. Даже трагическая его судьба есть великий соблазн и растление душ, доказательство того, что можно упорно, убежденно, талантливо служить подмене и при том оставаться уязвленным и обделенным, то есть заслуживающим безусловного сочувствия. А сочувствие строгих границ не имеет. Легко ли щедрому читательскому сердцу заставить себя остановиться вовремя и сменить сочувствие на неприятие? И вот слова, произнесенные когда-то на высшем пафосе, а теперь годные лишь для анекдотов — для горьких анекдотов о горьком времени, — слова эти в устах современного интеллигента, сочувственно читающего Маяковского, вновь обретают долю былой реальности, и уже они для нас не вполне анекдот, а и пафос, и как бы время, и отчасти — истина…
Отношение к Маяковскому всегда будет двойственным, и каждый, кто захочет облегчить себе жизнь, избрав одного Маяковского, будет вынужден переступить через другого, отделить его, вернее, отделять постоянно, никогда не забывая неблагодарной этой работы, никогда не будучи уверенным в ее успехе.
А тогда — не верней ли вообще отказаться от выбора?
Владислав Ходасевич в жестоком своем некрологе объективно во многом несправедлив, но субъективно вполне может быть понят. Он писал не статью, он произносил заклинание, своеобразное «чур меня?». В другое время Борис Пастернак — по-своему, деликатнее, мягче, глуше, мучась совестью — сделал то же самое. Притяжение к Маяковскому рано или поздно вызывает отталкивание — как естественный и очень понятой защитный рефлекс.
И однако, тем более, страшной серьезности его как явления уже никто не в силах оспорить.
В сущности, он совершил невозможное. Действуя в бесплодном, безжизненном слое понятий, общаясь лишь с поверхностным смыслом слов, с оболочкой людей и предметов, он довел свое обреченное дело до уровня самой высокой поэзии. Не до качества, нет, здесь предел остался пределом, — но до уровня, считая геометрически. Его вершина пуста и гола, не сулит взгляду ни покоя, ни радости, — но она выше многих соседних вершин и видна с большего расстояния.
Так будет всегда, хотим мы того или нет. В этом исключительность Маяковского, его странное величие, его непоправимая слава.
Москва, 1980–1983
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Книгам, как и живым людям, свойственно изменяться во времени. Я писал эту книгу семь лет назад, в те годы, когда было ничего нельзя и поэтому хотелось всего сразу. Теперь, когда многое стало можно, что-то в ней, вероятно, выглядит лишним, чрезмерным или, наоборот, очевидным. Во всем ли я сам, на семь лет постаревший, согласен с автором? Разумеется, нет. Сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж наверное, она была бы трезвее, добрее, сдержанней, выверенней, справедливей — и ближе к тому, чему-то такому, что принято называть объективной истиной. Но сегодня я не стал бы писать эту книгу, я сегодня написал бы совсем другую — и скорее всего, о другом…
Конечно, книги должны печататься вовремя. Но ведь я и не рассчитывал на публикацию дома и даже эту воспринимаю сейчас как неожиданность и подарок. Да и, строго говоря, семь лет не срок (я, конечно, имею в виду — для книги), и если в ней что-то устарело, отпало, то, значит, оно того и стоило. Будем надеяться, что кое-что все же осталось.
Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, ну а трактовка… да что ж трактовка? Филология — такая странная вещь, что любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой.
Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и не глядя принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому.
Я думаю, каждый, кто прочел книгу внимательно, убедился, что именно этого нет и в помине; что жесткость и даже порой жестокость автора к своему герою вовсе не означает ненависти к нему. Разве жесткими и суровыми мы бываем лишь с теми, кого ненавидим?
Я, конечно, не стану всерьез утверждать, что «любовь» — единственно верное слово, которое исчерпывающе описывает мое отношение к Маяковскому. Но если перечислить по мере важности все оттенки того непростого чувства, какое испытывает автор к герою, то и это слово займет свое место и даже, может быть, не последнее.
Вот, пожалуй, то главное, что на прощанье мне хотелось сказать читателю. Все прочее — в книге.
Апрель, 1989 г.
Примечания
1
Отвлеченная заданность этих блюдец косвенно подтверждается еще и тем, что всего через год, в новой поэме, они будут означать не очки, а глаза любимой: «Больше блюдца смотрят революцию». Как, впрочем, годом раньше, слегка увеличенные, означали глаза обывателей: «глаза-тарелины»…
(обратно)2
Когда на одном из таких диспутов критик Орлинский сказал примирительно, что среди присутствующих нет сторонников заколачивании и гильотины, Маяковский с места выкрикнул: «Есть!..»
(обратно)3
Позднее он расплатится с ним до конца:
«В тесном смокинге стоит Уитмен, качалкой раскачивать в невиданном ритме. Имея наивысший американский чин — „заслуженный разглаживатель дамских морщин“.» (обратно)4
«Все, что разрушал ты — разрушалось, в каждом слове бился приговор». Так писала как раз тогда о Маяковском Анна Ахматова, живя тем, что осталось от разрушения, в смертельной тоске ожидая приговора сыну…
(обратно)5
Кстати сказать, английский подлинник, так чудесно угаданный Маяковским, содержит, пожалуй, еще больше патоки, чем забракованный им перевод, и не дает ни малейших оснований истолковывать слово flesh как «мясо». Здесь Уитмен даже не говорит «прижмусь», он говорит «прикоснусь, притронусь».
I will not touch my flesh to the earth As to other flesh to renew me. Я не прикоснусь моей плотью к земле, Как к другой плоти, чтоб она обновила меня.Здесь скорее, быть может, уместно «тело», но никак не «мясо»
(обратно)6
«Сказать, что футуризм освободил творчество от тысячелетних пут буржуазности, как пишет т. Чужак, значит слишком дешево Расценить тысячелетия». Так в то время высказывался Л. Троцкий.
(обратно)7
«Скорее! Дым развейте над Зимним — фабрики макаронной!» Фабрика макаронного оптимизма была успешно построена, и питалась она живыми людьми. В их числе в конце концов оказался и Левидов. В феврале сорок третьего года его видели в саратовской камере смертников вместе с академиком Вавиловым.
(обратно)8
Говорят, эта шутка обернулась для театра дополнительной платой автору за одно лишнее действие.
(обратно)9
Метафора не только плоская, но и не очень грамотная, рассчитанная на хапок, на нахрап, на растерянность зала, на отсутствие времени. Настоящее море не волнует, а волнуется, чума не заражает, а поражает, заражает — носитель чумы: человек, животное…
(обратно)10
В этом свете заслуживают особого внимания всяческие невольные проговори. Например, стыдливое свидетельство Асеева о напряженных отношениях Маяковского с сестрами или замечание Лили Юрьевны о том, что деньги матери он посылал лишь после неодно-хратных ее напоминаний.
(обратно)11
Дом предварительного заключения.
(обратно)12
Международная организация помощи борцам революции, или, иначе, Международная красная помощь.
(обратно)13
Он пишет в том же стихотворении: «Не избежать мне сплетни дрянной. Ну что ж, простите, пожалуйста, что я из Парижа привез Рено, а не духи и не галстук». Это—для массового читателя. А вот — для Лили, в частном письме: «Я постепенно одеваюсь… и даже натер мозоли от примерок… Заказали тебе чемоданчик—замечательный и купили шляпы… Духи послал; если дойдет в целости, буду таковые высылать постепенно». То есть и «рено», и духи, и галстук, и много всякого сверх того…
(обратно)14
Кстати, есть серьезное подозрение, что строй «лесенкой» был им придуман специально для замены традиционной системы пунктуации, которой он так и не выучился. При наличии знаков, расставленных Бриком, эта система становится не только ненужной, но и лишней, мешающей чтению. В стихе Маяковского, построенном «в лесенку», взгляд, ведомый внутренней ритмикой, спотыкается почти на каждой ступеньке, — стремится перепрыгнуть через две, через три, сгладить их выступы, а лучше вообще — забыть об их существовании. А ведь он ввел это новшество в 23-м году, когда «запятатки» уже давно и вовсю расставлялись! В чем тут дело? Не в том ли, что именно в это время, в период написания поэмы «Про это», возникла возможность остаться без дружбы Брика, а следовательно, и- без «запятаток», один на один со своим обнаженным текстом?..
(обратно)15
Писал он все эти годы не много, но всегда на двести пятьдесят процентов соответствуя текущей политике. Самое крупное его произведение — народная драма «Иван Грозный», 42-й год. Эта вещь написана стихами и песнями, то есть с ремарками «поет», «запевает». Там есть все, что было необходимо читателю в тот момент и даже еще долго после: справедливый, строгий, но мудрый царь; его верные соратники, неверные друзья; изменники, вредители, пацифисты, космополиты; а сверх того — народная преданность, девичья стать, молодецкая удаль, хороводы, хоры, лихие пляски и лирические серенады с разнообразными рифмами:
Краше нет ее на свете. Вот идет. Пришла. Ну, спасибо, добрый ветер, спать тебе пора. (обратно)16
С А. Э. Беленсоном, редактором альманаха «Стрелец».
(обратно)17
Например, «Стих резкий о рулетке и железке»; «Удел поэта — за ближнего болей. Предлагаю как-нибудь в вечер хмурый придти ГПУ и снять „дамбле“ — половину играющих себе, а другую — МУРу». Это 22-й год. А еще недавно, в 1915-м… Таких сопоставлений великое множество, но они неизменно забавны. «А я вчера, не насилуемый никем, просто снял в „железку“ по шестой руке три тысячи двести со ста». Снимал он и в 22-м не меньше, но и тогда и теперь хорошо знал, «когда написано, почему написано, для кого написано»…
(обратно)18
Есенину приписывают такую эпиграмму: «Вы думаете, кто такой Ося Брик? Исследователь русского языка? А он на самом-то деле шпик и следователь ВЧК»…
(обратно)19
Я подумал сейчас, какую славную метафору, на добрый десяток строк, мог бы развернуть Маяковский из этого червя.
(обратно)20
Вы скажете: как Пушкин. Я отвечу: не так, иначе! «От примет ничего, кроме вреда, нет». Уже в том хотя бы решающая разница, что Пушкин не писал сатирических стихов с такими названиями.
(обратно)21
Эта часть его проекта почти сбылась. Миллион триста тысяч начных работников в одной лишь отдельно взятой стране — чем армия, если угодно, народов?
(обратно)22
Анонимность большинства прижизненных работ Федорова тоже, видимо, произвела на него впечатление. Не отсюда ли идея публиковать «без фамилии» «150 000 000»?
(обратно)23
Отметим вскользь «фабричное сияние» — клепочный завод, неотвязный образ, бессмертный князь Накашидзе.
(обратно)24
Даже здесь мнения разошлись. Лиля Юрьевна утверждает, что обращено к ней, Лавут думает, что к Татьяне Яковлевой, а Полонская приводит слова Маяковского: «Эти стихи — Норочке». По-видимому, права Полонская, но сам факт спора очень показателен.
(обратно)25
27,5 тысячи, план, как всегда, перевыполнен, так что правильнее было бы их назвать «двадцатисемисполовинойтысячники».
(обратно)26
Примечательно, что этот отказ на выезд, упоминаемый множеством мемуаристов, аккуратно обходят в своих воспоминаниях и Лиля Юрьевна, и Эльза Юрьевна.
(обратно)27
Все — подмена в этом удивительном мире, и даже сам юбилей не взаправдашний, а придуманный, чисто декоративный, как, впрочем, и предыдущий — «дювлам», «Двенадцатилетний юбилей Влад. Маяковского». Первые профессиональные стихи написаны им семнадцать лет назад, но он вспоминает сидение в Бутырках, подтягивает его к литературной работе и берет за точку отсчета. О его мотивах Осип Брик писал впоследствии с наивным цинизмом: «Володя видел что всякие рвачи и выжиги писательские живут гораздо лучше, чем он— спокойней и богаче. Он не завидовал им, но он считал, что имеет больше их право на некоторые удобства жизни, а главное, на признание».
(обратно)28
Странный все же запрет. Мог ли кто-нибудь из начальства всерьез опасаться, что он не вернется? Спросим иначе: мог ли он не вернуться? Нет, безусловно нет. Этого у него и в мыслях не было. Те редкие критические замечания, которые он, возможно, позволил себе во время предыдущих поездок, мог позволить себе в частном разговоре любой советский чиновник. Зато он — повторим еще и еще — прекрасно понимал, что вне этой системы, какой бы она ни была и какой бы ни стала, вне этой единственной своей принадлежности, он вообще не существует как поэт и личность. «Я ни одной строкой не могу существовать при другой власти, кроме советской власти. Если вдруг история повернется вспять, от меня не останется ни строчки, меня сожгут дотла». Это и подобные ему заявления тонут в общем потоке демагогии, но они-то как раз соответствуют истине. Конечно, Агранов мог им не поверить и никак не выделить. Однако запрет на загранпоездку мог быть и не связан ни с каким недоверием. Возможно, это было просто лишение милостей, перевод в более низкий, менее громкий ряд. И наконец — личная инициатива Бриков по чисто личным мотивам…
(обратно)29
Сегодня все шире расходится версия, что так оно и случилось тогда, в апреле тридцатого. Что предсмертное письмо — подделка Брика. а Полонскую вынудили написать, как надо, и слова «самоубийство-это убийство» следует понимать буквально… Я, конечно, ни секунды не сомневаюсь в способности и готовности наших доблестных органов во все времена совершать подобные подвиги. И, однако, уверен, что в данном случае они ни при чем. Нет, Маяковский не был убит, он убил себя сам. Аргументов достаточно, и внешних и внутренних. Прежде всего — никому тогда это было не нужно. Он никому не мог помешать, он был болен, сломлен, слаб и податлив. Знал же… если что-то и знал, то очень немногое, убирать именно его не могло быть резона, а на всякий случай, впрок — не пришло еще время. И его самоубийственный настрой накануне, и естественность, ожидаемость такого конца, та давняя тяга… Но главное — тексты. Осип Брик мог, допустим, подделать почерк, но уникальный слог Маяковского, его голос, который, при всех придирках, мы, конечно же, явственно слышим в его письме, — Осип Максимович подделать не мог бы. Нет, невиновен! Но и простодушные записки Полонской не были написаны по заказ у, уж хотя бы потому, что никакому заказчику они, такие, не была выгодны, а еще потому, что в письменном тексте нельзя сымитировать простодушие, как нельзя сымитировать литературный талант. И последнее. В случае убийства Маяковского непременными свидетелями или даже соучастниками должны были быть по крайней мере четыре человека (не считая соседей): Брики, Лавут и Вероника Полонская. Ни один из них (считая соседей) не был впоследствии ни устранен, ни хотя бы посажен. Я думаю, это обстоятельство, почти невероятное, лучше всего опровергает любые детективные версии.
(обратно)30
Промежуток между этими звеньями хорошо заполняет Цветаева:
Остановить не мог Мир меня, Ибо единый вырвала Дар у богов — бег. (обратно)
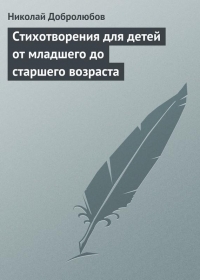

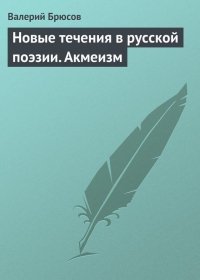

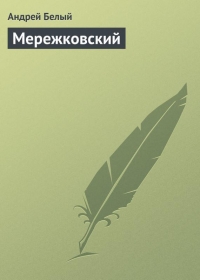
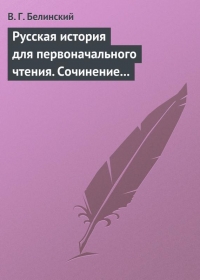

Комментарии к книге «Воскресение Маяковского», Юрий Аркадьевич Карабчиевский
Всего 0 комментариев