Пётр Черкасов Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Центр французских исторических исследований
ACADEMIE DES SCIENCES DE RUSSIE
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSELLE
Centre d’eґtudes historiques françaises
Piotr Tcherkassov
Alexandre II et Napoléon III
Une alliance inachevee
(1856–1870)
Рецензенты
доктор исторических наук О.В. Серова
кандидат исторических наук К.П. Зуева
От автора
В истории дипломатических отношений между Россией и Францией со времени их установления в начале XVIII века постоянно проявлялись две противоположные тенденции – к взаимодействию и отчужденности. Наиболее ярко столкновение этих двух тенденций проявилось в середине XIX века, когда на завершающем этапе Крымской войны 1853–1856 гг. Европа стала свидетелем неожиданного сближения двух противников – России и Франции. В Лондоне, Берлине, Вене и Константинополе всерьез начали опасаться, что это сближение может привести к политическому союзу между молодым царем Александром II и императором французов Наполеоном III.
Что лежало в основе сближения двух недавних противников? Кто и по каким причинам – Александр или Наполеон – инициировал этот процесс? Как развивались отношения между Россией и Францией после окончания Крымской войны? В чем сходились и в чем расходились позиции Петербурга и Парижа, как в рамках двусторонних отношений, так и применительно к европейским проблемам той эпохи? Были ли реальные шансы на заключение союза двух стран? Наконец, почему такой союз не состоялся?
Эти и другие вопросы, составлявшие повестку дня российско-французских отношений в период между окончанием Крымской войны и началом Франко-прусской войны 1870–1871 гг., приведшей к падению Второй империи во Франции, рассматриваются в предлагаемой вниманию читателя книге. Она написана на материалах дипломатических архивов Москвы и Парижа. Внимательному изучению подверглись около 200 томов дипломатической переписки и других документов. В подавляющей массе содержащиеся в них материалы впервые вводятся в научный оборот.
В данной работе автор не ограничился исследованием собственно российско-французских отношений того времени Он попытался рассмотреть эти отношения в широком контексте европейской политики второй половины XIX столетия, проанализировать подходы России и Франции к ряду важнейших международных проблем изучаемой эпохи – таких как Восточный и Польский вопросы, процесс объединения Италии и Германии и др.
Совершенно осознанно автор в своем исследовании акцентирует внимание на роли личностей в российско-французских отношениях изучаемого 15-летнего периода, пытаясь показать конкретный вклад монархов и их ближайшего окружения в развитие политического диалога между Петербургом и Парижем, раскрыть специфический «почерк» российских и французских дипломатов, работавших на этом направлении. Отсюда и пристальный интерес к повседневной работе дипломатов разных уровней – послов, полномочных министров, поверенных в делах, советников и секретарей посольств.
Автор предлагает вниманию читателя галерею портретных зарисовок главных действующих лиц, вовлеченных в российско-французскую дипломатию 1850-1860-х гг. Это – Александр II и Наполеон III, императрицы Мария Александровна и Евгения, великий князь Константин Николаевич и принц Наполеон-Жером, князь Александр Михайлович Горчаков и граф Шарль Огюст де Мории, граф Александр Валевский и граф Алексей Федорович Орлов, граф Павел Дмитриевич Киселев и герцог Луи Наполеон де Монтебелло, бароны Филипп Иванович Бруннов, Андрей Федорович Будберг и Шарль Анжелик де Талейран-Пери-гор, граф Эрнест Густавович Стакельберг и генерал Эмиль Феликс Флери…
В завершение хотел бы выразить искреннюю признательность тем, кто, так или иначе, оказывал мне содействие в работе над этой книгой. Прежде всего, это относится к начальнику Архива внешней политики Российской империи Ирине Владимировне Поповой и заведующей читальным залом АВПРИ Алле Викторовне Абраменковой, к дирекции и сотрудникам Архива Министерства иностранных дел Франции. Особая моя благодарность – Администрации Дома наук о человеке (Париж) и Посольству Франции в России за неоднократно предоставленную возможность работать во французских архивах и библиотеках. Я благодарен доктору исторических наук Наталии Петровне Таныпиной за возможность ознакомиться с публикацией переписки княгини Д. X. Дивен и графа де Мории. Дружескую помощь при подготовке книги к изданию оказал мне Николя де Буйан де Лакост, Первый советник Посольства Франции в Москве. Всем им адресую мою сердечную благодарность.
Глава 1 Самодержавный либерал и император-социалист
Александр II
В полдень 17 апреля 1818 г. 201 пушечный выстрел известил жителей Москвы о важном государственном событии – рождении первенца-сына в семье великого князя Николая Павловича, брата императора Александра I. Поскольку и сам император, и его официальный наследник, великий князь Константин Павлович были бездетны, люди сведущие уже тогда могли предположить, что на свет появился будущий император. Правда, столь далеко весной 1818 г. заглядывали немногие. Радость по поводу прибавления в Императорской фамилии была тем большей, что рождение младенца пришлось на середину Пасхальной недели, когда весь православный люд в первопрестольной праздновал Воскресение Христово. Впоследствии биографы Александра II будут подчеркивать тот факт, что Царь-Освободитель, единственный после Петра Великого русский самодержец, родился именно в Москве, в архиерейском доме при древнем Чудовом монастыре в Кремле, а не в Санкт-Петербурге или в окрестных императорских резиденциях – Царском Селе, Павловске или Гатчине, как большинство его предшественников[1]. Это, конечно же, случайное совпадение будет трактоваться придворными историками как знак особой связи Александра II с тысячелетней российской монархией, к юбилею которой в 1866 г. он воздвигнет замечательный памятник в Великом Новгороде.
Спустя три недели после рождения, 5 мая 1818 г., в присутствии императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны (тетки и бабушки новорожденного) в Чудовом монастыре состоялось крещение младенца. Он был внесен в храм статс-дамой графиней Дарьей Христофоровной Дивен, супруг которой впоследствии станет одним из воспитателей Александра. Со стороны отца восприемником при крещении младенца был его дядя, император Александр Павлович, а со стороны матери – родной дед, король Пруссии Фридрих-Вильгельм III[2]. Совсем недавно, в июне 1817 г. король выдал свою дочь, Фредерику-Луизу-Шарлотту-Вильгельмину замуж за внука Екатерины II, великого князя Николая Павловича. Перейдя в православие, прусская принцесса стала именоваться Александрой Федоровной. Ко времени рождения у нее первенца-сына дочь прусского короля, еще не вполне освоилась в России, и по этой причине общалась с Александром на своем родном языке, ставшим для него первым, наряду с русским, на котором с ним говорил отец. Это уже потом юный великий князь освоит французский, английский и польский.
Близкое родство с Гогенцолернами станет первым камнем, заложенным в формирование основ политического мировоззрения будущего самодержца. Это родство, старательно поддерживаемое матерью с полного одобрения отца, последовательного приверженца союза с Пруссией, будет глубоко воспринято и усвоено Александром II, что найдет воплощение в его внешней политике. Даже в выборе государственного флага Российской империи он отдаст предпочтение цветам Гогенцоллернов – черно-желто-белому, отказавшись от красно-бело-бирюзового, введенного Петром Великим. Он оставит «голландский» триколор лишь для торговых судов российского флота. Но все это будет еще не скоро. А пока предстоял долгий процесс воспитания и обучения.
Вскоре после крещения двор возвратился в Петербург, с которым связаны первые жизненные впечатления Александра. Безусловно, самым запоминающимся для него стал день 14 декабря 1825 г., когда семилетнего мальчика, занятого в Аничковом дворце раскрашиванием литографической картинки, флигель-адъютант Кавелин по приказу вступившего на престол Николая Павловича срочно доставил в Зимний дворец, откуда его вынесли к выстроившемуся во дворе лейб-гвардии Саперному батальону, поддержавшему Николая I в день восстания части гвардейских полков. Император передал сына на руки георгиевским кавалерам, попросив их любить наследника-цесаревича, как сам он любит их, защитников престола и отечества. Воодушевленные доверием государя саперы с криками радости и восторга подходили к явно испуганному мальчику, чтобы прильнуть к его рукам и ногам. Александр навсегда запомнил этот день, когда решалась судьба не только его отца и всей династии, но и самой России.
А годом ранее юного великого князя передали из под надзора женского персонала, приставленного к нему матерью с момента рождения, на попечение капитана Карла Карловича Мердера, ветерана кампаний 1805 и 1807 гг., дежурного офицера 1-го кадетского корпуса. Он был выбран самим Николаем Павловичем, хорошо его знавшим и ценившим. Израненный в боях, суровый на вид капитан Мердер, оказался на редкость добрым человеком, приверженным гуманных и вместе с тем разумных методов воспитания. Шестилетний Саша быстро это оценил, и между ними установились доверительные отношения. Система занятий Мердера с его воспитанником приносила заметные результаты, о чем можно судить по дневниковым записям, которые аккуратно вел первый наставник будущего императора[3]. Великий князь был доволен успехами сына, который по достижении семи лет был произведен в корнеты с зачислением в л. – гв. Гусарский полк. Мундиру гвардейских гусар Александр сохранит верность до конца дней.
Когда мальчику исполнилось восемь лет, его отец, к тому времени уже император, решил приступить к более серьезному образованию наследника престола. К этому ответственному делу он привлек близкого ко двору поэта Василия Андреевича Жуковского, который разработал для цесаревича специальный учебный план («План учения»), над составлением которого он трудился более полугода. В основу образовательной системы Жуковский положил соединение собственно образования с воспитанием, подчинив учебу задаче усвоения учеником нравственных идеалов христианина и высокой миссии будущего государя. Сам Жуковский определил свою цель следующим образом – «образование для добродетели». Одновременно он вооружал своего воспитанника самыми современными к тому времени сведениями из разных областей знаний. Много усилий Василий Андреевич прилагал к тому, чтобы ослабить неблагоприятное по его убеждению влияние на наследника престола придворной и военной среды. Здесь ему нередко приходилось встречать непонимание императора, видевшего в сыне прежде всего военного человека, а потом уже гражданского администратора. Сам Николай Павлович буквально обожал военную среду и очень рано привил Александру любовь к плац-парадам. Однажды, находясь в гостях у своего деда в Потсдаме, одиннадцатилетний мальчик произвел настоящий фурор, когда лихо командовал на плацу, обнаружив детальное знание прусской шагистики. Василий Андреевич опасался чрезмерного увлечения своего царственного воспитанника военной муштрой.
Эти свои опасения в завуалированной форме он неоднократно высказывал императору, а более откровенно – императрице. В одном из писем он прямо поделился с ней опасением, что наследник престола может привыкнуть «видеть в народе только полк, в отечестве – казарму». Тем не менее, Жуковский вынужден был считаться с непреклонной волей императора и тягой самого цесаревича к военным экзерцициям, но при этом он умело закладывал в голову и душу своего воспитанника более важные, как он полагал, знания и убеждения.
Рано проявившиеся у Александра гуманные устремления, позднее оформившиеся в умеренно либеральное мировоззрение, позволявшее говорить о нем как о просвещенном самодержце-либерале, – в значительной степени результат воспитательной деятельности Жуковского.
К девятнадцати годам образование наследника-цесаревича в основном было завершено. Он получил необходимые знания по математике, физике, естественной и политической истории, географии, правоведению, статистике, основам политической экономии и православному катехизису. Военное дело Александр изучил как теоретически, так и практически, регулярно бывая на летних лагерных сборах. Он свободно говорил на четырех иностранных языках – немецком, французском, английском и польском. Последний был ему необходим как будущему польскому государю. И, разумеется, Жуковский дал своему ученику необходимые знания в области мировой и новейшей русской литературы. Природа наделила Александра художественным вкусом, развитым с помощью опытных учителей. Он хорошо разбирался в истории искусства и архитектуры.
Непосредственное знакомство со страной, которой ему предстояло управлять, наследник-цесаревич получил в ходе многомесячного путешествия по европейским и частично сибирским губерниям Российской империи, предпринятого в 1837 г. в обществе В.А. Жуковского и К.И. Арсеньева, своего учителя статистики и русской истории. Во время посещения Тобольска Александр встретился со ссыльными декабристами. По возвращении он ходатайствовал перед императором об облегчении их участи.
Год спустя, в 1838 г., наследник престола в сопровождении своего наставника, светлейшего князя Христофора Андреевича Ливена[4] и генерал-адъютанта графа Алексея Федоровича Орлова отправился в длительное заграничное путешествие по Западной Европе, побывав в Швеции, Дании, Германии, Швейцарии, Италии, Англии и Австрии. Повсюду Александр посещал достопамятные места – музеи, библиотеки, поля сражений. Большой интерес у будущего самодержца вызвало знакомство с деятельностью парламентов, существовавших уже во многих европейских государствах.
Александр очень хотел побывать во Франции, но император Николай исключил ее из маршрута путешествия, сославшись на недружественный характер его отношений с «фальшивой» монархией «короля-гражданина» Луи-Филиппа. Свою мечту увидеть тогдашнюю столицу мира – Париж – Александр осуществит лишь через тридцать лет, в 1867 г.
Во время заграничного путешествия произойдет важное событие в личной жизни цесаревича. В Германии он встретит и страстно влюбится в 15-летнюю принцессу Максимилиану Вильгельмину Августу Софию Марию, младшую дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского. Отец поначалу не одобрил выбор сына, посчитав его мезальянсом. При европейских дворах ходили упорные слухи, будто настоящим отцом принцессы Марии, как и ее старшего брата, Александра, был вовсе не великий герцог, а камергер двора великой герцогини Гессенской барон фон Сенарклен де Граней. Будучи вынужден официально признать этих двоих детей, герцог Людвиг II предпочитал проживать вдали от них и своей неверной супруги. Тем не менее, он считал своим долгом обеспечить будущее Марии, хотя даже и не мечтал о такой партии для нее, как наследник русского престола.
Указанное обстоятельство, скорее всего, и смущало Николая I, но, поразмыслив, он согласился на этот брак. По всей видимости, император решил, что женитьба поможет сыну освободиться от «пагубной», по его мнению, привязанности Александра к юной фрейлине Ольге Калиновской, на которой он даже намеревался жениться. Отправляя сына в европейское путешествие, Николай, среди прочего, хотел разлучить двух возлюбленных, устойчивая связь которых начала всерьез его беспокоить.
Расчет царя на то, что продолжительная разлука может быть лучшим лекарством от любви, в данном случае оправдался. Потосковав первое время по Ольге, Александр постепенно стал ее забывать, тем более что в путешествии, продолжавшемся целый год, ему встретилось множество красавиц, проявлявших откровенный интерес к самому завидному в Европе жениху. Русским наследным принцем всерьез увлеклась даже юная королева Виктория, незадолго до его приезда занявшая английский престол. Александр с первой же встречи произвел на нее столь сильное впечатление, что при дворе Ее Величества пошли разговоры о русском браке. Этому способствовали частые уединенные встречи молодых людей, не скрывавших взаимной симпатии, а, может быть, даже и чего-то большего…
Когда об очередном увлечении цесаревича узнал Николай Павлович, он приказал ему немедленно выехать из Англии. Перспектива видеть сына принцем-консортом британской короны никак не могла устраивать российского самодержца. Он напомнил Александру о гессен-дармштадтской принцессе, настоятельно порекомендовав ему нанести повторный визит великому герцогу Одним словом, государь пересмотрел свой прежний взгляд на казавшуюся ему мезальянсом женитьбу Александра на Марии.
Послушный сын последовал указанию строгого родителя и поспешил в Гессен-Дармштадт, где уже проявляли беспокойство в связи с затянувшимся отсутствием жениха. Вскоре состоялась помолвка, а через два года, в апреле 1841 г., молодые люди обвенчались. Дочь великого герцога, как этого требовали законы Российской империи, предварительно перешла в православие и стала именоваться государыней великой княгиней Марией Александровной. Наделенная от природы хрупким здоровьем, супруга наследника-цесаревича, тем не менее, родит ему шестерых сыновей (Николая, Александра, Владимира, Алексея, Сергея, Павла) и двух дочерей (Александру и Марию).
Привязанность к жене не помешает Александру, никогда не отличавшемуся постоянством, время от времени заводить короткие романы, пока в марте 1865 г. он, уже десять лет как император, не встретит 17-летнюю выпускницу Смольного института княжну Екатерину Долгорукову, которая станет женщиной его судьбы…
После завершения обучения и женитьбы сына император начал активно привлекать его к участию в делах управления государством. Он ввел его в Государственный совет и в Комитет министров, поручил присутствовать на заседаниях Финансового комитета. Когда в 1842 г. государь на месяц уехал из Петербурга, он впервые доверил наследнику управление текущими государственными делами, а вернувшись, с удовлетворением обнаружил, что Александр успешно справился с ответственным поручением. В последующем император при отъездах из столицы оставлял государство на попечение цесаревича. С середины 40-х гг. он неоднократно назначал его председателем особых комитетов, занимавшихся различными вопросами государственной жизни, в частности, крестьянским вопросом (в 1846 и 1848 гг.). Как известно, Николай Павлович всерьез размышлял об отмене крепостного права, но потенциальная угроза разорения поместного дворянства остановила его в осуществлении этого благого намерения.
В 1850 г. цесаревич побывал с инспекционной миссией на Кавказе, откуда неожиданно для самого себя вернулся георгиевским кавалером.
В ходе поездки он посетил Тифлис. Кутаиси, Ахалцых, Эривань, Эчмиадзин; затем переправился в Баку, а оттуда, следуя вдоль каспийского побережья, через Дербент, добрался до незамиренного еще Дагестана, где продолжались боевые действия с отрядами неуловимого Шамиля. Здесь наследник, которого сопровождал в поездке наместник и главнокомандующий войсками на Кавказе генерал-адъютант граф Михаил Семенович Воронцов, оказался участником боевой схватки, в которой с риском для жизни проявил личное мужество, взяв на себя командование. Этот инцидент, имевший место 26 октября 1850 г., получил широкую огласку Вот что писал об этом французский посланник в Петербурге генерал де Кастельбажак в своем донесении в Париж: «Наследный великий князь вернулся из инспекционной поездки в Кавказскую армию, в ходе которой он посетил провинции этой части Империи. Во время одного из объездов вдоль линии границы русских владений его эскорт подвергся неожиданной атаке со стороны находившихся в засаде горцев, попытавшегося его захватить. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, великий князь устремился во главе кавалерийского отряда на противника и сумел рассеять его, обнаружив великолепную храбрость. Князь Воронцов, свидетель этого боевого столкновения, попросил для Его Императорского Высочества георгиевский крест, который Император ему только что пожаловал»[5].
В действительности никакой засады не было. Наследник во главе отряда пехоты и нескольких сотен казаков следовал из Воздвиженской крепости в Ачхой, когда заметил впереди неприятельский конный разъезд. Оставив позади свои главные силы, а также графа Воронцова, из-за недомогания следовавшего в коляске, Александр с двумя десятками казаков, устремился на противника, встретившего их беспорядочной стрельбой. Осознав явное превосходство русских, горцы, отстреливаясь, бросились бежать, а вошедший в азарт Александр продолжал их преследовать, далеко оторвавшись от отряда. Пришедший в себя главнокомандующий, немедленно пересев из коляски на коня, поспешил направить линейных казаков наперерез отступавшим чеченцам, которых удалось рассеять. Сам же поскакал догонять наследника.
Воронцов был всерьез напуган неожиданным порывом цесаревича, который в буквальном смысле рисковал жизнью, но отдал должное быстроте его реакции и храбрости. О происшедшем он сообщил в донесении императору, попросив для Александра крест св. Георгия 4-й степени. Николай удовлетворил ходатайство наместника, одновременно назначив новоиспеченного георгиевского кавалера шефом Эриванского карабинерного полка. Полученный крест позволил цесаревичу по возвращении в Петербург принять на равных участие в орденском празднике св. Георгия, ежегодно отмечавшемся 26 ноября.
Инцидент на Кавказе, помимо прочего, выявил одну черту в характере наследника престола, которую отмечали в нем внимательные наблюдатели – чрезмерную азартность, проявлявшуюся, в частности, в увлечении карточной игрой. «Единственный недостаток, который можно было бы приписать цесаревичу, – это его азартность, излишняя страсть к игре, но после того, как ему постарались внушить, что тем самым он может подать дурной пример двору, наследник старается сдерживать себя», – свидетельствовал граф де Рейзе, французский поверенный в делах при дворе Николая I.[6]
Среди других слабостей цесаревича некоторые осведомленные современники указывали на его непостоянство и недостаток энергии. Впрочем, другие – не менее осведомленные – отвергали это мнение, напоминая о той настойчивой последовательности, с которой Александр Николаевич, несмотря на противодействие недовольных, проводил глубокое реформирование Российской империи.
В целом же личные качества будущего императора вызывали скорее положительную, нежели критическую оценку тех, кто его знал. Здесь можно привести достаточно беспристрастное мнение двух французских дипломатов, лично соприкасавшихся с ним в начале 1850-х гг.
Первое принадлежит графу де Райневалю, советнику французского посольства в Петербурге. Оно относится к сентябрю 1852 г. В донесении, адресованном министру иностранных дел Друэн де Люису, дипломат писал об Александре: «…Он наделен на редкость красивым телосложением и столь же красивым и одновременно умным лицом. Наследник проявляет такие высокие способности к учебе и такое усердие к наукам, что его наставник, желая не перегружать его чрезмерно, порекомендовал великому князю сделать перерыв в занятиях. Его отец, говоря о нем, сказал, что он уже хорошо разбирается в вопросах чести и умеет отличить правду от лжи.
<…> Цесаревич старателен и очень хорошо образован. Он прекрасно говорит на всех основных европейских языках. В настоящее время он входит в состав высшего военного руководства и кроме того он командует императорской гвардией и гренадерским корпусом. Открытый человек, надежный и верный друг, он способен выслушивать и давать разумные советы; он не способен обмануть доверившегося ему человека и может выдержать любое испытание. <…>
Природная мягкость великого князя и его безграничная доброжелательность могут создавать впечатление, что ему не достает твердости, но те, кто знает его близко, уверяют в противоположном: как раз твердости у него в избытке, и что если сегодня он ведет себя гибко и уступчиво, то это объясняется исключительно тем уважением, которое он испытывает к своему отцу, не желая огорчать его каким бы то ни было неповиновением»[7].
Судя по свидетельству другого француза, упоминавшегося выше графа де Рейзе, Николай I был полностью удовлетворен плодами воспитания и образования наследника. Однажды, в частном разговоре, в ответ на комплименты по поводу высоких качеств великого князя, он признался французскому дипломату: «Вы совершенно правы! Александр – славный мальчик, вам еще предстоит его оценить. Должен сказать, я веду себя по отношению к нему совсем иначе, чем обращались со мной в его возрасте. Я ничего не понимал в делах управления, и вынужден был все познавать самостоятельно.
Мой сын, напротив, хорошо подготовлен, и как только Господу будет угодно призвать меня к себе, я уверен, что Россия после меня будет хорошо управляться».
«Замечательные качества ума и сердца, которыми наделен наследный великий князь, уже обеспечили ему любовь всех классов общества», – заметил граф де Рейзе. При этом, правда, он посчитал нужным добавить: «Единственное исключение может составлять маленькая партия славянофилов, настроенных к нему оппозиционно, но это не более чем ничтожная группа, в которую не входит ни один сколь ни будь серьезный человек»[8].
Взгляды Александра на дела государственного управления, по крайней мере внешне, в эти годы отличались осторожным консерватизмом. Трудно сказать, в какой мере это отражало его действительные настроения или делалось в угоду отцу, убежденному консерватору, слывшему даже ретроградом. Во всяком случае, при жизни Николая Павловича наследник никогда не высказывал мнений, которые расходились бы с точкой зрения императора. Только после смерти Николая I, вступив на престол, Александр II в доверительных беседах признавался, что не всегда был согласен с отцом, но не смел ему перечить. Так было, например, в канун злополучной Крымской войны, когда Россия оказалась в фактической международной изоляции, которой, по мнению наследника можно было избежать, не доводя до критической точки противоречия с Францией и Англией.
По мнению большинства биографов Александра, глубокое влияние на его взгляды, в частности, по крестьянскому вопросу оказал генерал от инфантерии Я.И. Ростовцев. Когда-то, в далеком 1825 г., подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Ростовцев, посвященный в заговор декабристов, раскрыл их намерения великому князю Николаю Павловичу, что обеспечило ему в дальнейшем блестящую карьеру Трудно сказать, тяжелые ли воспоминания о преданных им товарищах, отправленных на эшафот и в сибирскую каторгу, или что другое, но всю дальнейшую жизнь генерал Ростовцев пытался содействовать воплощению тех самых идеалов, которые исповедовали друзья его молодости. При этом, правда, он, казалось, мысленно спорил с ними, доказывая преимущества пути реформ перед бунтом. Генерал-адъютант Ростовцев стал активным поборником дела освобождения крестьян, одним из редких либералов в окружении императора Николая, что само по себе уже было удивительно.
Близкое знакомство с Ростовцевым началось у Александра в 1849 г., когда наследник, после смерти великого князя Михаила Павловича, своего дяди, заменил его в должностях командующего Гвардейским и Гренадерским корпусами и Главного начальника всех военно-учебных заведений империи.
Генерал Ростовцев стал ближайшим помощником цесаревича в управлении военно-учебными заведениями. Очень скоро между ними установились доверительные отношения, позволившие либерально мыслящему генералу откровенно разговаривать с юным Александром на самые серьезные политические темы. Свои несбывшиеся надежды на обновление основ государственного и общественного строя Российской империи генерал Ростовцев связал с наследником престола, в котором он одним из первых разглядел задатки будущего реформатора. В определенной мере можно говорить о том, что Ростовцев продолжил дело его воспитания, начатое В.А. Жуковским, придав ему политическую направленность.
Все биографы Александра II сходятся в том, что поворотным моментом в окончательном формировании убеждений будущего императора стала злосчастная Крымская война, изменившая многие из внушенных ему представлений о путях дальнейшего развития России. То, что казалось ему незыблемым и единственно верным, не выдержало испытаний в соприкосновении с реальностью. Серия поражений русской армии, считавшейся лучшей в Европе, обнажила застарелые проблемы, решение которых под разными предлогами откладывалось со времен Екатерины Великой. Первая европейская держава оказалась, употребляя позднейшее определение, «колоссом на глиняных ногах», бессильным перед лицом более развитых европейских государств – Англии и Франции. Архаичность экономической и политической систем России требовала неотложного ее обновления. Кто знает, быть может, к этому горькому выводу после столь же унизительных, сколь и неожиданных поражений русской армии в Крыму, пришел и Николай I, но не в его силах было признать крах той самой системы, которую он последовательно строил с момента восшествия на престол. Он предпочел умереть, оставив сыну завет – «держать всё». «Воспитанный в духе идеалов отца, – отмечает современный французский историк Элен Каррер д’Анкосс, – верный сын, Александр II внимательно отнесся к этому последнему наказу; но он стал императором, а Россия, которой он должен был править, уже была не той, которую хотел сохранить отец»[9]. Именно в поражении России в Крымской войне все исследователи видят истоки будущих Великих реформ Царя-Освободителя, о чем речь впереди.
Что же касается представлений Александра Николаевича в области внешней политики России, то они, вплоть до окончания войны, доставшейся ему в наследство, определялись внушенным отцом убеждением в незыблемости союза легитимных монархий против попыток пересмотреть итоги войн с Наполеоном. Правда, и здесь предательство давней союзницы, Австрии, фактически переметнувшейся на сторону англо-франко-турецкой коалиции, побудит императора Александра серьезно скорректировать свою позицию в этом вопросе. Ему хватит здравого смысла отрешиться от внушенных предубеждений и недавних обид, связанных с Крымской войной, и пойти навстречу Наполеону III, который протянет молодому царю руку дружбы.
Как себе представлял будущий император отношения с Францией? Свидетельства об этом можно встретить в депешах, направлявшихся в Париж из французского посольства в Петербурге. В качестве примера можно привести одно из таких высказываний, относящихся к началу 1850-х гг.
«Из всей Императорской семьи, – сообщал в Париж временный поверенный французского посольства граф де Райневаль, – наследный великий князь более других расположен к Франции. Его друг детства, с которым я часто разговаривал о нем, сказал мне, что он весьма интересуется всем, что делает Принц-Президент[10], что он проявляет самый живой интерес ко всему, что имеет отношение к Его Высочеству (т. е. к Луи-Наполеону. – П.Ч.), и что он внимательно читает все депеши, поступающие из Парижа. В последний раз он попросил его достать ему военную медаль, которую Принц учредил для нашей армии. Он мне сказал также, что в излияниях своих дружеских чувств великий князь часто повторял, что, когда он станет Императором, то установит самые лучшие отношения с Францией, так как осознает ту большую пользу, которую имел бы для двух стран искренний союз»[11].
Таков в самых общих чертах портрет будущего императора Александра II ко времени, когда ему доведется вступить в политический диалог с Наполеоном III.
Оставим для последующих глав рассмотрение тех реформ, которые предстояло осуществить Царю-Освободителю. Обратимся теперь к его французскому «кузену», чей портрет и государственная деятельность будут даны в более завершенном виде, учитывая то обстоятельство, что император французов утратил престол в то время (сентябрь 1870 г.), когда Александру II оставалось царствовать еще более десяти лет.
Наполеон III
Когда в ночь с 20 на 21 апреля 1808 г. в роскошном парижском особняке на улице Серрюти (ныне рю Лаффит) на свет появился Шарль-Луи-Наполеон (с самого начала в семье его станут называть просто Луи или Луи-Наполеон), никто, включая родителей новорожденного, не мог предположить, что именно ему суждено стать преемником великого императора[12].
Отцом основателя Второй империи был Людовик, младший брат Наполеона, сопровождавший великого полководца в Итальянском и Египетском походах, но совершенно равнодушный к воинской славе, как и к политике. В январе 1802 г. Наполеон женил брата, не посчитавшись с его желанием, а точнее – с нежеланием, на своей падчерице, Гортензии Богарне, дочери Жозефины от первого брака. Таким образом, новорожденный Луи-Наполеон доводился племянником Наполеону и внуком – императрице Жозефине. Правда, уже через год после рождения малыша его бабушка, оставленная мужем ради его второго брака с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, перестанет быть царствующей императрицей. Тем не менее, Наполеон изъявил желание быть крестным отцом своего племянника. Крестины состоялись в воскресный день 4 ноября 1810 г. во дворце Фонтенбло, причем в отсутствие отца ребенка, что стало поводом для новой волны слухов об интимных отношениях Наполеона со своей падчерицей, к чьим детям он относился с подчеркнутым вниманием. По слухам, впрочем, совершенно необоснованным, именно император был отцом всех трех сыновей Гортензии. Особо он отличал старшего из своих племянников – Наполеона-Шарля, родившегося в 1802 г. Не имея от Жозефины детей, Наполеон намеревался даже сделать его своим наследником и пожелал усыновить малыша, но натолкнулся на сопротивление законного отца мальчика, уязвленного слухами об отношениях старшего брата и Гортензии. Отказ Людовика уступить желанию Наполеона раздосадовал последнего, осложнив и без того непростые отношения между двумя братьями. Между тем в 1807 г., не достигнув и пяти лет, Наполеон-Шарль умирает, и потенциальным наследником все еще бездетного Наполеона становится второй сын Людовика и Гортензии, Наполеон-Людовик, родившийся в 1804 г., одновременно с учреждением Империи. Их третий сын, годовалый Луи-Наполеон, – следующий претендент на престол Бонапартов.
Исключительному положению детей Гортензии при дворе императора французов пришел конец в марте 1811 г., когда Мария-Луиза, вторая жена Наполеона, подарила мужу долгожданного наследника. Именно король Римский считался отныне преемником Наполеона. Гортензии пришлось удовольствоваться тем, что она стала крестной матерью царственного младенца.
Между тем брак Людовика Бонапарта и Гортензии Богарне, не задавшийся с самого начала, фактически распался. Бывший голландский король предпочел удалиться в германские земли, подальше от подавлявшего его влияния старшего брата. Гортензия, покинув Голландию, обосновалась в Париже, где вскоре обрела женское счастье в обществе светского повесы, 25-летнего кавалерийского офицера графа Шарля де Флао де Ла Биллардери, приемного сына Талейрана. От этой связи 20 октября 1811 г. у нее родится мальчик, которому дадут имя Шарль-Огюст-Луи-Жозеф. В скором времени он будет усыновлен бездетным графом де Морни. Впоследствии младший Морни, как сводный брат Наполеона III, станет одним из создателей и столпов Второй империи, министром, герцогом и председателем Законодательного корпуса.
Надо признать, что увлеченная красавцем Флао Гортензия никогда не забывала о двух своих «законных» сыновьях. Она была образцовая мать и не жалела сил для того, чтобы дать им надлежащее воспитание. Страстная поклонница Наполеона, Гортензия и детям внушала чувства романтического преклонения перед их великим дядей. Наиболее сильное впечатление материнские наставления производили на младшего, Луи-Наполеона, буквально боготворившего императора.
Первые детские годы Луи-Наполеона были поистине безоблачными. Мальчик проводил время между императорской резиденцией Тюильри, где он жил с матерью и старшим братом, загородным поместьем Маль-мезон, куда его часто возили к бабушке, опальной императрице Жозефине, и курортом Экс-ле-Бен, где Гортензия любила отдыхать и проходить лечение на водах. Именно там она встретила графа де Флао.
Безмятежная жизнь закончилась 31 марта 1814 г. В этот день шестилетний Луи-Наполеон из окна Тюильри видит, как войска антифранцузской коалиции входят в Париж. Позднее он узнает, что русский император Александр I имел благородное намерение обеспечить интересы императрицы Жозефины, ее дочери и внуков. 16 апреля 1814 г. он навестил ее в Мальмезоне. Они довольно долго беседовали о чем-то наедине. Но 29 мая того же года Жозефина, простудившись, внезапно умерла, и намерения русского царя (если они у него действительно были?) остались нереализованными.
С возвращением в столицу Бурбонов и установлением режима Реставрации положение многочисленных представителей клана Бонапартов, окруженных откровенной враждебностью новых властей, становилось угрожающим. Гортензия вознамерилась любой ценой обеспечить безопасность и материальную будущность своих детей. Она ясно видела, что из всех вождей антинаполеоновской коалиции может рассчитывать лишь на благоволившего к ее матери Александра I. Ее надежды на царя оправдались. При его активном содействии Гортензия Богарне-Бонапарт получает от Людовика XVIII титул герцогини де Сен-Лё, пенсию и апанаж (удел) в размере 400 тыс. франков, предназначенный ее сыновьям.
Неожиданное возвращение Наполеона с о-ва Эльба и последовавшие за этим Сто дней, завершившиеся его разгромом при Ватерлоо и окончательным отречением, в корне изменили ситуацию. Во Франции развернулся Белый террор в отношении бонапартистов и активных участников революции. 1 января 1816 г. был принят закон об изгнании всех членов семейства Бонапарт из Франции. Гортензия покинула Париж еще в июле 1815 г., успев заблаговременно распродать свое имущество. Одним из покупателей ее коллекции старинной живописи на очень выгодных для Гортензии условиях стал все тот же русский царь.
В это время ее настиг второй удар. Людовик Бонапарт, давно добивавшийся передачи ему на воспитание обоих сыновей, сумел «отсудить» у жены старшего, Наполеона-Людовика, которого в октябре 1815 г. Гортензия вынуждена была отправить к отцу, в Богемию. Младший, Луи-Наполеон, остался с матерью, которая в 1817 г. на вырученные от распродажи имущества средства и доставшееся после смерти матери наследство приобрела небольшой, но красивый замок Арененберг на севере Швейцарии, на границе с Баварией. Свой замок Гортензия превратила в своеобразный музей, воссоздав в нем обстановку эпохи Империи. Здесь изгнанников посещали родственники, друзья и заезжие знаменитости, среди которых – Александр Дюма-отец, Жорж Саид, Шатобриан и др. В замке Арененберг Луи-Наполеону доведется провести долгие семнадцать лет.
В июне 1819 г. Гортензия подберет ему воспитателя – некоего Филиппа Леба, сына бывшего члена Конвента, близкого друга Робеспьера. Сам Леба в молодости был моряком, затем офицером наполеоновской армии, отличившимся в ряде кампаний. С падением империи он стал школьным учителем. Ему было что рассказать своему воспитаннику о революции и ее героях, о войнах времен Республики и Империи. В сознании впечатлительного подростка рассказы Леба соединялись с тем, что он постоянно слышал от матери и ее гостей об исторических деяниях его великого дяди. В результате в нем сформировалось твердое убеждение в существовании некой сакральной связи между народом Франции, Революцией и вышедшим из нее Наполеоном Бонапартом. Убежденность в народном характере режима, установленного Наполеоном, племянник императора французов пронесет через всю свою жизнь.
Формирование умственного кругозора Луи-Наполеона, конечно же, не ограничивалось теми уроками, которые он получал в замке Арененберг. Гортензия отдала своего сына в Аугсбургский коллеж, где он получил хорошее общее образование и свободное знание трех языков – немецкого, итальянского и английского. В 1827 г. девятнадцатилетний Луи-Наполеон, под влиянием другого своего наставника, бывшего майора императорской гвардии Паркена, записывается в Военную инженерно-артиллерийскую школу, находившуюся в городке Тури, недалеко от Берна. Когда год спустя, начнется война между Россией и Турцией, Луи-Наполеон изъявит желание отправиться на помощь туркам, но это намерение не будет тогда реализовано. По окончании учебы он поступает на службу в швейцарскую армию, где в 1834 г. получит чин капитана артиллерии.
Падение режима Реставрации в результате Июльской революции 1830 г. возродило у Луи-Наполеона надежду на возможность возвращения во Францию, но закон, принятый новыми властями 2 сентября того же года, подтвердил прежний запрет для Бонапартов появляться на французской территории. Не имея возможности вернуться на родину, жаждавший деятельности двадцатидвухлетний Луи-Наполеон принял участие в заговоре моденского революционера Чиро Менотти, поставившего целью освободить Рим от светской власти папы. К этому заговору Луи-Наполеон сумел приобщить и своего старшего брата, Наполеона-Людовика, проживавшего с отцом во Флоренции. Вступив в ряды карбонариев, сражавшихся против австрийских войск, оба юных Бонапарта были одержимы фантастической идеей – выкрасть из Вены своего кузена, герцога Рейхштадтского и провозгласить его королем Италии (при рождении сына Наполеон, как известно, даровал ему титул короля Римского). До достижения им совершеннолетия регентство должен был осуществлять Наполеон-Людовик.
Однако всем этим планам не суждено было осуществиться. Затеянный Менотти в начале зимы 1830 г. поход на Рим, в котором приняли участие оба племянника Наполеона, к концу февраля 1831 г. потерпел неудачу, а сам Менотти был схвачен и расстрелян. Вскоре после этого, 17 марта от кори, которой он заразился в походе, умирает Наполеон-Людовик. Его младший брат, бежавший с английским паспортом во Францию, в начале мая 1831 г. был выслан оттуда и вынужден уехать в Англию. В августе того же года он вернулся в Швейцарию и возобновил необременительную службу в швейцарской армии. Все свободное время принц проводил в материнском замке Арененберг. Здесь Луи-Наполеон впервые приобщается к литературному творчеству, написав «Учебник артиллерии», а вслед за этим – «Политические и военные размышления о Швейцарии». Здесь же он получает известие о поразившей всех смерти в Шенбрунне 27 июля 1832 г. юного герцога Рейхштадтского, которого бонапартисты называли Наполеоном II. Быстро прогрессировавший туберкулез унес его в могилу в возрасте двадцати одного года.
Луи-Наполеон в полной мере сознает свое новое положение вождя бонапартистов и в том же 1832 году публикует программную брошюру под названием «Политические мечтания». Высказанные в ней идеи и притязания спустя семь лет найдут развитие в другом его сочинении – «Наполеоновские идеи». В этих двух работах Луи-Наполеон доказывает, что лучшая форма государственного устройства – это народная монархия, основанная на республиканских принципах, включающих не только разделение властей, но и всеобщее избирательное право. «Народ правомочен избирать и принимать решения, законодательный корпус – обсуждать законы, а император – осуществлять исполнительную власть», – заявляет Луи-Наполеон[13]. Автор убежден, что наполеоновская империя в полной мере соответствовала этому идеалу, который был утрачен после 1815 г. и который Франция обязана обрести вновь. Достижению этой заветной цели он и посвятит свою жизнь, рассчитывая, прежде всего, на помощь своих многочисленных сторонников.
Бонапартисты, принимавшие активное участие в Июльской революции, свергнувшей режим Реставрации, чувствовали себя обойденными при дележе пирога власти, узурпированной, как они считали, Луи-Филиппом и его партией (орлеанистами). Свои надежды на захват власти они связывали отныне исключительно с Луи-Наполеоном, который понимал, что обязан оправдать эти надежды. Поскольку в реалиях середины 30-х гг. бонапартисты не могли рассчитывать на законный, т. е. через парламентские выборы, приход к власти, они, по примеру итальянских карбонариев, взяли курс на подготовку восстания. У Луи-Наполеона уже имелся некоторый, правда, неудачный, опыт участия в подобного рода заговорах.
По совету своих сторонников, он тайно прибывает в столицу Эльзаса г. Страсбург, где полковник Бодрей, командир размещенного там артиллерийского полка, изъявил готовность поддержать восстание. 30 октября 1836 г. Луи-Наполеон во главе небольшого отряда пытается захватить казармы артиллерийского полка, но еще на подступах к ним наталкивается на энергичный отпор пехотных подразделений, которым за два часа удалось рассеять повстанцев. В большинстве своем они были захвачены в плен, включая самого предводителя.
Доставленный под усиленной охраной в Париж, Луи-Наполеон ожидал сурового приговора, но Луи-Филипп, наделенный не только осмотрительным умом, но и добросердечием, не отдал под суд племянника национального героя Франции, а ограничился его высылкой в Северную Америку. Что касается сообщников принца Бонапарта, то всех их, по письменной просьбе Луи-Наполеона, амнистировали и выпустили на свободу.
Пребывание молодого Бонапарта в США, где он подрабатывал преподаванием французского языка, было не долгим. В середине лета 1837 г. он возвращается в Швейцарию и успевает застать в живых свою, тяжелобольную мать. 5 октября 1837 г. Гортензия умирает, а ее сын вскоре уезжает в Англию, где вместе со своими ближайшими сподвижниками вынашивает планы нового заговора против Луи-Филиппа. Когда принц узнает, что в Париж с о-ва ев. Елены должны быть возвращены для перезахоронения в Доме Инвалидов останки Наполеона I, он решает, что настает самый благоприятный момент для осуществления его замыслов. В опубликованной им в июне 1840 г. в Лондоне очередной брошюре под названием «Наполеоновские идеи», он высказывает мысль о том, что во Францию должны возвратиться не только останки Наполеона, но и его идеи о соединении порядка и свободы. И эти идеи принесет во Францию он, Луи-Наполеон Бонапарт.
Ранним утром 6 августа 1840 г. отряд из 60 человек высаживается с английского парохода в районе городка Булонь-сюр-Мер (департамент Па-де-Кале), откуда, как предполагалось, при поддержке местного гарнизона, должен был начаться победный марш на Париж. Но в Булони отряд не только не получает обещанной помощи, но, напротив, встречает вооруженный отпор. Итог короткой стычки – двое убитых и около пятидесяти пленных, среди которых и Луи-Наполеон.
На этот раз Луи-Филипп уже не был столь великодушен. По приговору суда принц Бонапарт был осужден на пожизненное заключение в крепости Ам. Король, правда, распорядился, чтобы именитому узнику обеспечили сносные условия заключения. Так, ему было позволено выписывать себе в тюрьму любые, интересующие его книги. Это дало возможность Луи-Наполеону с пользой провести время, занимаясь литературным трудом. Среди написанных им в тюрьме книг – «Угасание пауперизма», где чувствуется сильное влияние идей Луи Блана. Публикация этой книги привлечет к автору симпатии социалистов. Находясь в заключении, Луи-Наполеон пользовался определенной свободой передвижения по территории крепости, что помогло ему в мае 1846 г. организовать удачный побег и через Бельгию благополучно перебраться в Англию. К подготовке бегства его подтолкнули известия о резком ухудшении здоровья его отца, с которым он хотел попрощаться. Луи-Наполеон успел застать его в живых, побывав у него в Тоскане. Бывший король Голландии умер 25 сентября 1846 г., оставив сыну немалое наследство – крупную недвижимость в Италии и 1 млн. 200 тыс. золотых франков.
В Англии, где Бонапарт пытался восстановить подорванное в тюрьме здоровье, он познакомится с некой мисс Харриет Ховард, молодой, очаровательной и что не менее важно – весьма состоятельной женщиной, которая украсит его двухлетнее одиночество на берегах Темзы. Их роман продлится несколько лет и окончится лишь с женитьбой Луи-Наполеона в 1853 г. Поговаривали, правда, что и после этого, по крайней мере, до 1855 г., он поддерживал связь с Харриет Ховард. В благодарность за ее самоотверженную преданность, император французов дарует бывшей возлюбленной графский титул и замок, принадлежавший ранее маркизе де Помпадур, фаворитке Людовика XV.
В Лондоне он дождался революции во Франции, свергнувшей в феврале 1848 г. Июльский режим. Революция освободила из тюрем политических заключенных, в т. ч. и сторонников Бонапарта, которые сразу же развернули широкую кампанию в пользу своего вождя, обеспечив ему на майских выборах 1848 г. избрание в Учредительное собрание сразу от четырех департаментов. Уже через два месяца его кандидатура была выдвинута на пост президента республики, и на выборах 10 декабря 1848 г. он получил более 74 % голосов, оставив далеко позади всех других претендентов.
Как объяснить успех человека, которого вообще мало кто знал во Франции, чья жизнь прошла за ее пределами?
Безусловно, на него работала наполеоновская легенда, всегда жившая в сердцах многих французов, и особенно – среди крестьян. Бонапартисты умело использовали эти ностальгические настроения в предвыборной кампании своего вождя. Ко времени проведения выборов сильно скомпрометированным в глазах многих избирателей оказался главный конкурент принца Бонапарта в борьбе за пост президента, генерал Луи-Эжен Кавеньяк, утопивший в крови восстание парижских рабочих (23–26 июня 1848 г.) протестовавших против антисоциальной политики республиканского правительства. Тогда в Париже от рук карателей погибло 5600 человек. Более 11 тыс. были арестованы и 4 тыс. депортированы в отдаленные заморские владения Франции.
Июньский кризис нанес сильнейший удар по молодой, еще не успевшей окрепнуть, Второй республике – удар, от которого она так и не смогла оправиться. Зато принц Бонапарт в полной мере сумел извлечь пользу из этого кризиса, расположив к себе избирателей большинства политических партий, включая республиканцев. В своей предвыборной кампании он обещал покровительство религии и одновременно гарантировал свободу вероисповедания и светского образования, говорил о защите семьи, собственности и выставлял себя защитником интересов рабочего класса. Как кандидат на пост президента, Луи-Наполеон клятвенно обещал гарантировать стране порядок и свободы, а по истечении своего мандата передать власть вновь избранному преемнику. По закону президент мог избираться только на один срок. В действительности принц-президент, как его отныне стали называть, не намеревался выпускать из рук доставшуюся ему власть, стремясь продлить и расширить свои полномочия.
Когда в июле 1851 г. Луи-Наполеону не удалось получить согласие парламента на пересмотр положений конституции 1848 г. о сроках президентского мандата и возможности его продления, он решился на государственный переворот, к которому его давно подталкивало ближайшее окружение. В подготовке переворота, приуроченного к годовщине победоносной для Наполеона Аустерлицкой битвы, руководящее участие принял Огюст де Мории, сводный брат президента, назначенный им на пост министра внутренних дел. Надежные люди были поставлены во главе префектуры парижской полиции и столичного гарнизона. Конечно же, заговорщикам потребовались немалые финансовые средства для подготовки переворота. Денег, доставшихся Луи-Наполеону после смерти отца, явно не хватало. В этот критический момент в Париже появляется мисс Ховард, поддерживавшая с возлюбленным постоянную переписку, из которой она и узнала о его материальных затруднениях. Она привезла с собой значительную сумму, вырученную от продажи своего имущества в Англии и даже драгоценностей, пожертвовав всем ради любимого человека. Деньги мисс Ховард позволили Луи-Наполеону завершить подготовку заговора.
В ночь на 2 декабря 1851 г. были проведены аресты лидеров оппозиции, а утром парижане узнали три новости – о роспуске парламента и Государственного совета, введении всеобщего избирательного права и установлении временного режима военного положения. Попытки организовать сопротивление нарушившему присягу президенту были жестоко подавлены. Общее число арестованных по всей стране достигло 27 тысяч человек, возродив в памяти французов воспоминания о Белом терроре времен Реставрации.
Луи-Наполеон поспешил закрепить успех, прибегнув к народному плебисциту, который отныне станет излюбленным инструментом бонапартистского режима, претендовавшего на выражение общенациональных интересов и чаяний. В обстановке полицейских преследований, лишавших оппозицию возможности выступать легально, плебисцит, состоявшийся 21–22 декабря 1851 г., принес Бонапарту одобрение осуществленного им переворота 76 % избирателей, значительная часть которых прежде голосовала за левые партии. Таким образом, он получил общенациональный мандат.
А уже 14 января 1852 г. была обнародована новая, в сущности монархическая, конституция, наделявшая президента, избираемого на десятилетний срок, едва ли не безграничными полномочиями. Вслед за этим был принят ряд декретов, регламентировавших деятельность различных ветвей власти, печати, а также отношения между предпринимателями и наемными рабочими. Последние лишились своих прежних, профессиональных объединений, вместо которых повсеместно были созданы т. н. общества взаимопомощи под совместным патронажем мэров и священнослужителей.
Принц-президент не думал останавливаться на достигнутом. Он взял курс на восстановление наследственной монархии Бонапартов. С целью выяснить настроения масс осенью 1852 г. он отправился в пропагандистское турне по департаментам, где стараниями его приверженцев устраивались многочисленные демонстрации в пользу восстановления империи. Выступая 9 октября в г. Бордо, Луи-Наполеон произнес слова, явно адресованные европейским державам, опасавшимся возрождения наполеоновской империи. «Некоторые говорят, что Империя породит войну. Нет, Империя – это мир!», – с пафосом воскликнул он[14].
Убедившись, что самая многочисленная часть избирателей – крестьяне – с восторгом относятся к идее восстановления бонапартистской монархии, Луи-Наполеон по возвращении в Париж дал команду безотлагательно принять необходимые юридические меры для превращения президентской республики в империю.
21 ноября 1852 г. французские избиратели были в очередной раз приглашены высказаться – на этот раз по вопросу о государственном устройстве Франции. И опять Луи-Наполеон одержал убедительную победу – 76 % проголосовавших одобрили восстановление Империи.
2 декабря 1852 г. принц-президент Луи-Наполеон был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. Вторая республика прекратила свое существование, превратившись во Вторую империю[15].
Первейшая забота новоиспеченного императора состояла в том, чтобы обеспечить признание провозглашенной им наследственной монархии Бонапартов европейскими дворами. Наиболее подходящим средством для этого Наполеон считал династический брак с какой-либо принцессой из владетельного дома. В свои сорок четыре года он все еще оставался холостяком. Между тем с провозглашением империи вставал вопрос о продолжении династии, т. е. о наследнике. Официальное признание Европы Наполеону удалось получить без особого труда. Последним из европейских государей неохотно сдался Николай I, не желавший поначалу обращаться к «императору французов» в официальной переписке как к другим «природным» государям: «Сир, Брат мой».
Но все попытки французских дипломатов отыскать Наполеону принцессу из правящего дома окончились неудачей. Легитимные монархи не желали выдавать своих дочерей за французского «выскочку». В конечном счете император вынужден был остановить свой выбор на 26-летней испанской аристократке Евгении Монтихо, графине Теба, с которой познакомился четырьмя годами ранее.
Многие тогда посчитали этот выбор Наполеона вынужденным. Только хорошо знавший императора Александр Дюма-сын думал иначе. Он увидел в этом союзе «торжество любви над предубеждениями, красоты – над традицией, чувства – над политикой»[16]. Венчание императорской четы состоялось 30 января 1853 г. в соборе Парижской Богоматери. А накануне, в Тюильри, прошла гражданская церемония бракосочетания.
Воспитанная в строгих правилах христианской морали, истая католичка, императрица Евгения очень скоро разочаровала мужа, оказавшись если и не совсем фригидной женщиной, то достаточно равнодушной к интимной стороне жизни. Она искренне считала своим единственным долгом рождение наследника престола. Этого же она ожидала и от супруга, который, правда, придерживался иного мнения. Он и в браке намеревался оставаться свободным.
Столь разные взгляды на семейную жизнь едва ли не с самого начала осложнили отношения между супругами. Когда Наполеон попытался сохранить связь с мисс Ховард, продолжавшей воспитывать его внебрачных детей, Евгения самым решительным образом воспротивилась этому. Любовникам пришлось расстаться. Однако даже строгий надзор императрицы не мог изменить давно усвоенных привычек Луи-Наполеона, его непреодолимой слабости к прекрасному полу. Наполеон находил любовниц в разных слоях общества, предпочитая хорошеньких и модных актрис. Не пренебрегал он и дамами из высшего общества, включая наиболее привлекательных жен и даже дочерей своих ближайших сподвижников. Среди его любовниц были графиня Марианна Валевская, супруга министра иностранных дел, а впоследствии – председателя Законодательного корпуса, баронесса Валентина Османн, дочь знаменитого префекта департамента Сена, графиня Луиза де Мерси-Аржанто, графиня де Кастильоне, племянница графа Кавура, премьер-министра Пьемонта… Некоторые из них имели даже от императора детей.
Со временем императрица смирится со своей судьбой. Она научится не замечать частых увлечений мужа и не слышать того, о чем говорил «весь Париж». Не добившись верности, которую Евгения считала основой брака, она сумела добиться большего – подчеркнутого уважения со стороны императора, который все более внимательно прислушивался к ее мнению при решении государственных дел. Ее влияние всегда и во всем имело сугубо консервативную направленность, что вызывало беспокойство у тех сподвижников императора, которые придерживались левых взглядов.
Не жаловали императрицу и родственники Луи-Наполеона, справедливо упрекавшие ее в чрезмерном вмешательстве в государственные дела и откровенной расположенности к католицизму и Испании, что далеко не всегда отвечало как интересам Франции, так и правящей династии. Принцесса Матильда, кузина императора, в разговоре с русским послом графом П.Д. Киселевым однажды раскрыла тайну удивлявшей всех уступчивости Наполеона перед настойчивостью императрицы. На вопрос Киселева о том, почему император, «при своем превосходстве ума, позволяет таким образом господствовать над собой», Матильда ответила: «По лености. Он ленив во всем, что относится до домашней жизни; я несколько раз выговаривала ему это, но у него всегда один ответ: лучше отступить, чем продолжать спор о пустяках; притом, поясняет он, – таков уж мой характер; я не могу переиначить его, потому я даю ей говорить, сколько хочет, а сам молчу»[17].
К этому можно добавить, что нередко Наполеон уступал своей супруге не только в семейных делах, но и в политике. Последнее свидетельствовало не о его человеческой слабости, а о вынужденном постоянном лавировании между двумя тенденциями, характерными для бонапартистского режима.
Свой священный долг перед Францией императрица Евгения исполнила 16 марта 1856 г., когда на свет появился долгожданный «Императорский принц» (Prince Imperial). Ему дали имя – Эжен Луи Наполеон. В семье и при дворе он получит ласково-уменьшительное прозвище «принц Лулу».
По случаю этого радостного события император освободил из тюрем 1200 заключенных, в большинстве своем политических. К 1859 г., когда будет объявлена всеобщая амнистия, в тюрьмах и в изгнании останется менее 400 человек, среди них – Виктор Гюго, непримиримый противник Наполеона III и его режима, который он считал незаконным и диктаторским. Знаменитый писатель-демократ отклонит амнистию и предпочтет дальнейшее добровольное изгнание на острове Джерси. Гюго вернется на родину лишь после падения Второй империи в сентябре 1870 г.
Так что же представлял собой бонапартизм у власти, воплощенный во Второй империи?
Это был авторитарный режим, отвергавший парламентскую демократию и утверждавший сильную исполнительную власть, которая опиралась (через плебисциты) на свободное народное волеизъявление. Впервые бонапартистский режим был установлен в 1799 г. Наполеоном Бонапартом. Спустя полвека племянник попытался продолжить эксперимент, начатый его великим предшественником. Бонапартизм у власти представлял собой некий «третий путь» между рухнувшим старым порядком и революционным хаосом. Как в 1799 г., при Наполеоне Бонапарте, так и в 1852 г., при Наполеоне III, бонапартизм подвел символическую черту под революционными потрясениями 1789–1799 и 1848 гг., символизируя собой окончание революции, возвращение к законности и порядку, восстановление национального единства. Это была попытка соединить определенные элементы старого строя и революционных завоеваний (права новых собственников, политическое равенство, всеобщее избирательное право, индивидуальные свободы, социальная ответственность государства и т. д.) Авторитарный режим Второй империи создавал видимость всенародного государства, стоящего над интересами классов и партий. В действительности он опирался на крестьянство, чиновную бюрократию, армию, полицию и католическое духовенство.
Идеология бонапартизма эклектична, в ней причудливо сочетались постулаты национализма, консерватизма, либерализма и даже социализма (сен-симонизма). В годы Второй империи появился каламбур, ярко выразивший идеологическую мозаичность бонапартистского режима. Авторство этого каламбура молва приписывала самому Наполеону III: «Императрица у нас – легитимистка; принц Наполеон – республиканец; Мории – орлеанист; сам я – социалист; одного лишь Персиньи (один из давних и верных сподвижников Луи-Наполеона. – П.Ч.) можно назвать бонапартистом, но ведь он сумасшедший»[18].
Характернейшая черта бонапартизма – балансирование между интересами различных классов и социальных групп, что до поры обеспечивало режиму определенную устойчивость[19]. Провозглашение империи совпало с экономическим подъемом в стране и улучшением положения крестьянства и рабочих, что также способствовало укреплению позиций режима.
Во внутренней политике Вторая империя сочетала экономический либерализм, популизм и жесткие меры административно-полицейского характера. Так или иначе, но оживленная политическая жизнь во Франции, характеризовавшаяся прежде открытым соперничеством партий, с установлением Второй империи впала в летаргическое состояние. Луи-Наполеон еще в молодые годы пришел к твердому убеждению, что партии выражают не чаяния народа, а корыстные интересы отдельных фракций элиты, навязывающей обществу нужные им решения. К тому же, узкий круг избирателей, допущенных к участию в выборах, по его мнению, ни в коей мере не мог отражать настроения всего общества. Именно поэтому Наполеон III и сделал ставку на плебисцит, восстановив всеобщее избирательное право и консультируясь с нацией по основополагающим вопросам политической жизни.
Оппозиция, потерявшая почву под ногами, т. е. возможность действовать открыто, ушла в подполье. В создавшихся условиях часть оппозиционеров сделала выбор в пользу террора, как средства политической борьбы с режимом. Полиция раскрыла множество заговоров с целью убийства императора, но все же не смогла предотвратить трех попыток покушения на его жизнь – 28 апреля 1855 г., 8 сентября 1855 г. и 14 января 1858 г.[20]
Последнее сопровождалось многочисленными жертвами. 8 человек погибли и 156 получили ранения в результате взрыва трех бомб, брошенных в сторону императорской кареты, направлявшейся в Оперу. Наполеон и Евгения не пострадали. В обстановке возникшей паники, сохраняя абсолютное спокойствие, они проследовали в театр, где публика устроила им овацию. Последствием этого покушения стало принятие в феврале 1858 г. закона об общественной безопасности, ужесточившего преследование тех, кто вызывал подозрение у полиции.
Первый период в истории Второй империи, рожденной в результате государственного переворота, был отмечен подавлением оппозиции и репрессиями в отношении противников режима. Преобладающим влиянием на императора в этот период пользовались консервативно-реакционные круги из его окружения во главе с императрицей Евгенией. Почувствовав себя более уверенно, Наполеон III, начиная с 1859 г. берет курс на постепенную либерализацию режима. Авторитарную империю он намерен превратить в либеральную. В нем опять заговорил узник крепости Ам, интересовавшийся социалистическими теориями. Тогда, в середине 40-х гг., он писал, что «наполеоновская идея – это не война, а социальная, промышленная, торговая и гуманитарная идея»[21].
Наполеон III стал первым из европейских правителей, кто пытался проводить социальную политику, считая ее важным условием национального согласия и процветания государства. Его деятельность в этом направлении не ограничивалась лишь благими намерениями и словами сочувствия неимущим. Она проявилась в принятии совершенно конкретных решений, имеющих целью улучшение положения трудящихся и наиболее обездоленных слоёв населения.
Еще будучи президентом республики, Луи-Наполеон декабре 1851 г. запретил трудовую деятельность в выходные и праздничные (по церковному календарю) дни. Этот закон действовал до 1880 г., когда республиканские власти объявили его «клерикальным», и на этом основании отменили. Однако под давлением протестного рабочего движения Третья республика в 1906 г. вынуждена была вернуться к закону, инициированному Наполеоном. Разумеется, об авторе этого социального закона республиканское правительство предпочло не вспоминать. В феврале 1853 г. Наполеон III подписал декрет об учреждении «Общества материнского милосердия» для попечения об одиноких и неимущих матерях. По всей Франции были организованы 76 отделений этого общества, взявших под свою опеку 16 тыс. матерей. Верховное попечительство над всеми этими обществами возложила на себя императрица Евгения.
Рождение в марте 1856 г. долгожданного наследника император Наполеон отметил не только амнистией, о чем уже говорилось, но и актом крупной благотворительности. 14 июня 1856 г., в день крещения «принца Лулу», он издал распоряжение о создании в Париже приюта для детей-сирот. При этом императорская чета взяла на себя все расходы, как на строительство приюта, так и на содержание трехсот его воспитанников.
8 июня 1853 г. был принят закон о пенсиях для государственных служащих всех уровней, имеющих стаж 30 и более лет. Размер пенсии составлял % от ежемесячного жалования чиновника. В результате 154 тыс. госслужащих получили материальные гарантии на относительно обеспеченную старость. Действенность этого пенсионного закона была доказана длительностью его применения. Он был пересмотрен лишь в 1924 г.
В том же 1853 г. правительственным декретом были учреждены примирительные советы для урегулирования производственных конфликтов, а годом ранее в каждом департаменте были созданы трудовые инспекции. Спустя пятнадцать лет, в августе 1868 г., император инициировал принятие закона о равенстве свидетельских показаний работодателей и наемных работников при рассмотрении трудовых конфликтов в судах. Для тогдашней Европы это было смелым шагом вперед.
Еще в молодости Наполеон всерьез интересовался возможностями для смягчения антагонизма между трудом и капиталом. Придя к власти, он неоднократно доказывал, что интересы трудящихся классов были дня него не менее значимы, чем интересы имущих слоев. В 1854 г. была учреждена система т. н. «кантональной медицины», призванной оказывать бесплатную медицинскую помощь на дому жителям деревень. В 1860 г. услугами «кантональной медицины» воспользовались более 300 тыс. крестьян.
В числе других мер социального характера, принятых по инициативе императора французов, – создание в 1855 г. оздоровительных центров (т. н. «национальные приюты») для рабочих, которые получили производственные травмы или профессиональное заболевание. А в 1862 г. развернулось строительство 172 приютов и лечебниц для инвалидов.
25 мая 1864 г. Наполеон утвердил закон, предоставивший французским рабочим – первым в Европе – право на забастовку. Это право было ограничено только двумя условиями – избегать насильственных действий и уважать право на труд тех, кто не желал бастовать. Три года спустя, в 1867 г., рабочим было предоставлено право создавать профсоюзы по месту работы и объединяться в профсоюзные федерации.
Наполеоном предпринимались попытки организовать систему социального страхования и обеспечить максимально возможную занятость трудоспособного населения, в частности на общественных работах, как средства сокращения безработицы. В результате всех этих усилий в апреле 1870 г. Франция стала единственной европейской страной, обеспечившей полную занятость своему работоспособному населению. За время правления Наполеона III заработная плата наёмных работников возросла на 47 % в номинальном и на 20 % – в реальном исчислениях. Средний доход француза увеличился с 442 фр. в 1850 г. до 602 фр. в 1869 г.[22] Важно отметить, что инфляция за эти годы была чисто символической.
Последовательно, хотя и несколько хаотично проводимая социальная политика, стала важным залогом политической стабильности бонапартистского режима, который почти до самого своего крушения не знал серьезных потрясений, свойственных Июльской монархии (Лионские восстания) и Второй республике (Июньское восстание 1848 г. в Париже)[23]. Не исключено, что именно эта стабильность и вызывала негодование у противников и недоброжелателей Луи-Наполеона, как внутри страны, так и за рубежом. Пытаясь наладить диалог власти с неимущими слоями общества, желая понять их интересы и, по мере возможности, сгладить наиболее вопиющие проявления неравенства, Наполеон III, можно сказать, вторгался в зону традиционного влияния левых – буржуазных республиканцев и социалистов, посягая на их массовую опору. Социальные эксперименты императора французов отвлекали пролетариат от классовой борьбы, и именно это вызывало негодование у тех, кто считал себя вождями рабочего движения. Отсюда и постоянные нападки на Наполеона III со стороны публицистов-социалистов, в том числе и К. Маркса.
Между тем система принятых при Наполеоне мер обеспечила Франции устойчивое экономическое развитие, превратив ее в ведущую финансово-промышленную державу на континенте. Мощными двигателями экономического развития стали два крупнейших банка, созданные в годы Второй империи – «Креди фонсье» и «Креди мобилье». Первый кредитовал сельское хозяйство; второй – промышленность и дорожное строительство. В 1863 г. был основан впоследствии всемирно известный депозитный банк «Креди Лионне» («Лионский кредит»). Широкая банковская поддержка и внедрение системы кредитования обеспечили подлинный бум для таких отраслей промышленности, как металлургическая, текстильная и горнодобывающая.
Считая крестьянство одной из важнейших опор своего режима, Наполеон уделял самое пристальное внимание нуждам аграрного сектора и старался через систему финансового стимулирования и внедрение механизации создать наиболее благоприятные условия для его ускоренного развития. Его усилия себя оправдали. Среднегодовые урожаи по стране за период между 1848 и 1869 г. возросли на 50 %.
Франсуа Гизо, одному из столпов Июльской монархии, приписывают фразу, обращенную к французам: «Обогащайтесь! Обогащайтесь своим трудом и бережливостью»[24]. Труд и экономия были объявлены залогом благополучия, как отдельного человека, так и нации в целом. Наполеон III отчасти разделял эту мысль, но в новых реалиях считал ее недостаточной для достижения настоящего успеха, тем более в общенациональном масштабе. Он предложил французам другую формулу: «Работайте и вкладывайте свои накопления!»[25]. Инвестиции, инвестиции и инвестиции – вот что сделает Францию действительно процветающим государством. Таково было искреннее убеждение императора, считавшего, что государство должно действовать в одном направлении с гражданами.
При нем во Франции широкое развитие приобрели кредитные операции, была создана наиболее современная по тем временам банковская система. Парижская биржа, объем операций на которой возрос с 11 млрд. фр. в 1851 г. до 35 млрд, в 1870 г., становится крупнейшим финансовым центром на континенте. По инициативе императора началось введение в обращение нового платежного средства – чеков, получивших вскоре мировое признание.
За годы правления Наполеона III в стране была построена разветвленная сеть железных дорог, общая протяженность которых возросла с 3,8 тыс. км в 1852 г. до 20 тыс. к 1870 г. [26]
В целом по уровню экономического развития Франция к концу правления Наполеона III превратилась во вторую (после Англии) мировую державу. За период с 1848 до 1870 г. объем промышленного производства во Франции увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущими тремя десятилетиями. Даже столь непримиримый критик НаполеонаШ как К. Маркс не мог не признать, что при нем «буржуазное общество достигло такой высокой степени развития, о которой оно не могло и мечтать. Промышленность и торговля разрослись в необъятных размерах»[27]. Признанием экономических и научно-технических достижений Франции в годы Второй империи стали Всемирные выставки в Париже 1855 и 1867 гг.
Большое внимание правительство Наполеона III уделяло развитию образования. К 1869 г. системой начального и среднего образования в стране было охвачено до 70 % детей (около 6 млн.). Для сравнения – в 1848 г. школы во Франции посещали 3,8 млн. детей. Значительно выросли зарплаты учителей – с 493 фр. 1846 г. до 1 тыс. фр. в 1870 г. За годы существования Второй империи было открыто 78 новых факультетов на 10 тыс. студентов. Тогда же появились знаменитые впоследствии книжные издательства – Гарнье, Файяр, Ашетт, Ларусс, Плои и др.
Париж, перестроенный бароном Османном по инициативе императора Наполеона, именно в годы Второй империи приобрел заслуженную репутацию «столицы мира». Франция стала родиной первых крупных универсальных магазинов – Бон Марше, Базар де л’Отель де Билль, Прэнтан, Самаритэн и др. Все они возникли при непосредственном участии Наполеона III, утверждавшего все градостроительные проекты в Париже. При нем началось строительство Гранд Опера (ныне – Опера Гарнье), помпезное здание которой остается посмертным символом Второй империи.
Главные цели внешней политики Наполеона III состояли в том, чтобы сначала добиться ликвидации ограничений, наложенных на Францию Парижским миром 1815 г., а затем утвердить ведущее положение Франции на европейском континенте. Амбиции императора распространялись еще дальше – на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и даже в Новый Свет.
Племянник великого завоевателя не мог смириться с границами 1792 г., навязанными Франции победителями в 1814-15 гг. Более того, он хотел, как говорили в XVIII в., «округлить», т. е. расширить французскую территорию – на юге, в итальянском направлении, и к востоку от Рейна. В этом смысле его заявление о том, что «Империя – это мир», сделанное в 1852 г., было не более чем пропагандистской уловкой, призванной успокоить Европу. Намерение Луи-Наполеона изменить соотношение сил в пользу Франции предполагало не только дипломатические, но и военные средства достижения его внешнеполитических целей. Поэтому с момента своего рождения Вторая империя была обречена на войны, которые в конечном итоге приведут ее к гибели, как это случилось с ее предшественницей – Первой империей.
Следуя во всем заветам Наполеона I, продолжатель его дела не одобрял лишь одного – противоборства с Англией. Именно это противоборство, а вовсе не злополучный поход в Россию, по его убеждению, было главной причиной последующей национальной катастрофы. Русская кампания, как считал Наполеон III, была производной от затяжного конфликта с Великобританией, пытавшейся втянуть Россию в орбиту своей антифранцузской политики.
Продолжительное проживание в Англии, где за годы вынужденного изгнания у него появилось множество друзей, близкое знакомство с британской политической культурой сформировало у Луи-Наполеона уважительное отношение к «владычице морей» и «мастерской мира». Он пришел к твердому убеждению, что осуществление его далеко идущих внешнеполитических планов возможно только в тесном союзе с Великобританией, у которой, как он полагал, не было непосредственных территориальных интересов на континенте. Другие европейские державы могли быть более или менее полезны для французских интересов – каждая по-своему и, что не менее важно – в свое время.
Какое место в планах Наполеона III отводилось России?
Ответ на этот вопрос, собственно, и составляет одну из главных тем настоящего исследования. Но об этом речь впереди. Пока же можно напомнить об одном эпизоде, имевшем место в период, когда Луи-Наполеон проживал в Англии после побега из форта Ам.
Обосновавшись в Лондоне, Луи-Наполеон развернул активную работу по подготовке очередного заговора с целью свержения Июльской монархии. Направляя действия своих сторонников внутри Франции, он стремился заручиться поддержкой за рубежом. Учитывая «сердечное согласие», установившееся между Лондоном и Парижем после 1830 г., никаких надежд на содействие своим планам со стороны британского кабинета Бонапарта питать не мог. И он сделал ставку на Россию, зная
0 враждебном отношении императора Николая I к Луи-Филиппу. Об этом, в частности, свидетельствуют документы, недавно выявленные автором в Государственном архиве Российской федерации (ГА РФ). Речь идет о конфиденциальной переписке Луи-Наполеона с шефом российской тайной полиции (Третьим отделением) графом Алексеем Федоровичем Орловым, ближайшим сподвижником Николая I[28]. Эта переписка свидетельствует о высокой степени заинтересованности будущего французского императора в установлении личных контактов с Николаем I с далеко идущими политическими целями.
Все началось с того, что в последних числах апреля 1847 г. Луи-Наполеон посетил российского посланника в Лондоне барона Филиппа Ивановича Бруннова и передал ему письмо, адресованное генерал-адъютанту А.Ф. Орлову. В письме он просит Орлова исхлопотать для него у императора разрешение на приезд в Петербург с частным визитом. Эта просьба мотивировалась Луи-Наполеоном его давним желанием познакомиться с Россией и одновременно засвидетельствовать императору Николаю свою признательность за «великодушное» отношение к его матери, проявленное в 1814 г. Александром I.
Намерение Бонапарта не на шутку встревожило сановный Петербург. Государственный канцлер и одновременно глава русской дипломатии граф К.В. Нессельроде, которому Орлов передал полученное из Лондона письмо, настоятельно советовал императору отклонить представлявшуюся ему бестактной просьбу. Формально Луи-Наполеон считался бежавшим из тюрьмы заключенным. По этой причине, как полагал Нессельроде, русский император не мог себе позволить дать аудиенцию государственному преступнику, пусть даже приговор ему вынесен судом «фальшивой монархии». К тому же, с 1846 г. наметилась некоторая тенденция к нормализации российско-французских отношений, что не могло не быть известно Бонапарту. Уже одно это обстоятельство делало, по меньшей мере, нежелательным для императора Николая приезд в Петербург Луи-Наполеона. Царь согласился с доводами Нессельроде.
Вежливый, но недвусмысленный отказ не обескуражил Луи-Наполеона. Он верил в свою звезду и явно рассчитывал на дальновидность русского императора и его министров. Последующее развитие событий со всей очевидностью обнаружит, что лондонский сиделец переоценил способности Николая I и его окружения смотреть хотя бы на два-три года вперед. Даже после Февральской революции 1848 г., похоронившей Июльскую монархию, в Петербурге не склонны были всерьез принимать этого изгоя. Между тем, и депеши российского посланника во Франции Н.Д. Киселева, и донесения парижского резидента Третьего отделения Я.Н. Толстого свидетельствовали о подъеме бонапартистского движения и росте популярности Луи-Наполеона.
Через месяц после Февральской революции, напугавшей Петербург не меньше, чем Июльская революция 1830 г., Бонапарт, остававшийся пока в Лондоне, но уже готовившийся к возвращению в Париж, предпринимает вторую попытку найти взаимопонимание с Николаем I. При этом он проявляет наивысшую степень доверия к царю, поставив на карту свое политическое будущее.
В конфиденциальном письме на имя графа Орлова от 28 марта 1848 г. Луи-Наполеон говорит, что понимает всю степень угрозы, исходящей от революции во Франции для «спокойствия Европы». Он заверяет Орлова, а через него Николая I, в своих миролюбивых намерениях и в готовности навести во Франции порядок, в котором жизненно заинтересованы все европейские государства. При этом он ссылается на свою растущую популярность во Франции. Но для восстановления порядка ему требуется не только доверие, но и деньги. «Имея в своем распоряжении один миллион франков в год до достижения поставленной цели, автор этих строк берется быстро достичь желаемых результатов в интересах как можно более скорого установления спокойствия в Европе, – пишет Луи-Наполеон. – По серьезности моего демарша пусть судят о серьезности интересов! По моему глубокому доверию к Вам пусть судят об искренности моих чувств!», – добавляет он.
И, действительно, такое безграничное доверие Луи-Наполеона к сохранявшим ледяную сдержанность русским адресатам не может не поражать. Если бы это письмо каким-то образом получило огласку, то репутация и политическое будущее его автора были бы безвозвратно погублены. Он никогда не стал бы ни президентом, ни императором. Более того, ему бы даже не позволили вернуться во Францию. Скорее всего, он провел бы остаток жизни в изгнании, презираемый всеми.
Как объяснить такую степень откровенности Луи Наполеона с Николаем I?
Здесь можно предположить две причины. Во-первых, как видимо, полагал Луи-Наполеон, никто в Европе не опасался возможных последствий Февральской революции больше, чем русский царь, который должен быть заинтересован в локализации и последующей ликвидации революционного взрыва. Во-вторых, готовя свое возвращение во Францию, Луи-Наполеон лихорадочно искал деньги для реализации своих далеко идущих замыслов, не имевших ничего общего с планами «февральских» революционеров-республиканцев. Он искренне надеялся, что осознание нежелательных международных последствий революции во Франции должно подтолкнуть царя на оказание финансовой помощи единственному человеку, способному укротить революционную стихию, как это сделал Наполеон Бонапарт 18 брюмера 1799 г.
Но в Петербурге словно не замечали протянутую руку дружбы. Там, как свидетельствует обнаруженная переписка, по-прежнему не желали всерьез воспринимать Луи-Наполеона как перспективную политическую фигуру, видя в нем лишь сбежавшего из тюрьмы преступника. Недалекое будущее покажет, что не только в либеральном Лондоне, но даже в полуабсолютистских Вене и Берлине найдутся более трезвомыслящие политики, свободные от легитимистских предрассудков.
Так или иначе, но Николай I отказал Луи-Наполеону в финансовой поддержке. Не слишком вежливый отказ последовал и на другую просьбу Бонапарта – принять в Петербурге его доверенное лицо, банкира Аристида Феррера, уполномоченного провести переговоры о возможной покупке для Эрмитажа коллекции картин и предметов антиквариата, оставшихся у Луи-Наполеона после смерти матери общей стоимостью 21 400 английских фунтов стерлингов. В паспорте на въезд в Россию Ферреру было решительно отказано, а в личной беседе с Луи-Наполеоном барон Бруннов заявил, что «музей Эрмитаж весьма богат картинами и… не нуждается в новых приобретениях». Все это происходило в конце августа 1848 г., всего лишь за месяц до триумфального возвращения Луи-Наполеона во Францию.
Интересно, как бы повел себя Николай I, если бы знал, что через три месяца, в декабре 1848 г., Луи-Наполеон станет президентом Французской республики, а затем и императором Франции?.. Впрочем, это вопрос риторический.
Так или иначе, но первоначальные надежды Бонапарта на Россию потерпели неудачу. Но не менее очевиден и политический просчет Николая I в отношении Луи-Наполеона. Этот просчет, допущенный в 1847–1848 гг., был усугублен в последующие годы, предшествовавшие Крымской войне, когда Россия и Франция впервые после 1814 г. скрестили оружие[29].
Новую попытку наладить отношения с Россией Наполеон III предпринял с воцарением Александра II. О том, какие цели он при этом преследовал, пойдет речь в следующей главе.
* * *
Краткое обозрение жизненных путей двух императоров к тому времени, когда, на исходе Крымской войны, государственные интересы поставили в повестку дня вопрос о том, какой характер оба государя желали придать двусторонним отношениям между Россией и Францией, обнаруживает как определенное сходство, так и существенные отличия в их воспитании, характере, привычках и вкусах, в жизненном опыте, наконец, в политических воззрениях и идеалах.
По рождению оба они принадлежали к царствующим династиям, правда, Луи-Наполеону совсем недолго пришлось пользоваться преимуществами своего привилегированного положения. В неполные шесть лет, с падением Первой империи, у него началась другая жизнь, закалившая характер и сформировавшая личность, которая твердо знала, к чему она стремится. Восстановление империи и возвращение Франции значения ведущей европейской державы стало тем «Великим замыслом» (“le Grand dessein”), осуществлению которого будет подчинена вся жизнь Луи-Наполеона.
Суровая жизненная школа, усвоенный им опыт Французской революции, наконец, знакомство с политическими идеями, провозглашавшими социальную справедливость, привели Луи-Наполеона к убеждению в необходимости построения такого общества, в котором извечно существующие классовые и социальные антагонизмы, если и не могут быть окончательно преодолены, то должны быть смягчены. Именно этой цели будет подчинена социальная политика императора французов. В этом отношении он, безусловно, был крупным реформатором, инициировавшим социально-экономическую модернизацию Франции.
Александр II, как известно, тоже был реформатором, но несколько иной направленности. Наследник тысячелетней монархии, он был убежденным поборником самодержавных устоев, считая своим священным долгом их сохранение и укрепление. Перед ним был пример служения России, которому он всегда стремился подражать – его отец, император Николай I.
Школа воспитания, которую он прошел под руководством В.А. Жуковского, сформировала у Александра гуманные, можно сказать, возвышенные представления о выпавшей на его долю миссии, но, в отличие от Луи-Наполеона, к моменту восшествия на престол он не имел никакой программы действий, кроме завещанного умирающим отцом напутствия – «Держи все…». Трудно сказать, стал бы он вообще великим реформатором, каким остался в истории России, если бы не Крымская катастрофа, вскрывшая гнойник накопившихся за десятилетия проблем и поставившая молодого императора перед неотложной необходимостью модернизировать страну.
Вот здесь-то и оказались востребованными плоды просвещения, полученные Александром от Жуковского и подобранных им либерально мыслящих учителей и наставников. Александр оказался подготовленным для того, чтобы принять вызов времени и ответить не него глубоко продуманными реформами, существенно изменившими весь облик России. Правда, в отличие от императора французов российский самодержец не размышлял над социальными вопросами. Все его мысли были направлены на то, чтобы преодолеть опасную отсталость России от ведущих европейских держав, дать толчок ее ускоренному экономическому развитию, модернизировать политическую систему, но при этом сохранить самодержавие, дав ему второе дыхание.
Принципиально отличной была природа власти Александра I и Наполеона III. В первом случае – «Божьей милостью Самодержец всея Руси», унаследовавший престол от августейших предков, во втором – «Император французов», достигший верховной власти в результате государственного переворота и последовавшего всенародного волеизъявления на референдуме. К этому можно добавить, что Вторая империя, как и Первая, вышли из революций: одна – из 1848 года, другая – из 1789-го.
Революционные истоки бонапартистского режима, а в еще большей степени его имперские притязания, в частности, плохо скрываемое намерение исправить «несправедливые» границы, навязанные Франции в 1815 г., не могли не настораживать Александра II, одного из гарантов порядка, установленного Священным союзом в Европе.
Казалось бы, все это исключало саму возможность конструктивного диалога между Александром и Наполеоном, тем более на фоне войны, которая продолжалась и после смерти императора Николая, хотя с падением Севастополя в августе 1855 г. военные действия в Крыму практически прекратились. Тем не менее, именно Крымская война станет поворотным моментом в отношениях между Россией и Францией.
Глава 2 Парижская прелюдия: за кулисами конгресса 1856 года
Зондаж Наполеона III
Известие о том, что 2 марта 1855 г., вскоре после полудня, в Санкт-Петербурге, в Зимнем дворце скончался император Николай I, пришло в Париж по телеграфу вечером того же дня. Новость эта прозвучала в Тюильри, словно удар грома при ясном небе. Никто в окружении Наполеона III не знал, что 58-летний царь, всегда отличавшийся богатырскими здоровьем, последние две недели провел в постели, страдая от жестокой простуды, которая и свела его в могилу.
А в это время 70 тысяч французов, англичан и турок, на помощь которым ожидалось прибытие 15-тысячного корпуса пьемонтцев, осаждали в Крыму Севастополь. За спиной союзников уже была победа при Альме, впереди – взятие Балаклавы, Инкермана и Евпатории, но под Севастополем на исходе сентября 1854 г. они натолкнулись на ожесточенное сопротивление русских. Попытка штурма города-крепости потерпела неудачу, а начавшаяся осада затянулась на неопределенный срок, что крайне нервировало императора французов, желавшего поскорее, – но, конечно же, не раньше, чем город будет взят, – покончить с разорительной для казны и затратной по потерям войной[30].
Племянник великого Наполеона мечтал лишь об одном – о реванше за национальное унижение 1812–1815 годов. В его планы не входило ни отторжение от России Кавказа, как того желал глава британского кабинета лорд Пальмерстон, ни ликвидация приобретений Екатерины II в Северном Причерноморье, к чему стремилась Порта, ни чрезмерное ослабление Российской империи, что было опасно для нарушения европейского равновесия. Достаточно было склонить Россию к миру сразу же после падения Севастополя. Одно время Наполеон III намеревался даже отправиться в Крым, чтобы лично возглавить командование войсками, но по ряду причин, в частности, из опасений республиканского переворота в Париже во время его отсутствия, вынужден был отказаться от этой идеи[31].
«…Общественное мнение во Франции восставало против отдаленной и разорительной войны, в которой английские интересы были замешаны непосредственнее, нежели французские, – писал один из первых историков Крымской войны, видный русский дипломат барон А.Г. Жомини, современник событий. – Партии волновались, и это обстоятельство было одной из причин, почему поездка императора Наполеона была отложена. Ему доказывали, что его отсутствие послужит сигналом к революционному движению против его династии»[32].
Опасения не были лишены оснований. 28 апреля 1855 г. на императора было совершено покушение, когда он верхом направлялся на прогулку в Булонский лес. Некий Джованни Пианори, бывший гарибальдиец, эмигрировавший во Францию, дважды выстрелил в Наполеона, но промахнулся. Приговоренный к смерти, итальянский карбонарий принял ее со словами: “Vive la Republique!”, что было воспринято обществом как прямой вызов бонапартистской империи. Так или иначе, но поездка императора в Крым не состоялась.
Новость о смерти царя вызвала бурную реакцию на парижской Бирже, с началом войны пребывавшей в затянувшейся апатии. Котировки акций и облигаций, в особенности русских, резко подскочили в цене. Поползли слухи о скором прекращении войны. Оптимизм финансистов быстро передался журналистам и политикам, включая оппозиционных. Многие из них утверждали, что молодой русский император, будучи наследником престола, якобы противился войне, не одобряя политику своего отца. Парижские журналисты, по-видимому, идя от обратного, безоговорочно наделяли Александра Николаевича качествами, противоположными тем, которые были свойственны Николаю I – мягкость, человечность, уступчивость и нерешительность, граничащие со слабохарактерностью, наконец, природное миролюбие, что в сложившихся обстоятельствах представлялось самым важным.
Пока политический бомонд Второй империи строил всевозможные, зачастую фантастические, предположения на счет Александра II, император французов уже 3 марта предпринял тайный зондаж настроений и намерений нового царя – склонен ли он продолжать или прекратить Восточную войну. Наполеон пригласил в Тюильри для конфиденциальной беседы саксонского посланника Л. фон Зеебаха, по неслучайному совпадению доводившегося зятем российскому канцлеру графу Карлу Васильевичу Нессельроде. Наполеон попросил Зеебаха срочно изыскать способ передать его тестю, а через него – императору Александру свои искренние соболезнования в связи с кончиной императора Николая, к которому он, Наполеон, всегда испытывал самые искренние симпатии и о разрыве с которым в 1854 г. искренне сожалеет.
Сигнал, посланный из Тюильри, вскоре достиг Зимнего дворца, где его восприняли должным образом, как на то и надеялся император французов. Александр II поручил Нессельроде через Зеебаха довести до сведения Наполеона III, что весьма тронут его вниманием к горю, постигшему Россию и императорскую фамилию, и что, со своей стороны, сожалеет о разрыве отношений между двумя странами и дворами. Впрочем, просил передать Александр, это дело поправимое, так как «мир будет заключен в тот же день, как того пожелает император Наполеон»[33].
Луи-Наполеон с удовлетворением воспринял реакцию Александра на свою инициативу, но занял выжидательную позицию. Прежде над бастионами поверженного Севастополя должен подняться французский триколор, и только после этого морального удовлетворения император французов мог предложить мирные переговоры, пусть даже вопреки желанию британского союзника, жаждавшего продолжения войны. Порта, хотя и была крайне ослаблена, тем не менее, надеялась в ходе летней кампании 1855 г. на Кавказе разблокировать осажденный русскими Карс и затем вытеснить их из Грузии. В этом намерении турок энергично поощрял Пальмерстон, склонявший Наполеона к отправке на Кавказ значительных подкреплений в помощь армии Омер-паши. «Наполеон III, – справедливо заметил по это поводу академик Е.В. Тарле, – совсем не хотел тратить своих дивизий в кавказских горах без малейшей пользы для Франции, только затем, чтобы укрепить против России подступы к Герату и к английской Индии»[34].
Его взор был прикован исключительно к Севастополю, осада которого тем временем вступала в завершающую стадию. 16 августа 1855 г. союзники нанесли поражение русским войскам под командованием генерала М.Д. Горчакова у р. Черная, к юго-востоку от Севастополя. Вслед за этим французы, потеряв в сражении 7500 убитыми и ранеными, сумели овладеть господствовавшим над городом Малаховым курганом, что вынудило русский гарнизон 8 сентября оставить Севастополь, затопив последние корабли и взорвав остававшиеся укрепления. С падением Севастополя военные действия в Крыму фактически прекратились.
Некоторое время они еще продолжались на Кавказе, где на исходе ноября 1855 г. турки сдали генералу Н.Н. Муравьеву осажденный Карс со всем вооружением. В русском плену оказался 16-тысячный турецкий гарнизон, в составе которого находилось немалое число «иностранных выходцев» – венгров, поляков и др. Взятие Карса фактически завершило войну на Кавказе. Окончательно обессилевшая Турция была уже не в состоянии ее продолжать. Воинственные настроения обнаруживал лишь лорд Пальмерстон, глава кабинета королевы Виктории.
Тем временем в европейских дипломатических кругах с ноября 1855 г. начали циркулировать слухи о каких-то секретных контактах, завязавшихся между Наполеоном III и Александром II. Особое беспокойство обнаруживали в Лондоне, где всё еще надеялись удержать французского союзника в орбите войны.
Эти слухи имели под собой веские основания. Инициатором конфиденциальных контактов выступил император французов, посчитавший, что с взятием Севастополя он мог считать себя полностью удовлетворенным. 13 сентября в соборе Парижской Богоматери в присутствии императора был отслужен благодарственный молебен. Служивший мессу монсеньор Сибур, архиепископ Парижский, обращаясь к прихожанам, объявил о предстоящем в самом скором времени заключении почетного и прочного мира. Наполеон явно не желал продолжать войну, в которой Франция уже потеряла 95 тыс. человек[35], – во многом ради осуществления амбициозных геополитических планов лорда Пальмерстона. «…Наполеон чувствовал, что он достиг до кульминационного пункта своей политики, – писал по этому поводу барон А. Жомини; – ему предстоял выбор между путем приключений, ведущим посредством затягивания войны к потрясению Европы, и переделке ее карты с помощью Англии и революции, или путем консервативной политики, основанной на мире и сближении с Россией. По-видимому, он склонялся к последнему. Кроме внутренних и финансовых затруднений…, он казался утомленным от сообщничества с Англией. Он не отказывался от союза с могущественным соседом, но политический инстинкт подсказывал ему, что Англия никогда не поддержит искренно ни одного национального французского интереса. До сих пор в Восточной войне он действовал скорее в пользу Англии, нежели Франции»[36]. Теперь император решил действовать исключительно в своих интересах.
Вскоре после взятия войсками генерала Муравьева турецкой крепости Карс русский посол в Вене князь А.М. Горчаков был проинформирован австрийским финансистом Сину, что его парижский деловой партнер Эрланже (Эрлангер) просил его передать мнение графа де Мории, сводного брата Наполеона III о желательности начала мирных переговоров с Россией. Горчаков немедленно известил Петербург о демарше Мории и, не дожидаясь ответа, по тому же каналу – через Сину и Эрланже – сообщил графу де Мории, что разделяет его мнение о желательности прямого диалога с Францией.
«Я убежден, – писал Горчаков, что император Луи-Наполеон, просвещенный опытом и ведомый духом здравого смысла и умеренности, не захочет встать на путь бесконечных завоеваний, как это делал его великий дядя. Позволю себе напомнить, – продолжал русский посол, – что вершиной могущества Наполеона I было время его тесного единения с Россией. Не задаваясь мыслью о возврате к этим героическим временам, я верю, что мы с господином де Мории, по мере наших сил, могли бы способствовать величию наших двух стран путем их устойчивого сближения. Необходимо только, чтобы основы этого сближения соответствовали обоюдному достоинству двух народов»[37]. Горчаков имел в виду, что Россия вправе надеяться на содействие Франции в выработке более приемлемых для нее условий мирного договора.
В ответном письме Мории в принципе соглашался с Горчаковым, но просил его учесть, что Франция не свободна в определении условий мира, как того хотелось бы. Она связана союзническими обязательствами с Англией, не говоря уже о Турции, Сардинии, а также Австрии, подписавшей в декабре 1854 г. договор с Парижем и Лондоном о защите Молдавии и Валахии от русских притязаний. К тому же, после взятия Севастополя император французов не может согласиться на условия более мягкие, чем те, которые были выставлены в самом начале войны[38]. Единственно, чего можно было бы достигнуть в сложившейся ситуации, по мнению Мории, – заменить ограничения русских военно-морских сил в Черноморском бассейне «нейтрализацией» Черного моря. Подобная альтернатива, как полагал Мории, представляется менее оскорбительной для национального самолюбия России[39].
Предвидя возможные возражения, Мории уточнил свою мысль: «Что же представляет собой эта мера? Обратимся к истории. Когда после военных поражений от той или иной державы требуют крупных денежных жертв (т. е. контрибуций. – П.Ч.), то этим причиняют ей значительный финансовый ущерб. Когда ей навязывают территориальные уступки, то этим уменьшают ее значение, быть может, даже навсегда. Но когда ей предписывают, в сущности, только такие иллюзорные условия, как ограничение сил, то, коль скоро она нуждается в мире, ей не следует их отвергать. Не впервые подобные условия включаются в мирный договор, – успокоительно утверждал Мории. – Как долго они соблюдаются? Пройдет всего лишь несколько лет, и все изменится: интересы поменяются, ненависть исчезнет, восстановятся добрые отношения, благодеяния мира излечат раны войны, и подобные договоры отомрут сами собой, не имея применения. Часто бывало даже так, – обнадеживающе завершал свою мысль граф де Мории, – что та же самая страна, которая настаивала на ограничении сил, первой предлагала их отменить»[40].
Все шло к тому, что Горчаков должен был в конфиденциальном порядке встретиться с бароном де Буркене, французским представителем на конференции послов, созванной в Вене еще осенью 1854 г. для обсуждения перспектив мирного окончания войны[41]. Не исключалась и возможность личной встречи Горчакова и Морни в Дрездене. В это время, в середине декабря 1855 г., из Петербурга в российское посольство в Вене пришло неожиданное распоряжение канцлера Нессельроде о прекращении контактов с Морни. Канцлер проинформировал посла, что отныне сам будет вести конфиденциальные переговоры, но не с Морни, а с министром иностранных дел Франции графом Александром Валевским. Он намеревался это делать при посредничестве своего зятя, упоминавшегося уже саксонского дипломата фон Зеебаха.
Вмешательство Нессельроде можно было бы объяснить его давним нерасположением к Горчакову. Долгое время он препятствовал карьере талантливого дипломата, держал его на второстепенных постах. В июне 1855 г. Нессельроде возражал против назначения Горчакова послом в Вене, но Александр II настоял на своем. Теперь, когда князь Александр Михайлович стал нащупывать возможности достойного для России выхода из войны, граф Карл Васильевич, видимо, посчитал несправедливым, что лавры миротворца достанутся не ему, заслуженному ветерану европейской политики, а Горчакову.
Есть и другое объяснение действий Нессельроде, связанное с его неискоренимой приверженностью к давно обветшавшему союзу с Австрией. Между тем, с конца 1854 г. Вена стала фактическим союзником Парижа и Лондона, чем обнаружила вероломство и неблагодарность к России, спасшей Габсбургов в 1849 г. «По-видимому, – отмечается в отечественной «Истории дипломатии», – Нессельроде упрямо тешил себя иллюзией, что солидарность держав Священного союза продолжает существовать, и считал, что нехорошо сговариваться за спиной «дружественной» Австрии»[42].
Так или иначе, но искушенный во всех тонкостях дипломатической игры граф Нессельроде, допустил «утечку» информации о негласных контактах с Францией. Первыми об этом узнали австрийский император Франц-Иосиф и глава его кабинета граф К.Ф. фон Буоль, крайне озабоченные, чтобы Австрия не была забыта при мирном окончании войны. Они срочно занялись изготовлением дипломатической «бомбы», взрыв которой должен был поменять неблагоприятно складывавшуюся для Австрии обстановку.
Тем временем Нессельроде отправил в Париж своего саксонского зятя с тремя предложениями: Босфор и Дарданеллы должны остаться закрытыми; военный флот «посторонних» держав не может быть допущен в Черное море, за исключением судов, которые прибрежные государства сочтут возможным туда допустить; число этих судов определят Россия и Турция на двусторонней основе, без постороннего посредничества.
Пока Зеебах добирался до Парижа, в Тюильри испытали нечто вроде шока от того, что Россия не сохранила в тайне начавшиеся франко-российские консультации об условиях прекращения войны. Графа Валевского посетил австрийский посол барон фон Хюбнер, обнаруживший осведомленность о негласных контактах Мории с Горчаковым, и поразивший главу французской дипломатии сообщением о полной готовности Австрии окончательно присоединиться к антирусской военной коалиции и даже предъявить России нечто вроде ультиматума.
Наполеон III оказался в весьма щекотливой ситуации и имел все основания негодовать на труднообъяснимое поведение русских. Он дал указание Валевскому не вступать в переговоры с Зеебахом, дав понять петербургскому эмиссару о своем недовольстве.
Австрийская заготовка «взорвалась» за несколько дней до наступления нового, 1856 г., когда к канцлеру Нессельроде явился на прием австрийский посланник граф В.Л. фон Эстергази, только что прибывший из Вены, и вручил ультимативные требования («коммюнике») императора Франца-Иосифа об условиях прекращения войны, неприятие которых повлечет за собой разрыв дипломатических отношений с Россией. Повторяя известные «четыре пункта» Наполеона III 1854 г., австрийский ультиматум дополнил их требованием полной нейтрализации Черного моря и запретом содержать на побережье морские крепости и другие военные арсеналы. В документе оговаривалось также право участников антирусской коалиции предъявлять России новые требования «на общую пользу Европы»[43]. Россия должна принять предъявленные ей условия мира до 18 января (и.с.). В противном случае антирусская коалиция расширится за счет вступления в нее Австрии.
Вскоре после демарша, предпринятого Эстергази в Петербурге, граф Буоль в Вене пригласил к себе князя Горчакова и объявил послу, что во избежание возможных недоразумений и неправильных его толкований ультиматум должен быть принят целиком, без всяких исключений[44]. Таким образом, российской стороне не оставлялось даже минимальной возможности для дипломатического маневра. Тот факт, что ультиматум был предъявлен недавним, причем ближайшим, союзником, глубоко ранил самолюбие Александра II и явился полной неожиданностью для канцлера Нессельроде, убежденного поборника австрийского союза.
В результате двух совещаний, состоявшихся 1 и 15 января 1856 г. у Александра II с участием его ближайших сподвижников – великого князя Константина Николаевича, графа К.В. Нессельроде, военного министра князя В.А. Долгорукова, министра государственных имуществ графа П.Д. Киселева, генерал-адъютантов князя М.С. Воронцова и графа А.Ф. Орлова, а также статс-секретаря графа Д.Н. Блудова и барона П.К. Мейендорфа, бывшего посланника в Вене, – было принято решение согласиться с предъявленными условиями формального прекращения войны[45]. Не имея возможности ее продолжать в связи с истощением материальных ресурсов, Россия могла попытаться, как сказал на совещании Нессельроде, «рассеять коалицию, составленную из разнородных и антипатичных элементов и связываемую лишь требованиями общей борьбы»[46].
Скорее всего уже тогда главную ставку в достижении этой цели русская дипломатия предполагала сделать на Францию – единственную из держав коалиции, обнаруживавшую миролюбивые намерения.
16 января государственный канцлер объявил австрийскому посланнику о принятии предварительных условий мира, выдвинутых венским двором[47]. В тот же день Эстергази по телеграфу проинформировал свое правительство о согласии России, а 20 января на конференции послов в Вене был подписан протокол, по которому воюющие державы обязались в трехнедельный срок направить на мирный конгресс в Париж своих уполномоченных для заключения перемирия и подписания мирного договора.
Главным уполномоченным от России Александр II назначил своего генерал-адъютанта графа А.Ф. Орлова, начальника Третьего отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии. В помощь ему был придан опытный дипломат барон Ф.И. Бруннов, получивший статус второго уполномоченного.
Граф Орлов и барон Бруннов
Алексей Федорович Орлов (1786–1861)[48] принадлежал к дворянскому семейству, выдвинувшемуся в начале царствования императрицы Екатерины II, восхождению которой на престол в 1762 г. братья Орловы (Григорий, Алексей, Владимир, Иван и Федор) активно содействовали. Алексей Федорович, как и его брат, Михаил, были внебрачными сыновьями генерал-поручика Федора Григорьевича Орлова, который добился от Екатерины признания для своих «воспитанников» всех прав дворянства, фамилии и герба Орловых.
Получив образование в аристократическом пансионе аббата Д.Ш. Николя, Алексей Орлов в 1801 г. поступил на службу в Коллегию иностранных дел, а через три года был зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк, в составе которого принимал участие в кампаниях 18051807 гг.
За отличие под Аустерлицем Орлов был пожалован золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1809 г. он перешел в лейб-гвардии Конный полк, в списках которого числился до конца жизни.
В Отечественную войну Орлов участвовал во многих сражениях, а под Бородином получил семь ранений. С января 1813 г. он был адъютантом великого князя Константина Павловича и храбро сражался под Лютценом, Баутценом, Кульмом и Дрезденом, за что был произведен в полковники, а затем принял участие в походе во Францию. В 1814 г. Орлов вышел в отставку, но через год вернулся на службу. В 1817 г. он получил генеральский чин. В отличие от своего старшего брата Михаила, участвовавшего в тайных декабристских обществах, Алексей был твердым противником всякого либерализма, не терпел неподчинения властям, хотя, повинуясь тогдашней моде, не избежал краткого пребывания в масонской ложе, куда попал под влиянием тестя, генерала А.А. Жеребцова.
В 1819 г. он был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, в 1820-м стал генерал-адъютантом, а через год получил под командование 1-ю бригаду гвардейской Кирасирской дивизии с оставлением за ним начальства над Конным полком. В 1820 г. он участвовал в подавлении восстания в Семеновском полку, а 14 декабря 1825 г. первым из полковых командиров пришел на помощь Николаю Павловичу и лично водил конногвардейцев в атаки на каре мятежников. Поведение Орлова в тот критический для молодого императора день было отмечено Николаем I. 25 декабря 1825 г. он возвел Алексея Федоровича в графское достоинство и, снисходя на его мольбы, освободил от судебного преследования Михаила Орлова, замешанного в декабрьском «злоумышлении». Это был единственный случай, когда Николай простил непосредственного, к тому же еще и видного, участника заговора.
В последующие годы генерал-лейтенант (с 1833 года – генерал от кавалерии), а с 1836 г. член Государственного Совета, Алексей Федорович Орлов становится одним из самых приближенных сановников императора Николая, доверявшего ему ответственные миссии военного и дипломатического характера. По поручению государя, Орлов неоднократно замещал Бенкендорфа на время его болезни во главе Третьего отделения, а в 1844 г., со смертью графа Александра Христофоровича, был назначен на его должность, присовокупив к ней пост командующего Императорской Главной Квартирой.
Французский поверенный в делах в Петербурге граф де Райневаль, обычно хорошо осведомленный в том, что касалось новостей и интриг придворной жизни, информируя министра иностранных дел Ф. Гизо о смерти Бенкендорфа и возможном назначении графа Орлова на этот «самый важный пост в империи», сослался на слухи о том, что последний колеблется – принимать или отклонить сделанное ему императором предложение[49].
Эти слухи, на которые ссылался французский дипломат, оказались несостоятельными. Орлов при всем желании не мог противиться воле императора, тем более что после смерти Бенкендорфа он был единственным человеком из окружения Николая I, посвященным в дела тайной политической полиции. Разумеется, он без колебаний дал согласие на назначение в Третье отделение.
Пользовавшийся безграничным доверием императора, граф Орлов в качестве Главного начальника Третьего отделения и шефа жандармов ужесточил борьбу с проникновением в Россию из Европы либерально-революционных веяний и усилил давление на литературу в искреннем убеждении, что русским писателям не пристало «выносить сор из избы». Это означало, что в печати не должно появляться ничего, что прямо или косвенно могло скомпрометировать власть и царящие в империи порядки. С именем Орлова связано и раскрытие в апреле 1849 г. т. н. «дела Петрашевского», по которому, среди прочих, проходил начинающий литератор Федор Михайлович Достоевский. Одним словом, в либеральных кругах шеф жандармов граф Орлов, убежденный консерватор, имел совершенно определенную репутацию.
Такую его репутацию разделяли и отдельные члены иностранного дипломатического корпуса. Так, временный поверенный в делах Франции в Петербурге Шарль Боден в секретной записке в Париж называл Орлова «необразованным человеком», наделенным «посредственным умом», «неисправимо ленивым», к тому же, «испытывающим глубокое презрение и даже откровенную ненависть к идеям гуманизма». «Как государственный деятель, он – полный нуль», – категорично утверждал французский дипломат, и добавлял, что Орлов будто бы «находится под безграничным влиянием своей жены»[50].
Трудно объяснить столь откровенную предубежденность, и, добавим, очевидную несправедливость месье Бодена к сановнику, которого уважали во всех европейских столицах, и в частности в Париже, о чем еще будет сказано.
Пример графа Орлова показывает, что иной человек бывает глубже и содержательнее своей репутации в определенных общественных кругах. В действительности «необразованный» и «ограниченный» Алексей Федорович был страстным почитателем творчества Ивана Андреевича Крылова. 13 ноября 1844 г. грозный начальник Третьего отделения был в числе тех, кто на руках выносил из церкви гроб с телом знаменитого баснописца. Посещая Москву, шеф жандармов всегда заезжал домой к другу своего опального брата Михаила, Петру Яковлевичу Чаадаеву, официально объявленному сумасшедшим, и подолгу доверительно беседовал с ним на самые разные темы. По свидетельству современников, он уважал и даже любил Чаадаева за независимый характер и оригинальность суждений.
Орлов принял близкое участие в смягчении судьбы декабриста Г.С. Батенькова, отсидевшего 20 лет в одиночной камере и находившегося на грани помешательства. Он добился от императора его перевода на поселение и снабдил «государственного преступника» значительной суммой (500 рублей серебром) для обустройства в Томске. Впоследствии Батеньков с благодарностью вспоминал гуманное отношение к себе Орлова. «Бумаги мои никто не читал до вступления Орлова, – писал Батеньков. – Он и разобрал их. Поэтому с 1844 года и переменилось совершенно мое положение. Граф назначил от себя деньги на мое содержание; выписал мне газеты и журналы и, объявив, что он будет посещать меня, как родственник, тем самым и дал уже значительность»[51].
К этому можно добавить, что когда в 1856 г. молодой император Александр II назначит графа Орлова главой российской делегации на Парижском мирном конгрессе, то шеф жандармов, к удивлению своего окружения, станет приглашать к себе известного диссидента-невозвращенца Николая Ивановича Тургенева, нашедшего убежище во Франции. В редкие свободные вечера он любил беседовать с ним столь же откровенно и доверительно, как, в свое время, с Чаадаевым. «Подобные разговоры, – замечает по этому поводу современный исследователь истории Третьего отделения, – достаточно положительно характеризуют А.Ф. Орлова, как человека просвещенного, честного и порядочного, служившего Николаю I не за страх, а за совесть. Именно за эту беспредельную преданность ценил его царь»[52].
В то же время верного царского слугу всегда притягивали люди свободного ума, имеющие собственные суждения об окружающей их действительности, и он не отказывал себе в удовольствии общаться с ними.
Вопреки утверждениям Шарля Бодена, граф Алексей Федорович проявил себя не только как храбрый кавалерист, военачальник, а затем и борец с «тлетворным» влиянием Запада, но и как искусный дипломат. Впервые его дипломатический талант обнаружился в 1829 г., когда по поручению Николая I Орлов провел успешные переговоры с Турцией, завершившиеся подписанием Адрианопольского мирного договора, после чего император назначил его своим послом в Константинополь с миссией добиться от султана неукоснительного выполнения условий договора. С высочайшим поручением граф Орлов справился менее чем за год своего пребывания в посольской должности.
Вторая, сугубо конфиденциальная, дипломатическая миссия была доверена Алексею Федоровичу в августе 1830 г., когда Николай I отправил его в Вену для обсуждения с австрийским императором возможных совместных действий против Луи-Филиппа, «узурпировавшего», как полагал царь, престол Бурбонов во Франции. На этот раз граф Орлов не успел проявить своих способностей, так как еще до его приезда венский двор вслед за Англией и Пруссией официально признал короля французов.
Зато громкий успех выпал на долю графа Орлова в 1833 г., когда он с большим искусством провел в Константинополе переговоры, увенчавшиеся заключением Ункяр-Искелесийского оборонительного союза с Турцией, причем послы европейских держав в Оттоманской Порте узнали об этих переговорах уже после подписания договора.
В том же, 1833 г. Алексей Федорович сопровождал Николая I на встречу с австрийским императором Францем I в Мюнхенгрец, где вместе с графом К.В. Нессельроде и Д.Н. Татищевым от имени России он подписал Мюнхенгрецкую конвенцию о совместных действиях в пользу сохранения в Турции правящей династии. По существу, конвенция была направлена против восточной политики Франции, поддерживавшей египетского правителя Мухаммеда Али. Когда в начале 1835 г. умер император Франц, Николай I отправил Орлова на похороны в Вену в качестве своего личного представителя. Два года спустя тот же Орлов был направлен в Англию, как личный посланник царя, на коронацию королевы Виктории. В дальнейшем он постоянно сопровождал государя в его поездках по России и за границу, а в 1839 г. сопровождал в заграничном путешествии наследника-цесаревича Александра Николаевича, чьим наставником он был назначен после смерти князя Х.А. Ливена. Граф Алексей Федорович оказался первым, с кем цесаревич в ходе этого путешествия поделился, что влюблен в принцессу Гессен-Дармштадтскую и намерен связать с ней свою судьбу, если, конечно, августейшие родители одобрят его выбор. Как уже говорилось, в 1841 г. желание юного Александра осуществилось. Его избранница, приняв православие, превратилась в великую княгиню Марию Александровну, будущую императрицу и мать другого русского самодержца – Александра III.
В 1852 г. Орлов принимал участие в секретных переговорах Николая I с австрийским императором и прусским королем в Ольмюце и Берлине.
Прощаясь на смертном одре с наследником престола, Николай Павлович «завещал» сыну своего верного друга как незаменимого помощника во всех государственных делах. Именно графа Алексея Федоровича, несмотря на его 70-летний возраст, Александр II направит на
Парижский мирный конгресс, призванный подвести черту под злополучной для России Крымской войной. Молодой император ни минуты не сомневался в том, что его бывший наставник сделает все возможное и даже невозможное для защиты российских интересов. И он, как мы увидим, не ошибся в своем выборе.
Вторым уполномоченным на Парижский конгресс Александр II утвердил барона Филиппа Ивановича Бруннова (1797–1875), выученика графа Нессельроде. Молодым дипломатом он принимал участие в Лайбахском (1821 г.) и Веронском (1822 г.) конгрессах Священного союза, был секретарем российской делегации на переговорах с Портой, завершившихся в 1829 г. подписанием Адрианопольского мирного договора, затем служил старшим советником МИД, а в 1840 г. получил назначение посланником в Лондон. На этом посту Бруннов участвовал в подготовке Лондонской конвенции о Египте 1840 г. и о Черноморских проливах в 1841 г., а также принимал деятельное участие в работе Лондонской конференции 1843 г. по делам Греции. В плане двусторонних отношений он подготовил и от имени России подписал в 1849 г. торговый договор с Англией. В период обострения Восточного кризиса, предшествовавшего Крымской войне, Бруннов фактически дезориентировал Николая I, внушая государю убеждение в ненадежности союза Англии и Франции. В его оправдание можно заметить, что он не был исключением. В таком же направлении действовал и его коллега в Париже Н.Д. Киселев. Тем не менее, после разрыва дипломатических отношений между Англией и Россией в феврале 1854 г., повлекших за собой объявление войны, Филипп Иванович продолжил успешную карьеру, заняв пост посланника при Германском союзе. Нессельроде вспомнил о своем протеже, когда встал вопрос о втором уполномоченном России на Парижском мирном конгрессе. Барон Бруннов был искушен во всех тонкостях дипломатической игры и слыл незаменимым составителем нот, депеш и отчетов. Помимо прочего, он имел устойчивую репутацию остроумного и интересного собеседника, что было немаловажно, особенно на сложных многосторонних переговорах.
В выборе уполномоченных на Парижский конгресс император Александр II и государственный канцлер граф Нессельроде, по всей видимости, учитывали и немаловажный для обеспечения успеха их миссии факт личного (для Бруннова) и заочного (для Орлова) знакомства с Наполеоном III. Это знакомство произошло еще в 1847 г., когда барон Филипп Иванович был посланником в Англии, а будущий император укрывался там от французского правосудия. Как уже говорилось, в 1846 г. Луи-Наполеон Бонапарт сумел бежать из тюрьмы, где отбывал пожизненный срок за попытку государственного переворота. Он надеялся тогда получить политическую и финансовую поддержку от Николая I в реализации своих планов во Франции. Луи-Наполеон пытался через Бруннова, с которым неоднократно встречался, установить канал связи с ближайшим сподвижником царя, графом А.Ф. Орловым, с которым некоторое время состоял в конфиденциальной переписке[53].
Его попытки найти понимание в Петербурге не увенчались успехом. Император Николай Павлович отказался иметь дело с государственным преступником, каковым в то время считался сбежавший из тюрьмы Бонапарт.
Кто знал, что спустя всего лишь четыре года Луи-Наполеон сделается императором французов? И кто мог предвидеть, что в 1856 г. от его благорасположения во многом будет зависеть сохранение достоинства побежденной в Крымской войне России?
11 февраля (30 января ст. ст.) 1856 г. граф Орлов получил от канцлера инструктивные указания относительно целей, которых русские уполномоченные должны добиваться на мирном конгрессе[54]. Важнейшей из этих целей объявлялось достижение мира на условиях пяти пунктов, сформулированных Венской конференцией послов, на которые согласился император Александр. Ни о чем другом, и тем более об исправлении политической карты Европы, не может быть и речи. Инструкция предписывала русским уполномоченным исходить из «различия интересов и страстей наших врагов».
В дополнительной инструкции от 29 (17) февраля Нессельроде уточнил: «…не будучи в состоянии разделить наших врагов, мы должны войти в особое соглашение с теми из них, от решения которых будет зависеть восстановление мира»[55].
Главным «врагом» России в Петербурге продолжали считать Англию, договориться с которой на приемлемых для России условиях было бы крайне сложно[56]. Однако такая возможность в принципе не исключалась. Можно было бы даже пойти на определенные уступки британским интересам ради одного – изолировать Австрию, вероломное поведение которой привело к образованию общеевропейской коалиции против России. Австрия в любом случае должна быть наказана. Таково было убеждение Александра II, с которым вынужден был согласиться и канцлер Нессельроде. «Образ действий, которого придерживается с самого начала настоящего кризиса австрийский кабинет, вызвал в России крайнее раздражение, – констатировал Нессельроде в «доверительной» записке от 11 февраля, адресованной графу Орлову. – Не так-то легко простить измену неблагодарного друга. Не в интересах Австрии, чтобы это чувство усиливалось, чтобы враждебные настроения длились. Она может поплатиться за это при тех неожиданностях, которые всегда возможны в настоящем еще не устоявшемся положении Европы»[57].
Наиболее перспективными представлялись поиски взаимопонимания с Францией, несмотря на связывающие ее с Англией тесные союзнические отношения. Недвусмысленные демарши Наполеона III в отношении России, последовавшие за смертью Николая I, давали определенные надежды на успех подобных поисков. Интересы Наполеона в войне, как полагали в Петербурге, полностью удовлетворены. «Получив от союза с Англией все выгоды, какие только он мог извлечь, – гласила основная инструкция, данная Орлову, – властитель Франции не может следовать за ней в ее воинственных замыслах, где его ждет лишь неизвестность. А это не может входить в цели столь холодного и расчетливого человека, как Луи-Наполеон. Он не захочет, конечно, окончить теперешнюю войну, порвав свой союз с Англией. Тем более он не захочет враждовать с ней. Но, с другой стороны, естественно, что он будет стараться избавиться от той зависимости, в которой он до некоторой степени находится по отношению к ней. <…>
Недостаточная заинтересованность Франции в содействии целям Англии, преследуемым ею в Азии, а также открывающаяся для французского императора перспектива – стать благодаря союзам твердой ногой на континенте, – подчеркивалось в инструкции, – окажутся в руках наших уполномоченных в ходе конференции средством вызвать в политике Франции поворот, необходимый для того, чтобы Англия отказалась от своих воинственных замыслов»[58].
Таковы были общие цели русской дипломатии в отношении Франции на открывшемся 25 февраля 1856 г. в Париже мирном конгрессе[59].
Следует отметить, что выбор места проведения конгресса во многом зависел от России, как от побежденной стороны. Поддержав Наполеона в его настойчивом желании провести конгресс в столице Франции, Александр II поступил предусмотрительно, обеспечив, как вскоре выяснится, наиболее благоприятные для русских уполномоченных условия работы. Полную поддержку со стороны России получило и недвусмысленно выраженное пожелание императора французов видеть в роли председателя конгресса Александра Валевского, министра иностранных дел Франции.
Данный выбор окажется столь же удачным для русской дипломатии, сколь и досадным для английской и австрийской сторон, не без оснований считавших Валевского. пристрастным арбитром.
«Русский пособник» граф Валевский
Александр Флориан Жозеф, граф Колонна Валевский родился в 1810 г. в имении своей матери в герцогстве Варшавском[60]. Он был побочным сыном императора Наполеона I и польской графини Марии Валевской[61], т. е. приходился двоюродным братом Наполеону III. В 1812 г. Валевский получил титул графа Империи с правами наследования по прямой линии. В январе 1814 г. вместе с матерью он побывал у отца на о-ве Эльба, а впоследствии проживал с ней в Женеве. В декабре 1817 г. графиня Валевская умерла, и семилетний Александр перешел на воспитание к своему дяде по материнской линии, который в 1824 г. увозит его в русскую Польшу (Царство Польское).
Сын Наполеона обращает на себя внимание великого князя Константина Павловича, который предлагает юноше вступить в русскую армию. Воспитанный в духе польского патриотизма, Валевский отклоняет это предложение. Он не скрывает своей приверженности идее независимости Польши, и вскоре становится объектом пристального внимания со стороны русской тайной полиции. Тем не менее, ему удается нелегально выехать из Польши и перебраться в Англию, а оттуда – в Париж, где он устанавливает контакты с польской эмиграцией. Российское посольство во Франции получает указание добиваться выдачи Валевского, но, несмотря на доверительные отношения с Петербургом, кабинет Карла X отказывает в этой просьбе, хотя сын Наполеона и в Париже демонстрирует оппозиционные настроения, сблизившись с противниками режима Реставрации – либералами.
С победой Июльской революции 1830 г. Валевский по поручению министра иностранных дел генерала О. Себастиани направляется с секретной миссией в восставшую Польшу, где вступает в ряды повстанцев и принимает участие в сражении при Грохове. За проявленную доблесть он получает орден Virtuti militari. Затем национальное правительство Польши направляет графа Валевского в Лондон, чтобы заручиться поддержкой Англии против России. Здесь он встречает очаровательную мисс Каролину, дочь лорда Джона Монтегю, и женится на ней.
После взятия русскими войсками Варшавы и подавления восстания Валевский с супругой покидают Лондон и уезжают в Париж, где Александр принимает французское подданство и получает назначение на должность офицера для поручений при маршале Э.М. Жераре. В апреле 1834 г. в возрасте двадцати пяти лет неожиданно умирает его жена. Почти одновременно, один за другим, умирают их малолетние дети – дочь и сын. Безутешный Валевский записывается в только что созданный Иностранный легион и в чине капитана отправляется в Алжир, где с 1830 г. продолжались военные операции по «умиротворению» этой непокорной территории, которую король Луи-Филипп объявил французским генерал-губернаторством.
По возвращении из Алжира Валевский некоторое время продолжал военную службу в составе 4-го гусарского полка, а в 1837 г. вышел в отставку, решив посвятить себя литературным занятиям. Он публикует две брошюры – “Un mot sur la question d’Alger” (1837) и “L’alliance anglaise” (1838). В первой он развивает свой взгляд на алжирскую проблему, а во второй – на франко-английский союз. Валевский пробует перо и как драматург. В январе 1840 г. в одном из парижских театров была поставлена комедия по пьесе Валевского, но успеха она не имела, после чего граф стал подумывать об очередной смене занятий.
В это время он знакомится с 20-летней актрисой, мадемуазель Рашель (Элизабет Рашель Феликс), уже гремевшей на парижской сцене в ролях трагических героинь. Их роман увенчался рождением сына, названного Александром, в честь отца. Валевский признает его, а в 1860 г. с согласия императора Наполеона официально усыновит, дав свое имя и титул. Расставшись с Рашель, Александр в 1846 г. женится на дочери графа Риччи, которая родит ему четверых детей; правда, их первенец-девочка умрет в младенчестве. Но все это будет потом, а тогда, в начале 1840 г., незадачливый драматург оказался на распутье – чему себя посвятить?
Вскоре представился удачный случай. Летом 1840 г. тогдашний глава кабинета Луи-Филиппа и одновременно министр иностранных дел Адольф Тьер, близко знавший Валевского, доверил ему деликатную дипломатическую миссию в Египет, к тамошнему правителю Мухаммеду Али. Вопреки прежним обнадеживаниям со стороны Франции, египетского пашу надо было теперь склонить к принятию ультиматума великих держав о возвращении султану завоеванных пашой территорий (т. н. Лондонская конвенция 1840 г.).
Вторую дипломатическую миссию на исходе 1847 г. доверил Валевскому уже Франсуа Гизо, последний глава правительства Июльской монархии. Он отправил его в Аргентину. Там, в Буэнос-Айресе, Валевский получил известие о Февральской революции в Париже. Посчитав себя свободным от выполнения поручения свергнутого режима, он поспешил вернуться во Францию, где примкнул к Луи-Наполеону, вождю бонапартистов.
С избранием последнего президентом республики начинается стремительная дипломатическая карьера Валевского. В 1849 г. он назначается посланником во Флоренцию, в 1850 г. – послом в Неаполь, год спустя – в Мадрид, а затем в Лондон. С провозглашением во Франции Второй империи 2 декабря 1852 г. графу Валевскому было поручено добиться скорейшего признания Наполеона III иностранными дворами, с чем он успешно справился.
В конце апреля 1855 г. Наполеон отзывает Валевского из Лондона и назначает его сенатором, а несколько дней спустя – министром иностранных дел. Ему же император доверил представлять Францию на Парижском мирном конгрессе, призванном положить конец Крымской войне. Этот выбор был наполнен глубоким смыслом. Именно он, сын Наполеона I, был избран председателем на триумфальном для Второй империи мирном конгрессе, который, помимо прочего, должен был символизировать конец Венской системы 1814–1815 г., построенной на унижении Франции. Таков был замысел Наполеона III, настоявшего на проведении конгресса именно в Париже, с чем вынуждены были согласиться все участники конгресса. Россия с наибольшей готовностью приняла предложение императора французов перенести обсуждение вопроса прекращения войны из Вены, где с марта 1855 г. проходила конференция послов, в Париж. В столице Франции можно было бы избежать гнетущей австрийской опеки, так досаждавшей русским дипломатам в Вене.
В первой половине февраля 1856 г. в Париж начали съезжаться уполномоченные держав-участниц предстоящего конгресса. Австрию представляли два делегата – граф Карл-Фердинанд Буоль-Шауенштейн, глава кабинета министров, министр иностранных дел, и барон Иосиф Александр фон Хюбнер (Гюбнер), посланник в Париже. Англию – граф Джордж Уильям Фридерик Кларендон, статс-секретарь (министр) по иностранным делам, и барон Генри-Ричард-Чарлз Каули, посол Ее Величества во Франции. Сардинское королевство – граф Камилло Бенсо Кавур, глава кабинета министров, министр финансов, и маркиз Салватор де Вилла-Марина, посланник при французском императорском дворе. Оттоманскую Порту – Мохаммед Эмин-Али-паша, верховный визирь, и Мехмет-Джемиль-бей, посол при императоре французов и при короле Сардинском. Франция, как уже говорилось, была представлена графом Александром Колонна Валевским, сенатором, министром иностранных дел, и бароном Франсуа Адольфом Буркене, посланником при дворе императора Франца-Иосифа I.
С некоторым опозданием (с 8-го заседания) на конгресс была допущена делегация Пруссии, представленная министром-президентом бароном Отто-Теодором фон Мантейфелем, и прусским посланником в Париже графом Максимилианом фон Гарцфельдтом[62].
Первым из русских уполномоченных в Париж прибыл барон Бруннов, который, сразу же по приезде, дважды – 14 и 16 февраля – был принят графом Валевским. Свои первые впечатления об этих встречах, а также об ожидаемой на конгрессе позиции Англии и Австрии[63], Филипп Иванович подробно изложил 19 февраля в депеше канцлеру Нессельроде[64].
Из депеши Бруннова:
[…] Император Наполеон определенно желает в возможно краткий срок придти к заключению мира. Он высоко ценит чувство, побудившее нашего августейшего государя перенести переговоры в Париж. Он придает громадное значение их успеху. Следовательно, он употребит все усилия, чтобы устранить трудности, могущие либо замедлить их ход, либо сделать их безрезультатными. Затруднения, которые следует предвидеть, будут исходить не от Франции, а от Англии, с одной стороны, и от Австрии – с другой.
Первая с самого начала не проявляла большого желания содействовать заключению мира. Она предпочла бы испробовать счастья в третьей кампании, чтобы восстановить военную репутацию Великобритании, которой был нанесен ущерб первыми двумя кампаниями. К тому же соображения парламентского характера, от которых зависит судьба правительства, находящегося у власти, внушают лорду Пальмерстону сильные опасения в прочности его власти после заключения мира, который не будет пользоваться популярностью в глазах англичан, если он не оправдает надежд, которые правительство Великобритании имело неосторожность возбудить у сторонников войны.
Французский кабинет не без труда преодолел колебания и явное нежелание Англии. И это ему удалось только благодаря его настойчивости. Лично лорд Кларен-дон расположен благоприятно. Но он всецело во власти общественного мнения, находясь под влиянием газет, боится оказаться не на высоте той доминирующей роли, которую он считает себя призванным играть в глазах Европы. Он чрезвычайно чувствителен ко всему тому, что касается англо-французского союза; он усматривает угрозу для его дальнейшего существования в тех отношениях, которые могут установиться между уполномоченными России и Франции. Отсюда крайняя необходимость для французского кабинета избегать всего, что могло бы вызвать подозрение и недоверие у английского кабинета. Давая ему повод к недоверию, подвергают риску успех переговоров. Граф Валевский с особенным ударением подчеркнул это затруднение.
«Император Наполеон, – сказал он мне, – определенно желает сохранить узы, которые связывают его с Англией. По необходимости ему приходится в сношениях с ней быть крайне осторожным. Он будет вам крайне обязан, если во время переговоров вы будете иметь это в виду. Если возникнут трудности, то для их преодоления он остановится на таких способах, которые, по его мнению, окажутся наиболее для этой цели пригодными, действуя притом с чрезвычайной осторожностью и никого не задевая. Поставив себе задачу добиться примирения, он ее выполнит без всякого сомнения с большим тактом и искусством. Вы можете быть в этом уверены». […]
Из сообщения Бруннова следовало, что французская дипломатия на конгрессе будет всеми средствами добиваться скорейшего прекращения войны, что отвечало интересам России, но в то же время – шло вразрез с целями Англии, желавшей предельного ослабления поверженного противника. Одновременно миротворец Наполеон не желает ставить под сомнение устойчивость франко-британского союза. Император французов надеется на соответствующее понимание со стороны России, которая может рассчитывать на его содействие достойному выходу ее из войны.
На исходе четверга, 21 февраля в Париж в сопровождении внушительной свиты прибыл первый российский уполномоченный генерал-адъютант А.Ф. Орлов[65].
Уже на следующий день он был приглашен к графу Валевскому, который сообщил ему о назначенной на 23 февраля аудиенции у императора Наполеона, пожелавшего по ее окончании побеседовать с Орловым с глазу на глаз. Об этой первой встрече с Наполеоном Алексей Федорович подробно сообщил графу Нессельроде в депеше от 2 марта[66].
Из депеши Орлова:
[…] В субботу, в два часа, я отправился в Тюильри. Высшие придворные чины, принимая меня, выказали большую предупредительность. Они меня тотчас провели к императору.
Его Величество чрезвычайно милостиво принял меня. В кратких словах я изложил ему мнение нашего августейшего государя относительно достижения умиротворения, чего так страстно жаждет вся Европа. Я ему сказал, что император искренне разделяет выраженное ему желание объединенными усилиями содействовать установлению добрых отношений между обоими кабинетами и укреплению симпатий, существующих между двумя великими нациями, судьбы которых провидение вручило попечению их монархов. В заключение я сказал, что наш августейший государь надеется, что надежный и почетный мир, заключенный между обеими империями, будет содействовать установлению дружественных отношений между обоими государями.
Император Наполеон сказал, что он разделяет эту надежду и желает ее осуществления, затем отпустил свою свиту и пригласил меня последовать за ним в его кабинет.
Его Величество, милостиво предложив мне сесть, сел сам и тотчас же приступил к политической беседе.
Уверенный в том, что откровенность и прямота моих речей будет наилучшим способом произвести на него должное впечатление, я начал с заявления, что изложу ему сейчас без всяких умолчаний, уклонений и тонкостей истинное положение вещей и вслед за этим тут же немедля доведу до его сведения, на что я, строго выполняя ясно выраженную волю нашего августейшего государя, уполномочен ответить согласием и на что обязан ответить отказом[67]. […]
Такое доверие поразило его. Сказав мне по этому поводу несколько лестных слов, он перевел наш разговор на совершенно новую тему.
Он выразил мне те чувства преклонения и уважения, которые он питает к памяти покойного государя, говоря, что несмотря на возникшие между ними разногласия в вопросах политики, он продолжает глубоко и искренне скорбеть о смерти такого великого государя.
Продолжая беседу в тоне все большего доверия и благожелательности, он после минуты раздумья сказал:
«Мне хотелось бы знать ваше мнение о Венском трактате [1815 г.]. Обстоятельства внесли в него много изменений. На случай, если бы возник вопрос об его пересмотре, мне хотелось бы знать ваши взгляды на этот предмет».
Я ответил, что вопрос такой важности затрагивает интересы всей европейской политики. К тому же он лежит вне моих полномочий и инструкций, и поэтому я не считаю себя вправе высказывать свой личный взгляд на дело, которое по характеру своему входит в прямую компетенцию кабинетов.
Император возразил: «Но это просто разговор». Затем он сказал следующее: «Эта бедная Италия! Ведь, в самом деле, не может же она оставаться в своем настоящем бедственном положении. Неужели нельзя ничего для нее сделать? Я говорил об этом графу Буолю. Он мне на это ничего не ответил. По-видимому, это ему нежелательно.
Затем, эта бедная Польша, религия которой подвергается преследованию. Разве государь в своем милосердии не мог бы положить конец тем притеснениям, от которых страдает католическая церковь, не мог бы смягчить судьбу многих несчастных, которые на беду свою позволили вовлечь себя в политические ошибки?»
Я ответил:
«Польша пострадала исключительно по своей вине. Ей были предоставлены все возможности для ее полного благополучия. Она ничем не сумела воспользоваться. Поляки потеряли свои политические права, потому что они нарушили свою клятву и не выполнили своих обещаний.
Что же касается свободы вероисповедания, то уже приняты все меры для успокоения их совести в религиозном вопросе. Конкордат, заключенный с св. престолом, подвергается тщательному рассмотрению, так как имеется в виду ввести его в жизнь. С самого своего вступления на трон император Александр шел навстречу надеждам, вызываемым его милосердием. Не смея высказывать мнение о его намерениях, о которых не мне судить, я полагаю, что государь имеет в виду во время своего коронования еще более облегчить наказание, постигшее виновных».
В ответ на эти мои размышления Его Величество повторил мне еще раз свое уверение в том, что моя откровенная речь по поводу происходящих переговоров побудила и его дать со своей стороны доказательства доверия, высказывая мне, как он это только что сделал, свои соображения по некоторым вопросам…
Представляя императорскому кабинету этот краткий отчет, я думаю, что не очень погрешу против истины, утверждая, что мысль о будущем конгрессе, который имел бы своей целью пересмотр статей Венского трактата, серьезно занимает императора, являясь в данное время главным предметом его помышлений.
От этой первой беседы у меня осталось впечатление, что император Наполеон умеет под маской искренности скрывать глубокий и в то же время гибкий и острый ум. Он выражает свои мысли ясно, точно, с оттенком скромности, которая подчеркивает то высокое положение, на которое он вознесен событиями».
Орлов верно оценил главное, что интересовало Наполеона III на исходе Восточной войны, а именно – отмена унизительных для Франции условий Венского мира 1815 г., признание их утратившими силу. Из разговора с императором французов граф Алексей Федорович вынес и убеждение относительно намерений Наполеона в Италии, что обещало конфликт с Австрией, традиционно считавшей этот район сферой своего влияния. Наконец, упоминание о «бедной Польше» свидетельствовало о сохранявшемся интересе Франции к крайне болезненному для России польскому вопросу, что было чревато неизбежными осложнениями в русско-французских отношениях. Но самым важным в тот момент для российской дипломатии было недвусмысленно выраженное намерение Наполеона помочь императору Александру с достоинством выйти из затруднительного положения, в котором Россия оказалась в результате злополучной Крымской войны.
Благожелательная по отношению к России позиция Наполеона III обнаружилась с первого же дня работы конгресса, открывшегося 25 февраля под председательством графа Валевского, умело проводившего примирительную линию, предписываемую его положением арбитра, а также указаниями императора. Сам Наполеон, пренебрегая плохо скрываемым недовольством союзников, демонстрировал расположение к Орлову, часто приглашая его в Тюильри для конфиденциальных бесед, о содержании которых остальные участники конгресса могли только догадываться.
«До сегодняшнего дня все поведение и речи императора Наполеона подтверждали его стремление к завершению мирных переговоров, – писал Орлов 11 марта графу Нессельроде. – Если бы он этого не хотел, он не старался бы умерить требования Англии… Наш отказ ответить согласием на несправедливые претензии британского правительства положил бы конец переговорам, причем ответственность за их разрыв не упала бы на императора Наполеона. Одним словом, если бы он хотел не мира, а войны, то ему достаточно было бы хранить молчание. Он не захотел этого.
Он активно, умело, настойчиво вмешивался, стремясь умерить как исключительные притязания Англии, так и корыстные расчеты Австрии. Свое посредничество он употребил не только для того, чтобы по мере сил содействовать восстановлению мира, но и для того, чтобы дать справедливое удовлетворение нашим справедливым интересам.
Граф Валевский эту мысль его понял и осуществил ее с большим тактом и умением. На конференции я неоднократно замечал его стремление не вызывать неудовольствия английских уполномоченных, что объяснялось ясно выраженным желанием Франции не порывать резко своих связей с Англией. Вне конференции, в наших доверительных беседах, он всегда выказывал настроение неизменно миролюбивое, я бы сказал, даже дружественное. К нам он всегда относился не как враг, а как пособник. Он сам употребил этот термин и соответственно держал себя в течение всех переговоров»[68].
Когда лорд Кларендон попытался поднять на конгрессе вопрос о независимости северокавказских племен от России[69], Валевский, действуя по прямому указанию Наполеона, воспротивился обсуждению этой темы, сославшись на то, что она выходит за рамки утвержденной повестки дня. Не получили поддержки со стороны Франции и требования австрийского уполномоченного графа Буоля о том, чтобы Россия согласилась на уступку Турции всей Бессарабии[70]. Буоль имел все основания выражать недовольство линией, проводимой в этом вопросе Валевским, справедливо усматривая в ней признаки начавшегося франко-русского сближения[71].
Активное содействие графа Валевского помогло преодолеть острые разногласия по вопросу демилитаризации Аландских островов и при выработке декларации Парижского конгресса по морскому международному праву, подтвердившей, как на том настаивали Орлов и Бруннов, основные принципы, сформулированные еще в 1780 г. Екатериной II[72]. Валевскому удалось убедить лорда Кларендона в обоснованности требований, отстаиваемых Орловым[73].
В Петербурге, где по традиции, унаследованной от предыдущего царствования, живым воплощением которого продолжал оставаться канцлер Нессельроде, не склонны были излишне доверять благорасположению Франции. Однако подчеркнуто лояльное по отношению к России поведение императора Наполеона и его представителя на мирном конгрессе побудили даже графа Карла Васильевича скорректировать устоявшийся взгляд на Францию. «…Мы должны вывести заключение, – писал Нессельроде 15 марта графу Орлову, – что одной из причин, побудивших его [Наполеона] твердо взять в свои руки дело восстановления мира, была надежда на установление более близких отношений с Россией. Итак, думается нам, что чем больше мы будем поддерживать в нем веру в успех этого, тем сильнее будет его желание предотвратить неудачу переговоров из-за тех непредвиденных затруднений, которые, быть может, поднимет Англия».
Более того, Орлову было разрешено дать понять Наполеону III, что Россия не будет препятствовать его сокровенному желанию добиться признания утратившими силу положений Венского трактата 1814 г., касающихся династии Бонапартов, лишенных всех прав на верховную власть во Франции. «…Вам представляется самому решить, – писал по этому поводу Нессельроде, – насколько может способствовать успеху переговоров намек с вашей стороны, что мы благожелательно относимся к этому вопросу»[74].
В это время представился удобный случай засвидетельствовать императору французов благодарность за благожелательную позицию Франции на мирном конгрессе. Причем сделано это было весьма нетривиальным способом. 16 марта 1856 г. у императора Наполеона и императрицы Евгении родился долгожданный наследник. Французские войска, пока остававшиеся в Крыму, отметили это событие праздничным салютом. Русская армия, расположенная фронтом перед боевыми порядками французов, последовала их примеру, отсалютовав рождению императорского принца (Prince Imperial), а вечером на прилегающих горах устроила иллюминацию, которой вместе с русскими могли любоваться и их противники – французы.
Эта акция, осуществленная еще до подписания мирного договора, произвела самое благоприятное впечатление во Франции. Император поспешил выразить графу Орлову искреннюю признательность и объявил, что немедленно направляет в Петербург своего генерал-адъютанта графа Эдгара Нея, внука прославленного маршала, расстрелянного Бурбонами в 1815 г., с выражением благодарности за «это спонтанное выражение симпатии, так тронувшее его сердце»[75].
Расположенность Наполеона и его уполномоченного на конгрессе Валевского к России, конечно же, была далека от альтруизма. Активно содействуя мирному урегулированию, французская сторона вместе с тем твердо отстаивала свои интересы, ради которых в 1854 г. она вовлекла себя в конфликт между Турцией и Россией. Эта твердость обнаружилась при обсуждении проблемы нейтрализации Черного моря, в частности в вопросе о ликвидации крепостных и других военных сооружений на побережье. Французские уполномоченные настаивали на возвращении Турции взятого русской армией Карса, а также отклонили давние претензии России на единоличную защиту прав православных подданных султана, выступая за совместные гарантии великими державами прав всех христиан Оттоманской Порты[76]. По этим вопросам Валевский на конгрессе выступал солидарно с Кларендоном. В целом же позиция Франция – единственной из участниц конгресса – была наиболее благоприятной по отношению к России.
Умелое посредничество Валевского, которого в наиболее трудных ситуациях эффективно поддерживал Наполеон, позволило сторонам в скором времени придти к согласию и 30 марта подписать Парижский мирный договор[77], который, по всеобщему признанию, оказался менее жестким и унизительным для проигравшей войну России, как этого можно было ожидать. В сущности, в нем были зафиксированы только те положения, с которыми Россия предварительно согласилась при созыве конгресса.
Наибольшее удовлетворение итогами войны, зафиксированными в Парижском мирном договоре, испытывал Наполеон III. «Весна 1856 года была временем подлинного цветения для императора и для Франции, – отмечается в современной «Истории французской дипломатии». – За ее пределами французская армия, вынесшая на себе основную тяжесть коллективных операций, проявив способность действовать на протяжении нескольких месяцев в условиях крайней удаленности, доказала, что она – лучшая на тот момент армия в мире. Париж заменил Вену и даже Лондон в качестве стержня европейского концерта… Хотя победа и [мирный] конгресс не принесли Франции прямых существенных выгод, они придали ей очевидный ореол. Если Наполеон имел целью разорвать то, что все еще называли Северным альянсом, то он полностью реализовал свой замысел. Отныне Австрия и Россия никогда уже не смогут выступить вместе, особенно против Франции»[78].
Действительно, не получив никаких территориальных и материальных преимуществ, Наполеон III добился большего – как для Франции, так и для династии Бонапартов. Был взят моральный реванш за унижение 1814-15 гг. На смену господствовавшему прежде на континенте Священному союзу пришел «европейский концерт», в котором Франция получила ведущую роль, а император французов превратился в подлинного арбитра Европы.[79]
Чувствуя недовольство своих союзников обозначившимися на конгрессе признаками его интереса к России, и не желая компрометировать франко-британский альянс, Наполеон III вынужден был пойти навстречу настойчивым пожеланиям сент-джеймского и венского дворов о дополнительных гарантиях территориальной неприкосновенности Турции. 15 апреля 1856 г., спустя две недели после закрытия мирного конгресса, граф Валевский, лорд Кларендон и граф Буоль подписали трехстороннюю конвенцию о гарантиях Оттоманской империи.
Когда Валевский сообщил об этом Орлову, начавшему сборы к возвращению в Петербург, граф Алексей Федорович выразил французскому министру свое крайнее удивление этим актом, антироссийская направленность которого, как он не преминул заметить, не вызывает у него сомнения. В депеше на имя государственного канцлера Орлов следующим образом прокомментировал поведение Франции в этом деле: «…Австрия и Англия, вероятно, выдвинули эту комбинацию нарочно с целью скомпрометировать перед нами Францию и тем самым испортить наши отношения, проявление сердечности которых уже начинало беспокоить венский и лондонский дворы»[80].
Александр II согласился с такой трактовкой Орлова, но одновременно укрепился в мысли, что Наполеону не следует вполне доверять. На депеше Орлова государь сделал помету: «Это поведение Франции по отношению к нам не очень лояльно и должно служить нам мерилом степени доверия, которое может нам внушать Л. – Н[аполеон]» [81].
По всей видимости, и сам император французов испытывал некоторую неловкость от содеянного. Он пригласил к себе Орлова и выразил ему глубокое сожаление по поводу подписанной конвенции. Это решение, объяснял он, было вынужденным, так как прямо вытекало из заключенного еще на Венской конференции соглашения союзников о гарантиях Турции. К тому же, на него оказывалось сильнейшее давление со стороны Англии и Австрии.
Орлов, с присущей ему откровенностью, которая как будто бы всегда импонировала Наполеону, ответил, что он, конечно же, отлично понимает мотивы действий Англии и Австрии, но не может понять, почему Франция поддалась их давлению в принятии решения, имеющего очевидную антироссийскую направленность. Тем более странно для наметившихся дружественных отношений между Россией и Францией, добавил Орлов, что от него пытались скрывать сам факт переговоров по этому вопросу.
Отвечая на откровенный упрек Орлова, император попытался переложить ответственность на своего министра иностранных дел. «Когда я узнал через Валевского, что договор вам еще не сообщен, – заявил Наполеон, – то я выразил ему свое недовольство этим, так как это похоже на хитрость, на которую я не способен. Я прошу вас уверить в этом вашего августейшего государя. Я, впрочем, приказал, чтобы вам сообщили все документы, о коих идет речь»[82].
Действительно, через несколько дней Валевский предъявил Орлову копии Венского меморандума (14 ноября 1855 г.) и апрельской конвенции 1856 г., после чего Алексей Федорович не удержался, заявив, что всегда считал графа Валевского честным человеком и поэтому не понимает, зачем нужно было так себя вести в отношении России[83].
Вплоть до отъезда Орлова из Парижа Наполеон III использовал каждую возможность, чтобы сгладить неблагоприятное впечатление от участия Франции в конвенции 15 апреля. Однажды он прибегнул даже к помощи императрицы Евгении. По окончании одного из официальных обедов в Тюильри, где присутствовал Орлов, императрица отвела его в сторону и сказала, что император, ее супруг, чрезвычайно огорчен тем, что может быть заподозрен в неискренности в связи с подписанием апрельской конвенции. Присоединившийся к императрице и Орлову граф Валевский поспешил доверительно сообщить Алексею Федоровичу, что на секретных переговорах Кларендон и Буоль настаивали на четком определении всех casus belli в защите Турции. Однако Наполеон уполномочил его, Валевского, решительно отклонить эти требования, согласившись лишь на общее обязательство трех держав, предоставив каждой самостоятельно и на свой риск определять, имеется ли casus belli, или нет[84]. Вежливо выслушав императрицу и графа Валевского, Орлов оставил их признания без комментариев.
12 мая император Наполеон дал прощальную аудиенцию графу Орлову. Выслушав слова благодарности за то постоянное дружеское содействие, которое Орлов ощущал со стороны императора и его министра-председателя конгресса, в отстаивании законных интересов России, Наполеон выразил надежду на успешное развитие взаимопонимания и сотрудничества Франции и России, обозначившееся в ходе работы мирного конгресса. Он добавил, что надеется на полное согласие с императором Александром. «Таково чувство моего сердца», – сказал по завершении аудиенции Наполеон.
Передавая в депеше содержание своей прощальной встречи с императором французов, граф Орлов отметил, что Наполеон показался ему вполне искренним в желании развивать отношения с Россией. «Все это было бы очень хорошо, если бы было искренне», – написал на полях депеши Александр II, продолжавший, видимо, испытывать сомнения на этот счет[85].
Эти сомнения подогревались одной, крайне болезненной для русского самодержца темой – Польшей. Его настораживала та настойчивость, пусть даже вежливая и осторожная, с которой Наполеон III время от времени поднимал польскую проблему. С этого он начал свое личное знакомство с графом Орловым, о чем уже говорилось. Когда мирный конгресс подходил к концу, Наполеон, в очередной раз принимая у себя Орлова, в беседе за чашкой кофе высказал ему пожелание обсудить на одном из последних заседаний вопрос о Польше, оговорив, что речь может идти исключительно о гуманитарном (о «милосердии и великодушии»), а не о политическом аспекте этой проблемы.
Орлов недвусмысленно дал понять императору, что подобное обсуждение совершено неприемлемо для достоинства его государя[86]. В результате польский вопрос не был даже упомянут в документах конгресса. «Я вполне доволен тем, – писал Орлов, – что мне не пришлось слышать имя Польши произнесенным на заседаниях в присутствии представителей великих держав Европы»[87].
Наполеон вновь вернулся к польской теме на прощальной аудиенции, данной Орлову, но на этот раз император был предельно корректен. «Он говорил со мной о Польше, – сообщал Орлов в секретной депеше об этой встрече, – но в смысле, совершенно согласном с намерениями нашего августейшего государя»[88].
Алексей Федорович Орлов покинул Париж и отправился в Петербург, где его встретят как героя, спасшего Россию от унижения. Он будет осыпан монаршими милостями, возведен в княжеское достоинство и назначен председателем Государственного Совета. Второй российский уполномоченный, барон Филипп Иванович Бруннов на некоторое время останется в Париже в роли чрезвычайного посланника. Он будет дожидаться там назначения нового посла.
Князь Горчаков и его «французский проект»
К моменту возвращения Орлова в Петербург в руководстве российской дипломатии произошли важные перемены, отражавшие смену внешнеполитических приоритетов нового царствования. 27(15) апреля 1856 г. 76-летний Нессельроде получил отставку с поста министра иностранных дел, сохранив за собой звание государственного канцлера. В тот же день последовал высочайший указ о назначении новым министром князя А.М. Горчакова, занимавшего в то время должность российского посла в Вене.
Парижский конгресс стал последней страницей в продолжительной карьере графа Карла Васильевича, одного из творцов Священного союза, «приказавшего долго жить» в результате Крымской войны. Уходя из российской и европейской политики, граф Нессельроде оставил нечто вроде завещания, в котором кратко изложил свои мысли и взгляды на новое международное положение России. Этот документ («Записка») составлен Нессельроде накануне открытия Парижского конгресса. Он датирован 11 февраля (ст. ст.) 1856 г., а впервые опубликован в лишь 1872 г.[89]
В этой краткой четырехстраничной записке без труда можно почувствовать влияние идей, внушенных императором Александром, с которым канцлер находился в постоянном общении. Нессельроде всегда был послушным исполнителем монарших устремлений – и при Александре I, и при Николае I, и при Александре II, который намеревался, и Карл Васильевич это почувствовал раньше других, повернуть руль государственного корабля в направлении глубоких реформ. Парижский конгресс еще не открылся, а Нессельроде уже написал: «…России предстоит усвоить себе систему внешней политики иную против той, которою она доселе руководствовалась. Крайние обстоятельства ставят ей это в закон»[90].
Под «крайними обстоятельствами» государственный канцлер имел в виду последнее военное поражение России. «…Война, – писал он, – вызвала для России неотлагаемую необходимость заняться своими внутренними делами и развитием своих нравственных и материальных сил. Эта внутренняя работа является первою нуждою страны, и всякая внешняя деятельность, которая могла бы тому препятствовать, должна быть тщательно устранена»[91]. И в этом тезисе также чувствуется направление мыслей императора Александра, впоследствии столь успешно воплощавшихся преемником Нессельроде на посту министра иностранных дел Российской империи.
Разумеется, верный последователь Меттерниха, каковым был Нессельроде, понимал, что произошел окончательный крах той самой системы, которую они совместно создавали в течение нескольких десятилетий. Но, надо отдать ему должное: Карл Васильевич сумел признать неизбежность разрыва «с политической системой, которой держались сорок лет», хотя и сделал это с определенными оговорками[92]. Эти оговорки сводились к двум его утверждениям: «В разумных интересах России политика наша не должна переставать быть монархической и антипольской»[93].
Подобные оговорки свидетельствовали о том, что в сознании одного из творцов Священного союза разрыв с прошлым не был окончательным. «…Было бы крайне неосторожно подрывать наши добрые отношения с Пруссией или растравлять те, какие мы имеем с Австрией и на сохранение которых, ради необходимости, мы поплатились ценою стольких жертв», – утверждал Нессельроде[94].
Этот постулат он доказывал сохраняющейся общностью интересов бывших участников Священного союза в отношении Польши. «…С раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией, – писал канцлер, – установилось взаимооохранение интересов, соблюдение коего, из этих трех держав, наинеобходимее именно для нас. Польское восстание [1831 г.] послужило тому достаточным доказательством. Да и в последнее время, – продолжал свою мысль граф Нессельроде, – коалиция, вызванная под предлогом восточной войны, не угрожала ли сплотиться еще сильнее приобщением к нему и вопроса Польского»?[95]
Наибольшее беспокойство у Нессельроде вызывала тенденция к сближению с Францией, обозначившаяся после смерти императора Николая Павловича. «Войти с нею [Францией] немедленно в положительный и тесный союз, – утверждал автор записки, – значило бы изменить преждевременно нашей новой системе. Уверенный в нашей поддержке, Наполеон III видел бы в ней поощрение пуститься в новые предприятия, в которых могло бы оказаться для нас невыгодным ему сопутствовать в той мере, в какой бы он того желал»[96].
Помимо внешнеполитических угроз, вытекающих для России от союза с Францией, Нессельроде указал и на «идеологическую» несовместимость существующих в двух странах режимов. «…Не представляется ли неосторожным и несвоевременным, – предостерегал старый канцлер, – основывать политическую систему на тесном союзе со страной, которая с 1815 года, и помимо всех Европейских гарантий, была поприщем трех революций, одна другой неистовее и демократичнее, среди которых обрушились в 24 часа две династии, тверже, по-видимому, установленные, чем Наполеоновская»[97].
Трудно с уверенностью сказать, в полной ли мере взгляды Нессельроде на Вторую империю отражали в тот момент мнение Александра II, но, так или иначе, император, видимо, склонен был разделять недоверие старого канцлера к Наполеону III. Это недоверие начало сглаживаться с приходом к руководству Министерством иностранных дел князя А.М. Горчакова, свободного от многих предрассудков своего предшественника.
Александр Михайлович Горчаков[98] принадлежал к древнему аристократическому роду, исходящему от Рюрика и ев. князя Михаила Черниговского. Он родился 4 (15) июня 1798 г. в городке Гапсаль (Хаапсалу) Эстляндской губернии в семье генерал-майора князя Михаила Алексеевича Горчакова. Мать будущего министра, Елена Васильевна, была дочерью подполковника русской службы барона Ферзена. Александр был единственным мальчиком из пятерых детей супругов Горчаковых. Родители возлагали на наследника большие надежды и постарались дать ему хорошее начальное домашнее образование, которое он продолжил в престижной петербургской гимназии. Летом 1811 г. Александр успешно выдержал вступительные испытания и был принят в только что учрежденный Царскосельский лицей, призванный готовить из отпрысков знатных фамилий будущую правящую элиту России. Юный Горчаков оказался в составе первого набора лицеистов, наряду с Александром Пушкиным, с которым он подружится, Иваном Пущиным, Антоном Дельвигом и другими известными впоследствии, но не всегда лишь на государственном поприще, личностями.
В лицее Горчаков обнаружил счастливое соединение ярких природных способностей и редкого трудолюбия, что обещало успешную карьеру. «Благоразумен, благороден в поступках: любит крайне учение, опрятен, вежлив, усерден, чувствителен, кроток; отличительные свойства его: самолюбие, ревность к пользе и чести своей, великодушие», – так характеризовал юного Горчакова в 1814 г. один из его лицейских наставников[99].
Блестящее будущее предсказывал своему другу Пушкин, посвятивший Горчакову несколько посланий. В первом из них он писал о 16-летнем Горчакове[100]:
Что должен я, скажи, в сей час Желать от чиста сердца другу? Глубоку ль старость, милый князь, Детей, любезную супругу, Или богатства, громких дней, Крестов, алмазных звезд, честей?..Тогда, в 1814 г., Пушкин еще сомневался – изберет ли Горчаков государственную или военную службу, но при этом был уверен, что всюду его ожидает успех. Уверен он был и в том, что у них будут разные, совсем непохожие судьбы. В послании, относящемся к 1817 г., он писал[101]:
С надеждами во цвете юных лет, Мой милый друг, мы входим в новый свет; Но там удел назначен нам не равный, И розно наш оставим в жизни след. Тебе рукой Фортуны своенравной Указан путь и счастливый и славный, — Моя стезя печальна и темна; И нежная краса тебе дана, И нравиться блестящий дар природы, И быстрый ум, и верный, милый нрав; Ты сотворен для сладостной свободы, Для радости, для славы, для забав.Еще в начале обучения в Лицее Горчаков сделал выбор – он посвятит свою жизнь дипломатии, что побуждало его, по собственному выражению, «запасаться языками». Наряду с французским, будущий министр изучил английский, немецкий и итальянский. Как и все лицеисты «пушкинского» набора, он жадно и много читал, получив достаточно полное представление о мировой литературе.
Летом 1817 г. 19-летний Александр Горчаков был выпущен из Лицея с похвальным листом, и в чине титулярного советника поступил на службу в канцелярию Министерства иностранных дел, где вскоре стал ближайшим помощником второго статс-секретаря, графа И. Каподистрия. Под руководством Каподистрия начинающий дипломат прошел хорошую выучку. Он был включен в свиту Александра I во время проведения конгрессов Священного союза в Лайбахе, Троппау и Вероне, что позволило Горчакову изучить все закулисные пружины европейской политики.
По всей видимости, именно близость к сановному греку была первопричиной устойчивой неприязни к Горчакову со стороны другого статс-секретаря по иностранным делам, графа Карла Васильевича Нессельроде, соперника и недоброжелателя Каподистрия. Несколько лет они вдвоем управляли Министерством иностранных дел – Каподистрия ведал в нем восточными делами, включая Балканы, а Нессельроде, как первый статс-секретарь, отвечал за европейское направление. В мае 1822 г. Каподистрия был отправлен в отставку, и Нессельроде стал единоличным руководителем министерства.
Его неприязнь к Горчакову впервые проявилась еще в 1819 г., когда Нессельроде попытался помешать производству молодого князя в камер-юнкеры. Тогда Александр Михайлович все же получил первый придворный чин, что лишь усилило недоброжелательность к нему Нессельроде[102].
Пушкин откликнулся на первый успех своего лицейского друга очередным посвящением [103]:
Питомец мод, большого света друг, Обычаев блестящий наблюдатель, Ты мне велишь оставить мирный круг, Где, красоты беспечный обожатель, Я провожу незнаемый досуг; Как ты, мой друг, в неопытные лета, Опасною прельщенный суетой, Терял я жизнь и чувства и покой; Но угорел в чаду большого света […] Не слышу я, бывало, острых слов, Политики смешного лепетанья, Не слышу я изношенных глупцов, Святых надежд, почетных подлецов И мистики придворного кривлянья. И ты на миг оставь своих вельмож И тесный круг друзей моих умножь, О ты, харит любовник своевольный, Приятный льстец, язвительный болтун, По-прежнему остряк небогомольный, По-прежнему философ и шалун.Безукоризненная секретарская работа Горчакова на конгрессе Священного союза в Лайбахе (май 1821 г.) была отмечена орденом ев. Владимира 4-й степени, а в декабре 1822 г. коллежский асессор князь Горчаков был определен на должность секретаря посольства в Лондоне, где прослужил до 1827 г. под начальством графа Х.А. Ливена.
Горчаков был весьма невысокого мнения о безынициативном после, называя его тупицей и даже «трупом». Нелестные отзывы обычно осторожного Горчакова вскоре дошли до ушей Христофора Андреевича, постаравшегося избавиться от нелояльного сотрудника, переведенного без повышения в менее престижное посольство в Рим.
В начале 1825 г., находясь в отпуске, Горчаков встретился с Пушкиным, отбывавшим ссылку в Михайловском. По просьбе заболевшего Горчакова, гостившего у своего дяди, предводителя дворянства Псковской губернии, Пушкин навестил его в имении Лямоновское и провел с лицейским другом целый день, читая ему отрывки из «Бориса Годунова». Позднее, в своем стихотворении «19 октября» Пушкин напишет об Александре Михайловиче[104]:
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, Хвала тебе – фортуны блеск холодный Не изменил души твоей свободной: Все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой; Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: Но невзначай проселочной дорогой Мы встретились и братски обнялись.В Риме Горчаков прослужил совсем недолго, и в 1828 г. получил назначение советником посольства в Берлин, где так же пробыл лишь короткое время. В декабре 1828 г. его направляют поверенным в делах во Флоренцию, где ему доведется прослужить без малого пять лет. Это назначение сопровождалось пожалованием ему придворного звания камергера. Тем не менее, Александр Михайлович впоследствии писал: «Я не пользовался благоволением императора Николая Павловича именно вследствие неприязни ко мне графа Нессельроде»[105].
Как бы ни относился к Горчакову граф Нессельроде, но направляемые им в Петербург депеши, с которыми часто знакомился и император Николай, были столь содержательны, что оба высокие адресата не могли не отдавать должного достоинствам дипломата. В ноябре 1831 г. князь Горчаков производится в коллежские советники, а в следующем году получает орден ев. Владимира 3-й степени и знак отличия за 15-летнюю беспорочную службу.
Новый этап в карьере Горчакова начался с назначением его в ноябре 1833 г. советником посольства в Вену, где он воочию столкнулся с двуличной меттерниховской дипломатией. С одной стороны, князь Клемент Меттерних демонстрировал дружественное отношение к союзнице, в которой нуждался из-за постоянного страха перед революционно-освободительным движением в пределах и на границах Габсбургской империи, а с другой – постоянно интриговал против России, добиваясь ослабления ее влияния. Эта двойственность и неискренность в политике Меттерниха очень скоро стала понятной Горчакову, который считал своим долгом информировать Петербург о подлинных мотивах и целях австрийской дипломатии. Среди прочего, он неоднократно предупреждал о намерении Меттерниха найти взаимопонимание с Англией для ослабления позиций России на Востоке.
По-видимому, не без влияния информации, получаемой от Горчакова, которого в целом поддерживал посол в Вене Д.П. Татищев, у Николая I возникли серьезные сомнения в искренности заверений Меттерниха в вечной дружбе с Россией. Зато вице-канцлер Нессельроде, друг и последователь Меттерниха, не верил предостережениям Горчакова, настаивая на прочности русско-австрийского союза. Настойчивые сигналы, подаваемые Горчаковым из Вены, вызывали растущее раздражение у Нессельроде, но он вынужден был считаться с настроением императора. Так или иначе, но в сентябре 1834 г. князь Горчаков был произведен в статские советники, а во время отъездов посла ему неоднократно поручалось исполнять обязанности поверенного в делах.
Летом 1838 г. в жизни 40-летнего Горчакова, имевшего репутацию убежденного холостяка, хотя и ценителя женской красоты[106], произошло важное событие. Он впервые по-настоящему, глубоко и страстно влюбился[107]. Предметом его увлечения стала графиня Мария Александровна
Мусина-Пушкина (урожденная княжна Урусова), молодая вдова гофмейстера двора Е.И.В. Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Он сделал ей предложение, она его приняла, и 17 июля 1838 г. состоялось их бракосочетание. Женитьба окажется удачной и для карьеры дипломата. Его тесть, князь Александр Иванович Урусов, глава Московской дворцовой конторы, станет влиятельным защитником и ходатаем за зятя от происков Нессельроде, который создал для Горчакова совершенно невыносимые условия работы в посольстве, окружив соглядатаями, и преследуя его постоянными придирками.
Когда выведенный из равновесия Горчаков летом 1838 г. демонстративно подал прошение об отставке, надеясь привлечь внимание государя к невозможным условиям, созданным для него стараниями Нессельроде, многоопытный в интригах канцлер сумел добиться у императора удовлетворения этого прошения. В борьбе против строптивого дипломата Нессельроде прибегал к помощи его влиятельных недоброжелателей. Одним из них был князь Меттерних, откровенно не любивший и опасавшийся Горчакова и желавший его отзыва из Вены. Другим, как полагал Александр Михайлович, оказался шеф III Отделения граф А.Х. Бенкендорф.
Вот что вспоминал об этом сам Горчаков: «Как-то однажды в небольшой свите императора Николая Павловича приехал в Вену граф Александр Христофорович Бенкендорф. За отсутствием посланника, я, исполнявший его должность в качестве старшего советника посольства, поспешил явиться, между прочим, и к графу Бенкендорфу. После нескольких холодных фраз, он, не приглашая меня сесть, сказал: Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед».
Я совершенно спокойно подошел к колокольчику и вызвал maitre d’hotel’я гостиницы.
«Что это значит?» – сердито спросил граф Бенкендорф.
«Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к maitre d’hotel’io гостиницы».
Этот ответ составил для меня в глазах всесильного тогда графа Бенкендорфа репутацию либерала»[108].
Отъезд Горчакова из Вены стал подлинным облегчением для Меттерниха, освободившегося, наконец, от бдительного контроля со стороны русского дипломата.
Более года Александр Михайлович находился не у дел, пока хлопотами тестя и других влиятельных заступников не был возвращен в Министерство иностранных дел. Видимо, император посчитал несправедливым удаление талантливого и энергичного дипломата. Он даже компенсировал Горчакову вынужденный, явно затянувшийся «отпуск», генеральским чином действительного статского советника. Правда, граф Нессельроде подозрительно долго не мог подыскать Горчакову соответствующую новому чину посольскую должность, ссылаясь на отсутствие вакансии. Поиски затянулись на два года.
Наконец, в декабре 1841 г. такая вакансия открылась. Князь Горчаков получил назначение посланником в королевство Вюртемберг. Его первым важным делом в Штутгарте стало устройство брака великой княжны Ольги Николаевны, дочери Николая I, с наследным принцем Вюртембергским Карлом-Фридрихом-Александром. Горчаков успешно справился с ответственным поручением, заслужив благодарность государя. На своем посту в Вюртемберге Горчаков прослужил двенадцать лет, получив многочисленные награды, в том числе высоко ценившийся орден ев. Анны 1-й степени.
Его глубокое знакомство с германскими делами доставило ему в 1850 г. пост чрезвычайного посланника и полномочного министра при Германском союзе с местопребыванием во Франкфурте-на-Майне. Одновременно за ним был сохранен и пост упосланника в Вюртемберге. Во Франкфурте Горчаков быстро выявил экспансионистские тенденции в политике Пруссии, намеревавшейся подчинить себе мелкие германские княжества. В своих донесениях в Петербург он постоянно отстаивал необходимость сохранения Германского союза с участием в нем Австрии, которую прусский представитель в сейме князь Отто фон Бисмарк настойчиво пытался оттуда выдавить.
В 1852 г. Горчаков на несколько месяцев был откомандирован во Францию, где в это время происходил процесс перерождения Второй республики – малокровного детища Февральской революции 1848 г. – во Вторую империю. Александр Михайлович при содействии Н.Д. Киселева, русского посланника при принце-президенте Луи-Наполеоне, изучал в Париже политическую обстановку и устанавливал полезные связи. По всей видимости, именно тогда произошло его знакомство с графом де Морни, сводным братом будущего императора французов. Когда в 1853 г. разгорелся Восточный кризис, Горчаков, вернувшийся в Германию, считал целесообразным для России более сдержанное поведение в отношениях с Турцией, чтобы не провоцировать Англию и
Францию на выступление в защиту последней. Однако занимаемое им в то время скромное положение, конечно же, не могло оказать необходимого умиротворяющего влияния на Николая I.
В разгар Восточного кризиса в Баден-Бадене умирает жена Горчакова. Смерть Марии Александровны глубоко потрясла князя, впавшего в отчаяние. Он искал и находил утешение лишь в молитвах, отстранившись от дел и сторонясь общества.
Из затянувшегося на несколько месяцев затворничества его вывело сообщение о начале русско-турецкой войны. После разгрома русской эскадрой турецкого флота при Синопе в ноябре 1853 г. международная обстановка резко обострилась. Пытаясь предотвратить окончательное крушение Турции, Англия и Франция ввели свои флоты в Черное море, а в конце марта 1854 г. объявили России войну. Находясь в Германии, Горчаков прилагал энергичные усилия, чтобы предотвратить переход Пруссии в антирусскую коалицию.
В это время со всей очевидностью вскрылась предательская по отношению к России политика Австрии, о чем Горчаков предупреждал еще в 1830-е гг. Габсбургская империя, буквально спасенная в 1849 г. Николаем I от распада, подумывала об аннексии Молдавии и Валахии, куда были введены русские войска. Хотя Меттерниха, «унесенного ветром» революции 1848 г., давно уже не было у руля австрийской внешней политики, его преемник, граф Буоль подталкивал молодого императора Франца-Иосифа к выступлению против России.
В связи с этим принципиально важное значение приобретал пост главы российской дипломатической миссии в Вене. Ее прежний руководитель, барон П.К. Мейендорф, связанный близким родством с графом Буолем, был отозван «в отпуск», и ему требовалась подходящая замена. Николай I вспомнил о давних предостережениях Горчакова и настоял на его назначении в Вену, вопреки возражениям Нессельроде. Государственному канцлеру удалось лишь одно – князь Горчаков направлялся в Вену в качестве временно управляющего посольством, что, конечно же, задело самолюбие Александра Михайловича.
По прибытии к новому месту службы Горчаков развернул энергичную работу с целью предотвратить вступление Австрии в войну. Ему удалось нейтрализовать воинственные устремления Буоля и убедить Франца-Иосифа воздержаться от участия в войне, что получило высокую оценку императора Николая I.
Когда в Вене начала работу конференция послов по поиску путей выхода из войны, Горчаков, несмотря на крайне трудное положение, в котором он находился, будучи обложен со всех сторон «заботами» графа Буоля, достойно защищал интересы России, что снискало ему расположение вступившего на престол в марте 1855 г. Александра II.
Проигнорировав возражения Нессельроде, молодой император утвердил князя Горчакова в качестве чрезвычайного и полномочного посланника при венском дворе. Ему же он поручил ведение конфиденциальных переговоров с графом де Морни о возможности прекращения войны.
Подбирая новую команду соратников и исполнителей своих реформаторских замыслов, Александр II именно князя Горчакова видел будущим министром иностранных дел. И как только в Париже был подписан мирный договор, император предложил Александру Михайловичу занять этот ответственный пост.
Горчаков принял высочайшее предложение, предварительно ознакомив императора со своим видением внешнеполитических задач, вставших перед Россией после окончания войны. Александр II нашел, что взгляды Горчакова в полной мере отвечают его собственным представлениям о том, какова должна быть новая внешняя политика России. В именном рескрипте о назначении Горчакова говорилось: «Дипломатические способности, познания по сей части, приобретенные Вами многолетним пребыванием при разных дворах Европы в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра нашего, в особенности же действия Ваши в продолжении Венских конференций 1855 года, решили Наш выбор назначением Вас министром иностранных дел. Вы вступили в управление оным в то важное время, когда исполнение условий только что заключенного Парижского мира требовало неусыпной бдительности и предусмотрительности. Возникшие вскоре в сем отношении недоразумения могли снова омрачить едва прояснившийся политический горизонт Европы; но Вы, руководимые опытностью и постигая чистосердечные желания Наши упрочить общее спокойствие, умели благоразумно отвратить последствия тех недоразумений и утвердить дружественные отношения России со всеми державами»[109].
Контуры внешнеполитической программы Горчакова будут обозначены им в циркулярах от 24/12 августа и 2 сентября/21 августа ст. ст. 1856 г., адресованных русским дипломатическим представителям за рубежом[110]. Шумный отзвук в Европе получила ключевая фраза из циркуляра: “La Russie ne boude pas, elle se recueille” (Россия не сердится, она со сред оточивается).
Из программы Горчакова вытекало, что после окончания войны Россия намерена воздерживаться от активного вмешательства в европейские дела. С другой стороны, она считает себя свободной в выборе своих будущих друзей и не станет более жертвовать своими интересами ради принципов Священного союза. Здесь содержался недвусмысленный намек на неблагодарность и предательство Австрии. Заявляя о мирных намерениях России, Горчаков не исключал в недалеком будущем ее возвращение к активной европейской политике. Не раскрывая стратегических, как бы сейчас сказали, замыслов, князь Горчаков изначально исходил из главной задачи – добиваться отмены ограничений, наложенных на Россию Парижским мирным договором.
Заявленный в программе Горчакова принцип свободного выбора союзников вызвал повышенный интерес в Париже, где со времени проведения конгресса укреплялись в мысли о необходимости сближения с Россией.
А что же думал сам Горчаков об отношениях с Францией? Ведь он хорошо знал об устойчивой привязанности императора Александра к особым отношениям с Пруссией.
В этом вопросе весьма ценным представляется свидетельство временного поверенного в делах Франции в России Шарля Бодена[111], направленного в Петербург в конце июня 1856 г., после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
По случайному совпадению французский дипломат оказался на том же пароходе, следовавшем из Штеттина в Петербург, что и князь Горчаков, возвращавшийся через Берлин и Дрезден из Вены после вручения императору Францу-Иосифу отзывных грамот. Это соседство оказалось весьма полезным для Бодена, получившего счастливую возможность в течение трехдневного путешествия ближе познакомиться с Горчаковым[112] и его внешнеполитическими взглядами.
Если верить донесению Бодена на имя Валевского, то Горчаков признался ему, что с самого начала был против войны и «всеми доступными ему средствами пытался ее предотвратить»; война, по его мнению, не была неизбежной, она стала результатом «недоразумения, случившегося между Наполеоном III и Николаем I в 1853 году»; заключение Парижского мира Горчаков «считает отправной точкой новой политики для России, принятой той партией, к которой принадлежит и он, князь Горчаков, и что в этом отношении его назначение в Министерство иностранных дел весьма знаменательно».
Министр заверил французского дипломата, что всегда «с симпатией относился к Франции и считает крайне желательным заключение союза между двумя странами»[113].
«Пока еще не очень ясно, какой будет эта новая политика, – резюмировал Боден в депеше Валевскому свои беседы с Горчаковым. – Я надеюсь разобраться в этом, но уже сейчас понятно, что Россия будет склонна к менее активному вмешательству во внешние дела»[114].
Судя по последующему развитию событий, информация, сообщенная Боденом, соответствовала действительным настроениям и намерениям нового министра иностранных дел России. Горчаков был вполне искренним с французским дипломатом. Кстати, с момента возвращения в Петербург 10 июля министр начал делами подтверждать свое расположение к Франции.
Уже на следующий день Боден, как временный поверенный, был аккредитован при министре иностранных дел. Его статус не предполагал официальной высочайшей аудиенции, но Александр II, по совету князя Горчакова, пренебрег протоколом и принял Бодена в Зимнем дворце, чем засвидетельствовал особое отношение к представителю императора французов, пусть даже этот представитель был и в скромном секретарском чине.
С этого момента временный поверенный в делах Франции официально приступил к исполнению своих обязанностей при петербургском дворе. Его первоочередной задачей станет подготовка к прибытию в Россию посла Франции. Но за всеми этими, по большей части техническими, заботами Боден находил время и для глубокого изучения предреформенной России, пытаясь понять направление действий императора Александра и его новой правительственной команды. Его депеши и памятные записки, направлявшиеся в Париж, в целом отличались достаточно объективным взглядом на события, разворачивавшиеся в России в преддверии Великих реформ[115].
Заверения Горчакова о расположенности к тесному сближению с Францией были совершенно искренними. Они находят подтверждение как в его последующей политике, о чем еще будет сказано, так и в закрытых докладах, адресованных императору. Горчаков был убежден, что в сложившейся после войны международной обстановке для России наиболее предпочтителен союз именно с Францией. «Расположенные на двух концах Европейского континента, две страны нигде не соприкасались, их интересы нигде не сталкивались. Объединившись, они обрели бы возможность оказывать влияние на Центральную и Южную Европу Очевидным свидетельством действенности подобного союза служил бы постоянный страх, который он внушал бы другим правительствам, полагал Горчаков и ссылался на тот факт, что в течение почти века именно опасение сближения России с Францией оказывало сдерживающее влияние на всю европейскую политику», – отмечает современный исследователь горчаковской дипломатии О.В. Серова[116].
Этот вывод подтверждается многими документами, вышедшими из-под пера самого Горчакова. Важнейшими документами такого рода могут считаться ежегодные отчеты МИД, составлявшиеся Горчаковым для императора. Первым из них стал отчет за 1856 г. В нем новый министр совершенно определенно утверждает, что «согласие с Францией предоставило бы нам такие гарантии, которых мы не имели в тех старых союзах, к которым наша политика была привязана до сих пор». «Обе империи, – продолжал Горчаков, – органически и географически находятся в отношениях, которые не содержат в себе ни соперничества, ни противоборства». Как на самом континенте, так и на морях, утверждал министр, между Россией и Францией не существует никаких разногласий, что служит надежной основой упрочения их дальнейшего сближения. «Только их согласие может восстановить нарушенное Англией равновесие на морях и гарантировать континент от всех неожиданностей, которыми чревата угроза английского доминирования»[117].
Обозначая линию новой русской дипломатии в отношении Франции, князь Горчаков подчеркивал: «Постепенно сокращать дистанцию, которая в течение последних 25 лет отделяла нас от французской нации; поощрять в ней тенденции симпатии [к нам], зародившиеся в ходе войны; привлекать ее к себе повсюду, где наши интересы совпадают; предоставить ей возможность опереться на нас, для того чтобы освободиться от зависимости от Англии; наконец, заложить основы стабильного согласия, которое служило бы залогом безопасности для [всей] Европы и величия для двух [наших] стран»[118].
Определенно высказываясь за сближение с Францией, Горчаков прекрасно видел препятствия, которые могут появиться на этом пути. Одно из них определялось происхождением и природой власти Наполеона III, не имеющей четких принципов, устойчивость которой в решающей степени зависит от внешних успехов. «Успех – его [Наполеона III] единственная цель», – полагал Горчаков[119]. Это могло бы увлечь императора французов в рискованные предприятия, в которых Россия не может быть ему помощницей.
Другая потенциальная опасность, по убеждению Горчакова, заключалась в сохраняющейся привязанности Наполеона III к союзу с Англией, которую желательно бы ослабить. Наполеон, как полагал Горчаков, понимает, что «если Англия может много чего сделать во вред Франции, то Россия может многое – в ее пользу». Отсюда и желание императора французов уравновесить союз с Англией союзом с Россией. Но подобный «треугольник» не отвечает интересам России, которой предпочтителен двусторонний союз, без британского участия. Следует попытаться оторвать Францию от Англии, хотя это и представляется делом трудно осуществимым, учитывая степень влияния Лондона на Париж[120].
Какова же, по мысли Горчакова, должна быть в этих условиях политика России в отношении Франции?
Его ответ сводился к следующему: «Отвечая на открытость императора Луи-Наполеона, мы могли бы поощрять его расположение к нам, и следовать по пути согласия, отвечающего нашим интересам… Но в то же время мы должны были бы обезопасить себя от [его] амбициозных увлечений, пределы которых нам неизвестны, как и от непостоянства, свойственного французской нации в определении своей судьбы. Одним словом, – резюмировал князь Горчаков, – мы не должны делать: ни слишком много, ни слишком мало. Первое было бы чревато подчинением наших собственных интересов попыткам, из которых мы не могли бы извлечь для себя никаких преимуществ; второе могло бы отпугнуть от нас государя, имеющего большое влияние и наделенного твердой волей, подтолкнув его к поискам поддержки у других. Итак, мы принимаем его авансы, сделанные с искренними намерениями, но не берем на себя никаких обязательств»[121].
Таковы были намерения нового министра иностранных дел в отношении Франции. Их разделял и государь. Правда, император Александр, по примеру Наполеона, упорно державшегося за союз с Англией, желал примирить сближение с Францией со своим прочно усвоенным пруссофильством.
Взаимные зондажи и контакты, осуществлявшиеся в порядке строгой конфиденциальности между российскими и французскими дипломатами на завершающей стадии Крымской войны, отражали обоюдное желание Александра II и Наполеона III не только к примирению, но и к сближению двух стран, получившему развитие в последующие годы.
Глава 3 Чрезвычайное посольство графа де Морни (1856–1857)
Сводный брат императора
29 апреля 1856 г., вскоре после полудня, к дому, где проживал в Париже генерал-адъютант граф Алексей Федорович Орлов, первый уполномоченный Российской империи на мирном конгрессе, завершившим Восточную (или Крымскую, как ее вскоре назовут) войну, подъехали две дворцовые кареты, украшенные гербами и вензелями императора французов Наполеона III. Через несколько минут в дверях появился граф Орлов в сопровождении трех флигель-адъютантов Е.И.В. – полковника Альбединского, полковника князя Витгенштейна и капитана князя Левашова. Орлов занял место в первой карете, а его спутники проследовали во вторую. Менее чем через полчаса оба экипажа были уже у парадного входа в Тюильри, где Орлова и его спутников встречал герцог де Камбасерес, главный церемониймейстер двора, вводивший иностранных послов на высочайшую аудиенцию в Тронный зал.
Ровно в 14 часов в зал вышел император Наполеон. С приветливой улыбкой, как старого друга, он приветствовал Орлова, который представил императору сопровождавших его офицеров, а потом вручил Наполеону два конверта с письмами от своего государя. Первое представляло собой формальную нотификацию, т. е. «уведомительное письмо» о восшествии Александра II на престол[122]. Во втором содержалось поздравление царя в связи с рождением 16 марта 1856 г. у Наполеона III и императрицы Евгении сына. Александр писал Наполеону, что «рождение наследника престола, несомненно, упрочит дело, которое Ваше Величество свершает во Франции», и что «по совпадению, ниспосланному Провидением, оно призвано гарантировать утверждение мира, а через него – упрочить отношения дружбы между двумя великими народами, судьбы которых нам доверены»[123].
Наполеон был в хорошем настроении, в котором он пребывал со времени рождения наследника. Это важнейшее для династии Бонапартов событие соединилось в душе императора французов с другим – заключением 30 марта Парижского мирного договора, положившего конец Восточной войне и превратившего Наполеона III в арбитра Европы. Вернув себе статус полноценной великой державы, Франция сумела сохранить привилегированные отношения с Англией, но не пошла на поводу британских интересов. Она поставила на место Австрию, ограничив ее притязания на Балканах, а в перспективе – ив Италии. Наконец, еще в ходе работы Парижского конгресса она зарезервировала для себя возможность с подписанием мира наладить добрые отношения с Россией. Не сумев найти общий язык с Николаем I, Наполеон III надеялся, что ему это лучше удастся с Александром II, которому он со времени воцарения последнего неоднократно посылал недвусмысленные сигналы. Именно благожелательное содействие императора французов (как открытое, так и закулисное) во многом облегчило графу А.Ф. Орлову и барону Ф.И. Бруннову возможность добиться на Парижском конгрессе от держав-победительниц менее суровых условий мира, чем можно было ожидать. В Петербурге это понимали, но пока еще не могли в полной мере оценить, что в действительности стоит за неожиданной благожелательностью вчерашнего противника, насколько искренни и серьезны его намерения в отношении России.
Когда официальная часть аудиенции завершилась, Наполеон попрощался с сопровождавшими графа Орлова офицерами, а самого Алексея Федоровича, взяв под руку, пригласил пройти для доверительной беседы в свой кабинет, расположенный за Тронным залом.
Уютно расположившись друг перед другом в креслах, император и граф завели разговор о недавно завершившемся конгрессе. Орлов в самых теплых выражениях поблагодарил своего августейшего собеседника за то, поистине дружеское содействие, которое он оказал императору Александру и его представителям в Париже в достойном окончании войны. Алексей Федорович не преминул отметить и ту важную роль, которую сыграл на конгрессе его председатель, граф Александр Валевский, министр иностранных дел Франции. Со своей стороны, Наполеон заверил Орлова в своем искреннем расположении к императору Александру, с которым он надеется установить прочные и доверительные отношения. К глубокому сожалению, заметил Наполеон, у него в свое время не сложились отношения с покойным императором Николаем, что, как известно, имело печальные последствия для всей Европы. Нужно извлечь уроки из прошлого и сделать все, чтобы исключить саму возможность военного конфликта между нашими двумя странами, завершил свою мысль Наполеон. Затем он воздал должное дипломатическим талантам графа Орлова, в высшей степени достойно представлявшем на конгрессе императора Александра, который не мог бы найти для этой сложной миссии лучшего дипломата. Теперь, после формального завершения войны, должны восстановиться дипломатические отношения между Францией и Россией. Будем надеяться, сказал Наполеон, завершая беседу, что император Александр направит в Париж столь же достойного посла, каким на конгрессе был граф Орлов, чтобы «упрочить отношения доброго согласия, восстановленного ныне между Россией и Францией»[124].
А пока Наполеону самому предстояло выбрать подходящую кандидатуру чрезвычайного и полномочного посла, который представлял бы его персону на коронации Александра II, намеченной на начало сентября 1856 г.
На аудиенции 29 апреля император по каким-то причинам не назвал Орлову имя этого человека, но он уже тогда знал, кто станет первым послом Франции в России после возобновления дипломатических отношений, прерванных в феврале 1854 г.
Возможно, граф Алексей Федорович и сам догадывался, что в Россию отправится граф Огюст де Морни, сводный брат императора, бывший министр внутренних дел, а в тот период – председатель Законодательного корпуса. Так или иначе, но имя Морни император назвал Орлову только перед самым его возвращением в Санкт-Петербург, на прощальной аудиенции 12 мая 1856 г. На следующий день в правительственной газете “Moniteur universel” появилось официальное сообщение о назначении графа де Морни чрезвычайным и полномочным послом в России[125].
Что же это был за человек, которому Наполеон III доверил представлять его на коронации Александра II, а в более широком плане, что гораздо более важно, – открыть новую главу в отношениях между Францией и Россией.
* * *
Шарль Огюст Луи Жозеф, граф де Мории[126] родился 17 сентября 1811 г. в местечке Сен-Морис-ан-Вале в Швейцарии, однако в метрическом свидетельстве значилось, что младенец появился на свет 21 октября в Париже, причем, в свидетельстве были приведены вымышленные данные о родителях. Последнее обстоятельство не было случайным.
Дело в том, что матерью малыша была Гортензия Богарне, падчерица императора Наполеона, выданная им в 1802 г. замуж за его младшего брата, Людовика, которого в 1806 г. он сделал королем Голландии. Царствование Людовика и Гортензии было недолгим. В 1810 г. Наполеон, недовольный образом правления Людовика, не принимавшего должных мер для защиты побережья от возможной высадки английских войск, ликвидировал независимость Голландии и включил ее в состав своей империи. Людовик Бонапарт, тяготившийся короной, и в еще большей степени – гнетущей опекой старшего брата, с облегчением покинул Голландию и уехал в Германию. Гортензия не последовала за мужем. К тому времени их брак, заключенный по воле Наполеона, фактически распался. От него остались три сына, младшему из которых суждено со временем стать императором Наполеоном III.
Гортензия с детьми вернулась в Париж и однажды, как мы уже знаем, находясь на курорте, где проходила водолечение, встретила молодого человека по имени Шарль де Флао де Ла Билл ард ери. Блестящий офицер-кавалерист считался сыном к тому времени уже покойного генерала графа де Флао, но его настоящим отцом был Талейран, находившийся в многолетней связи с мадам Аделаидой де Флао[127].
Графиня де Флао на тридцать семь лет была моложе своего супруга и, видимо, по этой причине не считала, что должна отказывать себе в доступных женских радостях.
Бурный роман Гортензии и Шарля де Флао увенчался рождением сына. Узнав о беременности, предусмотрительная Гортензия укрылась от любопытствующих взглядов в Швейцарии, где и родила мальчика.
В скором времени ей удалось решить проблему отцовства для своего четвертого сына. Эту роль самоотверженно согласился взять на себя бездетный месье Деморни, получивший за это от императора Наполеона графский титул, предназначавшийся, разумеется, прежде всего, его «сыну». Гортензия отстранилась от воспитания своего последыша, сосредоточив всё внимание на законных детях и на любовнике, которому выхлопотала у императора генеральский чин и звание шталмейстера ее двора. Их роман закончится с падением Империи. В 1817 г. граф де Флао сочетается законным браком с мисс Мерси Эльфинстон, дочерью лорда Кейта, британского адмирала. От этого брака у них родятся пять дочерей.
Все заботы о малолетнем Огюсте де Морни взяла на себя его пятидесятилетняя бабушка по отцовской линии, Аделаида де Флао. Рано овдовев, графиня в 1802 г. повторно вышла замуж за Жозе Мария де Суза, посла Португалии в Париже. В их семье и прошли детские годы Огюста. Со временем он узнает о своем происхождении, и в зрелые годы будет шутить: «В моем роду три поколения бастардов по женской линии. Сам я – правнук короля, внук епископа, сын королевы и брат императора». Под последним он имел в виду Наполеона III, которому приходился сводным братом.
Бабушка постаралась дать внуку надлежащее его высокому происхождению воспитание и необходимый набор полезных знаний. Королева Гортензия, проживавшая после 1815 г. в изгнании в Швейцарии, узнавала об успехах младшего сына из редких писем от мадам де Флао-Суза.
В 1831 г. Огюст де Морни поступает на учебу в военную школу при Главном штабе. По окончании обучения в феврале 1833 г. он получает чин младшего лейтенанта и назначение в 1-й уланский полк, размещенный в Фонтенбло. Во Франции в это время правит король Луи-Филипп Орлеанский, продолживший подчинение Алжира, начатое его предшественником, Карлом X Бурбоном, потерявшим корону в результате Июльской революции 1830 г.
Осенью 1835 г. Морни добивается назначения в Алжир, где поступает в распоряжение герцога Фердинанда Филиппа Орлеанского, старшего из пяти сыновей короля, прикомандированного к штабу генерал-губернатора, маршала Бертрана Клозеля. Морни и Орлеан – почти ровесники, им по двадцать лет. Молодые люди проявляют храбрость в нескольких сражениях с отрядами эмира Абд-эль-Кадера.
Пока Морни воевал в Алжире, его сводный брат, Луи-Наполеон Бонапарт в октябре 1836 г. как известно, предпринял в Страсбурге попытку поднять мятеж против Луи-Филиппа, но потерпел неудачу и был арестован. Огюст де Морни и Луи-Наполеон никогда не встречались, хотя, разумеется, знали о существовании друг друга. Их личное знакомство состоится спустя много лет – лишь в январе 1849 г.
Тем временем в декабре 1836 г. герцог Орлеанский и граф де Морни, покрытые ореолом воинской славы, возвращаются в Париж. Огюст произведен в лейтенанты и получает орден Почетного легиона. Его принимают в члены аристократического Жокей-клуба, доступного лишь избранным. Он совсем еще молод, знатен и богат и не спешит расстаться с холостяцкой жизнью, предпочитая свободные отношения с женщинами. В это время он заводит роман с юной графиней Фанни Ле Хон, дочерью бельгийского банкира и промышленника, ставшей супругой посла Бельгии в Париже. От этого романа в 1838 г. родилась девочка, которую графу Ле Хону пришлось признать своей дочерью. Спустя восемнадцать лет Морни примет близкое участие в устройстве судьбы Луизы Ле Хон. Ее удачно выдадут замуж за князя Станисласа Огюста Фредерика Понятовского, потомка короля Польши и внука наполеоновского маршала. А связь Морни с мадам Ле Хон продлится долгие двадцать лет, вплоть до его неожиданной и поразившей всех, включая Наполеона III, женитьбы, о чем еще будет сказано. Но вернемся в год 1837-й.
Всё, включая дружбу с наследником престола, обещало графу де Морни стремительную военную карьеру, но он неожиданно выходит в отставку, выразив желание заняться предпринимательством. В 1837 г. Морни задумывает развернуть в районе Клермон-Феррана (Овернь) собственное производство сахарной свеклы и вкладывает в это дело значительные средства, однако терпит неудачу. Провалом закончились и другие экономические замыслы Морни, а неудачные финансовые спекуляции очень скоро поставили его на грань разорения. Тем не менее, незадачливый предприниматель, каковым оказался Морни, сумел извлечь из своей деятельности если не материальную, то явную политическую пользу. Широкие связи, налаженные в Оверни, позволили ему в июле 1842 г. добиться избрания в Палату депутатов от департамента Пюи-де-Дом. В парламенте Морни примкнул к сторонникам Ф. Гизо, но в отличие от многих депутатов ничем себя там не проявил, больше занимаясь решением своих финансовых проблем. Он участвует в создании «Компании железных дорог Большого Центрального массива», а незадолго до падения Июльской монархии становится акционером популярной газеты «Конститюсьоннель».
Пока Морни пытался обеспечить свое скромное политическое и финансовое благополучие, его беспокойный сводный брат, Луи-Наполеон, вынашивал куда более честолюбивые замыслы – возродить бонапартистскую империю. Племянник великого Наполеона успел в 1840 г. предпринять вторую попытку свержения Июльской монархии, но, как и в первый раз, потерпел неудачу, был схвачен и осужден на пожизненное заключение в крепости, откуда в мае 1846 г. сумел бежать и укрыться в Англии.
Февральская революция 1848 г., свергнувшая Луи-Филиппа и его режим, открыла возможности для реализации замыслов Луи-Наполеона. Стараниями его многочисленных сторонников во Франции, к которым поспешил примкнуть и Морни, вспомнивший, что он тоже принадлежит к знаменитому семейству. Морни принимает активное участие в избирательной кампании Луи-Наполеона, выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента республики. В последних числах сентября 1848 г. Луи-Наполеон возвращается во Францию и в декабре одерживает убедительную победу на президентских выборах.
Вскоре после этого, в январе 1849 г. происходит, наконец, личное знакомство двух братьев. С этого времени Морни становится одним из ближайших соратников и советников главы государства. В числе самых доверенных лиц Луи-Наполеона он принимает участие в подготовке государственного переворота, осуществленного 2 декабря 1851 г.
Сразу же после этого Морни получает ключевой в тех обстоятельствах пост министра внутренних дел, который, правда, занимает недолго – до 22 января 1852 г. В дальнейшем Морни избирается в новый представительный орган – Законодательный корпус и участвует в подготовке конституционной реформы, призванной ликвидировать республиканский строй и восстановить империю.
Как известно, провозглашение империи 2 декабря 1852 г. было воспринято в европейских столицах, как покушение на Парижский мирный договор 1815 г., навязанный Франции после поражения Наполеона державами-победительницами. Наибольшее беспокойство в связи с этим обнаружили бывшие участники антифранцузской коалиции – Англия, Австрия, Пруссия и Россия. Правда, и королева Виктория, и Франц-Иосиф I, и Фридрих-Вильгельм IV не стали драматизировать ситуацию и, проявив разумный прагматизм и понимание реальностей, вскоре официально признали новый режим в Париже. Иначе повел себя Николай I, упорно не желавший признавать новоявленного императора французов[128]. Дело тогда едва не дошло до разрыва дипломатических отношений, и если этого не случилось, то – исключительно благодаря графу де Морни.
С провозглашением во Франции империи все иностранные послы должны были представить новые верительные грамоты, адресованные Наполеону III. По тогдашним правилам, грамоты, составленные от имени коронованных особ, должны были содержать обязательное обращение – «Сир и Брат мой». Именно так и поступили королева Виктория, Франц-Иосиф, Фридрих-Вильгельм и другие европейские монархи. Все, за исключением одного – Николая I. Верительная грамота, которую получил из Петербурга российский посланник в Париже Николай Дмитриевич Киселев, начиналась со слов: «Сир и добрый Друг» (“Sire et bon Ami”). Это означало, что царь не признавал Наполеона III равноправным членом европейской монархической семьи.
Именно так и расценили в Тюильри «неподобающее» обращение Николая I к императору французов. Предварительно ознакомившись с копией грамоты, министр иностранных дел Франции Э. Друэн де Люис, заявил Киселеву, что грамота составлена не по форме, и потому принята быть не может[129]. Эту позицию разделяли все ближайшие советники Наполеона III, кроме Мории. «Мой добрый император, – сказал он Наполеону при встрече, состоявшейся 4 января 1853 г., – Вы совершите непоправимую ошибку, если, едва придя к власти, повернетесь спиной к самому могущественному монарху Европы». На это Наполеон возразил: «Царь демонстрировал по отношению ко мне столько пренебрежения, что согласиться на очередное оскорбление, не поставив его на место, означало бы проявить слабость».
Но Мории продолжал настойчиво убеждать брата: главное, что царь признал его императором Франции, все остальное – не так существенно; более того, император получает удобный случай показать общественному мнению, что национальные интересы для него превыше личных амбиций.
В конце концов, Наполеон, вопреки советам руководителя своей дипломатии Друэн де Люиса и министра внутренних дел Персиньи, счел доводы Морни основательными, и согласился принять у российского посланника составленные «не по форме обращения» верительные грамоты. На аудиенции он сказал Киселеву: «Прошу передать Вашему государю мою особенную благодарность за его обращение ко мне, не как к “брату”, а как к “доброму другу”. Нельзя выбрать брата, но можно выбирать друзей»[130]. Так, благодаря Морни, был предотвращен казавшийся неминуемым дипломатический скандал, чреватый прекращением дипломатических отношений между Францией и Россией.
В Петербурге в полной мере оценили важную услугу графа Морни. Канцлер Нессельроде поручил Киселеву передать Морни самую искреннюю благодарность императора Николая I, а в знак исключительной доверенности к графу Карл Васильевич разрешил посланнику ознакомить Морни с содержанием своего письма по этому поводу. Киселев с удовольствием поспешил исполнить данное ему поручение. С давних пор – еще со времен Июльской монархии – Николая Дмитриевича связывали дружеские отношения с графом Морни. 2 февраля 1852 г.
Киселев отправил к Мории курьера с двумя письмами. «Мой дорогой друг! – говорилось в первом письме. – Не будучи уверен в том, что застану Вас дома, спешу переслать Вам прилагаемое ниже конфиденциальное письмо, только что полученное мною от графа Нессельроде. Оно касается Вас и свидетельствует о том, что нам не чужды чувства благодарности. Прошу Вас по прочтении вернуть его мне, а Вас прошу сохранить ко мне Вашу дружбу в обмен на ту, что уже так давно я ношу в моем сердце»[131].
Во втором конверте находилось личное письмо канцлера Нессельроде, адресованное Киселеву. В нем в частности говорилось: «В Вашем сугубо конфиденциальном письме Вы сообщаете о содействии, которое встретили в доброжелательности и мудрости господина графа де Мории. Я хотел бы, чтобы он знал, насколько Император ценит услуги, которые он оказал в этих деликатных обстоятельствах…». Далее Нессельроде подчеркнул, что Морни оказал важную услугу не только императору Николаю I, но и «своему государю, воспрепятствовав тем самым его вовлечению на ложный путь, куда его направляли неосмотрительные советники»[132]. Под последними канцлер явно имел в виду Друэн де Люиса и Персиньи.
Когда летом 1853 г. резко обострился русско-турецкий конфликт, обозначив перспективу вмешательства в него Франции и Англии на стороне Порты, Морни пытался оказывать сдерживающее влияние на Наполеона.
23 июня 1853 г., вскоре после того как Россия ввела свои войска на территорию Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии), находившихся под протекторатом султана, Морни пишет записку, в которой предостерегает императора от участия в русско-турецком конфликте. «Самым опасным для будущего Турции была бы война из-за нее между Россией, с одной стороны, и Францией и Англией, – с другой. Россия, – полагал Морни, – имеет на Востоке больше ресурсов, чем любая другая держава, к тому же, время работает на нее». Турция, по мнению Морни, может все потерять, и, наоборот, – выиграть от умеренности и сохранения мира. Роковой ошибкой было бы направление на помощь Порте французского и английского флотов. Путь дипломатических согласований, по мнению Морни, во всех отношениях был бы предпочтительнее войны[133]. По его убеждению, на войну с Россией Францию настойчиво подталкивала ее давняя союзница, Англия.
Морни доверительно сообщал об этом в письмах к своей русской приятельнице, княгине Дарье Христофоровне Дивен, проживавшей в
Париже, где в ее доме, превращенном в светский салон, собирался цвет французского политического бомонда[134]. Одновременно он писал княгине Дивен, что император Наполеон «в глубине души никогда не хотел войны и никогда в нее не верил»[135], но что на него оказывалось мощное давление, изменившее его первоначальные намерения. «Увы, – сокрушенно писал Морни 12 марта 1854 г. Дарье Христофоровне, – я уже не верю, что можно еще что-то сделать, чтобы помешать войне»[136].
Действительно, миролюбивые призывы Морни на этот раз не были услышаны Наполеоном. Разгром русской эскадрой в Синопском морском сражении 30 ноября 1854 г. основных сил турецкого флота поставил Порту на грань поражения, чего не могли допустить ни Англия, ни Франция. В начале января 1854 г. в Черное море вошел объединенный франко-британский флот, что стало прелюдией к разрыву отношений Петербурга с Парижем и Лондоном (27 февраля). А месяц спустя, 28 марта 1854 г., Франция вслед за Великобританией объявила России войну. С того момента, как заговорили пушки, Морни, как истинный патриот своего отечества, тактично замолчал в ожидании лучших времен.
Со времени отставки с поста министра внутренних дел 22 января 1852 г. он много времени уделял решению личных материальных проблем, в полной мере используя свое привилегированное положение при дворе. Когда барон Османн, префект департамента Сена, приступит к перестройке Парижа, Морни, пользуясь своим влиянием, начнет заранее скупать предназначенные для сноса дома и даже целые кварталы, чтобы затем перепродать землю с огромной прибылью. Он приобретет и приведет в порядок старинный замок с прилегающей территорией в районе Лализолль в Оверни, где станет принимать своих друзей – музыкантов и литераторов. Чаще других у него гостит Жак Оффенбах. Личным секретарем у Морни одно время будет работать начинающий писатель Альфонс Доде. Впоследствии он выведет своего патрона в образе герцога де Мора в романе «Набоб», а Эмиль Золя возьмет Морни как прототип графа де Марен в романе «Его превосходительство Эжен Ругон».
Отсюда, из овернской глуши, Морни продолжает дружескую переписку с княгиней Ливен, находившейся с началом войны в Брюсселе и мечтавшей вернуться в Париж[137]. «Я стал настоящим деревенским жителем, – писал он ей 30 сентября 1854 г. – На мне огромные башмаки, одежда из холстины, соломенная шляпа. Я думаю теперь лишь о том, что меня окружает – о яйцах, о баранах… Живу я среди лесов и занимаюсь строительством фермы: составил план замка, с террасами, садами и т. д. Я не думаю больше о политике, газеты читаю с безразличием и скукой. Не забываю я только о Вас, моя дорогая княгиня. Два Ваших письма, которые я здесь получил, доставили мне несравненное удовольствие. Ибо ничто так не согревает мое сердце, как желание быть Вам хоть чем-то полезным. Надеюсь, что по моем возвращении [в Париж] я сделаю для Вас что-то большее»[138].
Видимо, Мории уже знал о намерении императора вернуть его к активному участию в государственных делах. Действительно, 12 ноября 1854 г. граф де Мории, которого Наполеон III, то ли в шутку, то ли всерьез, называл неисправимым орлеанистом, был назначен председателем Законодательного корпуса, т. е. нижней палаты парламента Второй империи.
С этого момента Мории вновь становится непременным участником принятия важнейших государственных решений. Наполеон консультируется с ним по всем вопросам внутренней и внешней политики, хотя и не всегда разделяет его точку зрения. Как уже говорилось, в марте 1854 г. император не внял доводам Морни, предостерегавшего императора от войны с Россией ради защиты интересов Оттоманской Порты. После взятия Севастополя в сентябре 1855 г. Наполеон III стал склоняться к прекращению Восточной, как ее называли во Франции, войны в Крыму, оказавшейся слишком затратной по части человеческих и финансовых потерь. Именно Морни с его непонятным для тюильрийско-го двора русофильством, Наполеон поручит поиски путей примирения с Россией, где с февраля 1855 г. царствовал молодой император Александр II.
Кстати, о русофильстве Морни. В какой степени о нем можно (и можно ли) говорить всерьез?
Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Скорее всего, истоки проросийских настроений у сводного брата императора французов следует искать в неприятии им курса на безоговорочное следование в фарватере британской внешней политики, характерное для Франции со времен Июльской монархии. Будучи тогда сторонником Франсуа Гизо (недаром Наполеон III, как бы в шутку, называл своего брата орлеанистом), Морни тем не менее, не одобрял проводимой министром иностранных дел Луи-Филиппа линии на достижение «сердечного согласия» с Великобританией. Морни полагал, что такое «согласие» в большей степени выгодно Лондону, нежели Парижу, чьи интересы нередко приносятся в жертву британским.
Вторая империя в значительной степени унаследовала традицию тесного взаимодействия с сент-джеймским кабинетом, что наиболее ярко проявилось в период обострения Восточного кризиса в 1853 г. Активными приверженцами этого курса в ближайшем окружении Наполеона III были императрица Евгения, министр иностранных дел Э. Друэн де Люис и министр внутренних дел В. де Персиньи. Именно они подталкивали императора французов к войне с Россией, вопреки предостережениям «пацифиста» Морни, который считал, что на Востоке Франция будет воевать не за свои, а за британские интересы.
Женевьева Жилль, публикатор переписки Морни с княгиней Ливен, называет его «убежденным англофобом»[139]. Если даже это определение и слишком категорично, то оно все же не лишено оснований. Опасаясь чрезмерного усиления Англии, Морни видел в России реальный противовес британскому влиянию, становившемуся опасным для интересов Франции. При этом, надо сказать, Морни накануне Крымской войны явно находился во власти преувеличенных представлений о военной мощи России, равно как и под обаянием внушительной фигуры Николая I, которого он считал единственным арбитром в Европе. Поэтому беспрепятственная высадка франко-британского экспедиционного корпуса в Крыму и последовавшая серия неудач русской армии явились для него полной неожиданностью и даже потрясением. В письме княгине Ливен от 30 сентября 1854 г. он признается, что все это для него «необъяснимо» и «невероятно»[140]. Но даже после падения Севастополя, уже не сомневаясь в поражении России, Морни тем не менее не изменил свой взгляд на нее, как на желательного партнера Франции.
Трудно сказать, были ли у него накануне и в период Крымской войны какие-то иные, кроме сугубо политических, мотивы доброжелательного отношения к России, – ничто, казалось бы, об этом не свидетельствует, – но все его дальнейшие действия подтверждают, что недаром в окружении Наполеона III он слыл последовательным русофилом.
Когда в Париже открылся мирный конгресс, Мории, оставаясь за кулисами переговоров, оказывал, как мог, поддержку графу Орлову и барону Бруннову. Поэтому никто в Париже не удивился, когда император Наполеон принял решение направить послом в Россию именно графа де Мории. «Ореол вокруг его происхождения, непринужденность и очаровательность манер, тонкий вкус, глубокое знание человеческой природы, умение нравиться и с блеском подать себя; Мории обладал редким сочетанием всех качеств, необходимых для исполнения той блестящей и трудной роли, которую ему предстояло сыграть», – отмечал французский историк Франсуа Шарль-Ру[141].
Разумеется, столь высокий уровень посла был в полной мере оценен в Петербурге – как самим императором Александром, так и новым главой его дипломатии князем А.М. Горчаковым. Последний, как уже говорилось, заочно был знаком с Мории. Будучи посланником при венском дворе, Горчаков поддерживал с ним конфиденциальную переписку в целях скорейшего прекращения войны. Теперь им предстояло открыть новую главу в отношениях России и Франции. Одним словом, в Петербурге с очевидным интересом ожидали приезда Мории.
Завершив все необходимые приготовления, 4 июля Мории отправился в дальний путь, который ему предстояло преодолеть по железной дороге, а на заключительном этапе – в карете. В состав чрезвычайного посольства были включены десять дипломатов и восемь военных[142]. Среди первых – близкий к Мории депутат Законодательного корпуса граф Иоахим-Жозеф-Андре Мюрат, внучатый племянник, знаменитого наполеоновского маршала, графы де Л’Эспин и Велль де Ла Валетт, герцог де Граммон-Кадерусс, виконт де Симеон и др. В числе военных – бригадные генералы Лебёф, Фроссар и Дюмон, полковник Рель, капитан де Бофремон, лейтенант маркиз де Галифе – все участники Крымской кампании, что должно было подчеркнуть уважение французской армии к недавнему противнику на полях сражений. Одни члены посольства отправились вместе с Мории, другие присоединятся к нему в Берлине, где он сделает очередную остановку.
Выбирая маршрут следования, Мории решил на несколько дней остановиться в Висбадене, столице герцогства Нассау, где в это время проходила лечение водами вдовствующая императрица Александра Федоровна, супруга Николая I и мать царствующего императора Александра II. До замужества и перехода в православие ее звали Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина Прусская. Она была дочерью короля Фридриха-Вильгельма III и приходилась сестрой правящему королю
Фридриху-Вильгельму IV и кронпринцу Вильгельму, будущему германскому императору Александра Федоровна никогда не забывала о своих корнях и старалась воспитывать старшего сына, которому предстояло унаследовать престол, в германофильском духе. В Висбадене императрицу-мать, помимо свиты, сопровождал ее младший сын, великий князь Михаил Николаевич. В это время велись переговоры о его женитьбе на принцессе Цецилии Баденской.
Мории было интересно познакомиться с императрицей, ее сыном и их окружением, в лице которых он мог столкнуться в Петербурге с влиятельными противниками сближения с Францией. Под предлогом водолечения он остановился в Висбадене и поспешил засвидетельствовать почтение вдовствующей императрице. Та приняла его весьма любезно, но за подчеркнутой вежливостью, которую не разделяли приближенные императрицы, Мории смог усмотреть нерасположение «старого двора» к Наполеону III и его представителю. «Я был тронут любезным приемом, который мне был здесь оказан, но не смог избавиться от ощущения какого-то недоверия по отношению к нам…», – писал он министру иностранных дел Валевскому. «Императрица-мать, как пруссачка и как русская, – продолжал Мории, – никогда не должна была любить Францию, и я уверен, что последние обстоятельства, ранившие ее сердце, не могли изменить ее нерасположение к нам»[143]. По этому поводу Мории остроумно заметил, «если русский человек вообще недолюбливает французов, то русский, привитый к немцу, глубоко нас ненавидит»[144].
Во время путешествия Мории встречался с русскими дипломатами, аккредитованными при различных германских дворах. И везде он чувствовал в них закалку предыдущего царствования, своего рода «школу Нессельроде», с ее приверженностью к Германии и неприязнью к Франции.
От этих первоначальных впечатлений, ввергнувших было графа де Мории в пессимизм, не осталось и следа, стоило ему только оказаться в Петербурге, где его встретили с непривычным для дипломатических условностей радушием, как долгожданного и дорогого гостя.
В Петербург Мории прибыл в ночь с 5 на 6 августа. Последний участок пути от Кенигсберга, где заканчивалась железнодорожная ветка, идущая из Берлина, до столицы Российской империи – ему и его спутникам пришлось проделать в каретах, на что ушло трое суток.
К приезду посла французский временный поверенный Ш. Боден успел снять для него элегантный особняк графа Воронцова-Дашкова, расположенный на левом берегу Невы, неподалеку от Зимнего дворца.
Там и разместилась посольская резиденция. На следующий день, прежде чем приступить к делам, Мории занялся развешиванием доставленных из Франции картин и гобеленов. Он лично руководил этими работами. И только убедившись, что все в доме приведено в надлежащий порядок, во второй половине дня 6 августа посол отправился с визитом к князю Горчакову, с которым обговорил детали предстоящего вручения верительных грамот императору Александру. Мории не мог не обратить внимания на то, как молниеносно был решен для него вопрос о высочайшей аудиенции. Князь В.Л. фон Эстергази, посол Франца-Иосифа I, прибывший в Петербург раньше Мории, все еще обсуждал с Горчаковым возможность и дату такой аудиенции. Это, конечно же, не было случайностью. Официальный Петербург даже не считал нужным скрывать свое недовольство предательским поведением Вены в завершившейся Крымской войне.
Утром 7 августа Мории в сопровождении всего состава посольства выехал в Петергоф, где в это время находился император. В Петергофе французскую делегацию разместили во дворце, расположенном в Английском парке, где Мории и Горчаков обсудили последние детали аудиенции. По завершении переговоров, в установленный час, к особняку подкатили дворцовые кареты, на которых Мории и его сотрудники были доставлены к Большому дворцу. Там, в Тронном зале, в присутствии высших сановников империи граф де Мории вручил императору свои верительные грамоты, после чего, поочередно представил членов посольства. Александр II приветствовал их на безупречном французском языке. Слегка грассируя, он сказал несколько подобающих случаю фраз. Граф Иоахим де Мюрат, который оставит подробное описание поездки в Россию и коронации Александра II, запишет свое первое впечатление о царе: «Внешне, быть может, менее импозантный по сравнению с императором Николаем, Его Величество обладает не менее благородной и полной непринужденности осанкой. У него высокая стройная фигура, его лицо несет на себе отпечаток открытой души, прямого и надежного сердца. Природная доброта, отражающаяся на его лице, не исключает наличие в нем энергии и твердости характера»[145].
По завершении официальной части аудиенции Александр и Мории удалились для беседы тет-а-тет. Вот что написал об этом Мории в депеше графу Валевскому, составленной на следующий день: «Вчера я получил высочайшую аудиенцию в Петергофе. Император с ласковой приветливостью протянул мне руку… и сказал: «Я очень рад видеть вас здесь. Ваше присутствие знаменует счастливое окончание ситуации, которая не должна более повториться. Я очень признателен императору Наполеону и никогда не забуду того доброжелательного влияния, которое он оказывал в нашу пользу на ход мирных переговоров. Граф Орлов докладывал мне также, насколько он был тронут внимательным расположением графа Валевского. Я прошу вас передать ему за это мою благодарность». Потом он добавил, что император Наполеон приобрел в лице графа Орлова горячего друга. Орлов вернулся из Парижа полностью им очарованным. Кроме того, сказал император, я тронут до глубины души тем обхождением и той добротой, с которой император и императрица французов отнеслись ко всем офицерам, которых я отправлял в Париж. […]
«Я не устану повторять, – продолжал император, – насколько я счастлив видеть все эти признаки сближения, и если у войны и была какая-то хорошая сторона, то она состоит в том, что она показала нам, как велики симпатии обоих народов друг к другу и взаимное уважение обеих армий, в какой мере обе нации симпатизируют одна другой, и насколько две наши армии прониклись взаимным уважением».
Я ответил на это, писал Мории министру иностранных дел, что император Наполеон имеет аналогичное мнение, и что он совершенно осознанно включил в состав чрезвычайного посольства тех военных, кто был в Крыму и кто имел случай оценить упорство и мужество русской армии. […]
«В том, что император Наполеон прислал сюда именно вас, господин граф, – продолжал Александр, – я вижу новое свидетельство его расположения ко мне. Я знаю, что занимаемое вами во Франции положение не предполагает выполнение миссии за границей, и потому я особенно признателен за то, что сюда направили именно вас».
Вернувшись к началу нашего разговора, продолжал в своем донесении Морни, император заверил меня в его искреннем желании достигнуть доброго согласия с Францией и императором Наполеоном. Он сказал мне: «В сущности, такое желание было и у моего отца. Я искренне сожалел о недоразумении, случившемся между ним и вами. Что же касается меня, то вы можете положиться, даю вам в том слово чести, на прямоту и искренность моих намерений, и если когда-нибудь, господин граф, у вас возникнут хотя бы малейшие сомнения, обращайтесь прямо ко мне, вы всегда встретите у меня полнейшую готовность выслушать вас и откровенно объясниться с вами»[146].
Морни невольно сопоставлял свои новые впечатления с теми, которые он вынес из встречи с императрицей-матерью в Висбадене. «В конце концов, – писал он Валевскому, – в Висбадене я видел старый двор, оставшийся под впечатлением прежних скорбных воспоминаний; здесь же, в Петербурге, доброе расположение, выказываемое к Франции, представляется мне более искренним, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что слова, сказанные мне императором, выражают чувства, разделяемые большинством русского общества. Прием, который был оказан здесь г-ну Бодену и членам посольства, прибывшим сюда месяцем ранее, полностью подтверждает это, свидетельствуя об особой симпатии в отношении Франции и императора французов»[147].
«Я нашел здесь совсем другую обстановку, – писал Морни, – новые люди, новая политика. Князь Горчаков откровенно излагает свои принципы, не скрывая своих симпатий и антипатий. Он заявляет, что всегда был приверженцем добрых отношений между Францией и Россией, и он публично признается в том, что испытывает глубокое восхищение и личную расположенность к императору французов. Он сохраняет признательность за то доброжелательство, которое королева Гортензия некогда проявляла по отношению к нему[148]. Он демонстрирует новую манеру ведения дел – очень четкую и самостоятельную, подчеркивая, что согласился взять на себя руководство иностранными делами исключительно по той причине, что взгляды императора Александра полностью совпадают с его собственными убеждениями»[149].
Морни предполагал пробыть в Петергофе день или два, но император удержал его при себе на трое суток. Посол был приглашен участвовать в праздновании дня рождения царствующей императрицы, хотя это не предусматривалось правилами этикета. Утром 8 августа все члены французского посольства отстояли утомительную для католиков службу в дворцовой церкви по случаю 32-летия императрицы, а по ее окончании были представлены членам многочисленной императорской фамилии, которые выказывали французам свое расположение и самые дружеские чувства к Франции, императору Наполеону и императрице Евгении.
Вечером, в Большом дворце был устроен бал, перед началом которого Мария Александровна представила графу своих фрейлин. Среди них – совсем еще юную княжну Софью Трубецкую. Никто, включая самого посла Франции, и предположить не мог, что эта, в сущности, случайная встреча будет иметь самые серьезные последствия для 44-летнего Морни и 18-летней Софи Трубецкой.
Бал завершился поздним ужином, за которым император обратился к каждому из присутствующих членов французского посольства с приветственным тостом, найдя для каждого теплые слова.
Обратный путь в Петербург Мории и его спутники проделали на борту прогулочного парохода, совершив приятное путешествие по Финскому заливу Последующие дни у французских дипломатов и военных ушли на знакомство со столицей империи и ее наиболее именитыми обитателями, оказавшимися на удивление просвещенными людьми, свободно говорившими на иностранных языках и много путешествовавшими по Европе. С воцарением императора Александра II все, кто хотел, получил возможность выезжать за границу, что было немыслимо в предыдущее царствование.
Первым шагом Мории в качестве посла Наполеона III была организация приема для членов дипломатического корпуса и чинов первых четырех классов российской правящей элиты, т. е. не ниже действительного статского советника (генерал-майора). Дело в том, что Мории прибыл в Петербург, когда там не было еще послов великих держав (в лучшем случае наличествовали лишь поверенные в делах), и по этой причине он автоматически становился дуайеном дипломатического корпуса[150], что налагало на него дополнительные обязанности. В своей резиденции на набережной Невы он давал прием и как посол императора французов, и как дуайен. Мории подошел к этому делу со всей возможной тщательностью, вникая во все детали украшения интерьеров, сервировки стола и тонкости кухни. Желая произвести впечатление на своих гостей, Мории привлек для консультаций лучших знатоков здешнего протокола из дворцового ведомства. В связи с тем, что число приглашенных превысило первоначальные расчеты, Мории организовал два приема с интервалом в несколько дней, распределив гостей по двум категориям.
Первый прием, разумеется, был приурочен к 15 августа, дню рождения Наполеона I, вновь ставшему национальным праздником Франции. День начался с торжественной мессы в католическом храме св. Екатерины, где, помимо посольских и петербургских французов, присутствовали товарищ министра иностранных дел граф И.М. Толстой[151], личный представитель императора Александра, и только что назначенный посол России при тюильрийском дворе генерал-адъютант граф П.Д. Киселев[152].
А вечером во дворце Воронцова-Дашкова состоялся прием, своей утонченной пышностью поразивший всех, кто на нем присутствовал. Через несколько дней был организован второй, не менее торжественный прием. А накануне 15 августа граф де Морни был приглашен в Петергоф, где обедал наедине с императорской четой. Пользуясь случаем, посол передал Александру II только что доставленную для него из Парижа Большую орденскую ленту Почетного легиона, знак особого внимания со стороны Наполеона III.
На 22 августа был назначен отъезд двора на коронацию в Москву. В остававшиеся дни Морни и его сотрудники продолжали знакомство с достопримечательностями Петербурга – с богатейшей коллекцией Эрмитажа и внушительным собранием Императорской библиотеки, где им показали десятки писем Генриха IV и ценнейшие документы из архивов Бастилии, с еще недостроенным Исаакиевским, а также с Казанским и Петропавловскими соборами, с Адмиралтейством… В числе достопримечательностей оказалась и популярная цыганская труппа, на выступление которой дипломатов зазвал кто-то из их русских коллег. Пораженные французы впервые в жизни слушали завораживающее цыганское пение, сопровождавшееся неистовыми плясками. Для них это стало подлинным открытием. Ведь до написания оперы Жоржа Бизе «Кармен», где впервые в европейской музыкальной культуре зазвучала цыганская тема, было еще далеко – целая четверть века. В России же цыганские музыкальные труппы уже в начале XIX столетия были желанными гостями не только в столичных трактирах и ресторанах, но также в дворянских домах и усадьбах.
А один из дипломатов, случайно заглянув на местный «блошиный рынок», принес оттуда купленный за 15 копеек (50 сантимов) диковинный трехструнный инструмент под интригующим названием «balalaika». Чтобы оживить этот инструмент, пришлось отыскать умельца, одетого в холщовую рубаху, в лаптях вместо сапог. Виртуозная игра самодеятельного музыканта, извлекавшего из трех струн широкую гамму звуков, передававших все оттенки настроений – от празднично-разгульного до рвущего душу отчаяния – вызвала восторг у соотечественников и современников Адана, Гуно, Берлиоза и Оффенбаха.
Тем временем в Петербург стали съезжаться прибывшие на коронацию послы европейских держав, среди которых лорд Гренвил, посол Ее Величества королевы Виктории. К моменту отъезда двора в Москву лорд Гренвил успеет получить аккредитацию, как и уязвленный демонстративной обструкцией князь Эстергази.
В шесть часов утра 22 августа с Николаевского вокзала Санкт-Петербурга с небольшим интервалом отошли два специальных состава с членами иностранного дипломатического корпуса. В одном из них следовала французская миссия. В те годы поезд из Петербурга в Москву обычно находился в пути ровно сутки. Но в данном случае руководство Николаевской железной дороги сделало все возможное и невозможное, чтобы сократить время движения состава до шестнадцати часов. Примерно в 22 часа того же дня оба состава прибыли на Николаевский вокзал первопрестольной столицы России.
Французская дипломатическая миссия была устроена в двух просторных городских усадьбах. Граф де Мории разместился во дворце Рахманова, находившегося между улицами Петровка и Неглинная, а его сотрудники – в расположенной неподалеку усадьбе Корсакова.
На следующий день французские дипломаты с нескрываемым волнением и интересом приступили к знакомству с городом, в котором сорок четыре года назад квартировала Великая армия Наполеона и с оставлением которого началось крушение Первой империи. Со времени ее разорения осенью 1812 г. Москва разительно изменилась и похорошела. Повсюду выросли новые красивые здания, мирно соседствующие с архаичными деревянными постройками. Полуразрушенный по приказу маршала Э. Мортье Кремль был давно восстановлен и теперь представал взорам во всей своей неповторимой красоте вместе с Большим Кремлевским дворцом, перестроенном при императоре Николае. Но прежде всего, москвичи восстановили сгоревшие и пострадавшие храмы, бесчисленные купола которых сверкали золотом на уже не знойном в конце августа солнце. Граф Мюрат философски усмотрел в этой живописной картине «соединение великолепия с традицией» и даже «протест прошлого против нестабильности будущего»[153].
При знакомстве французов с городом произошел курьезный инцидент. Два молодых дипломата, покуривая сигары, не спеша прогуливались по Тверскому бульвару, когда были задержаны и доставлены в полицейскую часть. Оказалось, что они нарушили запрет на курение на улицах, за что полагался солидный штраф. Конечно, дипломатов вскоре отпустили и даже, в порядке исключения, не оштрафовали, а эта история стала предметом шуток среди членов дипломатического корпуса. Вообще, Москва с присущей ей причудливой смесью Европы и Азии, роскоши и убожества, столь непохожая на европеизированный Санкт-Петербург, произвела неизгладимое впечатление на французов.
29 августа в первопрестольную прибыла царская чета, а 7 сентября состоялась коронация. Перед ее началом французская делегация привлекла к себе всеобщее внимание. Все иностранные представители подъезжали к Успенскому собору Кремля в каретах, которые останавливались у самого входа в храм. И только французы во главе с графом де Мории оставили свои кареты у ворот Кремля и, выйдя из них, с непокрытыми головами пешком прошли весь путь до Успенского собора, что вызвало одобрительный гул в толпе. «Император Александр был коронован этим утром в Успенском соборе Кремля, – писал Мории графу Валевскому в коротком перерыве между коронационными торжествами. – Мне не хватает времени, чтобы описать все детали этой величественной церемонии, которая совершилась в обстановке чрезвычайной торжественности, характер которой во всех отношениях отмечен величием, оставив неизгладимое впечатление в памяти всех, кто при этом присутствовал. В ближайшие дни я представлю вам подробный отчет об этой церемонии…»[154].
А накануне, 6 сентября, в резиденцию Мории из дворцового ведомства был доставлен объемистый пакет, в котором находились ордена для всех членов французского посольства и наградные патенты. Сам посол был удостоен высшего знака отличия Российской империи – ордена св. Андрея Первозванного. Генералы Лебёф, Фроссар и Дюмон получили ордена св. Станислава 1-й степени, граф Мюрат и полковник Рель – ордена св. Анны 2-й степени с бриллиантами. Остальные французские дипломаты и военные были отмечены орденами Станислава и Анны 3-й степени. Вскоре стало известно, что наград удостоились и другие члены иностранного дипломатического корпуса, присутствовавшие на коронационных торжествах, но лишь одному иностранному послу была оказана честь получить орден Андрея Первозванного. Этим послом оказался граф Огюст де Морни [155].
Коронационные торжества в Москве продолжались до середины октября. Все это время Морни часто встречался с императором и князем Горчаковым, которые подчеркивали особенное расположение к послу Франции, выделяя его из всех остальных. Своими впечатлениями о России, ее императоре и князе Горчакове Морни поделился с Наполеоном III в личном письме от 15 сентября 1856 г.[156]
«Мой добрый император, – писал Морни из Москвы. – Я хотел бы написать вам в спокойном состоянии, но именно его-то мне и не достает в вихре празднований, церемоний, балов, смотров, визитов и т. д. Надо сказать, русские умеют веселиться».
Морни отметил, что «все члены императорской фамилии при встречах неизменно интересуются новостями, относящимися к Вашему Величеству и императрице», а к послу императора французов относятся со всей возможной «обходительностью и изысканной учтивостью», явно следуя поведению императора Александра. «Император обходится со мной с таким вниманием, какого никогда не удостаивался ни один из послов», – подчеркнул Мории.
Далее он высказал свое мнение об императоре Александре и его замыслах. «По всей стране ощущается недовольство режимом, существовавшим при императоре Николае, – заметил Мории. – В этом еще не признаются на самом верху, но действуют в соответствии с существующими настроениями недовольства. Император Александр добр и мягок, он преисполнен желания дать больше свободы; не вмешиваться, как это было прежде, в частную жизнь; предоставить возможность путешествовать за границу всем, кто этого желает. […] Он много размышляет о реформах, проводит серьезные амнистии, даже в отношении поляков. Он намерен строить железные дороги. В широком плане можно сказать, что он стоит у начала либерального пути, который, возможно, и плохо согласуется с характером этого народа, но на котором, я убежден, мы обязаны его поддержать». Это тем более важно, что император Александр искренне расположен к Франции.
Затем Морни высказал свое мнение о князе Горчакове, ближайшем сподвижнике императора. «Это умный, живой человек, который демонстрирует независимость и свободно высказывает свои мысли, – писал Морни. – Он не скрывает, что отныне торжествует его система и уверяет, что император принял его программу действий. Суть этой программы в следующем:
Россия впредь никогда не должна ссориться с Францией, которая, по многим причинам, является ее подлинным союзником. Франция – это великая и хорошо управляемая нация. Император Наполеон пользуется безоговорочной поддержкой своего народа.
Горчаков помнит, как приветливо обходилась с ним королева Гортензия; он хранит талисман, который она ему подарила во время его пребывания в Италии. Император Александр, в бытность его наследником престола, не одобрял политики императора Николая. Он понимает интересы императора Наполеона – в том, куда и каким образом вести французский народ, и он не имеет намерений ни препятствовать ему, ни каким-то образом ограничивать его устремления, и он был бы счастлив однажды прийти к тому, чтобы между двумя императорами установились прочные и долгосрочные отношения, не задевающие Англию. Наконец, он [Горчаков] остался бы полностью удовлетворен, если бы ему удалось сохранить нынешнюю ситуацию: очень хорошие отношения с Францией, хорошие – с Англией, и очень плохие – с Австрией. Он намерен ускорить восстановление России после случившегося с ней падения, и эти его намерения можно понять».
«Вот почему я вам советую, – подчеркнул Морни, адресуясь к Наполеону: подумайте, нельзя ли пойти на какие-то непринципиальные уступки в отношении императора России ради достижения согласия с ним. Поверьте, я не нахожусь под его обаянием, я все принимаю здесь со спокойной учтивостью. Я ни о чем [их] не прошу и ничего не обещаю. Но я не могу не считаться с мнением французов, проживающих в этой стране на протяжении тридцати лет. Они никогда не видели ничего подобного, они преисполнены гордости за то, как нас здесь принимают, как с нами обходятся, и в каком привилегированном положении находится здесь Франция.
Мое глубокое убеждение состоит в том, – констатировал Мории, – что нам предпочтительней и легче договориться с Россией, нежели с Германией, которая в душе нас ненавидит. Я убежден, что было бы полезно рассмотреть какие-то проекты на будущее. Скоро в Париж возвращаются наши генералы, спросите об их впечатлениях и сравните с моими наблюдениями, которые я вам искренне изложил. Что бы вы ни решили, я думаю, вы не будете сожалеть, что направили меня в Россию, где я не произвел плохого впечатления».
Мории поделился с императором и другими своими наблюдениями о стране пребывания. «Наилучшее впечатление оставляет о себе армия, в особенности кавалерия, она великолепна, – писал он. – Армия находится в центре внимания императора и великих князей, которые занимаются ею с полным знанием дела. Со своей стороны, армия, здоровая в своей основе, фанатично предана [императору]. Однако ее командным кадрам явно не достает индивидуальной инициативности. Офицеры великолепно воспитаны, вежливы, говорят по-французски и по-немецки, прекрасно держатся в седле. Их усердие поощряется многочисленными и разнообразными наградами».
Не обошел Мории вниманием и самый насущный для России середины XIX века вопрос – крепостное право. «Аристократы уже не напоминают бывших бояр. Крепостное право для них теперь не больше чем слово, чего не скажешь о мелких провинциальных помещиках. Совершенно искренне пытаются найти решение этого [злополучного] вопроса, тормозящего развитие сельского хозяйства. Однако решение представляется очень трудным, так как крестьянин совершенно убежден в том, что если сам он и принадлежит своему господину, то уж земля-то принадлежит ему, крестьянину. Можно легко предположить, что когда однажды ему скажут: «Ты свободен», он немедленно потребует землю. Надо сказать, что государственные крестьяне здесь уже не рабы. Вообще же, слово «раб» предпочитают не использовать, заменяя его понятием «собственность».
По мнению Морни, с которым решительно не согласился бы его соотечественник, небезызвестный маркиз де Кюстин, побывавший в России в 1839 г., «злоупотребления здесь редки, они сурово пресекаются императором и осуждаются общественным мнением».
«Народ на улицах – это в большинстве своем вчерашние крестьяне, ставшие горожанами; он добр и послушен, – продолжал делиться своими наблюдениями Мории. – Здесь почти не видно присутствия полиции во время различных празднеств. Народ повсюду имеет свободный доступ, его можно встретить даже в дворцовых прихожих. Император может свободно и без всякого сопровождения, утром или вечером, выйти из дворца и отправиться на прогулку – пешком, верхом или в коляске, посреди уличной толпы. Видя такое, невольно начнешь размышлять о том, какими могут быть отношения между правителями и народами», – мечтательно заключил Мории, имея в виду, что такое положение вещей совершенно немыслимо на его родине, где со времен убийства Генриха IV французские монархи никогда не чувствовали себя в безопасности в окружении своих подданных.
В череде нескончаемых приемов и балов Мории не забывал о главном – о цели своей миссии. Инструкции, полученные им еще в Париже, а также письма графа Валевского, поступавшие в Петербург и Москву[157], ориентировали Мории на достижение трех основных целей: добиться от России выполнения условий Парижского мира, и прежде всего территориального разграничения в Дунайских княжествах и на Кавказе; склонить Александра II и его министра иностранных дел князя Горчакова к заключению тройственного союза между Францией, Россией и Англией; прояснить уровень напряженности между Петербургом и Веной, имея в виду планы Наполеона III в Северной Италии, традиционно считавшейся сферой австрийского влияния. Между тем император французов давно присматривался к Савойе и Ницце. Кроме этого, инструкции предусматривали желательность подписания с Россией торгового трактата, хотя сам Мории мечтал о большем – о союзном договоре.
Самым простым делом для Мории оказалось выяснение отношения Александра II к императору Австрии Францу-Иосифу I. Собственно говоря, оно не было секретом для тюильрийского двора еще со времени Парижского мирного конгресса, где граф Орлов едва скрывал неприязнь к австрийскому представителю графу Карлу-Фердинанду Буолю-Шауэнштейну. Но в том, насколько эта неприязнь распространяется на Габсбургскую империю и ее монарха, Мории убедился при личных контактах с Александром II.
Беседуя как-то в Москве с полюбившимся ему французским послом, царь разоткровенничался: «Верьте мне, отец мой питал величайшее удивление и глубокое сочувствие к императору Наполеону, и никто более его не рукоплескал государственному перевороту и его последствиям. Позвольте мне рассказать подробность, вам, быть может, неизвестную, которая даст вам возможность оценить по достоинству поведение каждого. Когда учреждалась империя во Франции и никто уже не сомневался в том в Европе, австрийский кабинет в предвидении этого события выразил надежду, что Россия не признает императора Наполеона в форме, установленной для законных европейских государей. Не мне обвинять моего отца. Он считал себя, может быть, слишком носителем преемственных преданий, но, конечно, он меньше бы придерживался их, если бы не последовало помянутое приглашение. Не могу спокойно говорить о таком поведении Австрии здесь, в этом самом кабинете в Кремле, в Москве, вспоминая, что тут я был свидетелем получения моим отцом просьбы о помощи императора австрийского и отдачи им немедленных приказаний, сохранивших Францу-Иосифу его корону[158]. О! Эта Австрия! Какая коварная политика! Теперь она ищет оправдать себя, приписывает вам, Франции, почин в требовании территориальной уступки в Бессарабии»[159].
Мории стал убеждать Александра, что интересы Франции не имеют ничего общего с тем, что пытается внушить Австрия. «Достаточно посмотреть на карту, – сказал посол, – чтобы стало понятно, где и чей присутствует интерес и от кого могут исходить соответствующие инициативы»[160]. Лучший способ избежать подобных недоразумений, добавил Мории, – обсуждать все текущие политические вопросы непосредственно с императором французов.
Более сложным оказался для Мории вопрос об исполнении Россией решений Парижского мира о демилитаризации районов недавних военных действий и демаркации границ. Сложность во многом проистекала от давления, которому подвергалась здесь Россия со стороны Англии, Австрии и, разумеется, Турции, требовавших немедленного вывода русских войск из Карса и территориальных уступок в Дунайских княжествах. По условиям мира 1856 г. (ст. 30), Россия уступала Турции дельту Дуная, которая была присоединена к Добрудже, непосредственному владению Порты, и юго-западную часть Бессарабии (район Измаила), которая вошла в состав княжества Молдавия. Но как только началось уточнение новой русско-турецкой границы в районе населенного болгарами городка Болград на р. Ялпух, при впадении ее в одноименное озеро, выяснилось, что Россия и ее партнеры по переговорам по-разному смотрят на карту делимитации этих границ. Многое стало зависеть от позиции Франции, взявшей на себя роль арбитра между спорящими сторонами. По ее инициативе, стороны согласились на созыв в Париже международной конференции для рассмотрения спорных вопросов[161].
Еще до начала ее работы Мории и Горчаков начали обсуждение темы делимитации границы. Их переговоры, начавшиеся в Москве, продолжились после возвращения двора в Петербург в середине октября 1856 г. Александр и его министр иностранных дел дали понять послу Наполеона III, что рассчитывают в разрешении возникших противоречий на содействие императора французов.
9 ноября 1856 г. Мории сообщил Валевскому о своей встрече с Горчаковым, который передал ему слова Александра II: «Император, мой государь, поручил мне сказать вам, что он передает в руки императора Наполеона разрешение всех существующих разногласий. Он уполномочивает его передать Турции в полное владение Змеиный о-в и дельту Дуная, уступить Болград и Молдавию в обмен на то, что [император французов] сочтет справедливым. Принимая столь трудное решение, император Александр рассчитывает на лояльность и твердость императора Наполеона в том, чтобы побудить каждую из договаривающихся держав к строгому выполнению всех условий Парижского договора»[162].
«Я спешу немедленно сообщить вам, мой дорогой граф, эту радостную новость, венчающую ту трудную работу, которая была проделана во имя восстановления спокойствия в Европе, – писал Мории по этому поводу министру иностранных дел Валевскому. – Мне остается лишь выразить глубокое удовлетворение тем, что с самого первого дня приезда в Санкт-Петербург я встретил здесь полное доверие со стороны императора Александра и князя Горчакова»[163].
Вскоре из Парижа был получен ответ, с которым Мории ознакомил Горчакова. «Его Величество, – писал Валевский, – глубоко тронут доверием императора Александра, передавшего ему заботу о разрешении противоречий, которые разделяют державы, подписавшие Парижский договор. Отказываясь от требований на владение Болград ом и соглашаясь на передачу Турции Змеиного острова и дельты Дуная, Россия приобретает очевидную признательность Европы, и император счастлив видеть в этой двойной уступке новое проявление возвышенных и миролюбивых устремлений, которые постоянно демонстрирует император Александр…»[164]. После этой благородной уступки со стороны России, по мнению министра иностранных дел Франции, более не остается препятствий для полного исполнения ст. 30-й мирного договора. Решение проблемы Дунайских княжеств, нейтрализация Черного моря и закрытие проливов, подчеркивал Валевский, – это «три главных условия поддержания европейского равновесия»[165].
Морни настоятельно советовал министру иностранных дел с вниманием отнестись к тому доверию, которое Россия оказывает Франции в вопросе урегулирования ее противоречий с Англией, Австрией и Россией, подчеркнув, что в Петербурге убеждены в том, что именно Англия и Австрия нарушают Парижский мирный договор[166]. «Франция, – писал Морни, – могла бы здесь сыграть примиряющую роль», так как на императора Наполеона в Петербурге смотрят как на «арбитра Европы»[167].
Хорошо зная о приверженности Наполеона III союзу с Англией, Морни, тем не менее, в письме к Валевскому рискнул высказаться достаточно определенно. «Я, конечно, не считаю, что необходимо пожертвовать английским союзом; я не полагаю также, что [надо] менять старых друзей на новых; это было бы и недостойно, и нечестно, – писал он; – но нужно, чтобы верность была взаимной, нужно, чтобы жертвы в этом союзе были равными с той и с другой стороны, и особенно важно, чтобы свидетельства дружбы… проявлялись в равной степени. Без этого, поверьте, как в Европе, так и во Франции, скажут, что мы занимаемся обманом, что мы боимся Англии, что мы находимся в зависимости от нее. Кстати, об этом уже говорят довольно часто. И потом – с англичанами нужно обходиться твердо и без всяких уверток»[168]. «Русское правительство ведет себя очень лояльно и деликатно по отношению к нам», – не преминул добавить посол[169].
В другом письме он еще более определенно высказался о франко-английском союзе. «Это уже не союз, это – зависимость», – писал Морни Валевскому. А вот Александр II и князь Горчаков, по его убеждению, преисполнены «самого искреннего желания быть в тесном союзе с императором Наполеоном, с Францией»[170]. «Уверяю вас, что Россия – единственная держава, которая полностью одобрит усиление Франции. […] А что англичане! Посмотрите, как они вели себя в Константинополе, в Вене, в Турине, в [Дунайских] княжествах? Разве не они повсюду оспаривали политику императора? […] Англичан я боюсь как огня, – подчеркнул Морни. – Что касается императора России, – а я его очень хороню изучил, – то я убежден, что на него можно положиться. Это человек чести»[171]. Таким образом, Морни не скрывал, что предпочел бы союз с Россией «зависимости» от Англии, но в этом вопросе его мнение не разделял Наполеон, стремившийся к тройственному союзу, о чем еще будет сказано.
Предостережения Морни относительно выполнения условий мирного договора были вполне обоснованными. После достижения принципиальных договоренностей по делимитации границы в Дунайских княжествах давление Англии и Австрии на Россию не только не ослабло, но даже усилилось. Выдвигались все новые и новые претензии на несоблюдение ею условий мирного договора, что вызывало болезненную реакцию в Петербурге. Однажды Александр откровенно высказался по этому поводу в беседе с Морни. «Я считаю, что поведение англичан и австрийцев со всей очевидностью идет вразрез со статьями [Парижского] договора, – заявил царь. – Я намеревался протестовать, но вы мне в этом помешали, вместо того чтобы помочь. Более того, император [Наполеон] постоянно щадит английское правительство. Когда Бруннов[172] говорил с ним в Компьене о нарушении договора, император не проронил ни единого слова. Откровенно говоря, я боюсь, как бы отношения с Англией не доминировали в его сознании над всем остальным, даже над европейским правом, и я не скрываю перед вами моего беспокойства. Я сделал все, о чем вы меня просили, в моей политике я следовал за вами, и я готов продолжать действовать таким же образом. Но я должен быть уверенным, что моя обеспокоенность не имеет оснований»[173].
Морни, крайне обеспокоенный этим первым у Александра II проявлением недовольства поведением Франции, поспешил рассеять его подозрения. «Сир, верьте императору Наполеону…, он знает, что делает, – убеждал Морни царя. – Кто вам сказал, что он не проявляет должной твердости в отношении английского кабинета? Он делает это не демонстративно, без публичных угроз, не вредя делу. Я очень хорошо знаю императора. Он любит и уважает Англию. Это великая и благородная страна. Но я даю вам мою голову под заклад, что если бы Англия или какая-то другая держава пошла на очевидное нарушение договора, император [Наполеон] был бы первым, кто воспротивился этому»[174].
Одновременно Морни прилагал все усилия к тому, чтобы убедить тюильрийский кабинет в необходимости дать Александру II более прочные доказательства приверженности к сближению и сотрудничеству с Россией. Немалое значение в этом, по его убеждению, будет иметь уверенность России в том, что император Наполеон употребит свое влияние на то, чтобы все участники Парижского мирного договора, а не только Россия, строго следовали его постановлениям. Это очень важно, «если мы намерены сохранить здесь влияние и отношения уважительного доверия», считал посол[175].
Самым трудным для графа де Морни поручением в его дипломатической миссии оказался вопрос о возможности заключения тройственного союза между Францией, Англией и Россией. Еще до того, как он возложил на себя императорскую корону, Наполеон III пришел к убеждению в жизненной важности для Франции (и для династии Бонапартов) поддержания «сердечного согласия» с Англией. В этом вопросе император французов, как уже отмечалось, в корне расходился со своим великим дядей, считая, что противоборство Наполеона I с Англией было его трагической ошибкой, обусловившей падение Первой империи. В отношении к Англии Наполеон III стал продолжателем линии Луи-Филиппа на «сердечное согласие» с владычицей морей, но в отличие от «короля-гражданина» он намерен был проводить более активную европейскую политику с явным желанием «округлить» границы Франции, прежде всего на юге. После окончания Крымской войны Наполеон желал закрепить за собой роль неформального арбитра Европы, а для этого необходимо было уравновесить возросшее влияние Англии союзом с Россией, отодвинув на второй план Австрию и Пруссию. В практической плоскости речь шла о преобразовании «оси Париж – Лондон» в «треугольник Париж – Лондон – Петербург».
Но именно на этом направлении Наполеон III натолкнулся на серьезное препятствие, оказавшееся непреодолимым. Он явно не учел того высокого уровня напряженности, который был характерен для русско-английских отношений, и той неприязни к Англии, которая была свойственна российской правящей элите (к слову сказать, неприязнь была взаимной). Именно Англию в Петербурге считали истинной виновницей Крымской войны, и не намерены были спокойно взирать на продолжавшиеся по ее окончании британские происки в районе Средиземноморья (Греция, Неаполь) и на ближних подступах к России – в Турции, на Кавказе и в Персии.
С первых дней своего пребывания в Петербурге граф де Мории в полной мере осознал то состояние напряженности, которое было характерно для русско-английских отношений. О своем недовольстве британской политикой ему откровенно говорили и император Александр, и князь Горчаков. Но поскольку тройственный союз стал для Наполеона III подлинной “idee fixe”, Морни, выполняя волю императора, постоянно возвращался к этой теме в разговорах с царем и его министром. В одном из конфиденциальных писем к Горчакову он отмечал: «…Я глубоко убежден, что для спокойствия в мире необходимо, чтобы три великие державы [Франция, Англия и Россия] пришли к полному согласию между собой, чтобы между ними утвердились отношения взаимного доверия и уважения. Мы вполне могли бы этого достигнуть…», – завершал свою мысль Мории[176], впрочем, не совсем уверенно, так как и сам не верил в то, что говорил. «Мир подписан, Россия возобновила отношения с тремя великими державами, но ее отношение к каждой из них никогда не было одинаковым, – писал Морни графу Валевскому 25 октября 1856 г. – Россия пришла к заключению, что Австрия проявила очевидную неблагодарность, а Англия относится к ней более недоброжелательно, чем Франция»[177].
Морни констатировал отсутствие всякого интереса к идее тройственного союза у своих собеседников в Петербурге. И император, и его министр иностранных дел вежливо выслушивали посла, но ничем не обнадеживали, хотя давали понять – России предпочтителен двусторонний союз с Францией, без участия Англии, а к этому Наполеон не был готов.
Морни конечно не мог знать содержания конфиденциального отчета Министерства иностранных дел, представленного князем Горчаковым на высочайшее имя, но он вполне мог бы подписаться под многим из того, о чем там говорилось. Это прежде всего касалось Англии, которую Горчаков характеризовал как «самое враждебное России государство», не имеющее ни малейших намерений «полностью отказаться от традиционных принципов своей политики»[178]. Как и Морни, Горчаков не верил в безоблачность франко-британских отношений. «У Англии и Франции – слишком различные глубинные интересы, чтобы их близость могла быть продолжительной, – убежденно писал министр иностранных дел России. – Рано или поздно, в реальной политике они неизбежно разойдутся…»[179]. Одним словом, констатировал русский министр, у России нет никаких оснований поддерживать идею Наполеона III. «…Но мы сохраняем молчание в вопросе тройственного союза, – добавлял Горчаков, – оставляя возможность тюильрийскому кабинету сформулировать его планы более определенно, прежде чем мы выскажем наше мнение о его практической ценности»[180].
Окончательно убедившись в тщетности своих стараний на этом направлении, Морни переключился на другое важное дело. Если не представляется возможным решить вопрос о тройственном политическом союзе, то нельзя ли подписать с Россией двусторонний коммерческий трактат? На это он имел из Парижа соответствующие полномочия.
Трактат о торговле и мореплавании 14 июня 1857 г.
Вплоть до второй половины XIX в. Франция занимала более чем скромное место в торговых связях России, традиционно отдававшей предпочтение своим давним партнерам – Англии, Голландии и ганзейским городам, по существу, контролировавшим торговые пути через Северное и Балтийское моря. Так, из 457 иностранных торговых кораблей, побывавших в 1766 г. в порту Санкт-Петербурга (единственном тогда в России, наряду с портом Архангельска), 165 были английскими, 68 – голландскими, 40 – датскими. 51 корабль прибыл из Любека, 34 – из Ростока, 25 принадлежали шведским негоциантам, 5 прибыли из Гамбурга, 5 – из Пруссии, 1 – из Франции. Такое положение в целом сохранялось и в дальнейшем. В 1773 г. в Петербургском порту побывали 326 английских торговых судов, 106 голландских и только 11 – французских[181].
С выходом России в Черное море после присоединения Крыма в середине 80-х гг. XVIII в. и начавшегося освоения Новороссии, где стали строиться морские порты, открылась возможность прямой средиземноморско-черноморской торговли между Россией и Францией. Ее налаживанию должен был способствовать договор о дружбе, торговле и навигации, подписанный в Петербурге 11 января 1787 г. (31 декабря 1786 г. ст. ст.)[182].
Однако такая возможность не была реализована из-за начавшейся во Франции в 1789 г. революции и последующих наполеоновских войн. В дальнейшем развитие торговых связей России и Франции блокировалось идеологической неприязнью Николая I к Июльской монархии. И лишь в 1846 г., руководствуясь желанием разрушить «сердечное согласие» между Парижем и Лондоном, Николай I санкционировал заключение торгового соглашения с Францией [183].
Более того, пойдя навстречу пожеланиям французской стороны, переживавшей серьезные финансово-экономические трудности, Россия согласилась выкупить у Французского банка по выгодному для него курсу ценные бумаги на сумму 50 млн. франков, о чем 16 марта 1847 г. в Париже была подписана соответствующая конвенция[184]. Комментируя впечатление, произведенное на французское общество этим важным событием, резидент Третьего отделения в Париже Я.Н. Толстой, работавший там под журналистским прикрытием, сообщал в Петербург: «Предложение нашего правительства о приобретении французской ренты на сумму в 50 миллионов рублей вызвало в Париже невыразимую сенсацию; все разговоры ведутся теперь вокруг этого предмета […]
Из разговоров с самыми разнообразными людьми… я вывел заключение, что эта сделка считается чрезвычайно выгодной для Франции и рассматривается как один из элементов к заключению в недалеком будущем союза между двумя странами. Некоторые же считают ее ловким шагом со стороны нашего правительства. Их рассуждения основаны на том, что неурожай, постигший Францию, заставит ее сделать в России огромные закупки хлеба, а звонкая монета, предоставленная Франции, не уйдет из России.
Любопытно узнать, – завершал свое донесение в Третье отделение Я.Н. Толстой, – какое впечатление произведет эта новость в Лондоне. Я предвижу, что впечатление будет огромное, и все будут поражены»[185].
Наметившаяся тенденция к оживлению русско-французских торговых связей была прервана Февральской революцией 1848 г. и последующими событиями во Франции – провозглашением Республики, а затем Империи. Обострение злополучного Восточного вопроса и вызванная этим Крымская война (1853–1856 гг.) окончательно похоронили торговый договор 1846 г.
По завершении войны Наполеон III решил воспользоваться сохранявшейся напряженностью в отношениях между Петербургом и Лондоном для широкого продвижения французских товаров и капиталов на обширный и перспективный российский рынок. Наполеон явно надеялся потеснить здесь Англию, сделав Францию одним из основных экономических партнеров России.
Отправляя в Петербург графа де Морни, Наполеон III поручил ему закрепить наметившееся франко-русское политическое сближение подписанием торгового договора, призванного заменить утративший силу трактат 1846 г. В полученных Морни полномочиях говорилось: «Наполеон, милостью Божией и волей нации, император французов…, желая согласия с Его Величеством Императором Всероссийским, в намерении приумножить и укрепить отношения доброй дружбы между Францией и Россией, расширить торговые связи двух наших стран, считает самым эффективным средством способствовать этому путем заключения нового Трактата о торговле и навигации. В этих целях, полностью доверяя способностям, благоразумию и преданности интересам Нашей службы графа де Морни, кавалера Большого креста Нашего Императорского ордена Почетного легиона и др. орденов, Нашего Чрезвычайного посла в России, возлагаем на него полномочия вести переговоры и подписать с уполномоченными на то в равной степени лицами, назначенными Его Величеством Императором Всероссийским те акты, которые будут отвечать интересам двух стран»[186].
Задача, возложенная на Морни, была весьма сложной. Во-первых, в отличие от Англии, Голландии, Дании, Пруссии и других северогерманских государств – давних торговых партнеров России – у Франции никогда не было сколь ни будь заметных позиций на русском рынке, если не считать незначительных партий вин, парфюмерии, галантереи и предметов роскоши, востребованных немногочисленной по своему составу верхушкой общества. Во-вторых, русское правительство традиционно придерживалось протекционистской торговой политики, ужесточившейся в царствование Александра I и Николая I. Высокие ввозные пошлины призваны были защитить отечественных производителей от иностранной конкуренции и одновременно – служили важным источником пополнения казны. Еще в 1822 г. по инициативе министра финансов генерала Е.Ф. Канкрина[187] был принят таможенный тариф, узаконивший высокие пошлины. За период с 1824 до 1842 г. доходы государства от ввозных пошлин увеличились с 11 до 26 млн. рублей. В отдельных случаях правительство шло на полный запрет ввоза дешевых иностранных товаров, например, английского текстиля.
С другой стороны, делалось все возможное для расширения русского экспорта сельскохозяйственных продуктов на европейский рынок. Его среднегодовой объем за полвека (1800–1850 гг.) возрос почти в четыре раза: с 60 до 230 млн. руб. За границу вывозились лен, конопля, шкуры, меха, лес. С середины 1840-х годов основной статьей русского экспорта становится хлеб. Составляя в начале XIX в. 18 % по отношению ко всему экспорту, зерновые продукты к концу 50-х гг. достигли 35 % всей вывозимой продукции, а в совокупности с продукцией животноводства это составило уже 57,4 % русского экспорта.
Несмотря на административные ограничения, приток иностранных товаров с 1825 по 1850 г. удвоился, а по некоторым статьям даже утроился[188]. Под давлением объективных потребностей развития рынка таможенный тариф 1822 г. шесть раз пересматривался, последний раз – в 1841 г.
В октябре 1850 г., уже при новом министре Ф.П. Вронченко, был принят более либеральный таможенный тариф. Но почти все торговые договора, заключенные Россией с иностранными государствами в 1820-1840-е гг. заключались в рамках жестких протекционистских правил, выработанных в свое время Канкриным. Торговый трактат 1846 г. с Францией не составлял здесь исключения. Незадолго до его подписания возникло дополнительное препятствие для развития торговли Франции с Россией, осуществлявшейся исключительно морским путем. В 1845 г. Николай I утвердил распоряжение министра финансов России, по которому ластовый сбор[189] с судов тех государств, которые не предоставляли русской торговле прав наибольшего благоприятствования и равноправия с собственным флагом, был повышен на 50 %[190].
Русско-французский договор, подписанный в сентябре 1846 г., подпадал под это правило, чувствительно ущемившее интересы французских импортеров. Готовясь к переговорам о заключении нового торгового договора с Россией, кабинет Наполеона III рассчитывал добиться от правительства Александра II уступок в этом, а также в других вопросах, относящихся к русской таможенной политике. Расчет делался, прежде всего, на очевидные экономические потребности России, заинтересованной в восстановлении подорванной в результате Крымской войны экономики. «Финансовые средства государства были истощены, народное хозяйство находилось в угнетенном состоянии, во всем чувствовались смятение и растерянность», – так характеризовал тогдашнее состояние России авторитетный экономист конца XIX – начала XX вв. В. Витчевский[191].
В Париже считали, что послевоенная Россия неизбежно пойдет на смягчение таможенного протекционизма, и французские экспортеры должны стать первыми на русском рынке. Многое здесь зависело от степени политического доверия России к Франции.
Обсуждение вопроса о заключении двустороннего торгового договора с Россией началось лишь в начале 1857 г., когда Морни и Горчакову удалось прояснить политические вопросы русско-французского взаимодействия. К тому же почти два месяца в России продолжались коронационные торжества по случаю восшествия на престол императора Александра II. Иностранный дипломатический корпус в полном составе выезжал в Москву, праздничная обстановка в которой не располагала к обсуждению таких скучных материй как коммерция, таможенные сборы и морская навигация.
Инициируя переговоры о новом торговом договоре с Россией, Морни намеревался воспользоваться теми преимуществами, которые русское правительство на временной основе предоставило французской морской торговле. Дело в том, что с началом навигации 1856 г. по распоряжению Александра II французские торговые суда, приходившие в русские порты из портов третьих стран, «под условием взаимства» были освобождены «от платежа возвышенных корабельных сборов и надбавочной пошлины», хотя это не предусматривалось условиями торгового договора 1846 г. между Россией и Францией. «Таковая льгота, – разъяснялось в отчете МИД за 1857 год, – была допущена вследствие особого исключительного положения торговых сношений по окончании последней войны»[192]. Скорее всего таможенные преимущества были предоставлены французским торговым судам в знак признательности со стороны России за благожелательное к ней отношение императора Наполеона III на Парижском конгрессе. Во Франции это прекрасно понимали и желали закрепить, расширить и формализовать временные льготы в новом договоре.
На исходе зимы, перед началом навигации 1857 г. граф де Мории обратился к министру иностранных дел князю А.М. Горчакову с ходатайством о продлении таможенной льготы вплоть до заключения нового торгового договора, обещав в самом скором времени представить проект такого договора.
15(3) февраля 1857 г. посол передал Горчакову проект, снабдив его соответствующими комментариями[193]. В сопроводительном письме Мории выделил несколько основных принципов и положений, которые, по мнению французской стороны, должны были лечь в основу нового договора: определение взаимного положения французских и российских подданных на территориях двух стран; условия морского сообщения между двумя странами; привилегии и преимущества консулов и консульских агентов на основе взаимного признания принципа наиболее благоприятствуемой нации; необходимость заключения специальной консульской конвенции о взаимной защите прав литературной и художественной собственности в двух странах[194].
Характеризуя представленный проект, Мории писал Горчакову: «Правительство императора французов постаралось сформулировать в нем основополагающие принципы обоюдного интереса, которые, по его представлениям, отвечают совместным пожеланиям и действительным потребностям торговли и мореплавания, как России, так и Франции. Оно надеется, что их принятие имело бы результатом умножение и упрощение торговых сделок между двумя странами, что, в свою очередь, отвечало бы сердечности и доверию, установившемуся в политических отношениях двух монархов и их правительств»[195].
Князь Горчаков передал копию французского проекта для изучения министру финансов Петру Федоровичу Броку, который привлек к этому директора Экономического департамента этого ведомства Людвига Валерьяновича Тегоборского, авторитетного экономиста-статистика, подготовившего русский контрпроект договора. Обсуждение и согласование двух проектов началось в марте месяце.
Французская сторона просила зафиксировать в договоре значительно более низкие таможенные пошлины практически на все статьи своего импорта в Россию, и прежде всего на вина. Горчаков и Брок, отдавая должное высокому качеству продуктов французского виноделия, отстаивали тезис о необходимости поощрения собственного виноделия на территориях Молдавии, Новороссии и Крыма, нуждающегося в определенной защите в виде ввозных таможенных ограничений. Одновременно было обращено внимание Морни на многочисленные случаи подделок французских вин, выявляемые таможней. Последний по времени скандал, сообщили русские министры послу Франции, произошел на Рижской морской таможне, где 60 ящиков доставленного шампанского «Вдова Клико» оказалось изготовлено в Пруссии, а не во Франции, как значилось в бумагах и на бутылочных этикетках[196]. Все это требует не ослабления, а ужесточения таможенного контроля со стороны России. Морни на это заметил, что чрезмерные таможенные обложения и ограничения, напротив, поощряют контрабандную торговлю, с которой обе страны должны вести непримиримую борьбу.
Со своей стороны, Морни проявил себя надежным защитником интересов французских крестьян, когда речь зашла о растущем ввозе русского зерна во Францию. Импорт зерновых из России, говорил он, не должен причинять ущерба французскому сельскому хозяйству. Поэтому Франция вынуждена сохранять ощутимые таможенные обложения на ввоз этого товара. В меньшей степени это относилось к закупкам русской водки и зернового спирта. Россия традиционно занимала тогда ведущее положение на французском рынке крепких спиртных напитков.
Французский проект не предполагал существенного снижения пошлин и на ввоз таких традиционных товаров русского экспорта, как лен и пенька. Морни также объяснял это заботой своего правительства об интересах французских производителей данной продукции.
Зато обложения на ввоз французской шерсти в Россию (от 9 до 10 франков за 100 кг) представлялись Морни чрезмерно завышенными, и он предложил снизить их наполовину. Столь же завышенными представлялись Мории русские пошлины на ввоз продуктов французской парфюмерии и косметики, парусного полотна и такелажа, железного проката, изделий из меди, рыбьего жира, стеариновой кислоты и др. Посол предложил в среднем наполовину снизить на них ввозные пошлины.
Все эти пожелания Мории обосновывал стремлением правительства Франции установить более свободный характер взаимной торговли с Россией, чем это было прежде. Зная об инициированной Министерством финансов подготовке нового таможенного тарифа, он всячески стремился поощрить Горчакова и Брока к более глубокой реформе в этой области, доказывая им преимущества либеральной тарифной политики.
Еще до открытия пленарных заседаний («конференций») главных участников переговоров Мории на встречах и в переписке с Горчаковым, с которым у него установились дружеские отношения, удалось добиться очень важных уступок для французской торговли. 1 апреля (и. ст.) 1857 г. Мории получил с нарочным короткую записку от Горчакова следующего содержания: «Вот, мой дорогой граф, короткое конфиденциальное мнение, которое я Вам сообщаю для Вашего удовлетворения и личного использования. Вы увидите, до какой степени мы расположены принять решения благоприятные Франции». К записке было приложено письмо директора Экономического департамента Министерства финансов Л.В. Тегоборского. «Князь, – говорилось в письме, – Вы можете сообщить г-ну де Мории новость, которая, несомненно, доставит ему удовольствие. По моему предложению и с согласия министра финансов, Экономический департамент принял единую пошлину в размере 2 руб. 10 коп. за пуд для всех без исключения вин, доставляемых в бочках. Этот вопрос более не будет камнем преткновения на пленарном заседании, и его можно считать окончательно решенным. Этим снимается одна из самых давних претензий Франции в отношении нашего таможенного тарифа. Для Франции это более важно, чем весь торговый договор, который нам предлагают заключить»[197].
В самом деле, с учетом того, что вина составляли главный товар французского экспорта в Россию, уступка представлялась принципиально важной. Во-первых, она вдвое снижала таможенный сбор, а, во-вторых, распространялась на все французские вина в бочках, кроме шампанского, доставлявшегося в бутылках.
Большинство спорных вопросов удалось решить в ходе предварительных консультаций. «Я приближаюсь к окончанию переговоров о заключении торгового трактата, который гармонизирует общие материальные интересы Франции и России в соответствии с отношениями взаимного доверия и близости, характерных для наших двух правительств», – сообщал Мории министру иностранных дел Валевскому 9 мая 1857 г.[198]
Остававшиеся разногласия и согласование окончательного текста договора было решено вынести на пленарные заседания, состоявшиеся 24 апреля и 12 мая (ст. ст.) 1857 г.[199] Судя по его депешам в Париж, Мории не был достаточно уверен относительно того, до какого предела ему надлежит проявлять настойчивость, требуя новых уступок от Горчакова и Брока. Он опасался, как бы чрезмерная требовательность в вопросах таможенных преференций не навредила интересам наметившегося политического сближения с Россией, что представлялось послу гораздо более важным. «Неуверенность, которую я ощущаю относительно подлинных намерений правительства императора [Наполеона]…, растущие требования и сомнения русских полномочных представителей, до сих пор не позволили достигнуть с ними согласия относительно окончательного текста [договора]», – писал Морни Валевскому 29 мая, – но я не теряю надежды на благополучный исход дела, которое мне доверено…»[200].
Свои надежды Морни связывал не только с личным расположением к нему императора Александра и князя Горчакова, но, прежде всего, с новым, более либеральным таможенным тарифом, подготовленным российским Министерством финансов. После обсуждения на Государственном Совете этот важный документ ожидал высочайшего утверждения. Морни считал, что сразу же по его принятии, все разногласия на переговорах будут устранены сами собой, и наконец, удастся «обеспечить нашей торговле максимально возможные преимущества, вытекающие из нового таможенного тарифа»[201].
Ожидания посла Франции оправдались в полной мере. Российская сторона, исходя преимущественно из политических соображений, пошла на уступки практически по всем вопросам, поставленным Морни. Помимо снижения ввозных пошлин на французские товары, Горчаков и Брок согласились даже на то, что русским торговым судам не было предоставлено в портах Франции равных прав с французскими, на что первоначально надеялись в Петербурге[202].
Успешное завершение переговоров, как и ожидал Морни, было ускорено принятием 6 июня (25 мая ст. ст.) 1857 г. нового таможенного тарифа. Он отменил сохранявшиеся запрещения ввоза (для 7 видов товаров из 19), уменьшил по 380 статьям тарифные ставки и упростил классификацию предметов импорта. «Общее направление нового тарифа, – отмечал В. Витчевский, – дано было основными принципами 1850 г., правильность которых подтвердилась на опыте. Индустрия, которая прежде всецело опиралась на систематическое устранение иностранной конкуренции, оказалась в 1851 г. в своих собственных интересах вынужденной принять меры к удешевлению производства путем более экономного ведения дела и технических улучшений, чтобы устоять в борьбе с иностранным импортом. И это ей поразительно хорошо удалось, ибо – как указывают мотивы министерства к проекту нового тарифа – ни одна отрасль промышленности не потерпела ущерба, а некоторые даже развились, в частности, хлопчатобумажная индустрия, за которую всего более опасались. Новая система не принесла ущерба и фиску, так как смягчение режима запрещений отнюдь не уменьшило таможенного дохода. Немаловажное преимущество усматривали, наконец, в том, что в отношении многих продуктов контрабанда оказывалась уже теперь недостаточно высокой»[203].
Мнение авторитетного экономиста дает основание полагать, что уступки, на которые Горчаков и Брок пошли на переговорах с Морни, не только не причинили ущерба торговым интересам России, но, наоборот, сыграли стимулирующую роль в ее экономическом развитии.
Сам Горчаков был убежден, что торговый договор, выработанный на основе отредактированного французского проекта, был «составлен в духе благоприятствующем развитию дружественных и коммерческих сношений обеих держав»[204]. Что касается графа де Морни, то он, по мнению публикатора его переписки, «обнаружил на этих переговорах выдающиеся качества делового человека и сумел добиться для Франции самых выгодных условий»[205].
14 июня (2-го по ст. ст.) 1857 г. Горчаков и Брок, от имени России, и Морни, от имени Франции, подписали согласованный текст трактата о торговле и мореплавании сроком на 6 лет, с возможностью его продления.
21 июня того же года, после его ратификации Александром II и Наполеоном III, договор вступил в законную силу.
В отчете МИД за 1857 г., представленном на высочайшее рассмотрение, князь Горчаков следующим образом определил основные положения заключенного договора:
«1. Отменены ограничения, существовавшие в трактате 4/16 сентября 1846 года, на основании коих суда и грузы одного из договаривающихся государств, приходившие в другие государства из отечественных портов Средиземного, Черного и Азовского морей, должны были платить возвышенные сборы.
Означенные ограничения оказывались весьма стеснительными для нашей Черноморской отпускной торговли, и отмена оных составляет весьма важную уступку, которая будет иметь благодетельное влияние на развитие сей торговли, тесно связанной с благосостоянием земледелия и скотоводства в южной полосе России.
2. Французские суда и товары уравнены у нас с туземными по платежу всяких сборов и пошлин, как при прямом, так и непрямом плавании, а российским судам и грузам дарованы во Франции все те преимущества, какие допускаются или будут впредь допущены в этом отношении ее законодательством и условиями с другими государствами.
3. В вознаграждение за большие выгоды, предоставленные Франции касательно непрямого плавания, Россия приобрела особые права по торговле во французских колониях и алжирских портах, а равно в пользу судов Русского Общества Пароходства и Торговли.
4. Обоюдным подданным разрешено во Франции и России нанимать в городах дома, лавки и земли, а равно владеть таковыми наравне с туземными.
5. Приняты меры к преследованию в обоих государствах подделки фабричных знаков, прилагаемых к некоторым товарам для доказательства их происхождения.
6. Обе договаривающиеся стороны представили себе определить особой конвенцией способы для взаимного обеспечения литературной и художественной собственности»[206].
Русско-французский договор о торговле и мореплавании состоял из 24 основных статей и 3 дополнительных («отдельных»)[207].
Первая статья провозгласила «полную и совершенную свободу торговли и мореплавания» для судов и подданных двух стран во всех портах, открытых для иностранных судов. Русским подданным по Франции и французским – в России взаимно предоставлялась «совершенная свобода въезда, странствования или пребывания в какой бы то ни было части обоюдных владений для отправления своих дел». При этом они получали личную и имущественную защиту на равных правах с «туземными подданными». Русским во Франции и французам в России было предоставлено право «нанимать в городах и портах: дома, магазины, лавки и земли, в которых встретится надобность, или владеть таковыми, не подвергаясь за это никаким иным общим или местным сборам, налогам или повинностям, кроме тех, которым подвергаются или впредь подвергаемы будут туземные подданные». Одновременно в 1-й статье делалась оговорка, что предоставленные свободы и льготы «не изменяют ни в чем особенных законов, предписаний и правил относительно торговли, промышленности и полиции, действующих в обоих государствах и применимых ко всем вообще иностранцам». Эта оговорка, включенная в текст договора по инициативе русской стороны, призвана была избежать противоречий с внутренним законодательством – более строгим в России, нежели во Франции.
Вторая статья взаимно освобождала подданных России и Франции от несения военной или гражданской службы в стране пребывания.
Третья статья договора определяла, что французские и русские торговые суда при входе и выходе из портов обоих государств, а также за время пребывания там, не должны платить никаких дополнительных сборов, кроме тех, которыми облагаются «туземные суда, приходящие из тех же мест или имеющие то же назначение».
Статьи 4-9-я регламентировали порядок пребывания торговых судов двух стран в портах и гаванях России и Франции, а статья 10-я гласила, что предыдущие постановления «не должны распространяться на прибрежное или каботажное судоходство каждого из обоих государств, каковое судоходство исключительно предоставляется национальному флагу».
Последующие статьи (11-я, 12-я и 13-я) определяли равенство торговых прав и привилегий, предоставляемых двумя сторонами на обоюдной основе. «Во всем, что касается таможенных и мореплавательных пошлин, – гласила статья 14-я, – обе высокие договаривающиеся стороны взаимно обещаются не предоставлять никакому другому государству никакой привилегии и никаких льгот или преимуществ, которые не были бы немедленно распространены и на обоюдных подданных их, в случае безвозмездной уступки – безвозмездно, а при условной – с заменою».
Статьи 15-20-я договора устанавливали правила работы генеральных консулов, консулов, вице-консулов и консульских агентов в городах и портах двух стран. Этим представителям, на которых возлагалась ответственность за обеспечение правовых условий двусторонней торговли, давались все прерогативы, характерные для режима «наиболее благоприятствуемых наций». Власти на местах обязывались оказывать консульским работникам всю необходимую правовую поддержку.
Статья 21-я распространяла действие договора на все суда, плавающие под российским флагом, включая те, которые принадлежат Великому Княжеству Финляндскому, «составляющему нераздельную часть
Российской Империи». Данная статья была включена в текст договора по настоянию Горчакова и Брока, что не вызвало возражений со стороны Морни.
Статья 22-я была посвящена целям совместной борьбы с контрафактной продукцией. «Высокие договаривающиеся стороны, желая упрочить в своих владениях полное и действительное покровительство мануфактурной промышленности обоюдных своих подданных, – говорилось в этой статье, – согласились, чтобы всякая подделка в одном из обоих государств фабричных знаков, прилагаемых в другом государстве к некоторым товарам, для доказательства их происхождения и качества, будет строго воспрещена и преследуема, и что по поводу оной лица, понесшие убыток, будут иметь право отыскивать вознаграждения в судебных местах той страны, где подделка будет доказана.
Фабричные знаки, коих принадлежность подданные одного из обоих государств пожелают удержать за собою в другом государстве, должны быть исключительно представляемы – именно: знаки российского происхождения в Париже, в Канцелярию Сенского Суда, а знаки французского происхождения в С.-Петербурге, в Департамент Мануфактур и Внутренней Торговли».
В статье 23-й договора Россия и Франция брали на себя обязательство «определить особой конвенцией способы для взаимного обеспечения литературной и художественной собственности в их обоюдных государствах».[208]
Заключительная, 24-я статья определяла порядок ратификации договора, действие которого предусматривалось сроком на шесть лет с возможностью его ежегодного продления до тех пор, пока одна из договаривающихся сторон «не объявит другой, но за год вперед, о намерении своем прекратить действие трактата».
В договор были включены три отдельные статьи. Одна оговаривала особые торговые отношения, существующие у России со Швецией и Норвегией, а у Франции – с Бельгией, Нидерландами и Сардинией. Другая статья определяла традиционные льготы и привилегии Российско-Американской Компании, «береговых жителей» Архангельской губернии, живущих и торгующих продуктами рыболовства, звероводства и земледелия, а также английским и нидерландским компаниям в России, «известным под названием Яхт-Клубов». Со своей стороны, Россия признавала аналогичные льготы и привилегии французской прибрежной морской рыбной ловли, а также льготы, предоставленные испанским рыбакам законом от 12 декабря 1790 г. Наконец, третья дополнительная статья подтверждала полную юрисдикцию всех трех «отдельных» статей, подлежащих одновременной ратификации, наравне с основными.
Заключение договора будет иметь следствием оживление русско-французской торговли, осуществлявшейся преимущественно морским путем – из Петербурга или Архангельска, через Балтийское, Белое и Северное моря, а также – через Черное и Средиземное моря. Конечными пунктами следования торговых судов из России во Францию были порты Бордо, Гавра, Руана, Марселя и Тулона. Французские суда с товарами для России направлялись в основном в Петербург, Ригу и Одессу.
В год подписания договора (1857) за период навигации в порт Бордо прибыло 9 русских торговых судов, преимущественно с зерном и лесом из Финляндии. Обратно они загружались в основном знаменитыми бордоскими винами[209]. В последующие годы русско-французская торговля на атлантическом направлении заметно оживилась. Так, 1859 г. порт Гавра посетили 22 русских торговых судна. Общая стоимость доставленных ими товаров оценивалась в 6 084 600 фр. Стоимость товаров, вывезенных в том же году из Гавра в Россию, оценивалась в 15 753 000 фр. [210] Очевидная несбалансированность экспорта и импорта в пользу Франции была характерна для русско-французской торговли в целом.
Наиболее посещаемым русскими торговыми судами французским портом был Марсель. В навигацию 1858 г. туда прибыли 48 судов из России с грузом, оцениваемым в 9 258 ластов, а в 1859 г. – уже 54 судна грузоподъемностью в 11 410 ластов. В том же, 1859 г., порт Тулона принял 7 судов из России[211].
Первой статьей русского импорта во Францию и после подписания торгового договора оставалось зерно. На втором месте – строительный лес. Возрос вывоз шерсти. Столь же традиционной была и структура французского экспорта в Россию – вина, парфюмерия и косметика, галантерея.
Подписание русско-французского торгового договора вызвало обеспокоенность у Англии. По указанию из Лондона, британский посланник в Петербурге направил князю А.М. Горчакову ноту, в которой ходатайствовал о предоставлении подданным английской короны всех тех льгот и преимуществ, которые были признаны за французскими негоциантами в России[212].
Правительство Александра II, несмотря на весьма прохладные политические отношения с сент-джеймским кабинетом, не желая терять давнего, проверенного столетиями торгового партнера, согласилось удовлетворить это пожелание. В скором времени был заключен аналогичный французскому торговый трактат с Великобританией, которая сумела в короткий срок вернуть себе статус первого торгового партнера России.
Что касается русско-французской торговли, то, несмотря на определенное ее оживление после 1857 г., она не получила ожидаемого развития. Одна из главных причин этого заключалась в политике внешнеторгового протекционизма, проводившейся кабинетом Наполеона III. Особенно жестко это проявлялось в защите национального сельского хозяйства. Наполеон всегда помнил, что именно крестьянство было опорой бонапартистского режима, и он внимательно следил за тем, чтобы интересы французских аграриев не ущемлялись, прежде всего, иностранной конкуренцией. Россия же могла предложить Франции главным образом сельскохозяйственную продукцию. В этом состояло главное препятствие более успешному развитию русско-французской торговли.
Возникали и другие сложности, иной раз, самые неожиданные, связанные с особенностями государственного строя и политической культуры Российской империи. В качестве иллюстрации можно привести один пример.
Вскоре после ратификации русско-французского торгового договора в июле 1857 г. в местные и центральные правительственные органы стали поступать ходатайства отдельных французских подданных, желавших открыть свое дело в России. Казалось бы, для удовлетворения такого рода ходатайств 1-я статья торгового трактата предоставляла полную свободу. Но когда выяснилось, что ходатаи – французские евреи-негоцианты, русская бюрократия встала в тупик. 24 апреля 1858 г. в МИД от Санкт-Петербургского военного губернатора поступил запрос следующего содержания: «На основании 1-й статьи трактата, заключенного 2/14 июня 1857 г. между Россией и Францией о торговле и мореплавании, русским во Франции и французским в России подданным предоставлена совершенная свобода въезда, путешествия или пребывания в какой бы то ни было части обоюдных владений, для отправления своих дел, и для того они пользуются как лично сами, так и относительно своих имуществ, тем же покровительством и тою же безопасностью, как и туземные подданные.
Покорнейше прошу… почтить меня уведомлением, следует ли действие означенной статьи распространить на французских подданных, исповедующих еврейскую веру, так как вообще иностранные евреи, при дозволении им пребывать в России, подлежат особым ограничениям»[213].
Губернаторский запрос, по-видимому, застал князя Горчакова врасплох, поскольку он попросил разъяснить ситуацию с правовым статусом иностранных евреев в России министра внутренних дел графа С.С. Ланского, а 20 мая того же года этот вопрос был вынесен на обсуждение Совета министров.
31 мая 1858 г. последовало разъяснение. В письме на имя Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора товарищ министра иностранных дел И.М. Толстой писал: «Имею честь уведомить Ваше превосходительство, что хотя сказанною статьею трактата означенная льгота действительна, и представлена у нас вообще французским подданным, наравне с туземными, но… в той же статье положительно оговорено, что изложенные в оной постановления не изменяют ни в чем особенных законов, предписаний и правил относительно торговли, промышленности и полиции, действующих в государстве, то евреи – французские подданные не должны быть изъяты от общих правил, применяемых у нас ко всем их единоверцам, и даже к состоящим в русском подданстве[214]. В прочем, как в случае прибытия в Россию какого-либо лица из французских евреев, известного по своему общественному положению, зависит от усмотрения высшего начальства допустить в его пользу, в виде изъятия из общего правила возможные облегчения…»[215].
Разумеется, подобные искусственные ограничения не способствовали процветанию в России французской торговли, где с давних пор было занято немало евреев. К тому же, они подпитывали негативные представления о самодержавной России во французском обществе.
Однако не все было так сумрачно в деле налаживания торговых связей между Россией и Францией. Французские негоцианты – единственные из всех иностранцев – получили право записываться в южных и портовых городах России во 2-ю и 3-ю гильдии без обязательного в таких случаях перехода в русское подданство[216]. Хотя такое разрешение предоставлялось лишь на определенный срок, оно давало французам существенные финансовые и правовые преимущества перед остальными иностранными торговцами.
Подобное исключение для французских негоциантов было сделано по особому представлению посла во Франции графа П.Д. Киселева. В депеше на имя князя Горчакова посол сообщал, что «французский министр иностранных дел, вследствие просьбы французских купцов, торгующих в наших южных городах, убедительно ходатайствовал о продолжении им данного разрешения состоять во 2-й и 3-й гильдиях без принятия российского подданства»[217].
«При этом, – писал Горчаков по этому поводу императору Александру II, – генерал-адъютант граф Киселев объяснил, что желательно было бы удовлетворить такому домогательству, в видах упрочения дружественных отношений наших к Франции и для доставления графу Валевскому (главе МИД Франции. – П.Ч.)9 как он сам откровенно сознался, возможности защищать с успехом выгоды российской торговли и мореплавания пред прочими членами тюильрийского кабинета»[218]. Из последнего разъяснения Горчакова следовало, что не все министры Наполеона III поддерживали как политическое сближение с Россией, так и развитие франко-русских торговых связей.
«По доведении о содержании сей депеши до Высочайшего сведения, – продолжал князь Горчаков, – я, по повелению Вашего Императорского Величества, вошел по предмету оной в соглашение с министром финансов, который, приняв во внимание политические соображения, сообщенные ему мною, признал возможным испросить Всемилостивейшее соизволение на представление французским подданным права торговли в Новороссийском крае по свидетельствам 2-й и 3-й гильдии в течение 1859 года»[219]. Запрошенное «соизволение» было получено. Из сказанного можно сделать однозначный вывод: указанная льгота для французских торговцев в Новороссии была предоставлена главным образом из политических соображений. Но подобные ограниченные меры, конечно же, не могли серьезно стимулировать развитие торговых связей между Россией и Францией.
Тем не менее, с подписанием торгового трактата двусторонняя торговля получила ощутимый импульс. Если за период с 1838 по 1852 г. среднегодовая стоимость французского экспорта в Россию оценивалась в 20 млн. фр., то за двадцать лет, последовавших за окончанием Крымской войны, она возросла до 45 млн. фр., т. е. более чем удвоилась. Что касается русского вывоза во Францию, то за период между 1856 и 1872 г. он вырос в шесть раз в сравнении с показателями начала 1820-х гг. (с 30 млн. до 180 млн. фр.)[220].
При этом общий товарооборот между Россией и Францией и после 1857 г. значительно (в два-три раза) уступал соответствующим показателям русско-британской, русско-германской и даже русско-американской торговли.
На фоне достаточно скромных объемов русско-французской торговли, начиная с 1860-х гг., все более явственно обозначается тенденция к постепенно растущему вывозу французского капитала в Россию. Это было связано с особенностями экономического развития Франции в годы Второй империи, когда, наряду с промышленным подъемом, еще более энергично происходило накопление ссудного капитала, который всё более смело выходил за национальные границы в виде инвестиций и внешних займов. С приходом Луи-Наполеона к власти, в 1850 г. был основан банк «Креди мобилье», осуществлявший как краткосрочное, так и долгосрочное кредитование. В 1852 г. в результате слияния нескольких банков был создан Французский поземельный банк, ставший центром ипотечного кредита. В 1855 г. около 70 мелких и средних банков с преобладающим капиталом государства и муниципалитетов объединились в крупнейший банк – «Национальная учетная контора», который кредитовал в основном внутреннюю и внешнюю торговлю. Его акции были проданы в частные руки. В 1865 г. был создан знаменитый в дальнейшем банк «Лионский кредит» («Креди Лионнэ»), занявшийся размещением во Франции иностранных займов. По вывозу капитала в виде займов Франция уже к началу 1870-х гг. уверенно займет второе место в мире после Великобритании. В заключение остается сказать, что французский капитал сыграет поистине выдающуюся роль в первичной индустриализации России, начавшейся в царствование Александра II, после отмены крепостного права.
* * *
Подписанием торгового трактата граф де Морни достойно завершил свою миссию в России. Еще в конце ноября 1856 г. он был извещен о желании Наполеона видеть его в Париже, где ему предстояло возобновить деятельность во главе Законодательного корпуса. Император был доволен результатами доверенного Морни важного поручения по восстановлению дипломатических отношений с Россией. Граф сумел произвести самое благоприятное впечатление на Александра II, князя Горчакова, на весь петербургский бомонд. Его дипломатическим талантом, тактом, личным обаянием и во многом благодаря его искреннему расположению к России Морни сумел залечить совсем еще свежие раны в душе русского общества, нанесенные Крымской войной. Отношения с Россией были не только восстановлены, но и обретали привилегированный, можно сказать доверительный, характер. Если бы не устойчивая привязанность Наполеона III к Англии, то уже тогда, в 1857 г., Морни мог бы подписать не только торговый, но и союзный договор с Россией.
Морни покидал Россию, оставляя здесь множество друзей, среди которых первыми значились император Александр и князь Горчаков. «Должен Вам сказать, – писал Морни Наполеону III, – что трудно быть более любезным и приятным в обхождении, чем этот государь. Все что я узнаю о нем, о его семейных отношениях, дружеских связях и, должен прибавить, о его действиях по внутреннему управлению, носит характер прямодушия, справедливости и даже рыцарского духа. Он не злопамятен, исполнен уважения к старым служителям своего отца и своей семьи, даже к тем из них, кто не очень-то этого и заслуживает. Он никого не обижает, верен слову, чрезвычайно добр. Невозможно не полюбить его. Его обожает народ, а Россия с его воцарением, можно сказать, задышала, чего не было на всем протяжении царствования его покойного отца.
Он, быть может, не столь театрален, как император Николай, но у меня нет и малейшего сомнения, что уже в ближайшие годы он во всех отношениях принесет больше блага своей стране, чем его отец за все время своего правления»[221].
Столь же тепло отзывался Морни и о Горчакове. «Мои отношения с князем Горчаковым, – писал он Наполеону в том же письме, – это не отношения между послом и министром, а отношения двух друзей, одинаково верящих во взаимную добрую волю и верность своих государей… Его прежняя политика согласуется с его новым положением; он рад установившемуся между нами согласию и делает все что может, дабы сохранить его»[222].
Александр узнал о предстоящем отъезде Морни в первых числах декабря 1856 г. «Правда ли, что в скором времени я должен буду расстаться с вами? – спросил он его при личной встрече. – Поверьте, это будет для меня очень печальным событием. Вся моя семья, все здесь будут сожалеть о вашем отъезде».
«Сир, – ответил Морни, – государственные интересы требуют моего возвращения во Францию. Но тем доверием, которым Ваше Величество почтили меня, я непременно поделюсь с моим государем. И если однажды я счел бы, что могу принести больше пользы, служа здесь, а не во Франции, я, не колеблясь, пожертвовал бы своими частными интересами» [223].
Покидая Россию, граф де Морни увозил с собой не только приятные воспоминания. Вместе с ним 18 июня 1857 г. из Петербурга в Париж уезжала его юная супруга, графиня де Морни, урожденная княжна Трубецкая.
Как уже говорилось, Огюст впервые увидел Софи на приеме у императрицы Марии Александровны еще 8 августа 1856 г. Тогда, при первой встрече, он не успел выделить ее среди фрейлин, но уже очень скоро княжна полностью овладела воображением 44-летнего Морни. Посол императора французов использовал любую возможность, чтобы повидаться с юной фрейлиной – благо, череда приемов и балов в связи с продолжительными коронационными торжествами давала для этого множество удобных поводов.
Девушка принадлежала к одной из самых известных в России фамилий, но об ее отце в свете ходили самые разные слухи. Князь Трубецкой, считавшийся отцом Софьи, в царствование Николая I потерял все состояние и был лишен своих владений в результате многочисленных скандальных историй. Потом князь умер, а его вдова по каким-то причинам отправила малолетнюю дочь в Париж, где она воспитывалась в доме российского посланника Николая Дмитриевича Киселева, что породило слухи о его отцовстве. Кстати, там, еще задолго до приезда в Россию, девочку должен был встречать граф де Морни, близкий друг Киселева, но об этом он никогда и нигде не упоминал.
По другой версии, настоящим отцом Софи был сам император Николай, доверивший ее первичное воспитание Н.Д. Киселеву, подальше от Петербурга. В возрасте восьми лет княжну Трубецкую возвращают из Парижа и при содействии императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, помещают в Екатерининский институт, где, среди прочих, воспитывались и девушки из разорившихся дворянских семей.
В пятнадцать лет Софи Трубецкая выходит из института и поступает на службу к великой княгине Марии Александровне, супруге тогда еще наследника престола, став ее фрейлиной. Ко времени знакомства с графом де Морни княжне исполнилось восемнадцать лет. Это была красивая, стройная блондинка, обладавшая королевской осанкой, утонченностью манер и… твердым характером. Попытки искушенного покорителя женских сердец, каковым считался Морни, обольстить юную фрейлину натолкнулись на вежливый, но решительный отпор с ее стороны. Софья Трубецкая явно не относилась к числу женщин, расположенных к свободным отношениям, с которыми прежде приходилось иметь дело графу де Морни.
Русская княжна произвела столь глубокое впечатление на графа, что очень скоро убежденный холостяк стал обнаруживать самые серьезные намерения в отношении мадемуазель Трубецкой, которая с той поры стала отвечать ему взаимностью. Когда о намерении Морни узнал Наполеон, он попытался заставить брата отказаться от брака, по-видимому, считая его мезальянсом для представителя правящей династии Бонапартов. Он даже угрожал лишить Морни поста председателя Законодательного корпуса и не дать обещанного ему ранее титула герцога[224]. Но граф был непреклонен, и император, в конечном счете, вынужден был уступить.
Обручение Огюста и Софи произошло в октябре 1856 г. в Москве, за несколько дней до возвращения двора в Петербург. Там же, в Москве, в храме ев. Екатерины 19 января 1857 г. состоялось их венчание [225].
А спустя полгода граф и графиня де Морни навсегда покинули Россию. Встреча с Софьей Трубецкой и женитьба на ней стала символическим завершением дипломатической миссии Морни и одновременно – личным воплощением его мечты о союзе с Россией.
Глава 4 Время надежд
Граф Киселев
С восстановлением дипломатических отношений и приездом в Петербург графа де Мории в качестве чрезвычайного и полномочного посла Наполеона III вставал вопрос о кандидатуре официального представителя Александра II при тюильрийском дворе. Выбор императора пал на ближайшего сподвижника его покойного отца, графа Павла Дмитриевича Киселева, занимавшего в то время пост министра государственных имуществ. О своем решении Александр уведомил графа де Мории на первой же аудиенции, данной французскому послу 7 августа 1856 г. При этом, говоря о Киселеве, царь особо подчеркнул: «Он был одним из самых близких друзей моего отца, и уже давно является и моим другом»[226]. Эти слова означали, что в Париж Александр направляет не обычного дипломата, а человека, пользующегося его особой доверенностью.
Граф Киселев был одной из самых внушительных фигур Николаевского и начала Александровского царствований. Ему же выпала ответственная миссия по налаживанию отношений между Россией и Францией после окончания Крымской войны. Уже поэтому он заслуживает более подробного представления.
Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872)[227] принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему начало с середины XVI в. Его отец, друживший с Н.М. Карамзиным, Ф.В. Ростопчиным и И.И. Дмитриевым, служил в Москве помощником управляющего Оружейной палатой. Двум своим сыновьям он дал достаточно скромное домашнее образование. В отличие от младшего брата, Николая, окончившего в 1823 г. курс в Дерптском университете со степенью кандидата, Павел Дмитриевич всю жизнь восполнял недостаток знаний самообразованием; он много читал, а по роду многообразной деятельности постоянно общался с весьма сведущими в разных областях людьми. Так или иначе, но Петербургская академия наук в 1855 г. сочтет его достойным избрания в свои почетные члены.
С юных лет он был близок с П.А. Вяземским и А.И. Тургеневым, познакомившими Киселева с образом мыслей и идеалами лучших представителей тогдашней столичной молодежи. В сознании Павла Дмитриевича до конца дней причудливо соединялись консервативные убеждения, внушенные строгим семейным воспитанием, и либеральные мечтания, вынесенные из общения с друзьями, будущими декабристами.
Начало его службы в 1805 г. было связано с Коллегией иностранных дел, но год спустя, Павел Дмитриевич перевелся корнетом в л. – гв. Кавалергардский полк, где встретился и подружился с будущими видными деятелями Александровского и Николаевского царствований – А.А Закревским, А.С. Меншиковым и А.Ф. Орловым. Дружба с ними во многом облегчит его стремительную карьеру.
В Отечественную войну 1812 года кавалергард Киселев отличился в Бородинском сражении, после чего был назначен адъютантом к генералу графу М.А. Милорадовичу, при котором состоял до взятия Парижа в марте 1814 г. Всего за время войны с Наполеоном ротмистр Киселев участвовал в 25 сражениях, был отмечен четырьмя орденами и золотой шпагой с надписью «За храбрость». Но главное – он обратил на себя внимание императора Александра I, сделавшего его в апреле 1814 г. своим флигель-адъютантом и доверявшего ему важные поручения. Киселев был в императорской свите на Венском конгрессе и сопровождал государя в его поездках по европейским странам и по России.
Осенью 1815 г. в Берлине произошло близкое знакомство Павла Дмитриевича с великим князем Николаем Павловичем. Киселев, к тому времени уже полковник, был свидетелем помолвки младшего брата царя с принцессой Шарлоттой, чем обеспечил себе неизменное расположение будущей императорской четы.
Судя по всему, Киселев уже тогда не остался равнодушен к веяниям времени, порожденным недавно завершившейся войной против Наполеона. На волне патриотизма в обществе начались разговоры о необходимости ликвидировать постыдное крепостное право. В 1816 г. флигель-адъютант полковник Киселев представил императору Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России», где утверждал, что гражданская свобода есть основание народного благосостояния и что нельзя более мириться с униженным положением миллионов земледельцев в Российской империи. Это был один из первых документов, где обосновывалась необходимость отмены крепостного рабства. Обращение Киселева к крестьянскому вопросу не было только данью модным веяниям времени. Этот вопрос интересовал Павла Дмитриевича глубоко, по-настоящему, что покажет его дальнейшая государственная деятельность.
Записка Киселева была прочитана высочайшим адресатом, но, как и другие аналогичные предложения на эту тему, оставлена без последствий. Сам же Киселев в 1817 г. был произведен в генерал-майоры, а в начале 1819 г. назначен начальником штаба 2-й армии, штаб которой находился в местечке Тульчин, Подольской губернии. Прибыв на место, Киселев энергично взялся за наведение порядка в армии, где провел целый ряд нововведений к неудовольствию графа А.А. Аракчеева, пытавшегося добиться его отставки. Однако Александр I не дал в обиду своего любимца, а после высочайшего смотра 2-й армии в 1823 г. пожаловал Киселева в генерал-адъютанты.
В Тульчине Киселева застало выступление декабристов, многие из которых – П.И. Пестель, А.П. Юшневский, В.П. Ивашев, А.П. Барятинский, М.А. Фонвизин и др. – служили под его началом и близко с ним общались. В «злоумышлении» оказались замешаны и три адъютанта генерала Киселева – И.Г. Бурцев, Н.В. Басаргин и П.В. Абрамов. Известно, что перед арестом полковника Бурцева генерал Киселев позволил ему уничтожить компрометирующие бумаги, что, надо сказать, смягчило его участь. Проведя полгода в Петропавловской и Бобруйской крепостях, Бурцев был допущен к продолжению службы, а в период русско-турецкой войны 1828–1829 гг., получил орден св. Георгия 4-й степени и чин генерал-майора.
Киселев был дружен с М.Ф. Орловым, С.П. Трубецким и С.Г. Волконским. После поражения восстания пошли разговоры о его причастности к заговору, и Киселеву пришлось даже писать объяснительное письмо новому императору. Николай I благосклонно принял объяснения Киселева и оставил его в прежней должности. Свидетельством высочайшего расположения стало приглашение генерала Киселева на коронационные торжества в Москву и награждение его орденом св. Владимира 2-й степени.
С началом в 1828 г. войны с Турцией Киселев принимает непосредственное участие в боевых действиях и получает чин генерал-лейтенанта. По окончании войны он назначается временным правителем оккупированных Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии), где за четыре с половиной года провел целый ряд прогрессивных реформ, заложивших основы будущей румынской государственности.
Административная деятельность Киселева в Дунайских княжествах получила полное одобрение Николая I, который в 1834 г. вызвал его в Петербург, произвел в генералы от инфантерии и назначил членом Государственного Совета, а через год ввел в Секретный комитет по рассмотрению вопроса о крестьянской реформе. Последнему назначению предшествовал продолжительный разговор Киселева с государем, которому он доказывал необходимость освобождения крестьян. «…Мы займемся этим когда-нибудь, – сказал Николай Киселеву в ходе разговора. – Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, ибо мы оба имеем те же идеи, питаем те же чувства в этом важном вопросе, которого мои министры не понимают и который их пугает. Видишь ли, – продолжал император, указывая рукой на картоны, стоявшие на полках кабинета; – здесь я со вступления моего на престол собрал все бумаги, относящиеся до процесса, который я хочу вести против рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян во всей империи»[228].
Поскольку столь смелый шаг для многих в окружении императора, да и для самого Николая Павловича, представлялся чреватым непредсказуемыми последствиями, было решено начать с создания особой системы управления для т. н. казенных (государственных) крестьян, составлявших 34 % российского крестьянства. Организовать это важное дело император поручил Киселеву, назначенному в 1838 г. министром государственных имуществ. В 1839 г. Николай I возвел своего ближайшего сподвижника в графское достоинство.
На посту министра, который он занимал без малого двадцать лет, Киселев в 1837–1841 гг. провел реформу, получившую его имя. Сам Павел Дмитриевич считал это первым шагом в решении наболевшего крестьянского вопроса. Правда, в конце 1840-х гг., когда под влиянием революционной волны, прокатившейся по Европе, Николай I охладел к делу освобождения крестьян, Киселев, также всерьез опасавшийся крестьянских бунтов, поддержал мнение императора, посчитав преждевременной отмену крепостного права. Тем не менее, вся его предшествующая деятельность на этом направлении снискала ему в обществе устойчивую репутацию «эмансипатора».
С воцарением в 1855 г. Александра II, обнаружившего твердое намерение покончить с крепостным правом, все ожидали, что дело это будет поручено графу Киселеву Каково же было всеобщее удивление, когда молодой император, по существу, отказался востребовать богатый административный опыт Киселева, отправив его послом во Францию, что сам Павел Дмитриевич воспринял едва ли не как опалу По всей видимости, Александр II хорошо знал, что к концу предыдущего царствования «эмансипатор», под влиянием своего августейшего благодетеля, разуверился в возможности положительного и тем более скорого решения крестьянского вопроса. Вместе с верой в нем иссякла и былая энергия, а Александр в то время нуждался именно в убежденных и энергичных помощниках в деле решения крестьянского вопроса.
Удаление Киселева из Петербурга в момент, когда там готовились приступить к тем самым реформам, о которых Павел Дмитриевич мечтал с молодых лет, император обставил со всей возможной деликатностью. Он настойчиво убеждал семидесятилетнего Киселева в огромной важности возобновления прерванных в 1854 г. отношений с Францией и в необходимости сближения с ней, наметившегося в ходе Парижского мирного конгресса. И, действительно, в тот период посольство в Париже было первым по значению для российской дипломатии. Александр просил Киселева принять новое назначение как личную услугу, оказываемую государю. В Париже ему нужен доверенный и одновременно такой авторитетный человек, как граф Киселев.
Отставку Киселева с министерского поста Александр I сопроводил выпуском памятной медали в его честь. Он предложил Павлу Дмитриевичу самому назвать своего преемника на посту министра государственных имуществ и утвердил его предложение. Делалось все, чтобы не задеть самолюбия почтенного сановника.
В связи с этим представляет интерес характеристика Киселева, данная в 1858 г. временным руководителем французской дипломатической миссии в Петербурге Шарлем Боденом. Высоко оценивая его способности, дипломат вместе с тем считал графа Киселева типичным представителем минувшей николаевской эпохи, и по этой причине мало способным для решения новых задач, стоявших перед Россией. «Умнейший человек, который с молодых лет обнаруживал задатки выдающегося государственного деятеля, и он, несомненно, стал таковым, – писал Боден о Киселеве, – несмотря на весь тот гнет, которому на протяжении тридцатилетнего царствования императора Николая подвергались мыслящие люди в России. Те, кто желал сохранить независимость сознания, были отстранены от участия в государственных делах; те же, кто хотел сделать карьеру, были вынуждены подчинить свой разум, образ мыслей и понимание происходящего, гнету этого человека [Николая], который на протяжении тридцати лет действовал вопреки подлинным интересам России. <…> Граф Киселев, – резюмировал французский дипломат, – являет собой один из самых ярких примеров такого рода. Результатом тридцатилетнего опьянения [властью] стали для него полнейший скептицизм в политике, закоснелый эгоизм и абсолютное равнодушие ко всему, что касается добра и зла – три чувства, характерные для всех деятелей, прошедших школу императора Николая»[229].
Несмотря на обнадеживания императора, Киселев отправлялся в Париж в невеселом настроении, отчетливо понимая, что пик его карьеры безвозвратно пройден. В одном из писем к брату, служившему тогда посланником при римском и тосканском дворах, он писал перед отъездом в Париж: «Без грусти не могу думать об этом крупном повороте в моей жизни. Достанет ли меня? Буду ли я настолько счастлив, чтобы выполнить мое назначение? Или я должен пасть и кончить мою 50-летнюю карьеру – par un fiasco?». «…Мое положение – в тумане, который я не могу рассеять, – писал он Николаю Дмитриевичу в другом письме. – Затем, меня страшит эта деятельная жизнь, которая не по моим летам» [230].
Видимо, он смутно догадывался о тех трудностях, которые возникнут у него при исполнении возложенной на него миссии. Причем, надо сказать, немалую часть этих трудностей он будет создавать себе сам. Обласканный двумя предыдущими государями – Александром I и Николаем I, – привыкший за восемнадцать лет пребывания в кресле министра напрямую решать вопросы с императором, граф Павел Дмитриевич с трудом будет мириться с необходимостью подчинять свою посольскую деятельность инструкциям министра иностранных дел князя А.М. Горчакова. Может быть, он рассматривал последнего как лишнего посредника между собой и государем. Кто знает?.. Так или иначе, но отношения между Киселевым и Горчаковым с самого начала приобрели несколько натянутый характер.
По всей видимости, Киселев слишком прямолинейно трактовал свой официальный статус личного представителя российского императора при Наполеоне III, и полагал, что он-то и есть единственный посредник между двумя монархами. Между тем в Париже в это время находился еще один представитель России – барон Ф.И. Бруннов. Он оставался там после окончания работы Парижского конгресса и отъезда графа А.Ф. Орлова, ожидая назначения нового посла. И хотя миссия Бруннова носила временный характер – он представлял Россию на Парижской конференции по разграничению в Дунайских княжествах, – Киселев не скрывал своего недовольства таким двойным представительством.
1 июля 1856 г. князь Горчаков отправил в Париж шифрованную телеграмму, уведомив барона Бруннова о назначении Киселева. Одновременно министр иностранных дел поручил выяснить, как отнесется к этому назначению император французов[231].
В своей первой депеше из Петербурга (10 июля 1856 г.) прибывший туда французский поверенный в делах Шарль Боден назвал графа Киселева наиболее вероятным кандидатом на пост русского посла в Париже. При этом он счел нужным отметить, что Киселев, будучи главой временной администрации Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии) оставил там о себе самую добрую память. Введенная им в княжествах система управления, подчеркнул Боден, «обеспечила этой несчастной стране период спокойствия и относительного процветания, которых прежде она никогда не знала» [232].
15 июля при личной встрече Горчаков уведомил Бодена о назначении Киселева, но попросил держать эту новость в секрете до публикации высочайшего указа. Министр отметил выдающиеся способности Киселева как крупного государственного и военного деятеля. Он особо подчеркнул его близость к императору Александру, который просил нового посла повременить с отъездом в Париж, чтобы принять участие в предстоящей в Москве коронации[233].
А 16 июля из парижского посольства пришла шифрованная телеграмма от Бруннова. В ней говорилось: «Император [Наполеон] благосклонно встретил это назначение и выразил надежду, что брат бывшего посланника [Н.Д. Киселева] продолжит ту новую политику, основы которой так удачно заложил граф Орлов и которая продолжается до сих пор»[234]. На следующий день в парижской правительственной газете «Монитёр» появилась информация о назначении графа Киселева чрезвычайным и полномочным послом во Франции.
2 октября 1856 г. Павел Дмитриевич отправился к новому месту службы. А несколькими днями ранее, опережая приезд посла, в Париж был направлен курьер с личным письмом императора Александра к Наполеону III. «Сир, брат мой, – писал Александр, – я не хочу направлять посла Вашему Императорскому Величеству, не удостоверившись, что это именно тот человек, который сможет полностью завоевать Ваше расположение. Граф Киселев будет надежным и верным выразителем моих чувств и мыслей, рассказывая Вам о том, как я верю в преданность Вашей дружбы и как я надеюсь на то, что отношения между нашими империями будут укрепляться и дальше»[235].
26 октября 1856 г., «немного уставшим», как сообщал Бруннов, граф Киселев прибыл в Париж, и уже на следующий день приступил к своим обязанностям. Вскоре он получит личное письмо от князя Горчакова, в котором среди прочего говорилось: «Мы имеем на самом важном для нашей дипломатии посту такого представителя Императора, о котором можно было только мечтать» [236].
Перед отъездом Киселев получил от Горчакова две инструкции, которыми он должен был руководствоваться в своей дипломатической деятельности. Первая инструкции носила общий характер. В ней определялись основные принципы и цели внешней политики Александра II, как в целом, так и в отношении Франции[237]. И в том, и в другом случаях эти принципы и цели существенно отличались от политики предыдущего царствования.
Основополагающим принципом внешней политики России объявлялось следование решениям Венского конгресса 1815 г. В особенности подчеркивалась необходимость противодействия любым «подрывным попыткам» нарушить сложившийся в Европе порядок, долгое время обеспечивавшийся стараниями государств Священного союза.
В то же время из полученной Киселевым инструкции следовало, что Россия должна руководствоваться новыми реалиями, отбросив былые предубеждения. Прежде всего, это касалось Франции, где, вопреки запрету Венского конгресса, к власти вернулась династия Бонапартов. Такова реальность, говорилось в инструкции, и насущные интересы России требуют установления «прочного союза с Францией, который предоставил бы России такие гарантии, коих мы не получили от союзов, определявших до сих пор нашу политику». Здесь содержался явный намек на предательскую позицию Австрии и двусмысленное поведение Пруссии в ходе Крымской войны.
В отношении Франции следует отбросить династические предубеждения, говорилось в инструкции, и иметь дело с тем правительством, которое сейчас находится там у власти. «Нам важно установить с Францией добрые отношения на постоянной основе, добиваться самого тесного согласия с ней». Именно из этого должен исходить в своей деятельности новый посол, подчеркнул князь Горчаков, составитель инструкции. «Таков приказ императора, которому вы должны следовать, и такова цель вашей миссии. А средства, которыми вы будете руководствоваться в достижении этой цели, будут зависеть от конкретных обстоятельств и от ваших талантов. Император очень на вас рассчитывает», – завершал свою мысль Горчаков.
Вместе с тем инструкция предписывала Киселеву осторожную линию поведения. «Император считает, что по отношению к Луи-Наполеону мы не должны делать не слишком много, но и не слишком мало. Слишком много означает возможность нашего невольного вовлечения в такие действия, из которых мы не извлечем никакой пользы, но которые могут ущемлять наши интересы. Слишком мало означало бы разочаровать столь влиятельного государя, побудив его искать другую опору, которую он не нашел у нас».
Киселеву поручалось внимательно и всесторонне изучать характер и образ мыслей Наполеона III. Судя по первоначальным наблюдениям, писал Горчаков, император французов полагает, что сближение с Россией может дать Франции большие преимущества в европейской политике. Необходимо поддерживать и укреплять его в этом убеждении, но при этом не связывать Россию никакими формальными обязательствами перед ним, поскольку нельзя исключать того, что Наполеон способен встать на путь «авантюристичной политики, предполагающей территориальные завоевания». Последние два слова в тексте инструкции были подчеркнуты Горчаковым.
Наполеону следует внушить, что император Александр весьма ценит его лично, как и отношения с Францией, но при этом желает сохранить полную свободу действий.
В качестве первоочередных задач, стоящих перед новым послом, инструкция выделяла необходимость самого активного участия Киселева в переговорах по исполнению условий Парижского договора 1856 г., в особенности в том, что касалось делимитации границы в Бессарабии и в определении будущего политического устройства Дунайских княжеств. Киселев должен постараться заручиться здесь благожелательным содействием Франции, чтобы ослабить или даже нейтрализовать антироссийскую политику Англии и Австрии.
Таковы были основные положения первой инструкции, полученной Киселевым перед отъездом в Париж. «Нельзя не видеть в приведенной инструкции решительный отказ от всех политических принципов, которыми руководствовалась русская внешняя политика в продолжение долгого царствования императора Николая I, – писал по этому поводу профессор Ф.Ф. Мартенс, публикатор документов по истории русско-французских отношений. – Все традиции Священного союза окончательно брошены за борт и вся систематическая враждебность к правительствам революционного происхождения оставлена, как излишняя обуза и опасное орудие. На таких новых основаниях действительно могли возникнуть новые политические комбинации, и при таких разумных условиях государственный ум мог проявлять себя свободно и разумно. Вот почему союз с Францией явился сам собою основой будущих политических комбинаций…»[238]
Наряду с основной инструкцией, Киселев получил и дополнительную, датированную тем же числом, 26 июля 1856 г. [239] В ней уточнялись и дополнялись некоторые положения, сформулированные в предыдущем документе. Горчаков еще раз подчеркнул важность налаживания доверительных отношений с императором французов, не преминув отметить, что «на протяжении долгих лет Россия осознанно держалась в отношении Франции политики холодной сдержанности». К сожалению, констатировал министр иностранных дел, падение в 1848 г. правившей с 1830 г. Орлеанской династии, не привело к сближению двух стран, хотя с давних пор между их народами существовали естественные симпатии. Лишь с окончанием Крымской войны эти взаимные симпатии получили возможность воплотиться в реальной политике.
Главная забота Наполеона III, по мнению Горчакова, состоит в том, чтобы «укрепить свою династию», обеспечив величие Франции, что в равной мере способно принести удовлетворение как его собственному самолюбию, так и чувству национального достоинства французского народа. Он желает превратить Францию в самое мощное государство на европейском континенте. Наполеон унаследовал от Луи-Филиппа курс на согласие с Англией, но никто не может поручиться, что однажды это согласие не даст трещину под действием глубинных противоречий между двумя союзниками. Не случайно, развивал свою мысль Горчаков, Наполеон желает установить такое же согласие с Россией. Оно необходимо ему как для придания большей устойчивости его внешней политики, так и укрепления его положения внутри собственной страны. Все это должен учитывать граф Киселев в переговорах с императором Наполеоном и его министрами.
Весьма желательно было бы добиваться ослабления франко-английского союза, а также изоляции Австрии. В отношении последней Киселеву предписывалось дать понять императору французов, что если однажды он вознамерится приступить к осуществлению своих давних планов в Северной Италии, то может рассчитывать на понимание России. Даже если Франции придется по этому поводу вступить в войну с Австрией, Россия мешать ей не станет. Во всяком случае, Вена не сможет, как в былые времена, рассчитывать на какую бы то ни было поддержку Петербурга.
Другое дело – франко-германские границы. Попытка Франции восстановить старую границу по Рейну неизбежно натолкнется на противодействие Пруссии. «Мы не оставим Пруссию, если ее территория окажется под угрозой», – предупреждал Горчаков. В случае нежелательного возникновения конфликтной ситуации по этому вопросу Россия будет готова предложить свои посреднические услуги, но дальше этого не пойдет. В Париже должны осознавать опасность притязаний на рейнскую границу.
Резюмируя новые внешнеполитические устремления России, князь Горчаков констатировал: «Твердое намерение нашего августейшего государя заключается в том, чтобы употреблять силы России в пользу русских интересов». Таковы были установки, которыми должен был руководствоваться в своей деятельности в Париже граф Киселев.
Устроившись на новом месте, посол 30 октября нанес визит министру иностранных дел графу Валевскому, о благожелательном отношении которого к России ему неоднократно говорили и Горчаков, и Орлов, тесно общавшийся с Валевским на Парижском конгрессе. Его продолжительная беседа с французским министром подтвердила приверженность Валевского к сближению с Россией. Содержание этой беседы Киселев подробно изложил в депеше от 2 ноября[240].
Разговор начался с взаимного обмена любезностями и заверений в искренней расположенности двух императоров к сотрудничеству. Валевский не преминул напомнить о неоценимом вкладе графа Орлова и барона Бруннова в благополучное завершение мирного конгресса и выразил надежду, что и с графом Киселевым у него сложатся такие же доверительные отношения, как с его предшественниками.
Со своей стороны, Киселев заявил, что намерен в полной мере исполнить поручение своего императора о развитии самого тесного сотрудничества с Францией. Союз двух наших стран, подчеркнул он, станет гарантией прочного мира в Европе, что отвечает всеобщим интересам.
Затем французский министр и русский посол перешли к рассмотрению текущих проблем европейской политики, вставших на повестку дня после завершения Парижского конгресса. Первоочередным вопросом было разграничение в Дунайских княжествах, в особенности, в так называемом «деле Болграда». Валевский и Киселев наметили возможности двустороннего взаимодействия по скорейшему решению этого спорного вопроса. Киселев откровенно сказал, что в Петербурге очень рассчитывают на благожелательное посредничество Франции в преодолении сопротивления Австрии и Англии, не желающих идти здесь на уступки России[241]. Валевский пообещал, что, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы помочь развязать этот узел противоречий.
Следующим вопросом обсуждения стало так называемое «дело Невшателя» [242]. Когда Валевский поинтересовался, какова позиция России в отношении воинственного поведения Пруссии, Киселев откровенно ответил: «Его Величество не обсуждал со мной этот вопрос»[243]. Валевский ограничился замечанием о том, что «Франция, как соседняя [с Швейцарией] держава, желала бы положить конец имеющим место разногласиям»[244].
Другой темой обсуждения стала проблема Неаполя и Греции. В первом случае речь шла об угрозе англо-французской военной операции против Неаполя, где правил Фердинанд II, представитель династии Бурбонов, возвращенных к власти по решению Венского конгресса. Его деспотическое правление, провоцировавшее неоднократные восстания, которые подавлялись с неизменной жестокостью, давно беспокоило Лондон и Париж. Однако все их попытки образумить короля терпели неудачу, что побудило Англию и Францию отозвать своих дипломатических представителей из Неаполя. Англия пошла еще дальше. В район Неаполитанского залива была направлена британская эскадра. Ожидался подход и французских кораблей из Тулона.
Все это беспокоило Петербург, усматривавший в действиях Англии и Франции посягательство на решения Венского конгресса, создавшего на юге Италии Королевство Обеих Сицилий. Во всяком случае, Александр II и его министр иностранных дел желали бы предостеречь Францию от участия в свержении Фердинанда II. Именно эту мысль графу Киселеву поручено было донести до сведения Наполеона III. В ответ Валевский подтвердил, что «безрассудное поведение» неаполитанского короля вызывает в Тюильри самую серьезную обеспокоенность, но при этом император французов не планирует никаких военных операций против Неаполя. «Но разве флот, базирующийся в Тулоне, не собирается выйти оттуда, как сообщают газеты?» – спросил у министра Киселев, на что Валевский ответил: «Вовсе нет! Наша средиземноморская эскадра останется в Тулоне». Затем французский министр выразил удивление чрезмерной озабоченностью России проблемой Неаполя, находящегося так далеко от сферы ее непосредственных интересов. И вообще, этот вопрос не стоит того, чтобы омрачать добрые отношения, складывающиеся между нашими странами, добавил Валевский[245].
Киселев поставил вопрос и о продолжающейся австрийской оккупации Дунайских княжеств, что противоречит условиям Парижского мирного договора. При этом, заметил посол, Австрия ведет себя так при полной поддержке Англии. Валевский ответил, что ему трудно понять мотивы их действий, но «в любом случае мы твердо дали понять Англии, что если она намерена возобновить войну, то эту партию они сыграют без нас» [246].
Последняя тема, обсужденная на встрече Киселева с Валевским, касалась Греции, которая и по окончании Крымской войны продолжала находиться под англо-французской оккупацией. Киселев напомнил, что на Парижском конгрессе Валевский и английский представитель лорд Кларендон обещали вывести свои войска и флот из Греции, как только там нормализуется внутреннее положение, осложненное острым экономическим кризисом и последствиями землетрясения 1853 г. Пока же, заметил Валевский, условия для этого не созрели, но Франция твердо намерена выполнить данные обещания. Что касается Англии, то, как напомнил французский министр, у нее есть специфические интересы в Греции[247]. Со своей стороны, и Киселев не преминул напомнить о том постоянном внимании, с которым в Петербурге всегда относились к греческим делам.
Резюмируя состоявшуюся беседу с Валевским, посол писал Горчакову: «По всем пунктам, как вы можете видеть, намерения французского кабинета вполне отвечают нашим пожеланиям. Будут ли его действия таковыми же? Быть может, моя предстоящая встреча с императором [Наполеоном] позволит мне пролить дополнительный свет на этот пока еще неясный вопрос»[248].
Первую, неофициальную аудиенцию Наполеон III дал графу Киселеву 4 ноября. Она состоялась в Компьене, одной из загородных императорских резиденций, куда П.Д. Киселев прибыл в сопровождении Ф.И. Бруннова. Разговор, происходивший в рабочем кабинете императора, начался с обычного в таких случаях обмена любезностями[249]. Наполеон был подчеркнуто радушен и предупредителен к своим гостям, подробно расспрашивал о новостях из Петербурга, об императоре Александре и императрице Марии. Потом незаметно перешли к политическим делам. Предупреждая возможный вопрос Киселева, Наполеон сам заговорил о своей озабоченности ситуацией в Дунайских княжествах и спорах вокруг Болграда. Не вступая в дискуссию, император поспешил заверить русских дипломатов в намерении добиться скорейшего решения этой проблемы в удовлетворительном для России смысле. При этом Киселев отметил в отчете Горчакову, что Наполеон в данном случае «адресовался скорее к Бруннову, нежели ко мне»[250].
Явно желая уйти от этой темы, император поинтересовался мнением Киселева о Париже, где тот давно не бывал. Посол ответил, что восхищен теми изменениями, которые претерпел город. Выслушав его, Наполеон вспомнил, что приближается время завтрака, в котором примет участие и императрица Евгения. За столом посла посадили между императрицей и ее компаньонкой, маркизой де Вилламарина, «маленькой, живой и красивой женщиной», не оставлявшей его, как писал Киселев, своим вниманием. Здесь же находилась и принцесса Матильда, двоюродная сестра императора, в прошлом – супруга известного богача и крупного мецената графа Анатолия Демидова, получившая после развода с ним приличный пансион. После окончания завтрака Киселев и Матильда о чем-то оживленно беседовали, пока император не предложил послу продолжить прерванный завтраком разговор, пригласив его вернуться в свой кабинет.
«Вы видите, – начал Наполеон, – несмотря на мою добрую волю и желание покончить с этим делом [Болград] к удовольствию императора [Александра], я нахожусь в затруднительном положении. Будучи соседом Англии, я должен как старый союзник считаться с ней. Не могли бы мы втроем договориться? Мы бы господствовали в Европе!»[251].
«И в мире, сир!», – добавил Киселев, и продолжил – «Это могло бы быть хорошо для мира, если б только было осуществимо. Но я возьму на себя смелость усомниться в такой возможности».
«О, – живо отреагировал Наполеон, – я говорю об этом только для того, чтобы показать вам, как неустанно я ищу выход. Подождите, может быть…, после чего император выразил надежду на скорую встречу в Париже, а потом и в Фонтенбло, куда он желает пригласить графа Киселева провести несколько дней в своем обществе.
Распрощавшись с графом, Наполеон поспешил к ожидавшей его императрице, с которой они должны были отправиться на охоту.
Состоявшийся разговор убедил Киселева в настойчивом желании императора французов совместить сближение с Россией с сохранением союза с Англией, о чем он и написал в своем отчете в Петербург. Внимательно изучив его, Александр II сделал на полях карандашную запись: «Тройственный союз с Англией – такой, как она есть – невозможен» [252].
В то время идея тройственного союза безраздельно овладела сознанием Наполеона. Его посол в Петербурге граф де Мории получал многократные указания обсуждать эту тему с Горчаковым, а при всяком удобном случае – и с императором Александром.
Сам он, несмотря на очевидный скептицизм Петербурга в этом вопросе, о чем ему неоднократно сообщал Мории, настойчиво продолжал поднимать эту тему в последующих разговорах с Киселевым, который сделал из этого один совершенно определенный вывод: Наполеон никогда не пожертвует английским союзом ради России, как бы ни был он искренен в желании тесно взаимодействовать с ней.
Через несколько дней после неофициальной аудиенции император вновь пригласил Киселева в Компьен, где возобновил разговор о тройственном союзе. Поймите, убеждал он русского посла, в Европе есть только три по-настоящему великие державы. Россия и Франция доминируют на континенте, а Англия безраздельно господствует в морях. Совершенно очевидна необходимость их соединения для решения всех вопросов, интересующих Старый свет. Нет смысла отрицать, продолжал он, что политика напоминает торговую сделку. Рано или поздно, карту Европы придется перекраивать. Так лучше это делать в согласии трех ведущих держав. Правда, Наполеон воздержался от разъяснения того, как конкретно ему представляется карта будущей Европы.
Киселев все это внимательно выслушал, но возражать не стал, лишь задал несколько уточняющих вопросов, а по возвращении составил подробный отчет в Петербург (депеша от 12 ноября 1856 г.), приложив к нему записку с изложением собственного взгляда на наполеоновский проект тройственного союза[253].
Главный вывод Киселева – тройственный союз представил бы собой «острое оружие, рукоять которого не будет в руках России». Другой вывод – никто достоверно не знает, как именно Наполеон намерен перекроить карту Европы. Можно догадываться лишь о некоторых деталях этого плана, в частности, относительно Северной Италии. Скорее всего, Наполеон попытался бы компенсировать итальянские потери Австрии уступкой ей Дунайских княжеств. Принципиально важным для России является подход Наполеона к судьбе Польши. Что он задумал в этом отношении? Бог его знает.
Еще один вопрос, представляющий жизненный интерес для России – какова роль Турции в наполеоновских планах европейского переустройства? По мнению Киселева, не в интересах России, как в настоящее время, так и на ближайшее будущее участвовать в разрушении Оттоманской Порты. На этом месте записки Киселева сохранились две лаконичные пометы, сделанные его адресатами. «Очень верно», – написал Александр II. «Именно это я всегда говорил», – добавил Горчаков.
Как полагал Киселев, Наполеон попытается начать с Италии или с Турции, а затем приступит к решению «польского вопроса». «Это не невозможно», – написал на полях император. Франция может попытаться предложить России за Польшу какую-то компенсацию, которая, впрочем, ни в каком случае не может быть эквивалентной. «Я в этом сомневаюсь», – отреагировал Горчаков на полях записки.
При таком раскладе, констатировал Киселев, Россия, ослабленная последней войной, вынуждена будет «играть роль или сообщника [Наполеона], или оставаться в дураках». Горчаков подчеркнул последние два слова и записал: «Мы все сделаем, чтобы этого не случилось».
Таким образом, делал вывод граф Киселев, в предлагаемом Наполеоном тройственном союзе Россия не получит ни первой, ни даже второй роли, а обречена быть лишь младшим пособником Парижа и Лондона.
Это очевидная ловушка, в которую Россия ни в коем случае не должна попасть. Именно поэтому она не может брать на себя никаких обязательств по отношению к планам Наполеона, хотя и не станет ему мешать. Единственно, где она решительно заявит о своих интересах – это Восток, и с этим Франции придется считаться. «Да», – отметил на полях император.
Посол считал необходимым продолжать внушать Наполеону полную расположенность России к тесному двустороннему союзу с Францией. В том, что касается Англии, то сближение с ней невозможно по причине ее застарелой и последовательно антироссийской политики. Именно эту мысль следует внушить императору французов, и он должен будет оценить нашу искренность, полагал Киселев. Горчаков отреагировал на этот пассаж несколько ироничной пометой на полях: «На этот счет гр. Киселев – лучший судья».
Свою общую оценку записки Киселева Александр II сформулировал следующим образом: «Записка заслуживает всего нашего внимания. Ответы из Парижа, которые мы ждем, нам покажут, насколько мы можем идти в смысле последней комбинации Киселева».
Что касается Горчакова, то он не был столь непримирим в отношении тройственного союза, как Киселев, и не разделял мнения последнего о том, что речь идет лишь об уловке со стороны Наполеона. Горчаков в принципе даже и не возражал бы против присоединения России к франко-британскому союзу, но для этого Англия предварительно должна положить конец своей антироссийской политике. Свою позицию по поводу Англии министр иностранных дел сформулировал в письме Киселеву от 15 ноября 1856 г. Подтвердив, что императорский кабинет проявляет самую строгую бдительность в отношении британской политики, Горчаков вместе с тем отметил: «Государь полагает, что сохраняя вполне свою проницательность и хорошую память об уроках прошлого, мы можем показать вид вступления в этот союз и, в случае надобности, даже его заключить». Министр добавил, что каждый раз, как Мории спрашивает его о тройственном союзе, он ему постоянно отвечает: «Почему нет? Мы очень рады будем, но на каких основаниях?»[254].
Поскольку сент-джеймский кабинет не намеревался менять привычный внешнеполитический курс, да и навязчивая мысль Наполеона III о тройственном союзе представлялась ему сомнительной и даже опасной, идея этого союза вскоре была оставлена самим ее инициатором.
Вечером 11 ноября граф Киселев был уведомлен о том, что официальная аудиенция с вручением верительных грамот состоится, как и было решено, на следующий день, 12 ноября, но не в Сен-Клу, как первоначально планировалось, а в Париже, во дворце Тюильри. В полдень, 12 ноября, к зданию русского посольства подкатили три дворцовые кареты. В одной из них находились вводитель послов Фёйе де Конш и помощник главного церемониймейстера тюильрийского двора. Здесь их уже ожидали. Согласно протоколу, в первой карете разместились советник русского посольства В.П. Балабин и помощник церемониймейстера. Во вторую карету сели граф Киселев и Фёйе де Конш. В третьей, а также в четвертой, принадлежащей послу, устроились секретари и атташе посольства.
Во дворе Тюильри кортеж был встречен батальоном 2-го полка вольтижеров императорской гвардии, выстроившихся по обе стороны центральной аллеи, по которой следовали кареты. У входа во дворец графа Киселева встречал герцог де Камбасерес, главный церемониймейстер императорского двора. Он сопроводил посла и его свиту в Тронный зал, куда в скором времени вышел император Наполеон, мундир которого украшала голубая лента ордена св. Андрея Первозванного. Император, как того требовал протокол, занял свое место перед троном. По обе стороны от него встали обер-камергер двора герцог де Бальзано и граф Валевский[255].
Киселев, как полагалось, сделал три реверанса в сторону императора и, подойдя к нему, произнес короткую речь, опубликованную в тот же вечер в правительственной газете «Монитёр»[256].
«Сир, – сказал граф Киселев, – назначая меня своим послом при особе Вашего Императорского Величества, мой августейший государь, обязал меня приложить все возможные усилия для развития дружеских отношений, объединяющих две наши империи. Я буду бесконечно счастлив, если к окончанию моей миссии я смогу способствовать укреплению союза между Францией и Россией, который дает миру одну из самых долговременных гарантий. От имени моего августейшего государя я имею честь представить Вашему Императорскому Величеству имеющиеся у меня верительные грамоты, и я осмеливаюсь надеется, что Вы, Сир, благосклонно соизволите их принять вместе с моим глубочайшим уважением».
Приняв от посла верительные грамоты, Наполеон произнес короткую ответную речь. «Господин посол, с тех пор как был подписан мирный договор, я постоянно старался, не ослабляя мои старые союзы, смягчить разными средствами все существовавшие предубеждения.
Я с удовольствием узнал, что мой посол в Санкт-Петербурге, вдохновляемый этими же устремлениями, сумел приобрести расположение императора Александра. Такой же прием ожидает здесь и вас. Вы можете в этом не сомневаться, так как, помимо ваших личных заслуг, вы представляете государя, который умеет с таким достоинством и тактом заставить забыть те грустные воспоминания, которые часто оставляет война, и думать только о преимуществах мира, закрепленного отношениями дружбы».
Затем граф Киселев представил императору сотрудников своего посольства – Балабина, Грота, Толстого и Паскевича, а также военного агента полковника Альбединского и его помощника князя Трубецкого. Отдельно императору был представлен вице-адмирал граф Евфимий Васильевич Путятин, находившийся в это время в Париже и причисленный к посольству в качестве военно-морского агента[257]. Адмирал был уже известной в Европе личностью, благодаря своим морским путешествиям к берегам Китая, Кореи и Японии.
По окончании аудиенции посол и сопровождавшие его сотрудники откланялись и удалились, сопровождаемые герцогом де Камбасересом. На тех же экипажах все они вернулись в посольскую резиденцию, сопровождаемые почетным эскортом.
Вручение верительных грамот русским послом не прошло мимо внимания французской прессы. Помимо «Монитёр», ограничившейся информационным сообщением на эту тему и воспроизведением выступлений графа Киселева и императора Наполеона, на аудиенцию в Тюильри отреагировали и другие парижские газеты. Среди этих откликов обращал на себя внимание откровенно недружественный по отношению к России комментарий газеты «Сьекль», опубликовавшей и прокомментировавшей лишь речь Наполеона. «Мы не знаем, – отмечалось в редакционном комментарии, – как будут интерпретированы слова императора, сказанные им в ответ на обращение г-на Киселева. Возможно, что сторонников русского союза вполне устроит вежливая форма этой речи. Со своей стороны, мы, приверженцы английского альянса, смотрим глубже, и то, что мы видим, вызывает у нас чувство удовлетворения. Мы понимаем желание императора смягчить различными средствами и благожелательными словами чувство унижения, испытываемое побежденными на Мал аховом кургане, под Инкерманом и при Альма. Нет ничего более естественного в этом великодушном устремлении, свойственном французскому национальному характеру, тем более что эти устремления и вежливые слова не ослабляют старых союзов Франции, и прежде всего, союза двух самых либеральных и самых отважных народов в мире. Особенно важно, когда эти устремления и заверения не мешают неукоснительному исполнению условий Парижского договора теми, кто потерпел поражение. Мы можем только приветствовать, – завершала свой комментарий редакция «Сьекль», – что глава государства использовал первый же, представившийся ему торжественный случай, чтобы подтвердить гарантии английского союза»[258].
Разумеется, эта публикация не осталась незамеченной в русском посольстве. Вырезка из газеты была приложена к очередной депеше, отправленной в Петербург [259].
После аудиенции у Наполеона граф Киселев, как полагалось, нанес визиты некоторым членам императорской фамилии. Первой его приняла в загородной резиденции Сен-Клу императрица Евгения. От барона Бруннова Павел Дмитриевич уже знал о ее большом влиянии на супруга, как и о ее нерасположенности к России и к русским. Поэтому он был предельно бдителен. Однако их вторая встреча (первая состоялась еще 4 ноября в Компьене, куда Киселев неофициально был приглашен Наполеоном) рассеяла эти опасения.
Императрица с самого начала прониклась симпатией к именитому русскому сановнику, выгодно отличавшемуся, в ее глазах, от некоторых сомнительных по происхождению и взглядам лиц из окружения императора. Ей импонировали сдержанные манеры, солидность, основательность и здравый смысл графа Киселева. Очень скоро она станет отдавать ему предпочтение перед другими иностранными послами, наряду, конечно, с папским нунцием и послом Испании.
А тогда, 14 ноября 1856 г., они оживленно проговорили более часа, обсудив, помимо политических дел, за которыми императрица, как выяснил Киселев, следила с постоянным вниманием, историю загородных резиденций, построенных королями Франции. Евгения расспрашивала посла об аналогичных резиденциях русских императоров, а также об особенностях этикета петербургского двора. К концу беседы к ним присоединился император, поинтересовавшийся деталями устройства Киселева в Париже.
Подытоживая свои первые впечатления о супруге императора французов, Киселев в депеше, отправленной Горчакову, отметил: «В императрице, как мне показалось, живут два начала. С одной стороны, она уже успела усвоить уроки французского воспитания, что проявляется в ее оживленной манере общения. С другой – ее испанская природа обнаруживается в некоторой тяжеловесности мысли»[260].
В дальнейшем отношения между императрицей Евгением и графом Киселевым приобретут, можно сказать, доверительный характер. «Она нередко вступала с ним в беседы, старясь или выведать взгляд русского правительства на какую-нибудь из дипломатических затей, свою или своего супруга, или же внушить ему косвенно доверие к разного рода торжественным заявлениям о миролюбии французского императора…», – отмечал один из биографов П.Д. Киселева[261].
На следующий день после частной аудиенции у императрицы граф Киселев нанес визит принцу Наполеону, двоюродному брату императора. До рождения в императорской семье наследного принца, которого родители ласково называли «Лулу», он считался официальным наследником престола. Принц имел репутацию левого, чуть ли не республиканца, и уже по этой причине числился среди главных врагов императрицы Евгении.
Принимая Киселева, принц начал с комплиментов в адрес русской армии, доблестно сражавшейся в Крымской кампании. Именно на полях сражений в Крыму, по убеждению принца Наполеона, возникли чувства взаимного уважения между «храбрыми солдатами обеих армий» [262].
Затем разговор перешел на вопросы текущей политики. Выразив свое удовлетворение установившимся миром, принц подтвердил твердое намерение императора следовать по пути сближения с Россией. При этом он заметил, что император французов «связан обязательствами по отношению к Англии, которая, иной раз, проявляет чрезмерную требовательность». Тем не менее, есть все основания надеяться на прочное послевоенное устройство.
Киселев не преминул отметить, что Россию не может не беспокоить очевидное намерение британской дипломатии выступать в роли единственного интерпретатора Парижского договора, который она трактует исключительно в свою пользу. В Петербурге вызывает озабоченность и нежелание Австрии строго следовать условиям мирного договора в части, относящейся к демилитаризации Дунайских княжеств. Россия и Франция, подчеркнул посол, могли бы действовать сообща в плане контроля за соблюдением Парижского договора.
Принц согласился с мнением Киселева, отметив искреннюю расположенность императора к сотрудничеству с Россией, но одновременно признался, что сам он не обладает достаточным ресурсом влияния на Наполеона III в решении больших политических проблем. «Меня держат здесь за горячую голову, – разоткровенничался принц Наполеон, – так как я всегда говорю то, что я думаю, в особенности императору. Справедливости ради скажу, что он меня выслушивает, но зачастую только для того, чтобы после ничего не сделать. Но, в конце концов, именно ему надлежит принимать решения. Все это, однако, меня не обескураживает».
В завершение разговора принц Наполеон заверил Киселева в своей приверженности курсу на сближение с Россией. В отчете об этой встрече посол среди прочего отметил, что принц настроен враждебно в отношении Австрии, что «заслуживает нашего внимания», хотя его реальное влияние на императора, по его же собственному признанию, весьма незначительно.
С самого начала своей посольской миссии в Париже граф Киселев много внимания уделял состоянию франко-английских отношений. Его первые впечатления не были оптимистичными для интересов российской политики. Он констатировал твердую приверженность Луи-Наполеона английскому союзу. Говоря о самой злободневной на тот момент проблеме разграничения в Дунайских княжествах и позиции Франции, он писал Горчакову: «Наполеон не станет ссориться с Англией по этому вопросу. Он дал мне это понять при первой встрече в Компьене. Он не ослабит старые союзы, о чем открыто сказал при получении моих верительных грамот. Остается надеяться на будущее, и работать в этом направлении, в чем я вижу мой долг. Пока же не следует питать на этот счет иллюзий»[263].
Как успел заметить Киселев, по вопросу франко-английского союза в ближайшем окружении Наполеона противоборствуют два мнения, отражающие политические расхождения и взаимную неприязнь двух видных сановников – министра иностранных дел графа Александра Валевского и графа Виктора де Персиньи, тогдашнего посла в Лондоне. В отличие от Валевского, выступавшего за более сбалансированный внешнеполитический курс Франции, предполагавший сближение с Россией, Персиньи отвергал такое сближение, настаивая на строгом следовании политике полного согласия с Англией. Персиньи активно интриговал и против другого приверженца союза с Россией, графа де Мории.
Влияние Персиньи, возглавлявшего правое течение в бонапартистской партии, оспаривалось не только его противниками слева, такими, как принц Наполеон, но и императрицей Евгенией, которую император называл «легитимисткой». Правда, ее неприязнь к Персиньи была не политической, а личной, чисто женской. Императрица никогда не простила Персиньи за то, что он в свое время пытался препятствовать ее браку с Наполеоном III.
Киселев, со своей стороны, констатировал, что перед самим императором французов не стоит выбор между английским и русским союзом. Наполеон очень хотел бы их совместить, но поскольку это представляется невозможным, он делает очевидный выбор в пользу Англии. «В настоящий момент, – подчеркивал посол, – согласие с нами для него стоит на втором плане»[264]. По этой причине, полагал Киселев, «нам необходимо проявлять большую сдержанность и не рассчитывать особо на поддержку Франции, по крайней мере, до лучших времен». «Исключительно проанглийская направленность» политики Наполеона, как полагал посол, объясняется не только политическими, но и экономическими соображениями. Продолжающийся во Франции финансовый кризис вынуждает ее правительство ориентироваться на своего главного экономического партнера – Англию. Так или иначе, резюмировал Киселев, России ничего не остается, как всеми средствами, включая сотрудничество с Францией, добиваться скорейшего достижения договоренностей по исполнению решений Парижского мира. Если пока нельзя рассчитывать на ослабление франко-английского союза, то можно все же надеяться на содействие Франции против Австрии, которая представляет реальную силу, только располагая поддержкой со стороны Англии [265].
С декабря 1856 г. в донесениях Киселева появляются первые указания на то, что франко-английский союз не так уж и прочен, как кажется. Посол обращает внимание на участившиеся нападки английской печати на некоторых лиц из окружения Наполеона, и прежде всего на графа Валевского, сомневающегося якобы в ценности для Франции союза с Англией, и навязывающего императору сближение с Россией. Эти нападки не остаются незамеченными в Париже.
В свою очередь, делает вывод Киселев, и император Наполеон вовсе не намерен играть роль младшего партнера королевы Виктории. Он в одинаковой мере не заинтересован ни в дальнейшем усилении Англии, ни в возрастании влияния России. Отсюда и его навязчивая идея о тройственном союзе. «По моим представлениям, – писал Киселев Горчакову 4 декабря 1856 г., – цель Луи-Наполеона состоит в том, чтобы Россия и Англия нейтрализовали одна другую, что позволило бы ему взять на себя роль арбитра… Как мне кажется, – продолжал посол, – Франция намерена воспрепятствовать любой возможности установления близких отношений между нами и Англией». Для этого Наполеону и необходим тройственный союз, в котором он играл бы главенствующую роль.
«Если Луи-Наполеон намерен использовать нас в интересах собственной политики, – резюмировал Киселев, – то и мы, со своей стороны, могли бы извлечь равное преимущество из его расположенности к нам – неважно, кажущейся или реальной – в своей политике; только нужно будет подвергнуть эту расположенность строгому испытанию…». Последнюю фразу из донесения Киселева государь прокомментировал на полях двумя словами: “tres juste” (очень справедливо)[266].
В ответном письме, направленном Киселеву 12 января 1857 г., Горчаков уточнил позицию императорского правительства в отношении Франции. Россия намерена и впредь быть полностью лояльной к Франции, писал министр иностранных дел. «Мы тесно связаны с Луи-Наполеоном и намерены во всех случаях уважать договоренности, достигнутые между двумя императорами, – продолжал Горчаков. – Одновременно мы продолжаем исходить из убеждения, что искреннее согласие между Россией и Францией служит залогом спокойствия для всей Европы. Мы изначально отвергаем систему завоеваний, и хотим, чтоб всем стало окончательно ясно…, что в любом случае мы намерены сохранить за собой полную свободу действий. Вполне возможно и даже вероятно, что Луи-Наполеон не остановится на том, что имеет, и пойдет дальше – в направлении, куда его увлекут честолюбивые намерения. Мы предоставим ему действовать на свой страх и риск, при этом никак и ни в чем его не поощряя…
Мы самым положительным образом расцениваем дружбу и содействие Луи-Наполеона. Мы и впредь будем стараться поощрять его в этом, предоставляя ему свидетельства нашей искренности. Но мы и на будущее сохраним за собой свободу рук, и император будет действовать, исходя только из интересов России», – завершил свою мысль князь Горчаков[267].
В посольские функции графа Киселева входили его еженедельные консультации с министром иностранных дел Валевским и периодические встречи с императором Наполеоном, на которых он обсуждал весь круг вопросов, интересующих обе стороны. Одновременно Киселев представлял Россию на международной конференции, созванной в Париже для обсуждения будущего статуса Дунайских княжеств, как это вытекало из решений Парижского договора 1856 г.[268] Не оставался он в стороне и от участия в переговорах по послевоенному разграничению в Бессарабии. Официальным представителем России на этой конференции с самого начала был барон Ф.И. Бруннов. С приездом в Париж Киселева возникла деликатная ситуация, связанная с двойным представительством России на конференции, что тяготило обоих дипломатов. Каждый из них чувствовал себя уязвленным.
Первым не выдержал Бруннов, который устал быть «блестящим вторым» – сначала при Орлове (на Парижском мирном конгрессе), а теперь и при Киселеве. Может быть, он надеялся на то, что после отъезда Орлова именно его назначат чрезвычайным и полномочным послом в Париже. А может, хотел вернуться в близкую его сердцу Англию, где он так успешно представлял императора Николая I, или в Пруссию, что ему было обещано.
Когда в июле 1856 г. Бруннов узнал о назначении Киселева, он стал настойчиво просить отпустить его из Парижа. Его настойчивость только усилилась с приездом нового посла. Увещевания Горчакова на него не действовали. Тогда министр переслал Бруннову мнение императора, недвусмысленно выраженное в карандашной записи на полях очередной его просьбы о переводе в Берлин. «Я думаю, – написал Александр II, – что Бруннов должен остаться в Париже, пока вопрос о конференциях не будет решен, тем более что это дело было ему специально доверено как второму уполномоченному [на Парижском конгрессе]…». «Вы видите, дорогой барон, – прокомментировал Горчаков высочайшую резолюцию, – что мнение императора высказано более чем определенно». Далее министр заверил Бруннова, что с Берлином, с которым «у нас самые близкие отношения», мы договоримся сами – нс королем, и с его первым министром Мантейфелем. Они подождут, пока барон не освободится в Париже[269].
Едва только министру удалось успокоить Бруннова, как возникла проблема с Киселевым. В середине декабря он получил от графа личное письмо, в котором уязвленный Киселев просил Горчакова положить конец его двусмысленному положению в Париже, где императора представляют одновременно два посла.
Судя по содержанию этого письма[270], Киселев еще до отъезда в Париж, т. е. в июле – августе, обсуждал эту тему с Горчаковым, но не получил удовлетворительного ответа. «Прискорбное недоразумение, случившееся между нами, и сегодня мешает нам слышать друг друга, – писал Киселев из Парижа 2 декабря. – Мне бы хотелось поскорее его рассеять, как в наших обоюдных интересах, так и в интересах службы нашему государю».
Далее посол воздал должное вкладу барона Бруннова в успешное завершение Парижского конгресса. Никто, лучше чем он, Бруннов, по убеждению Киселева, не подходил для того, чтобы представлять Россию на конференциях по уточнению условий выполнения мирного договора, в частности, в Дунайских княжествах. Именно поэтому, как признался
Киселев, он всячески оттягивал свой отъезд из Петербурга в надежде на скорое окончание миссии Бруннова, не желая ставить его в затруднительное положение. Но прошло уже полгода, и пока не видно, когда эта миссия завершится. В результате мы оба, как с нескрываемым сожалением отмечал Киселев, несем одинаковую ответственность за представительство России на конференциях. На одной из них мы заседаем вместе, на другой – один Бруннов. Такое положение, тем более, если оно продлится еще неопределенное время, не может устраивать нас обоих, подчеркнул Павел Дмитриевич, отметив предельно тактичное поведение Бруннова, чье достоинство необходимо пощадить.
Одним из средств разрешения затянувшейся двусмысленной ситуации граф Киселев считал свою возможную отставку, к которой он вполне готов. «Я был бы крайне огорчен, – уточнил Киселев, – если бы вы, князь, составили себе ложное представление о мотивах, побудивших меня писать эти строки. Они продиктованы исключительно чувством долга, которым я всегда руководствовался, и тем доверием, которым меня удостоит наш августейший государь…, чья воля для меня священна…
Надеюсь, что моя откровенность, продиктованная исключительно чувством долга, будет правильно понята вами», – писал в заключение граф Киселев.
17 декабря Горчаков отправил Киселеву ответ, уведомив, что ознакомил императора с полученным им от посла письмом[271]. Заверив Павла Дмитриевича в давнем и неизменном уважении, министр напомнил, что каждый, кто находится на службе Его Величества, обязан выполнять возложенные на него функции. В данном случае барон Бруннов был уполномочен государем довести до окончательного завершения договоренности, вытекающие из Парижского мирного договора, относящиеся к Дунайским княжествам. Миссия же, доверенная графу Киселеву, состоит в упрочении сближения и сотрудничества с Францией, что имеет первостепенное значение для России в сложившейся после окончания Крымской войны в Европе обстановке. Не может быть и речи о смешении функций двух послов, находящихся в Париже.
Министр взял под защиту барона Бруннова, напомнив о его богатейшем опыте и высоком авторитете в европейских дипломатических кругах. Участник Парижского конгресса, энергично отстаивавший на нем интересы России, Бруннов внес значительный вклад в разработку решений конгресса. Кому как не ему завершить дело, начатое на Парижском конгрессе. Относительно возможной отставки Киселева министр выразился еще более категорично: «Я вам отвечу решительно – нет».
После столь строгой отповеди, подкрепленной ссылкой на волю императора, графу Киселеву не оставалось ничего другого, как смириться с реальностью. Он сосредоточился на исполнении своих посольских функций при тюильрийском дворе, продолжая одновременно участвовать в заседаниях Парижской конференции по разграничению в Бессарабии. К началу лета 1857 г. участвующие в ней стороны согласовали все спорные вопросы, и 17 июня был подписан соответствующий договор[272]. Вскоре барон Бруннов с легким сердцем покинул Париж и отправился к месту нового назначения – в Лондон, где возглавит российское посольство.
Весной 1857 г. к многочисленным заботам Киселева добавится еще одна, причем, весьма ответственная. Она была связана с подготовкой визита во Францию великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора Александра II.
Великий князь Константин Николаевич во Франции (апрель-май 1857)
Великий князь Константин[273] был вторым из четырех сыновей императора Николая I. Он родился 9 сентября (ст. ст.) 1827 г., и был на восемь с половиной лет младше Александра, наследника престола.
Братья получили одинаковое воспитание под руководством одних и тех же учителей, но Константин изначально был предназначен отцом для командования военным флотом России, и потому усердно изучал морское дело под руководством Федора Петровича Литке, будущего адмирала, знаменитого путешественника и крупного ученого в области географии, гидрографии и физики. В течение 16 лет Литке занимался воспитанием и образованием великого князя, получившего звание генерал-адмирала и шефа Гвардейского экипажа в неполные четыре года. Его гуманитарным образованием, как и у Александра, руководили В.А. Жуковский и профессор И.П. Шульгин, заложившие в мировоззрение юного генерал-адмирала либеральные начала.
В возрасте семнадцати лет Константин вместе с капитанским чином получил под командование свой первый корабль – бриг «Улисс». С конца 1840-х гг. император начинает приобщать своего второго сына к участию в управлении делами государства. В 1850 г. он вводит его в состав Государственного Совета. С вступлением в 1855 г. на престол старшего брата, с которым его связывали отношения доверительной дружбы, Константин занял пост управляющего флотом и морским ведомством с правами министра.
Он был в курсе намерений Александра глубоко реформировать систему управления империей и решить наболевший крестьянский вопрос. В этих начинаниях Константин горячо и искренне поддержал брата, причем его позиции были даже более радикальными. С началом реформ и вплоть до середины 60-х гг. Константин Николаевич, вокруг которого образуется круг либерально мыслящих политиков, администраторов и литераторов, будет главным советником императора в деле внутренних преобразований.
Н.Г. Чернышевский, обычно весьма строгий в оценках представителей российской правящей элиты, выделял Константина Николаевича, который, по его определению, был одарен «твердым характером и сильным желанием добра»[274].
Как член Государственного Совета и главный морской начальник, великий князь принимал участие и в обсуждении внешнеполитических вопросов. Император неоднократно давал младшему брату ответственные поручения дипломатического характера. Так было и в начале 1857 г., когда Константин Николаевич отправился в Ниццу, где проводила зиму его мать, вдовствующая императрица Александра Федоровна.
Узнав о его предстоящей частной поездке во Францию, Наполеон III попросил графа Киселева передать Александру II, что он очень хотел бы принять великого князя в Париже и установить тем самым личные контакты между двумя императорскими домами. «Наполеон желал бы видеть здесь великого князя Константина, приезд которого произвел бы самое благоприятное впечатление на французское общество», – сообщал Киселев по телеграфу из Парижа, посоветовав принять приглашение императора французов[275].
Александр и князь Горчаков посчитали полезной личную встречу Константина с Наполеоном. Перед отъездом великий князь получил соответствующие рекомендации политического характера, общий смысл которых сводился к необходимости закрепить сближение двух стран, начавшееся на Парижском конгрессе.
В середине февраля 1857 г. Константин Николаевич отбыл из Петербурга. Весь Великий пост он провел вместе с матерью в Ницце, а в первый день Пасхи, 20 апреля, на борту парохода «Олаф» прибыл в Тулон, где был встречен как генерал-адмирал со всеми подобающими почестями[276].
В Тулоне, главной базе французского военного флота в Средиземноморье, русский генерал-адмирал пробыл неделю, после чего отправился в Марсель, где провел два дня [277].
В четверг, 30 апреля, он был уже в Париже, и в тот же вечер обедал у императора и императрицы. Перед его приездом граф де Мории сообщил Валевскому по телеграфу о вкусах и привычках великого князя, отметив его страстное увлечение музыкой. «Он любит, чтобы в его апартаментах всегда стояло пианино. Скажите об этом императору», – писал Мории[278]. Разумеется, все рекомендации посла были учтены. Великому князю отвели покои в павильоне Марсан Тюильрийского дворца, императорской резиденции.
В Париже Константин Николаевич провел семнадцать дней, заполненных посещением достопримечательных мест – Нотр-Дам, Сент-Шапель, Пантеон, Клюнийское аббатство. Обсерватория, Политехническая школа, Опера, Севрская мануфактура и т. д. 2 мая он совершил прогулку по бульварам, реконструируемым бароном Османном, префектом департамента Сена. Уже в самом ближайшем времени Большим бульварам суждено было стать еще одной достопримечательностью Парижа. И, конечно же, программа пребывания предусматривала ежедневные приемы, встречи, переговоры, торжественные и камерные (в кругу императорской семьи) обеды и ужины. 4 мая император Наполеон возложил на великого князя знаки ордена Почетного легиона высшей степени, после чего отправился с ним в Оперу.
Разумеется, пребывание Константина Николаевича в Париже было посвящено не только знакомству с городом. Все эти дни, когда они встречались, великий князь и император обсуждали насущные политические вопросы[279].
Наполеон заверял брата русского императора в том, что с прошлыми недоразумениями, породившими Крымскую войну, покончено навсегда, что теперь вчерашние противники – Франция, Англия и Россия – могли бы объединить свои усилия в создании новой Европы, что нужно быть готовыми к возможным волнениям в Италии, которая стремится к объединению, что не исключены восстания христиан в Турции. При этом император высказал свое мнение в пользу образования как на Апеннинском полуострове, так и на Балканах федераций из небольших государств.
По мнению Наполеона, не следует препятствовать стремлению Пруссии округлить ее владения. В то же время он достаточно пренебрежительно высказался об Австрии, дав понять, что сферу ее влияния желательно сузить, как на севере Италии, так и в Галиции. Последняя, как он полагал, могла бы отойти к России. Со своей стороны, Константин Николаевич уклонился от обсуждения темы Галиции, но с готовностью обсуждал все другие вопросы, поставленные Наполеоном. В нескольких беседах принимал участие и граф Киселев.
В ходе своего пребывания во Франции великий князь получал множество писем и других обращений от французов, принадлежавших к самым разным слоям общества. Собранные воедино, они составили солидную папку, хранящуюся в АВПРИ[280]. Ее содержание довольно интересно. Чего здесь только нет!..
Просьбы об аудиенции и приеме на русскую военную службу, о заступничестве перед императором Наполеоном в освобождении из тюрем и амнистии «невинно осужденных». Инвалиды и неимущие вдовы Крымской кампании, забытые, как они утверждали, собственным правительством, просят о вспомоществовании. К их мольбе присоединяются вдовы и дети ветеранов Русской кампании 1812 года. Денег просят многочисленные общества помощи бедным и обездоленным. Поляки-эмигранты – о возвращении на родину. Потерявший работу учитель Ф. Бонне (F. Bonnet), умоляет великого князя помочь ему в трудоустройстве, похлопотав за него перед «нашим, горячо любимом императором в получении должности, которая позволит мне содержать троих детей (двух девочек и мальчика)», уточняет проситель. Отчаявшийся месье Бонне готов работать директором или учителем начальной школы, экспедитором, библиотекарем или его помощником, почтовым служащим…
Встречаются среди обращений и жалобы французских негоциантов и представителей других профессий на бездействие и волокиту русских чиновников, затягивающих решение различных вопросов.
Писатели, художники и композиторы направляют великому князю предложения о приобретении их произведений, а некоторые присылают их в дар, свидетельствуя о своем бескорыстии и почтении к августейшему адресату К ним присоединяются многочисленные изобретатели и рационализаторы, предлагающие свои проекты. Один из них, месье Проспер Меллер, прислал Константину Николаевичу проект «Воздушной навигации» путем перевозки пассажиров на воздушных шарах, оценив его в 800 тыс. фр. Другой изобретатель-урбанист, начав свое обращение к великому князю со слов – «зная о Вашей любви к прогрессу», – предложил проект расширения улиц в обеих столицах и в других городах России.
Трудно теперь сказать, что делал со всеми этими обращениями великий князь. Не исключено, что в отдельных случаях он пытался помочь просителям, но никаких следов его вмешательства, во всяком случае, в дипломатической переписке, не прослеживается.
Перед отъездом из Парижа Константин Николаевич устроил прием для членов правительства и маршалов Франции, а 17 мая он отбыл из политической столицы в направлении столицы французского виноделия – г. Бордо. В день отъезда великого князя граф Киселев написал в Петербург: «Впечатление, произведенное этим визитом, как на монарха, так и на общество, превзошло все наши ожидания»[281].
В Бордо Константин Николаевич провел два с половиной дня, побывав на судоверфи и в театре. Перед отъездом он передал префекту департамента Жиронда 10 тыс. франков на благотворительные цели. На борту парохода «Королева Гортензия» великий князь побывал в портах Рошфора, Гавра и Кале, где сошел на берег и далее поездом в Анвер, а оттуда его путь лежал уже в Россию.
В письме Киселеву князь Горчаков высоко оценил результаты миссии великого князя во Францию, отметив то значение, которое имело произведенное им впечатление на общество, мнение которого всегда так важно для любого французского правительства. Министр отметил и ожидаемые от визита политические последствия – сближение позиций Франции и России по вопросу о Дунайских княжествах, а также о Черногории, испытывавшей в то время сильнейшее давление Турции. Горчаков подчеркнул, что сближение с Францией для России носит не тактический или временный характер, а является совершенно осознанным выбором, продиктованным долговременными интересами двух стран, в равной степени, как писал министр, и «внушениями географии». Сейчас бы сказали – геостратегическими интересами. «Таким образом, – резюмировал Горчаков, – в наших отношениях с императором Наполеоном мы будем придерживаться самых любезных форм обхождения, с соблюдением всех нюансов вежливости. Когда же он вознамерится решать с нами какие-то дела, то найдет нас столь же бдительными в защите наших интересов, сколь и он бдителен в отношении собственных интересов»[282].
Свою оценку завершившемуся визиту великого князя во Францию дал министр иностранных дел Франции граф Валевский. В письме послу Наполеона III в Петербурге графу де Морни министр сообщал, что молодой великий князь произвел самое благоприятное впечатление в Париже и во всех местах, где он побывал. «Личные отношения, которые Его Высочество установил между двумя правящими домами, безусловно, укрепят чувства дружбы, существующей между нами, и нас очень радует, что это отвечает интересам двух стран», – писал Валевский [283].
Горчаков при встрече с Морни высказал послу аналогичный взгляд на завершившийся визит, который в Петербурге считают весьма успешным.
От себя же Морни сообщил Валевскому, что друзья великого князя, с которыми тот поддерживал переписку во время пребывания во Франции, рассказывали графу о тех ярких впечатлениях, которые получил Константин Николаевич в Париже и в других французских городах, и
0 том предупредительном внимании, с которым к нему относились везде, где он успел побывать. Особенное впечатление на великого князя, по словам его петербургских друзей, произвел «наш флот и арсенал в Тулоне», сообщал Морни, который добавил, что «со всех сторон я слышу самые благоприятные отзывы в русском обществе о том приеме, который был оказан великому князю в нашей стране[284].
Завершающим аккордом к этому визиту стал обмен личными посланиями между двумя «добрыми братьями» – Наполеоном III и Александром II[285]. Один благодарил за теплый прием великого князя, другой – выразил удовлетворение тем, что появилась возможность «открыто обмениваться нашими идеями», т. е. без посредничества дипломатов.
Посещение Франции великим князем Константином Николаевичем положило начало серии личных контактов между представителями двух правящих династий. Эти контакты сопровождались оживлением переписки членов двух императорских фамилий. Пример здесь подавали оба императора, вступившие в переписку друг с другом по окончании Крымской войны[286]. От случая к случаю Александр II обменивался письмами и с другими представителями французской императорской семьи, в частности, с принцессой Матильдой, проявлявшей самый живой интерес к haute politique.
В переписке состояли и императрицы – вдовствующая императрица Александра Федоровна, мать Александра II, его супруга Мария Александровна и императрица Евгения. В мае 1857 г. Александра Федоровна через графа Киселева передала императрице Евгении орден св. Екатерины, учрежденный Петром Великим в 1713 г. Право награждения этим орденом, формально считавшимся вторым по значению в Капитуле российских императорских и царских орденов, принадлежало царствующей императрице, а в данном случае – Александре Федоровне, матери императора. Орденом св. Екатерины отмечались великие княгини, дамы высшего света и представительницы царствующих европейских домов. «Мадам, сестра моя, – писала в благодарственном письме императрица Евгения, – удостоив меня знаков ордена св. Екатерины, Ваше Императорское Величество дали мне тем самым исключительное свидетельство своей дружбы, чем меня глубоко тронули… Как и Ваше Императорское Величество, я с радостью наблюдаю упрочение гармоничных отношений, которые объединяют Францию и Россию. Я хотела бы пожелать процветания Империи, управляемой мудростью Вашего Августейшего сына, и прошу Ваше Величество принять заверения в моем высочайшем уважении.
Ваша добрая сестра Евгения» [287].
Герцог де Монтебелло
С отъездом графа де Мории из Петербурга в июне 1857 г. встал вопрос о назначении нового посла Франции. Вопрос оказался не из легких. Наполеон желал сохранить тот дух доверия между ним и императором Александром, который в значительной степени возник благодаря стараниям его сводного брата, искренне убежденного в преимуществах для Франции союза с Россией. А это требовало тщательного подбора кандидатуры в преемники Мории. Новый посол должен был отвечать, по крайней мере, двум основным требованиям – понимать всю важность сближения с Россией для осуществления широких замыслов императора французов и занимать видное положение в сановной иерархии Второй империи.
Пока шли поиски такой кандидатуры, интересы Франции в Петербурге представлял временный поверенный в делах Шарль Боден. Как уже говорилось, он был там тепло встречен, и до приезда Мории не возникало никаких проблем в его взаимоотношениях с министром иностранных дел Горчаковым. Однако впоследствии, когда Мории покинул Россию, а заданный им уровень доверительных отношений с петербургским двором стал достаточно высоким, Боден перестал устраивать Горчакова. К тому же, у министра возникли сомнения относительно приверженности французского дипломата идее франко-русского союза. «Господин Боден не внушает нам доверия, – писал Горчаков в Париж графу Киселеву. – …Его присутствие здесь во главе дипломатической миссии не соответствует характеру наших близких отношений с Францией», – подчеркивал министр.
Развивая свою мысль, он продолжал: «Я признаю за господином Боденом его заслуги, желаю ему всех возможных благ, и менее всего хотел бы повредить его карьере, но я давно заметил, что наши нынешние отношения с Францией ему явно не по вкусу. Уже по этой причине я не могу не испытывать беспокойства относительно того, что именно ему на протяжении столь долгого времени доверено вести с нами дела в С.-Петербурге»[288]. Горчаков поручил Киселеву дать понять министру иностранных дел графу Валевскому: в Петербурге обеспокоены, что вопрос с назначением посла Франции затягивается[289].
Результатом демарша, предпринятого Киселевым по указанию министра, явилась замена французского поверенного в делах в Петербурге. Вместо Бодена, переведенного с повышением в Гессен, в Россию в декабре 1857 г. прибыл маркиз де Шаторенар. Его миссия также носила временный характер. Он должен был представлять интересы Франции до приезда нового посла, с назначением которого по-прежнему не все было ясно.
Еще в августе 1857 г. Горчаков был уведомлен В.П. Балабиным, временным поверенным в Париже, что Наполеон III намерен отправить в Петербург графа де Райневаля, занимавшего пост посла Франции при Святом престоле. В царствование императора Николая I Райневаль уже служил во французском посольстве в Петербурге в ранге советника. Балабин сообщал, что вернувшийся из России граф де Морни в беседе с ним дал самую высокую оценку качествам графа де Райневаля, считая его лучшим из возможных своих преемников в Петербурге[290].
Валевский сделал запрос Горчакову относительно приемлемости кандидатуры Райневаля и получил по телеграфу утвердительный ответ. В телеграмме говорилось: «Император с большим удовлетворением примет графа де Райневаля в качестве посла»[291].
16 августа в «Монитёр» появилось извещение о назначении графа чрезвычайным и полномочным послом в Россию. Казалось бы, вопрос решен. Но в последний момент, по каким-то причинам, Райневаль раздумал ехать в Петербург. Обычно в таких случаях дипломаты ссылались на нездоровье – свое или супруги. Возникла неловкость, потом недоумение.
Начались поиски другой кандидатуры, продолжавшиеся более трех месяцев. Все это время в Петербурге проявляли растущее беспокойство по поводу этой, явно затянувшейся истории. Назначенный в Париж послом граф Киселев не спешил отправляться к месту службы, выжидая решения императора Наполеона. В конечном счете, по настоятельному совету Горчакова в самом начале октября он выехал туда, так и не дождавшись назначения своего коллеги (homologue).
Киселев уже несколько месяцев исполнял свои посольские обязанности, а в Тюильри все еще занимались поисками подходящей кандидатуры. Маршал Канробер, Бараге д’Иллер, Бидо, Друэн де Люис, маркиз де Мустье – таков был неполный список сановников империи, рассмотренный Наполеоном III. Но никто из них, по разным причинам, не устраивал императора в том, чтобы занять «самый важный для французской дипломатии пост», как сообщал в Петербург граф Киселев [292].
Наконец, мучительные поиски закончились. Наполеон остановил свой выбор на кандидатуре герцога де Монтебелло, ветерана французской дипломатической службы, отмеченного всеми пятью степенями ордена Почетного легиона, включая Большой крест[293].
«Человек, имеющий за спиной продолжительную карьеру, принадлежащий к высшему свету, придерживающийся умеренных взглядов, герцог де Монтебелло, – писал о нем Киселев, – как я надеюсь, в полной мере оправдает доверие своего августейшего государя, как и тот благожелательный прием, который ему будет оказан у нас. Надеюсь также, что и его личные качества произведут самое благоприятное впечатление на Вас», – добавлял Киселев[294]. При личном знакомстве герцог проинформировал русского посла, что сможет отправиться в Россию не ранее апреля, пока не устроит свои домашние дела.
Так кого же император французов, в конечном счете, решил назначить своим послом при Александре II?
Луи Наполеон Огюст Лани, герцог де Монтебелло родился 30 июля 1801 г. в Париже. Он был старшим сыном знаменитого маршала Ланна, получившего смертельное ранение в сражении с австрийской армией под Эслингом (22 мая 1809 г.). Сам Наполеон, уже на о-ве св. Елены, признавал, что ставил Ланна выше всех своих маршалов. За разгром австрийцев при Монтебелло в 1800 г., когда Лани командовал авангардом Итальянской армии Наполеона, этот сын конюха с провозглашением империи в 1804 г. получил не только маршальский жезл, но и титул, став первым герцогом де Монтебелло.
Формирование политических взглядов его старшего сына, будущего министра и посла в России, пришлось на время Реставрации. Благосклонное отношение Бурбонов к семейству Монтебелло выразившееся в даровании в 1817 г. наследнику маршала звания пэра Франции, сделало из Наполеона Монтебелло примерного легитимиста. Он никогда не выказывал оппозиционных настроений.
Юный герцог получил образование в престижной Политехнической школе, но на военную службу не пошел. Он много путешествовал по Европе, совершил продолжительную поездку в Североамериканские Соединенные Штаты, а по возвращении изъявил намерение стать дипломатом. Первый его дипломатический пост – атташе посольства Франции в Риме, где он служит под началом виконта де Шатобриана. В начале июля 1830 г. он вступает в брак с двадцатилетней Элеонорой Дженкинсон, дочерью сэра Чарлза Дженкинсона, бывшего депутата Палаты общин. Брак не принес небогатому Монтебелло необходимого достатка, зато оказался на редкость прочным. Элеонора родит мужу девять детей.
Когда в Париже произошла Июльская революция, герцог де Монтебелло на время оставляет дипломатию и начинает принимать участие в заседаниях Палаты пэров. Происходившие в Люксембургском дворце дискуссии по актуальным политическим вопросам делают из вчерашнего легитимиста столь же убежденного либерала-орлеаниста. Он становится горячим сторонником Франсуа Гизо, вождя т. н. партии «доктринеров», правоцентристской фракции орлеанистов.
По всей видимости, материальные соображения побудили пэра Франции, сохранившего за собой место в палате, вернуться на дипломатическую службу В конце 1832 г. он получает назначение на пост посланника в Дании, где проведет полтора года. В июле 1834 г. – новое назначение, на этот раз послом в Швецию. Здесь он пробыл чуть более года. Затем – посольства в Берне и Неаполе. С 1 апреля до 11 мая 1839 г. Монтебелло исполняет обязанности министра иностранных дел после отставки с этого поста графа Луи-Матьё Моле, а затем передает полномочия новому министру, маршалу Н. Сульту. Недолгое время он заседает в Палате пэров, а затем возвращается в Неаполь, где среди прочих обязанностей ведет переговоры о заключении брака герцога Омальского, сына короля Луи-Филиппа, с принцессой Марией-Каролиной, дочерью короля Обеих Сицилий. На этот раз пребывание Монтебелло в Неаполе затянулось на семь лет.
В мае 1847 г., вернувшийся на пост главы правительства Ф. Гизо, вызывает его в Париж и предлагает занять место министра по делам флота и колоний. Монтебелло принимает приглашение и руководит министерством до Февральской революции 1848 г., свергнувшей Июльскую монархию. За свое недолгое пребывание на министерском посту Монтебелло запомнился не только сопротивлением принятию законопроекта об отмене рабства во французских колониях, но и рядом мер по усовершенствованию судебной и медицинской систем в колониях.
Его либерально-монархические убеждения не давали ему шансов на продолжение министерской карьеры при Второй республике, но не помешали избранию в Законодательное собрание от департамента Марна, где Монтебелло успел обзавестись виноградниками. В парламенте он следует за линией умеренного большинства, состоя в комиссии, руководимой А. Тьером. Одновременно Монтебелло, как крупный акционер, активно участвует в различных деловых проектах.
Он не только не принял участие в бонапартистском перевороте 2 декабря 1851 г., но поначалу, как либерал, даже осудил его. Правда, в дальнейшем герцог старался держаться в тени. Это ему удавалось вплоть до провозглашения Второй империи в декабре 1852 г.
Человек, носящий столь громкое имя, связанное с блестящими победами Первой империи, не мог оставаться невостребованным Наполеоном III. Первое время дело ограничивалось присутствием Монтебелло на различных празднествах и других торжественных мероприятиях, устраиваемых тюильрийским двором. Его часто видели в салоне графа и графини Валевских, куда любил наведываться император Наполеон. Гости неоднократно наблюдали, как император о чем-то беседовал с Монтебелло.
Более активному участию герцога в политической жизни Второй империи, по-видимому, мешали его старые связи с орлеанистской оппозицией. Он считался с мнением своих друзей, неодобрительно наблюдавших за тем, как император обхаживает их коллегу. Сам Монтебелло оправдывался необходимостью поправить свои материальные дела участием в экономических проектах, поддерживаемых правительством. Он даже готов был занять кресло сенатора, если бы оно было ему предложено.
Однако вместо Люксембургского дворца, где находился Сенат, Наполеон предложил Монтебелло другое место службы – внушительный особняк на набережной Орсэ, где накануне открытия Парижского конгресса обосновалось Министерство иностранных дел. Речь шла о возвращении на дипломатическую службу. Император предполагал направить герцога послом в Россию, но Монтебелло поначалу отклонил это предложение.
Через некоторое время Наполеон возобновил разговоры на эту тему, предложив Монтебелло на выбор два посольства – в Риме и опять же в Петербурге. Герцог согласился поехать в Рим, а в Петербург решено было направить графа де Райневаля.
Неожиданный отказ графа побудил Наполеона настоятельно попросить Монтебелло возглавить посольство в России, отметив чрезвычайную важность этого поста. Герцог посчитал неучтивым в третий раз отказывать императору, и вынужден был принять предложение[295].
Характеризуя нового посла Франции, граф Киселев называл его «порядочным человеком, исполненным чести и лояльности». Вместе с тем русский посол отмечал такие его качества как «скромность и нерешительность». «Однако, – подчеркивал Киселев, – когда он уже определился с целью, то следует к ней твердо, и встречаемые на пути препятствия не обескураживают его. За это его и ценят; этим он и привлекает к себе»[296].
Согласие Монтебелло возглавить посольство в Петербурге было неодобрительно встречено его друзьями-орлеанистами, о чем ему прямо сказали Франсуа Гизо и герцог Виктор де Брольи: первый в деликатной форме, второй – более откровенно.
В обществе же, как сообщал из Парижа граф Киселев, назначение Монтебелло было воспринято «очень благожелательно». В целом, резюмировал Киселев, «правительство не могло сделать лучшего выбора» среди кандидатов на пост посла в России[297].
18 мая 1858 г. посол Франции герцог де Монтебелло прибыл в Кронштадт на борту почтового судна «Прусский орел». У причала его встречали комендант города-крепости и адъютант генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича, предоставившего в распоряжение посла два паровых катера – один лично для герцога де Монтебелло и его супруги, другой – для свиты и багажа. Катера под французским триколором направились в сторону Петербурга, приветствуемые встречными кораблями русского военного флота.
По прибытии в посольскую резиденцию Монтебелло немедленно отправил к князю Горчакову советника посольства маркиза де Шаторенара с письменным извещением о своем приезде. По возвращении Шаторенар вручил герцогу письмо от Горчакова, в котором говорилось, что министр приглашает господина посла прибыть к нему для первого знакомства уже на следующий день, в три часа пополудни.
На состоявшейся встрече они обсудили детали предстоящей аудиенции у императора. Монтебелло обговорил также вопрос об аудиенции для своей жены у обеих императриц. В итоге было согласовано, что высочайшая аудиенция послу будет дана в понедельник, 25 мая в Царском Селе. В тот же день герцогиня де Монтебелло будет представлена вдовствующей императрице Александре Федоровне и царствующей императрице Марии Александровне. Обо всех этих договоренностях Монтебелло сообщил графу Валевскому в депеше, отправленной с курьером британского посольства[298].
В назначенный день герцог и герцогиня де Монтебелло прибыли в Царское Село на поезде из Санкт-Петербурга. В их распоряжение был предоставлен специальный вагон. С вокзала посла и его супругу на дворцовых каретах доставили во дворец, где для них были подготовлены покои. Осматривая салон, Монтебелло обратил внимание на две, украшавшие его картины. На одной был изображен обстрел французской армией Вены, на другой – торжественный въезд императора Наполеона I в Мюнхен. В депеше, отправленной в Париж, посол заметил по этому поводу, что, «судя по всему, в царском дворце сохраняют благожелательные воспоминания о наших победах»[299].
Через час после приезда посол был приглашен к императору, которому вручил свои верительные грамоты. По окончании официальной церемонии Александр пригласил Монтебелло в свой кабинет для неформальной беседы, начавшейся с воспоминаний царя о встрече в Штутгарте с императором французов[300]. Он считает ее очень полезной и политически важной. «Я проникся доверием к императору», – сказал Александр, завершая эту тему
Затем они перешли к обсуждению текущих политических вопросов. Александр говорил о важности взаимодействия России и Франции для нормализации обстановки в Черногории, подвергающейся угрозе со стороны Турции. Он с удовлетворением констатировал согласованные действия русских и французских военных кораблей у берегов Черногории. Само присутствие флагов двух держав в Адриатике, по мнению императора Александра, должно послужить гарантией поддержания мира в этом районе.
Подобная солидарность была бы полезной и в других вопросах европейской политики, завершил свою мысль император. Завершая разговор, Александр выразил надежду на то, что у него теперь будет много возможностей для общения с послом Франции и взаимного обмена мнениями по актуальным политическим вопросам, затрагивающим интересы двух стран.
По возвращении в свою резиденцию Монтебелло составил отчет о первой встрече с императором и прокомментировал ее. Главный вывод, к которому он пришел, сводился к тому, что импульс к двустороннему сотрудничеству, данный в Штутгарте, не угас, как того можно было опасаться, что в Петербурге стремятся к развитию политического диалога с Францией. Весь вопрос в том, отмечал Монтебелло, в какой степени Франция может рассчитывать на реальное содействие России, ослабленной последней войной и погруженной в решение своих внутренних проблем. На этот вопрос, заметил посол, можно будет получить более четкий ответ, выяснив подлинные намерения императора Александра. «Именно это и станет здесь целью моих постоянных забот», – подчеркнул Монтебелло[301].
Судя по всему, одной из главных забот нового французского посла было выяснение реального состояния отношений между Россией и Австрией, что было важно для реализации планов Наполеона III в Северной Италии. Об этом Монтебелло размышляет в депеше Валевскому. Его первое впечатление, вынесенное из общения с императором Александром и князем Горчаковым, было благоприятным для интересов Франции. «На сегодняшний день я могу констатировать, – докладывал Монтебелло, – что у нас нет пока оснований опасаться сближения между Австрией и Россией; слишком очевидно расхождение их интересов…, в частности, в отношении Монтенегро (Черногории. – П.Ч.)» [302].
Монтебелло ссылался также на сетования австрийского поверенного в делах в Петербурге в том, как обходится с ним князь Горчаков, «откровенно настроенный против Австрии». «Я и сам успел заметить [у Горчакова] проявления неприязни к этой державе. Он сам жаловался мне, среди прочего, на твердое нежелание Австрии идти на уступки в вопросе навигации по Дунаю…», – писал Монтебелло графу Валевскому[303]. Тем не менее, состояние русско-австрийских отношений постоянно будет в центре его внимания, отметил посол.
В этой же депеше он описал тот предупредительный прием, которого удостоилась герцогиня де Монтебелло у обеих императриц.
Посол описал и свою встречу с великим князем Константином Николаевичем, принимавшим его у себя, в Мраморном дворце. Брат императора поделился впечатлениями о пребывании во Франции и дал высокую оценку постановке там морского дела. Одновременно он выразил сожаление, что французские корабли – достаточно редкие гости в русских портах, где гораздо чаще можно видеть британские флаги. Было бы полезным для обеих стран, отметил генерал-адмирал, оживить контакты в этой области [304].
Министр иностранных дел Валевский посчитал необходимым сообщить графу Киселеву о том благоприятном впечатлении, которое вынес герцог де Монтебелло из своих первых встреч в Петербурге и о том радушном приеме, которого он удостоился у императора Александра. Одновременно, от имени императора Наполеона, министр просил русского посла передать Александру II искреннюю благодарность за теплый прием, оказанный герцогу де Монтебелло в Петербурге[305].
Так начиналась дипломатическая миссия Монтебелло в России. Прежде всего она предполагала регулярные политические консультации с князем Горчаковым по вопросам, представляющим интерес для двух стран. В центре обсуждения на этих консультациях продолжала оставаться ситуация в Черногории и проходившая в Париже конференция по Дунайским княжествам, работа которой близилась к концу[306]. В конце июля 1858 г. Монтебелло получил из Парижа заключительные протоколы конференции, которые он обсудил с Горчаковым в перспективе предстоящей их ратификации[307].
В обязанности посла Франции входило и участие в дворцовых и иных мероприятиях. Так, в самом начале июля 1858 г. он присутствовал на освящении Исааакиевского собора в Петербурге. Церемония произвела на французского посла большое впечатление «блеском и помпой, предписываемыми обрядами Греческой Церкви»[308].
А в начале августа герцог и герцогиня Монтебелло, единственные из иностранного дипломатического корпуса, были приглашены в Петергоф на именины императрицы Марии Александровны, отмечавшиеся в узком семейном кругу. В их распоряжение были предоставлены апартаменты в самом дворце, а не в Английском доме, где обычно останавливались приглашенные в Петергоф именитые гости. «Я не могу вам описать, до какой степени предупредительности доходило обхождение с послом императора», – сообщал Монтебелло в депеше Валевскому.
При проезде посольской кареты собранные вдоль дороги толпы народа радостно приветствовали Монтебелло криками: «Это посол Франции!». На праздничном обеде Монтебелло посадили между императрицей и великой княгиней Марией, а герцогиню – рядом с императором. За последующим разговором Александр II выразил свое полное удовлетворение тесными отношениями с императором французов, но, упомянув о недавней встрече Наполеона III с королевой Викторией в Шербурге, сказал с улыбкой: «Я надеюсь, что визит королевы Англии их не ослабит» [309].
В начале октября 1858 г. Монтебелло по семейным обстоятельствам взял отпуск и уехал во Францию, оставив вместо себя маркиза де Шаторенара в качестве поверенного в делах. Герцог предполагал провести на родине не менее года, откуда вернулся 6 апреля 1859 г.[310]
В течение первого года, что он провел в Петербурге на своем посту, Монтебелло, прежде знакомый с Россией лишь по известной книге маркиза де Кюстина, превратился в убежденного сторонника франко-русского сближения.
Похожую эволюцию проделал и посол России в Париже граф Павел Дмитриевич Киселев, отстаивавший идею французского союза даже тогда, когда в Петербурге появились сомнения на этот счет. На каком-то этапе взгляды «русофила» Монтебелло (как и «франкофила» Киселева) разойдутся с позицией их правительств, что закономерно приведет к замене послов.
Из переписки Монтебелло с Министерством иностранных дел Франции, видно, что посол интересовался не только вопросами внешней политики Александра II, но и другими насущными проблемами российской действительности. Объектом его пристального внимания была кавказская политика России.
На его глазах завершилась почти полувековая война России на Северном Кавказе, считавшемся воротами из Азии в Европу. Монтебелло стал очевидцем последнего этапа утверждения России в этом районе.
Переломным моментом в Кавказской войне стало пленение вождя горцев имама Шамиля в дагестанском ауле Гуниб 25 августа 1859 г. Слава покорителя Северного Кавказа досталась генерал-адъютанту князю Александру Ивановичу Барятинскому, главнокомандующему Кавказской армией, другу детства императора Александра II.
Свои наблюдения и впечатления об этих важных событиях, получивших широкий европейский отзвук, посол Франции излагал в обстоятельных депешах, направлявшихся им в Париж[311].
Еще до того, как Шамиль был взят в плен, Монтебелло пришел к выводу, что установление контроля России над Северным Кавказом – дело предрешенное. В донесении министру иностранных дел Франции графу Валевскому от 18 августа 1859 г. посол сообщал: «По сведениям, поступившим сегодня с Кавказа, русскими войсками достигнут крупный успех. Окруженные с трех сторон армейскими корпусами под командованием графа Евдокимова, генерала Врангеля и самого князя Барятинского, племена, признающие власть Шамиля, сложили оружие. Самому Шамилю в сопровождении примерно двадцати сподвижников, с оружием удалось бежать, укрывшись в одной из его многочисленных резиденций. Таким образом, часть Кавказа, расположенная между Военно-Грузинской дорогой и Каспийским морем, полностью взята под контроль, по крайней мере, к настоящему моменту. В Санкт-Петербурге распространено убеждение в том, что непокоренные еще племена, населяющие территорию, прилегающую к черноморскому побережью, не будут сопротивляться столь же долго как те, которые образуют Конфедерацию, возглавляемую Шамилем.
Хотя географические условия местности в этой части [Северного Кавказа] более сложные, чем в другой [восточной], отсутствие единства между вождями и их неприязненное отношение к Шамилю, которого они не выдадут, если он попросит у них убежища, но которому они отказались бы повиноваться, – все это дает основание предвидеть в довольно скорой перспективе утверждение русского господства по всей линии кавказских гор» [312].
По-видимому, известие о захвате Шамиля, по каким-то причинам, пришло в Петербург с задержкой. Во всяком случае, герцог Монтебелло проинформировал об этом важном событии Валевского лишь 14 октября 1859 г. Свидетельство посла представляет несомненный интерес и потому заслуживает более подробного изложения. Вот как он описывает обстоятельства этого дела[313]:
«Князь Барятинский, захватив Шамиля, только что блестяще завершил нынешнюю кампанию, начавшуюся взятием Ведено. Окруженный войсками императорского наместника[314], наступавшего в восточном направлении по течению реки Андийское Койсу, и войсками барона Врангеля, продвигавшегося на запад из Темир-Хан-Шуры[315], вытесняемый из горной местности, Шамиль вынужден был отступить за реку Аварское Койсу[316] и укрыться в ауле Гуниб вместе с 400 мюридами[317], оставшимися верными его пошатнувшейся судьбе. Этот аул, расположенный на возвышенном плато протяженностью в двадцать километров, на плодородной земле, орошаемой водами небольшой реки и недоступного со всех сторон за исключением крутого склона, по которому идет тропинка, отделенная рвом и зубчатыми заграждениями.
Имам не рассчитывает более на поддержку населения, уставшего от его кровавого деспотизма и от дальнейшего продолжения очевидно неравной борьбы, решившего сдаться на милость главнокомандующего (Барятинского. – П.Ч.) и даже присоединить свои силы к его войскам. По этой причине он вынужден был собрать все свои средства и силы в один кулак. По единодушному признанию очевидцев из числа офицеров, теперь уже невозможно было не положить конец его сопротивлению. Когда русская армия вплотную подошла к подножию плато, Шамиль начал переговоры, которые продолжались несколько дней. Вскоре стало понятно, что он преследует лишь одну цель – выиграть время до начала зимы, которая, наступает в этих местах очень рано и которая вынудит армию, заброшенную в необитаемую страну без средств сообщения и без снабжения, поспешить вернуться на свои оперативные базы. Желая положить конец этим бесполезным переговорам, князь Барятинский потребовал сдачи Шамиля, гарантировав ему жизнь и обещав возможность отправиться в Мекку с пенсией в двенадцать тысяч рублей. Получив отказ, князь Барятинский рассчитывал теперь только на силу Он приказал одному из своих офицеров с несколькими ротами изучить все подступы к плато.
Заметив передвижения в лагере противника, которые он принял за подготовку к предстоящей ночной атаке, Шамиль сосредоточил свои силы в одном месте, которое он считал наиболее уязвимым. Он отозвал к себе дозорных, которые группами из трех человек были расставлены по всей окружности горы. В это время она была взята в кольцо русским отрядом, посланным на рекогносцировку, в ходе которой четверо солдат обнаружили едва заметный лаз, ведущий наверх. Они поднялись с помощью веревок и крюков, и, никого не обнаружив на всем пути, дали знать об этом своим товарищам, которые вслед за ними вскарабкались туда тем же способом. Когда среди горцев поднялась тревога, и завязался бой, наверху уже прочно закрепились три роты. Князь Барятинский немедленно использовал эффект неожиданности. Он атаковал противника своими основными силами, введя их в обнаруженный проход. Схватка велась с применением только холодного оружия. 360 мюридов дорого продали свои жизни. Русские офицеры засвидетельствовали, что они потеряли шестьсот человек в этом бою, больше напоминавшем резню. Река сделалась красной от крови и вода была настолько отравлена, что даже на следующий день лошади отказывались ее пить.
Князь постарался остановить бойню, опасаясь, что Шамиль может стать ее жертвой, а не почетным пленником. Он понимал, что героическая гибель сделала бы вакантным занимаемое им место вождя горцев. Оставшись в живых и находясь в плену, Шамиль навсегда сохранит это место за собой, но это уже не будет представлять угрозы [для России]. Нужно было любой ценой избежать того, что произошло, когда Казн Мулах, первый имам Дагестана, который был убит при взятии Гимры в 1831 году[318] и немедленно замещен еще более грозным преемником[319].
Когда бой затих, князю сообщили, что Шамиль забаррикадировался в одном из дворов вместе с 40 оставшимися в живых мюридами. Ему было предложено сдаться, и предоставлено двенадцать часов на размышление. К концу дня имам, в сопровождении вооруженных мюридов, выехал из своего убежища верхом на коне, с ружьем в руке. Генерал Врангель приблизился к нему и, заверив его, что ему нечего опасаться, пригласил к наместнику императора, но только одного – без многочисленного эскорта. Шамиль согласился, но окружавшие его мюриды заявили, что намерены сопровождать своего вождя до конца и умереть вместе с ним. С большим трудом Шамилю удалось убедить их не следовать за ним.
Шамиля провели к князю Барятинскому в полном военном облачении, при оружии. Князь поинтересовался, почему он не сдался раньше, на куда более почетных условиях, нежели те, которые продиктованы ему сейчас. Я обязан был, ответил он, во имя моей цели и ради моих приверженцев, сдаться только в крайнем случае, лишь тогда, когда у меня не останется ни малейшей надежды на успех. Теперь я свободен в моем решении. Точно так же как мед со временем приобретает горький привкус, так и война может становиться бессмысленной.
Он повторил свою просьбу о том, чтобы его отпустили в Мекку, но князь сказал, что теперь слишком поздно, что его судьба отныне целиком в руках императора, к которому он его и доставит. При этом князь Барятинский добавил, что Шамилю оставят его семью, оружие и найденную в ауле казну, оцениваемую в триста тысяч рублей.
Так завершилось господство этого человека, который в течение тридцати лет успешно противостоял на Восточном Кавказе русской мощи. Было бы ошибкой полагать, как считают многие, будто Шамиль господствовал над всем этим горным хребтом. В действительности власть Шамиля никогда не распространялась по ту сторону Военной дороги, ведущей из Владикавказа в Тифлис; его власть и его влияние не выходили за пределы Дагестана, Лезгистана и Чечни. Чтобы поддерживать священную для него борьбу, он сочетал религиозные, политические и террористические методы и добился создания достаточно однородной Конфедерации племен, населяющих узкие долины Восточного Кавказа, – прежде глубоко разобщенных.
Он превзошел своих предшественников талантами и ловкостью, увенчанных столь продолжительным успехом. Видя, что религиозный дух не был достаточным, чтобы поднять экзальтацию населения столь высоко, как этого требовала поставленная им цель, Шамиль, введя суфизм[320], укрепил его фанатизмом секты. Суфизм – это не доктрина, которая что-то добавляет или отменяет в мусульманских догмах; это своего рода религиозный орден, построенный на монашеской дисциплине, вождем которого был Шамиль под именем Муршид (Mourschide); его ближайшие последователи стали называться мюридами. По истечении двухлетнего испытательного срока они принимались в охрану верховного вождя и приносили ему клятву в безграничном повиновении и преданности. Если вообще позволительно сравнивать общий смысл тех или иных идей и идейных направлений, то можно сказать, что в суфизме есть нечто похожее на правило иезуитов в том, что касается самоотречения отдельной личности и ее полного подчинения внушенным свыше приказам.
Но население, уставшее от суровой доктрины, которая больше навязывала, чем убеждала, чутко реагировало на удары, наносимые Россией, равно как и на внушения ее агентов. Оно заметно охладело к гнету имама, единственным средством управления у которого была смертная казнь за малейшее правонарушение. Нередко целые деревни отдавались на разграбление и сжигались за проступок хотя бы одного из жителей.
Русские войска по нескольку раз занимали долины, свергая там власть Шамиля, но с их уходом прекращалась и их власть. Весьма вероятно, что теперь эти районы больше уже не вырвутся из-под власти России. Император Александр предоставил в распоряжение князя Барятинского такие средства и такую свободу рук, которых не имел ни один из его предшественников, и, надо отметить, что этот генерал использовал их с талантом, о чем свидетельствуют достигнутые им результаты. Итак, военные средства, кажется, исчерпали себя в том, что касается восточной части Кавказа. Теперь, без всякого сомнения, Россия направит свои устремления в направлении горного хребта, возвышающегося над Черным морем.
Хотя рельеф местности в этом районе создает намного большие трудности по сравнению с теми, которые имели место в только что завоеванной части Кавказа, в С.-Петербурге, однако, надеются подчинить мелкие феодальные княжества, расположенные в этих областях, с меньшими затратами, чем это имело место при покорении союза племен, соседствующих с Каспийскими морем».
Французский посол продолжал внимательно следить за судьбой Шамиля. Ему даже довелось встретиться с имамом, доставленным в Петербург, и подробно поговорить с ним. Обстоятельствам этой встречи посвящено подробное донесение Монтебелло графу Валевскому.
Из донесения герцога де Монтебелло от 20 октября 1859 г.:
«Плененного Шамиля быстро удалили из мест, хранящих память о его длительном сопротивлении, и переправили в крепость Грозную, чтобы затем доставить на встречу с Императором, отправившимся из С.-Петербурга в поездку по Южной России. В начале своего [вынужденного] путешествия Шамиль проявлял опасения, что может быть отправлен в Сибирь. Это устрашающее слово хорошо было известно и в его горах, о чем мистическим образом напоминал компас, который Шамиль всегда имел при себе. Он очень обрадовался, обнаружив [по компасу], что их путь не лежит на северо-восток.
В городе Чугуеве Харьковского губернаторства произошла его встреча с Императором. Шамиля допустили к Его Величеству при оружии, проявив уважение к понятиям горцев о чести, согласно которым обезоруженный воин считается обесчещенным. Это обстоятельство ободрило имама, который считал, что после аудиенции его должны казнить. Доброжелательный прием со стороны Его Величества окончательно рассеял его опасения. На вопросы императора относительно ресурсов, которыми он в последнее время располагал на контролируемой им территории, Шамиль ответил то же, что он сказал князю Барятинскому: что власть его клонилась к закату, что постоянно возраставшие трудности мешали продолжению борьбы и что он сам прекратил бы эту борьбу гораздо раньше, если хотя бы примерно представлял могущество страны, часть которой ему довелось увидеть своими глазами.
Его Величество объявил, что он даст ему возможность увидеть Москву и С.-Петербург, где он встретится с Императрицей, и что затем его доставят в Калугу, где ему будет предоставлена резиденция и пенсия в размере двенадцати тысяч рублей. Его сын сможет вернуться на Кавказ с тем, чтобы отыскать и доставить членов семьи Шамиля, с которыми он не должен быть разлучен. <…> Его Величество пригласил Шамиля сопровождать его в Харьков и принять участие в празднике, который в его честь устраивает дворянство этого города.
Именно на бале в Харькове Шамиль впервые увидел одно из наших европейских собраний. Войдя в зал, он остановился, прочел молитву и тут же захотел удалиться. Ему заметили, что у нас не принято уходить прежде, чем это сделает Император, и Шамиль любезно согласился остаться. Окружившим его дамам он с философской грустью сказал: «Я счастлив видеть вас теперь, так как боюсь, что мы не встретимся в раю, поскольку вы находите здесь все то, что Пророк обещает нам только после смерти». Харьковский епископ был бы безмерно счастлив, услышь он эти слова»[321].
Далее Монтебелло описывает свою встречу и беседу с имамом.
«Через несколько дней после его прибытия в С.-Петербург я имел случай увидеть Шамиля и побеседовать с ним. Это человек высокого роста, исполненный спокойствия и достоинства. Выражение его лица свидетельствует об интеллекте, энергии и в особенности о непоколебимой твердости. Манеры его поведения и высказываемые суждения выдают человека, понимающего, что его судьба свершилась. Без чувства ложного фатализма он спокойно относится к исполненному им долгу, как и к своему почетному поражению. Он говорит на арабском языке… и на языке общем для племен Дагестана, Лезгистана и Чечни[322]… Будучи далек от того, чтобы проявлять характерное для восточных людей безразличие ко всему, что касается достижений цивилизации, Шамиль не упускает случая увидеть и узнать, слушает и задает вопросы, свидетельствующие о разумности суждений, поражающих его собеседников. На военных маневрах, на Тульском оружейном заводе, на железной дороге в Москве, в арсеналах Кронштадта, во всех общественных учреждениях С.-Петербурга – всюду, где он побывал, он обнаруживал ту же умную любознательно сть.
Я убежден, что Шамиль обладает очень точными знаниями относительно соотношения сил между различными державами Европы; он хорошо понимает неразделимо сть двух имен – Франция и Наполеон[323].
Я спросил у него, знает ли он, что Франция и Россия, сегодня прочно соединенные друг с другом, еще совсем недавно были в состоянии войны, и почему тогда он не использовал это обстоятельство в своих целях.
Он мне ответил, что хорошо знал, что Севастополь был осажден. Ему было известно, что противники русских направляли в то время эмиссаров на Кавказ, но что ни один из них не добрался ни до него, ни до одного из его соратников. Эти эмиссары оставались в районах Черноморского побережья и поддерживали контакты с вождями тамошних горцев, на которых он, Шамиль, никогда не оказывал никакого влияния. Конечно же, наши эмиссары никогда не видели его, – заметил по этому поводу Монтебелло, обращаясь к графу Валевскому, и добавил: – Уж не из осторожности ли по отношению к своим победителям Шамиль отговорился незнанием? <…>
Имам задавал мне различные вопросы относительно Абд-эль-Кадера[324] и о силах, которыми тот располагал. Что касается его самого, он мне сказал, что одно время имел под ружьем до пятидесяти тысяч человек. Хотя эта цифра за последнее время значительно уменьшилась, содержание 250-тысячной Кавказской армии, для которой в настоящее время поставляется триста тысяч суточных порций продовольствия и фуража, все еще обходится России в сорок миллионов рублей (160 миллионов франков). Эти тяготы Россия будет нести еще в течение нескольких лет, так как, по всей вероятности, князь Барятинский подчинением горцев на западе будет стараться завершить умиротворение Кавказа, с которым отныне связано его имя. Император чрезвычайно высоко ценит его таланты, так же как и их дружбу, завязавшуюся еще в детские годы.
Как бы то ни было, Шамиль – это последний действительно грозный противник России в этих краях. Отныне и навсегда Россия держит в своих руках двери в Малую Азию. Она может бросить свою армию к границе между Турцией и Персией и свободно действовать на театре [военных действий] – там, где европейские армии не смогут до нее добраться»1. <…>
И в дальнейшем герцог Монтебелло продолжал внимательно наблюдать за развитием заключительной фазы Кавказской войны, театр которой после покорения Восточного Кавказа и пленения Шамиля переместился в западные районы, прилегающие к Черному морю.
Французский посол не сомневался, что в самом недалеком времени Западный Кавказ разделит участь Восточного, т. е. перейдет под власть России. В своих донесениях в Париж он говорит о новой тактике, применяемой русским военным командованием на Западном Кавказе, – о сочетании военных и мирных средств убеждения населяющих этот район племен признать над собой власть «белого царя». Инициатором этой тактики Монтебелло считал князя Барятинского, действия которого посол всецело одобрял.
Из депеши герцога де Монтебело министру иностранных дел графу Валевскому от 29 декабря 1859 г.:
«Некоторые высказывают убеждение, что князь Барятинский всего лишь согласился предоставить этим народам уступки, упорно и неразумно отвергавшиеся императором Николаем, чтобы они покорились. Утверждают также, что престиж русского оружия не был одинаковым на Западном Кавказе и на Кавказе Восточном. Даже если это правда, тем не менее, князь Барятинский, неважно, – войной или переговорами – достиг немалых результатов, которых Россия тщетно добивалась на протяжении тридцати лет, и надо быть ему благодарным за то, что он, в отличие от других генералов, не воевал тогда, когда надо было вести переговоры.
Между народами, которые только что покорились, и Черным морем все еще остается независимая территория, крайне труднодоступная, населяемая воинственными племенами. Я склонен думать, что в отношении этих народов будут действовать более политическими, нежели силовыми средствами»[325].
Действительно, в своей политике на Северном Кавказе князь Барятинский все более активно прибегал, там, где это было возможно, к политическим методам. Сорок два года почти непрерывных военных действий – с 1817-го до 1859-го – понадобилось России для того, чтобы завоевать Восточный Кавказ и только пять лет (1859–1864) – для покорения Западного. Символической датой окончания Кавказской войны стало взятие русскими войсками 21 мая 1864 г. черкесского аула в урочище Кбаада, в верховьях р. Мзымта над Адлером (ныне Красная Поляна).
Тогда же, в 1864 г., завершилась и посольская миссия Монтебелло в Петербурге. Но об этом речь еще впереди.
Глава 5 Время испытаний (1858–1860)
Итальянский проект Луи-Наполеона
Пристальный интерес к Италии Наполеону III достался, можно сказать, по наследству от Французской революции и его великого дяди, который дважды – в 1796–1797 гг. и 1800 г. – «посещал» Апеннинский полуостров во главе армии и принес туда освободительные идеи, оформившиеся впоследствии в национальную программу Рисорджименто[326].
В начале XVIII в. испанское владычество в Италии сменилось преобладающим австрийским влиянием. Габсбурги и родственные им дома управляли мелкими княжествами Центральной Италии (Парма, Тоскана, Модена). На севере (Пьемонт) утвердилась Савойская династия, получившая во владение также о-в Сардинию (отсюда и новое название Пьемонта – Сардинское королевство). Рим был столицей Папского государства, расширившего свои границы и добившегося выхода к Адриатическому морю. На юге полуострова бывшие владения испанских Габсбургов перешли под власть испанской ветви Бурбонов (Неаполитанское королевство). В целом к концу XVIII в. Италия представляла собой конгломерат государств, находившихся в большей или меньшей зависимости от Австрии.
Относительное спокойствие, утвердившееся на Апеннинском полуострове в 1720-е гг., было нарушено революционными событиями в соседней Франции. Войны республиканской Франции, а затем и наполеоновской империи с антифранцузскими коалициями более чем на два десятилетия вывели Италию из неподвижного состояния, в котором она находилась, расшатали до основания весь прежний порядок и способствовали формированию в итальянских государствах патриотических движений, взявших курс на национальное освобождение и объединение страны.
В 1792 г. французская революционная армия, не встретив сопротивления, вошла на территорию Сардинского королевства и оккупировала Савойское герцогство и графство Ниццу, которые были включены в состав Франции. Спустя шесть лет, в результате Итальянского похода генерала Бонапарта, на большей части Апеннинского полуострова пали монархические режимы, на месте которых возникли республики – Цизальпинская, Лигурийская, Римская, Партенопейская и Этрусская. В этих республиках были демонтированы архаичные административные и социально-экономические структуры, отменена личная зависимость крестьян от землевладельцев, конфискованы и распроданы церковные земли и т. д.
В 1799 г. при прямой военной поддержке Австрии, России и Англии, вынудивших французскую армию покинуть Апеннинский полуостров, в Италии были восстановлены прежние порядки. Но через год, в 1800 г., Наполеон Бонапарт во главе армии вернулся в Италию и в короткий срок занял почти всю ее территорию, за исключением двух островов – Сардинии и Сицилии. Бонапарт принес с собой революционную по тем временам идею национального суверенитета (principe des nationalites). Эта же идея позднее будет определять политику Наполеона I в Германии (ликвидация Священной Римской империи германской нации) и в Польше (создание герцогства Варшавского).
Прогрессивные реформы, проведенные в итальянских государствах под защитой французских штыков, сохранили свою силу и после провозглашения Франции империей в 1804 г. Повсеместно там был введен наполеоновский Гражданский кодекс. По примеру «старшей сестры» отдельные итальянские республики сменили политический режим, превратившись в монархии – Итальянское, Неаполитанское и ряд более мелких королевств, где на трон были посажены родственники императора французов. Сам Наполеон стал еще и итальянским королем[327]. Другие республики – Пьемонт и Венеция – были включены в состав Франции в качестве ее департаментов.
В своей итальянской политике Наполеон преследовал и в значительной мере успешно решил двойную задачу – изгнал из Италии Габсбургов и испанских Бурбонов, обеспечив себе надежных (послушных) союзников на южных рубежах своей империи. Италия стала для императора французов важным источником необходимых экономических и человеческих ресурсов в непрерывных войнах, которые он вел на протяжении десяти лет. «Моя мечта состояла в том, чтобы сделать из Италии дружественную Франции нацию, – говорил впоследствии Наполеон, находясь в изгнании на о-ве св. Елены. – Я закладывал основы ее единства, передав Ломбардию и Венецию принцу Евгению Богарне, неаполитанскую корону – моему брату Жозефу, а позднее – Мюрату. Договора 1815 года все это разрушили… Но однажды настанет день, когда составляющие ее (Италию. – П.Ч.) малые государства сплотятся между собой, как это сделали провинции британского королевства, провинции Франции и провинции Испании…»[328].
Закономерным следствием «францизации» итальянских государств стало появление там антифранцузских настроений. Правда, эти настроения не успели перерасти в организованное движение, как в Испании, по причине крушения Первой империи в 1815 г.
Последующий период итальянской истории характеризовался возвращением Австрии в Италию в соответствии с решениями Венского конгресса 1815 г. Габсбурги вернули под свой контроль Ломбардию и Венецианскую область, объединив их в рамках Ломбардо-Венецианского королевства, где попытались реставрировать прежние порядки. Здесь была размещена 100-тысячная армия, призванная служить гарантом австрийского господства. На севере Италии было восстановлено Сардинское королевство с правящей Савойской династией, вернувшей себе Савойю и Ниццу. На юге полуострова, на неаполитанский престол вернулись испанские Бурбоны (Королевство Обеих Сицилий). Существенно возросло значение в итальянских делах Святого престола, пытавшегося распространить свое влияние на всю территорию Италии.
Реставраторские усилия реакции натолкнулись на сопротивление патриотической части итальянского общества, в котором обозначились два основных течения – умеренно-либеральное и революционное (карбонарии). Будучи согласны относительно конечной цели – освобождения от иностранного гнета и объединения Италии, – они расходились в выборе средств: поэтапное движение или революция.
Широкий протест против насаждавшихся реставраторских порядков нашел свое выражение в волнах революционных выступлений в Италии. В 1820/21 гг. революции потрясли Неаполитанское и Сардинское королевства. В 1831 г. – Парму, Модену и даже Папскую область. Все они были подавлены, но стали предостережением для правящих режимов против их чрезмерной авторитарности.
В одной из этих революций довелось принять участие и будущему императору Наполеону III, который с детских лет помнил завет своего воспитателя Филиппа Ле Ба, сына члена Конвента, дружившего с Робеспьером: «Монсеньор, если однажды Вы придете к власти, используйте эту власть, я Вас об этом прошу, чтобы помочь делу единства и свободы Италии»[329].
Осенью 1830 г., как уже говорилось, 22-летний Луи-Наполеон Бонапарт присоединился к лидеру моденских карбонариев Чиро Менотти, который формировал отряд для похода на Рим с целью освободить Вечный город от светской власти папы.
Казалось, момент был удачным. Только что умер Пий VIII. В начале 1831 г. предстояли выборы нового папы. Менотти решил, что медлить с выступлением нельзя, отвергнув предостережения относительно неподготовленности похода.
Планам итальянских патриотов не суждено было осуществиться. Затеянный в январе 1830 г. поход на Рим к концу февраля 1831 г. потерпел неудачу. Австрийцы без особого труда справились с отрядом Менотти, который был схвачен и расстрелян. Принимавшему участие в походе Луи-Наполеону удалось тогда скрыться.
Таково было первое непосредственное знакомство будущего императора французов с итальянской проблемой. В дальнейшем, будучи узником и изгоем, Луи-Наполеон продолжал сочувствовать делу освобождения и объединения Италии. Правда, придя к власти, он стал проявлять понятную в его новом положении осторожность в этом вопросе.
Безусловно, Бонапарт сохранил верность «принципу национальностей» (“principe des nationalites”), во многом определявшему внешнюю политику Наполеона I. Луи-Наполеон, как и его великий дядя, тоже мечтал увидеть Северную Италию свободной от австрийского господства. Поэтому он намеревался способствовать созданию на Апеннинском полуострове некой Итальянской конфедерации – союзницы Франции. Одновременно, считаясь с мнением церковных кругов и миллионов французских католиков, Луи-Наполеон, придя к власти, взял на себя роль защитника прав Святого престола[330], отводя ему особое положение в составе планируемой конфедерации. При этом объединение Италии после учреждения во Франции Второй империи мыслилось им только «сверху», а не путем национальной революции, как того хотели его прежние друзья – карбонарии.
«Итальянский проект» Наполеона III включал в себя и соображения, весьма далекие от альтруизма. Главное из них – твердое намерение вернуть в состав Франции франкоговорящие Савойю и Ниццу, утраченные после крушения Первой империи. Здесь он выступал, не только как наследник Французской революции, но и как твердый последователь кардинала Ришелье, еще в XVII веке обосновавшего необходимость для Франции обретения т. н. «естественных границ» – по морским (на юге и северо-западе), речным (на востоке) и горным (на юго-востоке) рубежам. В отношении Савойи и Ниццы, граничивших с Альпами, необходимо было сначала договориться с Сардинией, а затем получить на то согласие держав, подписавших Венский договор 1815 г.
Все эти соображения определили кажущиеся непоследовательность, колебания и противоречия в политике Наполеона III в Италии. «Итальянская политика Франции на протяжении целого десятилетия будет пытаться лавировать между всеми этими рифами…, – отмечают авторы современной «Истории французской дипломатии». – Именно этим можно объяснить внезапные повороты, которые характеризуют ее эволюцию. Наполеон III, вовлеченный в очень сложные конфигурации, часто вынуждавшие его действовать в условиях секретности, продвигается к намеченной цели, потом немного отступает, затем выжидает, и всегда стремится придать своим инициативам международное одобрение»[331].
Отвергнув идею объединения Италии «снизу», Луи-Наполеон нашел союзника в лице молодого пьемонтского короля Виктора-Эммануила II, унаследовавшего престол в 1849 г. на исходе неудачной для Сардинии войны с Австрией, когда прежний король Карл-Альберт вынужден был отречься в пользу старшего сына.
До восхождения на трон Виктор-Эммануил II (1820–1878)[332] носил титул герцога Савойского. Он получил военное и религиозное образование. В возрасте двадцати двух лет отец устроил его брак с Марией Аделаидой Габсбург-Лотарингской в надежде укрепить связи с Австрией, чего однако не произошло. В 1848 г. Карл-Альберт предпринял попытку освободить соседнюю с Пьемонтом Ломбардию от австрийского господства. В этой первой войне за независимость Италии принц Савойский командовал дивизией и проявил личное мужество. В одном из сражений он был ранен.
Первая попытка вытеснить австрийцев из Северной Италии окончилась неудачей. В двух решающих сражениях (при Кустоцце, июль 1848 г. и при Новаре, март 1849 г.) пьемонтская армия и ее союзники, ломбардские волонтеры, были разбиты фельдмаршалом И. Радецким фон Радецом, следствием чего стало отречение Карла-Альберта. Одним из условий заключения мира Австрия потребовала отмены либеральной конституции Пьемонта (Альбертинский статут 1848 г), превращавший Сардинское королевство в конституционную монархию. Молодой король отверг этот ультиматум, но вынужден был принять другие требования победителя – выплатить внушительную контрибуцию, сократить численность сардинской армии, согласиться на присутствие австрийского военного контингента в стратегически важных районах Пьемонта, наконец, отказаться от планов присоединения к Сардинскому королевству областей Северной и Центральной Италии.
Пойдя на уступки Австрии, Виктор-Эммануил не отказался от завещанной отцом идеи освобождения и объединения Италии. Он будет продолжать последовательно и настойчиво действовать в этом направлении, опираясь на единомышленников в самой Италии и ища союзников за ее пределами. Верность либеральной конституции и идеям Рисорджименто снискала Виктору-Эммануилу II широкую популярность и общественную поддержку. В народе его называли «король-джентльмен» (Re Galantuomo).
Ближайшим сподвижником сардинского короля в деле объединения Италии стал граф Камилло Бенсо ди Кавур (1810–1861)[333], без малого десять лет возглавлявший кабинет Виктора-Эммануила II. Выходец из старинного аристократического рода Савойи, граф Кавур получил образование в военной школе Турина, а затем в течение пяти лет (1826–1831) служил в сардинской армии. Выйдя в отставку, он много путешествовал по Европе, пробовал себя в журналистике, публикуя статьи в итальянских и французских газетах.
Большое влияние на формирование политических взглядов будущего министра оказала Июльская революция 1830 г. во Франции. С тех пор он стал убежденным либералом умеренного толка и горячим сторонником объединения Италии на федеративной основе. В 1847 г. Кавур стал одним из основателей газеты “II Risorgimento”, в которой отстаивал свои идеи, зачастую вступая в полемику с приверженцами революционного пути объединения Италии.
В 1848 г. граф Кавур был избран в парламент, а два года спустя получил свой первый министерский пост в кабинете маркиза Э. д’Адзелио. Занимаясь в правительстве вопросами сельского хозяйства и финансами, Кавур проявил себя не только талантливым администратором, но и серьезным политиком. В 1852 г. король предложил ему возглавить кабинет министров.
Получив широкие полномочия, Кавур осуществил целый ряд прогрессивных реформ, позволивших в короткий срок модернизировать Сардинское королевство. Реформы способствовали оживлению внутренней и внешней торговли, развитию сети железных дорог, укреплению армии. Министр реформировал уголовный кодекс и под лозунгом «Свободная церковь в свободном государстве» проводил энергичную антиклерикальную политику, отстаивая идею светского характера государства и общества.
И все же самым любимым занятием Кавура была внешняя политика, стратегической целью которой стало для него объединение Италии. В этом вопросе, как и в других, он встречал полное понимание и поддержку короля, с которым они были единомышленниками.
Как умеренный либерал, граф Кавур не разделял призывов Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди и др. лидеров республиканско-демократического течения в освободительном движении к революционному решению итальянского вопроса – общенациональному восстанию. Кавур, как и Виктор-Эммануил II, опасались неконтролируемого пробуждения «низов». Они избрали другой путь – объединение Италии «сверху», путем постепенного выдавливания Австрии и присоединения к Пьемонту соседних государств и областей, начиная с Ломбардии. Но решить эту задачу в одиночку было невозможно. Для этого нужен был надежный и сильный союзник. На политической карте Европы Кавур видел лишь одного такого потенциального союзника – Францию.
Впервые он задумался над этим сразу же после Июльской революции 1830 г., под влиянием которой возникло новое государство – Бельгия. Тогда же ветер Июльской революции воспламенил тлеющие угли революционных настроений в Парме, Модене и Папской области в самой Италии. Однако король французов Луи-Филипп, пришедший к власти во Франции на волне Июльской революции, не сделал ничего для поддержки итальянских карбонариев. Его первейшей заботой стало укрепление его неустойчивого «республиканского трона»; уже по этой причине он не желал осложнять отношений с державами Священного союза, в который входила Австрия. Более того, «король-гражданин», озабоченный судьбой основанной им Орлеанской династии, настойчиво стремился стать своим в кругу европейской монархической «семьи».
Кавур тяжело пережил крушение своих первоначальных надежд на либеральную Июльскую монархию. В одном из писем, относящихся к январю 1832 г., он признавался: «Положение Италии, Европы и моей страны[334] было для меня источником самой острой боли. Сколько обманутых надежд, сколько утраченных иллюзий, сколько несчастий обрушилось на нашу прекрасную Родину! Я никого не обвиняю, возможно, что так решил рок, но факт, что июльская революция, после того как она породила самые прекрасные надежды, вновь погрузила нас в худшее, чем прежде, состояние. Ах, если бы Франция сумела воспользоваться своим положением, если бы она обнажила шпагу, по возможности, этой весной. Не думайте, что мои душевные муки сколько-нибудь отвратили меня от прежних идей. Эти идеи – часть меня самого. Я их буду исповедовать, буду их придерживаться до последнего дыхания» [335].
Второй раз надежда на Францию появилась у Кавура с приходом к власти там в конце 1848 г. Луи-Наполеона, а точнее – после осуществленного Бонапартом в декабре 1851 г. государственного переворота и последовавшего за этим учреждения Второй империи. Эту надежду подкрепил сам Луи-Наполеон. Встречаясь в 1852 г. с прибывшим в Париж министром иностранных дел Сардинского королевства графом Кавуром, будущий император французов сказал ему: «Я хотел бы что-то сделать для Италии. Сообщите об этом вашему правительству»[336].
Эти слова, повторенные в декабре 1855 г., во время визита Виктора-Эммануила в Париж[337], стали прелюдией к будущему тесному союзу Пьемонта с Францией. Разумеется, такой союз не мог быть союзом равных. Пьемонт изначально был обречен на роль младшего партнера Франции. Виктор-Эммануил и Кавур полностью отдавали себе в этом отчет, но в тогдашнем положении Сардинского королевства, над которым «дамокловым мечом» нависала 100-тысячная австрийская армия, выбора не было. Именно с Наполеоном III «отцы-основатели» будущей единой Италии связали свои мечты на независимость и национальное объединение. Их, видимо, не смущало, что в 1849 г. Луи-Наполеон способствовал восстановлению власти папы в Риме.
В этом король Пьемонта и его первый министр решительно расходились с республиканцами и демократами, выбравшими радикальный путь решения итальянского национального вопроса.
Взяв курс на тесное сближение с Францией, Виктор-Эммануил II и граф Кавур умело использовали в интересах Пьемонта сочувствовавших «итальянскому делу» влиятельных лиц в окружении Наполеона III – кузена императора, принца Наполеона-Жерома, известного своими левыми взглядами, Венсана Бенедетти, директора Политического департамента МИД Франции, доктора Анри Конно, давнего друга семейства Бонапарт и личного врача императора, принца Мюрата, внука бывшего неаполитанского короля, префекта парижской полиции Жозефа-Мари Пьетри и др.
Активно действовали в Париже и прямые агенты Пьемонта – министр-резидент сардинского короля, маркиз Эмманюель де Вилламарина, супруга которого сумела стать одной из компаньонок императрицы Евгении, граф Константен Нигра, военный атташе, граф Оттавио Вимеркати и, конечно же, прекрасная Виржиния де Кастильоне, родственница графа Кавура[338].
Уроженка Флоренции, дочь дипломата и страстная патриотка итальянского дела, Виржиния, в семнадцать лет выданная замуж, одно время была любовницей Виктора-Эммануила II – до тех пор, пока граф Кавур не нашел другого применения ее неотразимым достоинствам, более нужным для отечества. Впоследствии он сделает деликатное признание: «Прекрасная графиня была вовлечена в итальянскую дипломатию. Я предложил ей пококетничать с императором»[339]. По замыслу Кавура, графиня Кастильоне должна была сделать для Пьемонта и Италии примерно то же, что графиня Мария Валевская при Наполеоне I сделала для Польши.
В конце 1855 г. он отправил двадцатилетнюю графиню Кастильоне в Париж под предлогом визита к ее кузине, графине Валевской (тоже флорентийке, урожденной Марии-Анны Риччи), супруге министра иностранных дел Франции[340]. Именно в доме мадам Валевской она и познакомилась с Наполеоном. Император в полной мере оценил достоинства Виржинии. Правда, фавор ее оказался недолгим – чуть более года, – но все это время она употребила на то, чтобы склонить императора французов в пользу «итальянского дела». Впрочем, большинство французских биографов Луи-Наполеона не склонны преувеличивать степень политического влияния графини Кастильоне на императора французов, который, конечно же, догадывался о возложенной на нее Кавуром миссии.
В апреле 1857 г. Наполеон расстался с графиней Кастильоне. У него к тому времени появились два новых увлечения – графиня де Ла Бедойер, жена камергера его двора, и графиня Валевская, супруга министра иностранных дел, кузина отставленной Виржинии.
Куда более серьезным, чем влияние женщин, было давление на императора со стороны графа Кавура, человека волевого и настойчивого, «способного умело манипулировать» Наполеоном III
Стремление упрочить связи с Францией побудило Пьемонт в 1855 г. примкнуть к антирусской коалиции и принять участие в Восточной войне на завершающей ее стадии.
Это позволило Сардинскому королевству, с подачи Наполеона III, стать в 1856 г. участником Парижского мирного конгресса, наряду с великими европейскими державами. Более того, Кавур, представлявший в Париже Виктора-Эммануила II, впервые после 1815 г. попытался поднять на конгрессе итальянский вопрос, в частности, положение в Ломбардо-Венецианском королевстве, где австрийцы установили фактически диктаторский режим. Хотя великие державы и отказались тогда обсуждать итальянские дела, для Пьемонта и лично для его представителя на конгрессе это был несомненный моральный успех. Именно на Парижском конгрессе граф Кавур приобрел европейскую известность как «сардинский Талейран».
В Венской системе 1815 г., законсервировавшей послевоенный статус кво, появилась очередная трещина. Национальный вопрос или принцип национальных суверенитетов (principe des nationalites), поставленный в Европе Французской революцией и наполеоновскими войнами, настойчиво заявил о себе, вступив в конфликт с охраняемым Священным союзом принципом легитимности (principe de legitimite).
Наполеон III чувствовал себя весьма некомфортно, испытывая внутренние противоречия между обещанием способствовать освобождению Италии, своими обязательствами перед Святым престолом, подпираемым с 1849 г. французскими штыками, и давлением революционного движения, в котором сам когда-то принимал участие.
Толчком, позволившим ему преодолеть в себе эти внутренние противоречия, стало, как ни странно это покажется, покушение на его жизнь, предпринятое 14 января 1858 г. итальянским революционером Феличе Орсини, отец которого («Карбонаро») в далеком 1831 г. принимал у юного Луи-Наполеона клятву верности делу освобождения Италии. Жертвами взрыва трех бомб, брошенных Орсини перед входом в Парижскую оперу, стали 156 человек, но сам Наполеон и сопровождавшие его на спектакль императрица Евгения и кузина, принцесса Матильда, не пострадали.
Террорист был схвачен на месте и отправлен в тюрьму, откуда в ожидании суда обратился к Наполеону с призывом помочь 25 миллионам итальянцев обрести свободу. Это обращение произвело неожиданное впечатление на императора, бывшего карбонария. Он распорядился опубликовать письмо Орсини в официозной газете «Монитёр», но одновременно утвердил вынесенный террористу и его сообщнику Джузеппе Пьери смертный приговор. Публикация имела широкий общественный резонанс и множество противоречивых толкований.
Одним из немногих, кто правильно оценил ее скрытый смысл, был граф Кавур, поспешивший возобновить тайный диалог с Наполеоном. В середине июля 1858 г. он получает приглашение императора на конфиденциальную встречу в Лотарингии, в местечке Пломбьер, где Наполеон намеревался пройти курс лечения целебными водами.
Пьемонтский министр под именем Джузеппе Бенсо, приняв облик мелкого буржуа, окольными путями добирается до Пломбьера и 21 июля в течение семи часов с глазу на глаз ведет напряженные переговоры с Наполеоном об условиях совместного выступления Франции и Сардинского королевства против Австрии.
Император настаивает на том, что для войны необходим серьезный повод, который стал бы убедительным для европейских держав. Сардиния, как и Франция, ни в коем случае не должны выглядеть инициаторами войны. Другое его требование – исключение возможности революционного выступления в Италии. Третье – гарантии безопасности для владений папы, а также для Королевства Обеих Сицилий. При этом Наполеон подчеркнул, что за неаполитанского короля Фердинанда II Бурбона настойчиво хлопочет император Александр II, позиция которого может оказаться решающей для успеха затеваемого дела.
В случае победоносного окончания войны в Северной Италии, – а в этом он не сомневается, – Наполеон предложил образовать на Апеннинском полуострове четыре государства. Пьемонт расширит свою территорию за счет Ломбардии, Венеции и герцогства Пармского. Тоскана и Умбрия сформируют Центрально-итальянское королевство под управлением монарха из пармского герцогского дома. За папским государством, чья территория несколько сокращается, останется Рим. В порядке компенсации папа должен стать президентом Итальянской конфедерации. И, наконец, Фердинанд II сохранит за собой Королевство Обеих Сицилий.
Кавур напряженно ожидал, какую же компенсацию за участие в войне против Австрии потребует себе Наполеон. В глубине души он, конечно, подозревал, что может услышать. И все же категорическое требование императора повергло Кавура в шоковое состояние.
Когда прозвучало слово Савойя, министр не мог скрыть своего возмущения.
– Но ведь Савойя – это колыбель моего государя! – воскликнул он.
А Наполеон, словно не слыша собеседника, невозмутимо продолжал: «Я обязан также потребовать Ниццу».
– Это же итальянская земля; если ее уступить, то, что тогда останется от национального принципа! – возмутился Кавур.
– Все это второстепенные вопросы, и мы займемся этим позднее, – поспешил завершить больную тему Наполеон и пригласил Кавура совершить прогулку в фаэтоне по живописным окрестностям Пломбьера.
Во время прогулки император озадачил пьемонтского министра еще одним предложением. Он высказал пожелание об устройстве брака своего кузена, принца Наполеона-Жерома и принцессы Клотильды, дочери Виктора-Эммануила II. Этот брак, по его мнению, упрочил бы союз Франции и Пьемонта. На замечание Кавура о совсем юном возрасте принцессы, которой нет еще и шестнадцати лет, император ответил, что не видит в этом непреодолимого препятствия.
На прощание, пожав Кавуру руку, Наполеон многозначительно произнес: «Верьте в меня, как я верю в вас»[341].
Вернувшись в Турин, Кавур доложил королю о результатах переговоров и предложениях Наполеона. Виктор-Эммануил был шокирован не меньше своего министра. Ведь речь шла о перспективе утраты его наследственного владения – Савойи, чье имя носит династия, и о судьбе любимой дочери, которую предлагали выдать замуж за человека сомнительной нравственности и не менее сомнительной политической репутации.
«Плонплон», как фамильярно называли принца Наполеона (1822–1891) [342] в семейном кругу, был «красным» и имел репутацию “enfant terrible” (несносное дитя); он водил дружбу с республиканцами и даже с революционерами, чем, конечно же, компрометировал династию Бонапартов в глазах монархической Европы. «Красный принц» вел, как тогда говорили, «рассеянный образ жизни», предаваясь всевозможным удовольствиям и не пропуская хорошеньких женщин. Впрочем, в этом отношении он мало отличался от своего кузена-императора, имевшего многочисленных любовниц.
Перспектива заполучить такого зятя совсем не грела душу сардинского короля, но соображения рассудка, всегда подчиненного у него государственным интересам, в итоге взяли верх. Династический союз с «арбитром Европы», каковым после 1856 г. все считали императора Франции, открывал перед Пьемонтом заманчивые перспективы. Именно поэтому Виктор-Эммануил смирился не только с предложенной ему партией для дочери, но и с перспективой утраты Савойи и Ниццы, за которые ему твердо была обещана внушительная территориальная компенсация, способная превратить Сардинское королевство в самую влиятельную силу на Апеннинском полуострове.
Король сообщил Наполеону о готовности заключить двусторонний военный союз. 24 января 1859 г. Виктор-Эммануил в Турине, а 26 января император Наполеон в Париже подписали секретный оборонительный договор против Австрии, оформивший достигнутые ранее договоренности.
Любопытно, что все это было сделано в обход официальной дипломатии Второй империи, по каналам личной секретной дипломатии императора французов, как во времена Людовика XV с его «секретом короля». Министр иностранных граф Валевский был полностью отстранен от участия в этом деле, а когда узнал о случившемся, то иронично назвал заключенный союз продуктом «термальной дипломатии»[343]. Валевский считал недопустимым для Франции следовать интересам Пьемонта, что было чревато непредсказуемыми последствиями. Именно с этого времени Наполеон стал подумывать о замене министра иностранных дел, и только завязавшийся у него роман с графиней Валевской несколько отсрочил принятие такого решения[344].
30 января 1859 г. состоялось бракосочетание 36-летнего «Плонпло-на» и 15-летней принцессы Клотильды. Франко-сардинский союз получил не только политическое, но и династическое оформление. Дело шло к войне в Северной Италии.
«Итальянский проект» Наполеона III был запущен в значительной степени благодаря поддержке со стороны России. Император Александр II оказался единственным из европейских монархов, кто, по собственным политическим соображениям, благожелательно отнесся к планам императора французов. «…Далеко не случайно, – справедливо отмечает авторитетный исследователь итальянского вопроса О.В. Серова, – переговоры с Кавуром о союзе Наполеон III начал лишь тогда, когда значительно продвинулся в достижении союза с Россией»[345].
Согласование позиций двух стран по итальянскому вопросу велось, начиная с 1857 г., причем на самом высоком уровне.
Встреча двух императоров. Штутгарт, сентябрь 1857 г.
К середине 1857 г. отношения между Россией и Францией являли собой, можно сказать, безоблачную картину Благожелательным содействием Наполеона III было достигнуто желанное всеми и приемлемое для России разграничение в Бессарабии. Начавшееся на конференции в Париже обсуждение будущего статуса Дунайских княжеств обещало успех и в этом деле. Взаимное доверие двух сторон существенно укрепилось в ходе визита во Францию великого князя Константина Николаевича в апреле-мае 1857 г. Этот визит открыл возможность для личного знакомства двух императоров. Сама идея этой встречи витала в воздухе, но реализовалась во многом неожиданно для всех.
Летом 1857 г. Александр II и Мария Александровна гостили в Германии, где императрица одновременно проходила курс водолечения. Там же, на одном из курортов, была в это время и вдовствующая императрица. Император и сопровождавший его в поездке князь Горчаков встречались с рядом владетельных германских князей, обсуждали положение в Европе. В Бадене Александра приветствовал оказавшийся там случайно генерал-адъютант императора французов Ревбель, который выразил сожаление, что о приезде русского императора в соседнюю с Францией страну не было заранее известно Наполеону III, который непременно приехал бы сюда, чтобы лично засвидетельствовать царю свою дружбу.
К приезду императорской семьи в Киссинген там собрались все русские послы при европейских дворах, в том числе и граф Киселев. Он старался убедить государя в необходимости каких-то новых шагов к сближению с Францией. Лучше всего, как ему представлялось, было бы устроить личное знакомство двух императоров на нейтральной территории – где-нибудь в Германии. Александр не стал возражать, заметив, что инициатива в этом знакомстве должна исходить от Наполеона. Киселев поспешил известить графа Валевского о принципиальной возможности встречи двух монархов.
Посредническую миссию в организации такой встречи взяли на себя братья Марии Александровны – принцы Александр и Людвиг Гессен-Дармштадтские, а также король Вюртемберга, пригласивший Наполеона III в Штутгарт, на свой день рождения, который он будет отмечать 15 сентября. Как бы между прочим, семидесятипятилетний король сообщал, что ждет на празднование и императора Александра. Наполеон принял приглашение, после чего началась подготовка к предстоящей встрече двух императоров.
Известие об этом немедленно разнеслось по всей Европе. Наибольшее беспокойство оно вызвало в Лондоне, где усмотрели в намеченной встрече интриги «политических аферистов» из окружения Наполеона III – графа де Морни и графа Валевского, а также близкого к Тюильри банкира Перейра, начавшего развивать деловую активность в России. По совету лорда Пальмерстона и внушению французского посла графа де Персиньи, поборника английского союза и недруга Морни и Валевского, королева Виктория пригласила Наполеона и императрицу Евгению провести несколько дней в своем любимом месте, в Осборне, на острове Уайт.
Встреча состоялась в последние дни июля, но возлагавшихся на нее Пальмерстоном и Персиньи надежд она не оправдала. Наполеон, пребывавший в мрачном настроении, признался принцу Альберту, супругу королевы, что ему надоели поучения и упреки Пальмерстона, который, к тому же, сознательно тормозит достижение договоренностей по Дунайским княжествам. Относительно предстоящей встречи в Штутгарте император признался, что рассчитывает заручиться поддержкой Александра II в пересмотре дискриминационных по отношению к Франции статей Венского договора 1815 г. Одновременно он заверил королеву, что остается верен франко-британскому союзу.
Из бесед с Викторией и принцем Альбертом Наполеон вынес убеждение, что ему трудно будет рассчитывать на поддержку сент-джеймского кабинета в осуществлении его планов в Северной Италии. Это лишь укрепило желание императора французов откровенно объясниться по этому, как и по другим вопросам, с Александром II – объясниться напрямую, без посредничества дипломатов и без всяких обычных условностей. Он еще не знал, что в этом отношении его ждет разочарование.
В Петербурге были далеки от мысли участвовать в перекраивании карты Европы. Там дорожили обретенным в 1856 г. миром, так необходимым для осуществления внутренних преобразований, задуманных Александром II. Со своей стороны, русский император и его министр иностранных дел хотели бы заручиться содействием Франции в отмене дискриминационных для России условий Парижского мира. Ради этого они были согласны пойти навстречу притязаниям Наполеона, но лишь в той мере, в какой эти притязания могли ущемить интересы Австрии.
О том, что Наполеон намерен на предстоящей встрече с царем поставить вопрос об Италии, предупреждал Горчакова граф Киселев. За неделю до встречи в Штутгарте он писал министру иностранных дел о крайней заинтересованности императора французов в обсуждении итальянских дел, тем более что он не нашел понимания у королевы Виктории. Обозначившиеся противоречия между Парижем и Лондоном, подчеркивал посол, могут сделать «возможным союз между Францией и Россией, если мы проявим готовность уступить в итальянском вопросе».
Киселев высказался в поддержку императора французов в Италии, но без принятия Россией четких обязательств перед Францией[346]. «…Как мне представляется, – резюмировал посол, – в наших интересах не следует заходить в итальянских делах дальше заключения определенного соглашения, которое оставило бы за нами полную свободу для прямого и активного вмешательства, сообразно обстоятельствам и нашим интересам»[347].
При подготовке встречи в Штутгарте не обошлось без интриг. В придворном окружении Александра II были и противники сближения с Наполеоном III. Они, конечно, не могли сорвать саму встречу, но сумели заблаговременно внести в нее элемент горечи.
Дело в том, что оба императора должны были прибыть в Штутгарт в сопровождении своих супруг. Однако незадолго до намеченного отъезда в Германию тюильрийский двор был уведомлен, что императрица Мария Александровна «по нездоровью» не сможет сопровождать своего августейшего супруга. Между тем она находилась в это время совсем неподалеку – на своей родине, в Дармштадте.
Каким-то непостижимым образом русским недоброжелателям семейства Бонапарт удалось довести до сведения императрицы Евгении письмо Марии Александровны к одной из ее компаньонок, где говорилось о нежелании знакомиться с супругой Наполеона. Надо ли говорить, как это признание уязвило самолюбие Евгении. Позднее она признавалась графу Киселеву: «Письмо это показалось мне, по меньшей мере, жестоким (cruelle). Я решилась не ехать в Штутгарт, несмотря на выраженное императором желание, и умоляла его не настаивать, говоря, что не могу преодолеть себя, и что гораздо осторожнее отклонить неприятную встречу, которая может иметь только прискорбные последствия»[348].
Кто знает – может быть эту «ложку дегтя» в предстоявшее в Штутгарте свидание двух императоров добавили не без участия агентов Лондона или Вены? Во всяком случае, вряд ли к случайному совпадению можно отнести настойчивые хлопоты саксен-веймарского двора, родственного петербургскому, об организации свидания Александра II с австрийским императором Францем-Иосифом сразу же по окончании встречи в Штутгарте. И ведь эти хлопоты увенчались успехом. Весьма неохотно, но Александр все же согласился повидаться с Францем-Иосифом в Веймаре, на обратном пути в Россию.
Известие об этом, полученное Наполеоном накануне приезда в Штутгарт, неприятно его поразило, став второй «ложкой дегтя» на предстоявшем праздновании дня рождения вюртембергского короля. Одновременно до сведения графа Валевского, сопровождавшего в Штутгарт императора, «доброжелатели» сумели донести информацию о том, будто, «недомогавшая» в Дармштадте Мария Александровна намерена принять у себя австрийского императора. Обеспокоенный Валевский поинтересовался у находившегося в Бадене прусского дипломата Отто фон Бисмарка, правдив ли этот слух.
25(13) сентября оба императора, сопровождаемые своими министрами иностранных дед и министрами двора – графом В.Ф. Адлербергом и генералом Э.Ф. Флёри – съехались в Штутгарте. Их первая встреча, носившая характер знакомства, продолжалась не более получаса. В это время князь Горчаков в соседнем зале беседовал с графом Валевским. Беседы были прерваны обедом, по окончании которого Наполеон имел продолжительный разговор с Горчаковым, пока император Александр разговаривал со своей сестрой Ольгой Николаевной, супругой наследного принца вюртембергского. Вечер оба императора провели в гостях у Ольги Николаевны, на ее вилле, куда на следующий день прибыла из Дармштадта внезапно выздоровевшая императрица Мария Александровна. Наполеон нанес ей визит вежливости. Супруга Александра выразила императору французов свое глубокое сожаление в связи с отсутствием императрицы Евгении.
27 сентября все собрались на дне рождения короля Вюртемберга. Накануне празднования и на последующее утро Александр и Наполеон в течение нескольких часов беседовали тет-а-тет. 28 сентября русская императорская чета отбыла в Дармштадт. Наполеон проводил их на железнодорожный вокзал и в тот же день сам покинул Штутгарт.
Каково было содержание переговоров двух императоров в Штутгарте?
Никаких протоколов и записей там не велось. Об этом можно судить только по последующей за встречей дипломатической переписке и отдельным свидетельствам ее участников, в частности Александра II. Значительную часть времени у собеседников заняло обсуждение вопросов европейской политики и выяснение точек соприкосновения в позициях двух стран по интересующим их проблемам. Как Александр, так и Наполеон, согласились в том, что всякие революционные потрясения опасны для мира и спокойствия в Европе.
Наполеон жаловался Александру на вызывающее поведение Австрии в Северной Италии, где она явно вышла за рамки договоров 1815 года. Он поинтересовался мнением царя о том, не настало ли время положить конец присутствию Австрии на Апеннинском полуострове? Александр ограничился многозначительным заявлением, что не допустит повторения ошибки 1849 г. когда во время восстания в Венгрии Россия спасла Габсбургскую империю. Когда Наполеон поинтересовался целью предстоящей встречи Александра с Францем-Иосифом в Веймаре, русский император заверил своего собеседника, что ни в каком случае эта встреча не повлияет на его политический курс и на доверительные отношения с Францией. Это не более чем вежливая формальность. Так оно и будет в действительности. Свиданию с Францем-Иосифом в Веймаре Александр придаст чисто формальный характер, не оправдав возлагавшихся на него венским двором надежд.
Одновременно с монархами переговоры в Штутгарте вели и министры иностранных дел – Горчаков и Валевский. Они обсуждали возможность заключения союзного договора между Россией и Францией, причем инициатива в этом вопросе исходила от французской стороны. В результате обмена мнениями министрам удалось согласовать позиции по трем основополагающим пунктам предполагаемого договора: оба императора предварительно должны достигнуть договоренности по тем вопросам, которые имеют общеевропейское значение, что исключит всякую возможность участия России и Франции в любой коалиции, направленной против одной из стран; Россия и Франция возьмут на себя обязательство действовать согласованно на Востоке и достичь договоренности в случае распада Оттоманской империи; дипломатическим и консульским представителям двух стран на Востоке, начиная с настоящего момента, будет предписано согласовывать свои действия[349].
Валевский попытался убедить Горчакова в необходимости включить в предполагаемый договор статью об Италии, подчеркнув, что Франция может пойти на войну в этом районе только «если ее к этому вынудят». Русский министр ответил довольно уклончиво: «…Там будет видно, – сказал он. – Бесполезно заранее принимать решения по поводу отдаленных возможностей, а Франция, по достижении интимного согласия с нами, будет располагать шансом и для договоренности с нами в случае необходимости» [350].
Тем самым французской стороне был подан недвусмысленный сигнал: хотя Россия считает преждевременным включение «итальянской статьи» в текст предполагаемого договора, тем не менее, она понимает и поддерживает устремления Франции в Северной Италии. Наполеон правильно понял смысл поданного ему сигнала.
На встрече в Штутгарте все шло очень хорошо, пока Наполеон не завел разговор о Польше, что ему настоятельно не советовал делать граф Валевский, как никто другой, знавший о крайне болезненном отношении Петербурга к этой теме.
По возвращении в Париж Наполеон сам передал свой разговор об этом графу Киселеву «Что касается отношений России и Франции, то я вижу только один вопрос, который может стать щекотливым, – сказал он Александру – Это вопрос польский, если он должен подняться снова и занять собой европейскую дипломатию, я имею обязательства, от которых не могу отречься, и должен щадить общественное мнение, которое во Франции очень благоприятно Польше. Об этом обязательстве я должен откровенно предупредить ваше величество, чтобы не пришлось прервать наши добрые отношения, которыми я так дорожу»[351].
Подобную «откровенность» Александр не мог воспринять иначе как недвусмысленный ультиматум. Он едва сумел скрыть свое негодование. Подчеркнуто холодным тоном царь ответил, что никто более его самого не желает Польше спокойствия и преуспевания, но что любое внешнее вмешательство в польские дела может только им повредить, возбудив у поляков несбыточные надежды. Едва Наполеон распрощался с Александром, как последний, обратясь к кому-то из свиты, возмущенно произнес: «Мне осмелились говорить о Польше» [352].
Наполеон совершил очередную, вторую по счету, ошибку. Еще на Парижском конгрессе он пытался говорить на эту тему с графом Орловым, который не только отказался ее обсуждать, но и дал понять, что ради сохранения добрых отношений с Россией никогда не следует поднимать этот вопрос. Император французов проигнорировал этот дружеский совет. В результате подготовленные и согласованные в Штутгарте Горчаковым и Валевским документы по вопросу о судоходстве через Дарданеллы и о государственном устройстве Дунайских княжеств так и остались неподписанными. Как образно сказал биограф Александра II, «роковое слово «Польша» внесло семя раздора в зарождавшуюся дружбу России и Франции»[353].
Тем не менее, обе стороны демонстрировали полное удовлетворение состоявшимся знакомством двух императоров и результатами их переговоров.
Киселев сообщал из Парижа, что французское общественное мнение приветствовало новый шаг в сближении двух стран, хотя оппозиционные органы печати и попытались преуменьшить значение встречи в Штутгарте, противопоставляя ей предшествующую встречу Наполеона с королевой Викторией в Осборне. В ответ, как писал Киселев, правительственные газеты выступили с серией публикаций, превозносящих франко-русскую дружбу[354].
Наполеон заверял в этом Киселева, не преминув заметить, что рассчитывает на поддержку России в деле «обретения Францией ее естественных границ по Рейну и Альпам». «Европа, – продолжал он, – совершила по отношению к Франции очевидную несправедливость (имелись в виду Венские договора 1815 г. – П.Ч.). Эта несправедливость должна быть исправлена. От этого будет зависеть сохранение мира»[355]. А в другом разговоре император французов сказал Киселеву, что «рассматривает итальянский вопрос как постоянную угрозу миру в Европе»[356].
В этом, как полагал русский посол, Наполеон не может рассчитывать на Англию, которая скорее поддержит Австрию, что послужит для императора французов дополнительным стимулом к дальнейшему сближению с Россией. Не может быть случайным, отметил Киселев, что в беседах с ним Наполеон часто связывает итальянский вопрос с проблемой Галиции, которая, по его мнению, должна отойти к России. «В числе заветных желаний, вынашиваемых этим государем, – писал Киселев, – на первом месте стоит вопрос о естественных границах [для Франции], но пока он не видит, когда сможет реализовать эту мечту»[357].
Со своей стороны, временный поверенный в делах Франции в Петербурге Шарль Боден сообщал в Париж, что в русском обществе встреча в Штутгарте трактуется как свидетельство намерения императора Наполеона отказаться от английского союза в пользу русского. Эти настроения настолько усилились, что французскому дипломату пришлось даже в частных разговорах опровергать это мнение, подчеркивая, что встреча в Штутгарте носила более личный, нежели политический характер и что не в привычках императора французов изменять старым друзьям, что, конечно, не мешает ему заводить новых[358].
Князь же Горчаков по возвращении из Штутгарта передал французскому поверенному в делах, что император Александр полностью удовлетворен состоявшимся личным знакомством с императором Наполеоном[359]. Сами императоры воспользовались новогодними праздниками, чтобы во взаимных посланиях отметить важную роль встречи в Штутгарте для налаживания и углубления сотрудничества России и Франции [360].
Взвешенная оценка Штутгартской встречи была дана позднее, в отчете МИД за 1857 год. Как правило, отчеты за истекший год князь Горчаков представлял императору в марте следующего года. В данном случае речь идет о марте 1858 г.
Встреча в Штутгарте, состоявшаяся по инициативе Наполеона III, как отмечал Горчаков, стала результатом желания Франции заручиться поддержкой России для укрепления своего влияния в Европе. После окончания Восточной войны, писал министр иностранных дел, французское правительство «отчетливо осознало, что, несмотря на значительные жертвы и блестящую роль ее армии, влияние Франции оказалось парализовано влиянием Англии и Австрии. Сила обстоятельств толкала ее к тому, чтобы опереться на Россию…» [361].
Данная тенденция в политике Франции, продолжал Горчаков, отвечала интересам России, оказавшейся в одиночестве еще в период Крымской войны. Взаимная заинтересованность друг в друге и привела двух императоров в Штутгарт.
Непредсказуемый характер императора французов, склонного к неожиданным действиям и поступкам, побуждал императора Александра к бдительности и осмотрительности. Перед ним стояла задача, с одной стороны, избежать возможных недоразумений и взаимных претензий от несовпадения позиций двух стран по отдельным вопросам, а с другой – не дать связать себя какими-то формальными обязательствами, не отвечающими национальным интересам России[362].
Откровенность состоявшихся между двумя императорами бесед, подчеркивал Горчаков, выявила по большинству обсуждавшихся вопросов взаимопонимание, что дает все основания полагать, что «встреча в Штутгарте останется в истории памятным событием»[363].
Теперь, после того как окончательно определилась взаимная заинтересованность в двустороннем сотрудничестве, «важно, чтобы это желание было воплощено в конкретные дела, в совместные действия», резюмировал министр иностранных дел России[364].
Именно встреча в Штутгарте стала исходным моментом для дальнейшего сближения Франции и Пьемонта перед лицом общего противника – Австрии. Но перед тем как заключить военный союз с Виктором-Эммануилом, император французов должен был утвердиться в убеждении, что может рассчитывать на поддержку России.
Он настойчиво интересуется этим у русского посла в Париже графа Киселева, который передает содержание своих разговоров с Наполеоном князю Горчакову. Один из таких разговоров между ними состоялся в начале мая 1858 г. «Сообщения, которые я получаю из Италии относительно тамошних умонастроений – неутешительны, – сказал Наполеон; – повсюду брожение, и конфликт может возникнуть в момент, когда его меньше всего ожидаешь. Моя беседа в Штутгарте с императором Александром относительно Италии и уверения, которые он мне пожелал дать по этому случаю, позволяют мне надеяться на его действенную помощь. Не могли бы Вы что-то добавить к этому?», – заинтересованно спросил Наполеон[365]. Киселев ограничился личным заверением относительно того, что его император всегда согласует свои действия со своими словами.
Истинные намерения Александра II относительно итальянских планов Наполеона и его пьемонтского союзника были изложены в секретном личном письме Горчакова от 27 мая 1858 г., адресованном Киселеву с пометой – «лишь для Вас одного». «Мы, – писал Горчаков о возможной реакции России в случае войны в Северной Италии, – обязались бы сдерживать на нашей границе со стороны Австрии наблюдательный корпус достаточный, чтобы заставить эту державу значительно усилить свои войска с этой стороны, поставив ее перед невозможностью их использовать в Италии, а не давая объяснений, мы оставим венский кабинет в неизвестности в отношении наших окончательных намерений.
Но в обмен мы просили бы обязательства французского правительства содействовать средствами, имеющимися в его распоряжении, аннулированию статьи, которая ограничивает наши силы на Черном море, статьи, которая с его стороны рассматривалась бы как недействительная. У нас нет никакого намерения и заинтересованности увеличивать безмерно число наших кораблей на этом море, но мы не можем оставаться под бременем условий, несовместимых с положением государства первого порядка. Если вопрос разрешится таким образом, письменный договор будет неукоснительно соблюдаться. Мы не выдвигаем никаких возражений против того, чтобы он оставался секретным, лишь бы он был обязательным. Когда мы говорим, что в ходе войны Франции с Австрией мы соглашаемся предпринять мощный отвлекающий маневр путем концентрации войск, то при этом почти подразумевается, что мы не будем оспаривать у императора Наполеона материальные приобретения, которые будут вытекать из его успехов в Италии. Но подобное расположение не может быть зафиксировано в письменном документе, и при удобном случае вы должны это изложить лишь устно»[366].
Горчаков предупредил Киселева о недопустимости обсуждения хотя бы одного из затронутых в его письме вопросов с кем-либо, кроме самого императора Наполеона. Министр иностранных дел Валевский не должен быть посвящен в содержание этих конфиденциальных обсуждений – во всяком случае, до тех пор, пока оба императора не сочтут необходимым ввести его в курс дела.
Разъяснение российской позиции по итальянскому вопросу, данное Киселевым в конфиденциальном порядке Наполеону, побудило императора французов немедленно приступить к переговорам с Пьемонтом об условиях военного союза. Эти строго секретные переговоры, как уже говорилось, состоялись между Наполеоном и графом Кавуром 21 июля 1858 г. в водолечебнице лотарингского городка Пломбьер.
По достижении договоренностей, одобренных Виктором-Эммануилом, и перед тем, как подписать военное соглашение с Сардинским королевством, Наполеон решил получить от Александра II подтверждение высказанных царем в Штутгарте намерений относительно Северной Италии.
Для этого он решил направить на встречу с Александром II своего кузена, принца Наполеона. Было известно, что Александр намеревался в сентябре 1858 г. приехать в Польшу. Туда-то и отправил Наполеон своего эмиссара. Официальная цель его поездки – упрочение связей двух царствующих домов.
25 сентября император, отдыхавший в Биаррице, поручил Валевскому передать новому послу Франции в Петербурге герцогу де Монтебелло телеграмму следующего содержания: «Император, желая дать очередное свидетельство своего дружеского расположения к императору Александру, направляет в Варшаву принца Наполеона»[367].
Принц Наполеон в Варшаве (сентябрь 1858 г.)
Этому неожиданному для императора Александра визиту предшествовал еще один неофициальный контакт между Петербургом и Парижем, имевший место в самом начале 1858 г. Поводом к нему послужило упоминавшееся уже покушение Ф. Орсини на жизнь императора Наполеона. «Ужасное покушение, едва не прервало жизни Их Императорских Величеств, – сообщал 15 января телеграфной депешей в Петербург граф Киселев. – В момент, когда император и императрица подъезжали к Опере, три бомбы были брошены на пути их следования. Их Величества не пострадали. Публика встретила их появление в зале овациями, которые неоднократно возобновлялись до самого окончания представления…
Собравшаяся перед театром толпа с энтузиазмом приветствовала выход Их Величеств. Бульвары на пути их следования по этому случаю были освещены»[368].
Сообщение Киселева вызвало самую сочувственную реакцию в семье императора Александра. В тот же день из Петербурга на имя посла ушла телеграфная депеша, составленная Горчаковым. В ней говорилось: «Император приказывает вам от своего имени и от имени императрицы выразить их радость в связи с тем, что Божественным Провидением были спасены жизни императора и императрицы французов»[369].
На следующий день, 16 января, император принял временного поверенного в делах Франции маркиза де Шаторенара и передал ему письмо, адресованное Наполеону с выражением сочувствия по поводу «ужасного инцидента» и своей радости по случаю благополучного спасения[370].
По всей видимости, Александр II посчитал недостаточным официальный дипломатический канал. Он написал второе личное письмо императору французов и поручил доставить его в Париж не обычному курьеру или дипломату, а своему генерал-адъютанту, светлейшему князю Варшавскому, графу Эриванскому Ф.И. Паскевичу, сыну бывшего наместника Польши. Графу Киселеву было поручено известить тюильрийский двор о его предстоящем приезде[371].
«Я хочу снова повторить Вам, – писал Александр Наполеону, – с какой радостью мы узнали, что Провидение даровало Вам свою защиту, продлив Ваши и Императрицы дни. Мой генерал-адъютант князь Варшавский, на которого я возложил обязанность вручить это письмо лично Вам в руки, может засвидетельствовать Вашему Величеству те глубокие чувства, которые мы с императрицей испытали, узнав об ужасном заговоре против Вас. Он Вам расскажет, что только благодаря Господу мы сохранили рассудок после этого события, которое могло бы обернуться самым пагубным образом для благополучия Франции и спокойствия всей Европы. В том общем беспокойстве о Вашем Императорском Величестве Вы имели случай убедиться в ценности Вашей жизни. Вы можете быть уверены, что никто не осознает этого больше, чем я, и что это не просто чувство, вызванное переживаемым моментом. Это чувство отражает сердечность моего личного отношения к Вам. Я, как и Императрица, прошу Вас помнить об этом и принять наши искренние в том уверения, верить в то глубокое уважение и ту неизменную дружбу, которые я испытываю к Вам…»[372].
Помимо понятной человеческой солидарности с «добрым братом», чудом избежавшим смерти, в письме Александра совершенно определенно выражалось беспокойство о возможных последствиях трагического исхода покушения для общей политической ситуации в Европе, которая совсем недавно пережила волну революционных потрясений и Восточную войну. Никто не мог с уверенностью сказать, что произошло бы в самой Франции в случае гибели императора (и императрицы). Удержалась бы Вторая империя, имея во главе двухлетнего младенца «Лулу», или верх взяли бы противники режима? И какая расстановка сил сложилась бы в европейском концерте держав? В любом случае – и Александр это хорошо понимал – наметившееся сближение с Францией было бы поставлено под вопрос, и Россия рисковала вновь оказаться в одиночестве, как в 1853–1854 гг. И в этом смысле чувства царя, выраженные в письме к императору французов, были совершенно искренними.
Это засвидетельствовал и маркиз де Шаторенар. В донесении графу Валевскому он сообщал, что на недавнем бале во дворце к нему подошли члены императорской семьи во главе с государем с выражением глубоких переживаний в связи со случившимся у здания Оперы трагическом происшествии. «Эти чувства императорской семьи, – добавил
Шаторенар, – повсеместно разделяют в здешнем обществе. Все эти дни я получаю многочисленные свидетельства сочувствия…»[373].
Тем временем генерал Паскевич прибыл в Париж, и уже на следующий день, 27 января, сопровождаемый графом Киселевым, получил аудиенцию у Наполеона III во дворце Тюильри. Он передал императору письмо своего государя, а также письмо великого князя Константина Николаевича, составленное в самых теплых выражениях. Наполеон был очень приветлив с посланцем русского царя, поручив передать ему слова благодарности и заверения в неизменности своих чувств, как и намерение продолжать курс на сближение с Россией[374]. В завершение аудиенции он сказал, что к отъезду князя из Парижа подготовит ответное письмо императору Александру.
В десятидневное пребывание в столице Франции Паскевич был принят принцем Наполеоном и принцессой Матильдой, обедал в кругу императорской семьи. Император пригласил его принять участие в охоте в окрестностях Рамбуйе. Одним словом с посланцем царя обходились самым предупредительным образом, о чем Киселев не преминул доложить в Петербург[375]. На прощание Наполеон удостоил князя Варшавского ордена Почетного легиона. Вечером 6 февраля обласканный всеобщим вниманием генерал Паскевич с чувством выполненного долга и самыми приятными впечатлениями покинул Париж, увозя с собой личное послание императора французов императору всея Руси[376].
«Дело Орсини» самым неожиданным образом сказалось и на франко-британских отношениях. В ходе следствия выяснилось, что Орсини и его сообщники запасались оружием в Англии, где чувствовали себя достаточно свободно. Это вызвало волну антианглийских публикаций во французской проправительственной печати.
В Тюильри уже давно были недовольны поучительно-менторским тоном главы британского кабинета лорда Пальмерстона в отношении Франции. Император даже не скрывал своего раздражения, не раз высказывая его не только послу Ее Величества в Париже, но и самой королеве, а также принцу-консорту, когда встречался с ними. Политика кабинета Пальмерстона, не склонного считаться с интересами французского союзника, имела следствием охлаждение между Парижем и Лондоном. «Французский кабинет проявляет все большую свободу в своих действиях, – констатировал Горчаков в министерском отчете за 1858 год. – Отношения между двумя странами [Францией и Англией] представляют собой странный спектакль – согласие в словах, враждебность в делах»[377].
Падение Пальмерстона в феврале 1858 г. и приход к власти консервативного кабинета Дерби – Малмсбери не изменили эту тенденцию. Наполеон понял, что не может рассчитывать на безусловную британскую поддержку в осуществлении его замыслов в Италии. Здесь ему нужен был другой союзник, и он его обрел в Штутгарте.
Луи-Наполеон не мог пойти дальше в реализации своих планов, не будучи твердо уверен в том, что будет поддержан Александром II. Такая поддержка в принципе ему была обещана в Штутгарте. Теперь, прежде чем начать действовать, император французов хотел бы получить подтверждение.
Известие о предстоящем визите личного представителя французского императора застало врасплох и Александра II, и его министра иностранных дел. Тем не менее, незамедлительно были приняты все необходимые меры для организации достойного приема кузена императора. «Император Александр распорядился подготовить резиденцию для проживания принца Наполеона, – сообщал в Париж герцог де Монтебелло. – На границе [Царства Польского] его будет ожидать специальный поезд. Князь Горчаков пока не называет имя того, кто будет встречать Его Высочество, но мне известно, что этим представителем уже назначен князь Варшавский» [378].
28 сентября принц Наполеон со свитой был уже в Варшаве, куда он прибыл в сопровождении знакомого ему по недавним встречам в Париже генерала Паскевича, встречавшего его на прусско-польской границе.
О своем приезде он лично известил императора Наполеона телеграммой[379].
В первый же день состоялось его знакомство с Александром II, который пригласил принца присутствовать 29 сентября на учениях кавалерии и артиллерийских частей. Учения проходили под личным командованием императора. По их окончании, как сообщал принц в письме своему кузену, император любезно предложил принцу принять участие в предполагавшейся охоте. Другим приглашенным на охоту был правящий герцог Саксен-Веймарский.
После охоты был дан обед на сто кувертов. Вечер завершился спектаклем и ночным праздником в дворцовом парке, принадлежащем графу Августу Потоцкому
30 сентября состоялся высочайший смотр войскам и обед в обществе императора, который вручил принцу орден св. Андрея Первозванного. Награды переданы были и сопровождающим его французским офицерам[380]. А вечером того же дня Александр и принц Наполеон распрощались, внешне вполне довольные друг другом.
Разумеется, принц приезжал в Варшаву не только для участия в царской охоте и для присутствия на военных маневрах. У него было совершенно конкретное поручение – обсудить с императором Александром реальные перспективы разрешения узла противоречий в Северной Италии, где Наполеон предполагал добиться уступки Францем-Иосифом Ломбардии сардинскому королю Виктору-Эммануилу, а себе заполучить Савойю и Ниццу. Поскольку королева Виктория не обнаруживала никакого желания поощрять Наполеона в осуществлении этого замысла, император французов очень надеялся на поддержку Александра II. В общем плане они уже говорили об этом в Штутгарте. Теперь Наполеон хотел бы получить подтверждение обещанной поддержки со стороны России. Он решил не пускать это деликатное дело по обычным дипломатическим каналам, а прибегнуть к личной дипломатии.
Вот что он сам писал по этому поводу императору Александру: «…Я решил послать к Вашему Императорскому Величеству принца Наполеона, прежде всего для того, чтобы он предоставил Вам новое доказательство наших чувств, а также для обсуждения насущных дел. Идеи, которыми мы обменялись в Штутгарте, навсегда останутся запечатлены в моей памяти, а моим самым сильным желанием является увидеть, как они приведут к какому-нибудь определенному результату. Ваше Величество можете доверять моему кузену и быть уверены в том, что все, что Вы ему скажете, будет строго сохранено как им, так и мною.
Новости, которые я получил из Италии, заставляют меня опасаться осложнений с этой стороны. Я хотел бы в связи с этим, прежде чем принять участие в этом вопросе, условиться с Вашим Величеством, что должно быть предпринято, как это было оговорено в Штутгарте, и я связываю наш союз со свободным выполнением этих обязательств» [381].
Разумеется, беседы принца Наполеона с русским императором велись без протоколов и лишних свидетелей. Исключение составлял князь Горчаков, которого приглашали для получения дополнительных разъяснений. В ходе этих встреч предполагавшийся на случай австро-франкосардинской войны секретный договор между Россией и Францией приобрел более конкретные очертания.
Принц Наполеон возвращался в Париж, получив твердое обещание косвенно, но эффективно поддержать Францию в назревавшем конфликте с Австрией. Детали договорились обсудить на специальных, сугубо секретных переговорах. Покидая Варшаву, принц, со своей стороны, недвусмысленно дал понять Александру II, что император Наполеон готов будет предоставить России «поддержку Франции в перспективе пересмотра Парижского договора»[382]. Сколько таких обещаний царю и его министру иностранных дел придется еще услышать от доверенных лиц императора французов!..
Сам Александр в письме к Наполеону оценил встречу в Варшаве следующим образом: «Я благодарю Ваше Императорское Величество за то, что Вы отправили принца Наполеона, – писал он. – В этих Ваших действиях я увидел еще одно доказательство Вашей дружбы. Как Вы и хотели, принц Наполеон говорил о вопросах, которые являлись темой наших переговоров в Штутгарте. Я люблю возвращаться в мыслях к этому времени. Оно явилось началом наших личных взаимоотношений. И развитие этих отношений будет служить интересам наших стран, я в этом уверен. Принц Наполеон выполнил свое поручение с полной ответственностью и искренностью. Я ответил на это со всем доверием, что Вы вдохновляете меня, и что я прошу Вас позволить мне гордиться тем, что Вы отправили ко мне Вашего кузена. Он подтвердит Вам мою убежденность в отношении преданности идеям, которыми мы обменялись в Штутгарте, удовлетворение, которое я испытываю от создания новых связей, которые укрепили наши отношения…» [383].
По возвращении принца в Париж граф Киселев проинформировал Горчакова о реакции в обществе на Варшавскую встречу. Отметив, что она привлекла к себе всеобщее внимание, русский посол выделил три точки зрения на состоявшиеся переговоры. «Одни, – писал Киселев, – усмотрели в этом шаг к согласию между нами и Францией по политическим вопросам, стоящим сегодня в повестке дня. Другие связывают с этим возможность приезда в Париж нашего августейшего государя… А некоторые газеты распространяют слухи, будто, в Сен-Клу[384] остались недовольны тем приемом, который был оказан в Варшаве кузену императора Наполеона»[385].
Действительно, император Александр принимал принца Наполеона со всей подобающей вежливостью, но вместе с тем и достаточно сдержанно. О причинах этой сдержанности, не оставшейся незамеченной, можно только догадываться. Скорее всего, дело было в репутации «красного принца», который, к тому же, покровительствовал польской эмиграции во Франции. Принц неоднократно выступал с заявлениями в защиту «угнетенной Польши». К тому же, в Петербурге знали, что кузен императора не пользуется большим влиянием в Тюильри, и, видимо, гадали, почему именно ему была доверена столь деликатная миссия, нет ли здесь какого-то подвоха?
Разумеется, граф Валевский в ответ на соответствующий запрос Киселева, решительно опроверг эти «необоснованные слухи»[386].
Между тем посол Франции в Петербурге герцог де Монтебелло сообщал в Париж о большом впечатлении, которое произвела на русское общество встреча императора Александра и принца Наполеона в Варшаве. Иностранцы же, находящиеся здесь, отметил посол, обращают внимание на то, что впервые император Наполеон проявил подобный акт вежливости в отношении царя. «Один из них, – писал Монтебелло, – выразил эти настроения следующей фразой: «До сих пор император Наполеон ограничивался тем, что позволял себя любить». «В целом же, – резюмировал Монтебелло, – поездке принца Наполеона придают здесь важное политическое значение, не уточняя, правда, что под этим понимают» [387].
А вернувшийся из Варшавы князь Горчаков, словно дезавуируя слухи, распространявшиеся в Париже, заверял Монтебелло, что принц Наполеон произвел наилучшее впечатление на императора Александра. «Он показался ему умным, тактичным и взвешенным в суждениях. Манера его обхождения со всеми, с кем он общался, снискала ему всеобщее расположение», – цитировал Горчакова французский посол[388].
Оценка содержания и результатов переговоров Александра II с принцем Наполеоном в Варшаве была дана в личном секретном письме Горчакова графу Киселеву от 20 ноября 1858 г.[389] Отметив, что миссия принца Наполеона имела целью прояснение настроений императора Александра спустя год после встречи в Штутгарте с Наполеоном III, Горчаков писал: «Император Наполеон в скором времени предвидит возможность войны в Италии, которая поставит его перед необходимостью поддержать Сардинию».
Подчеркнув заинтересованность России в сохранении мира в Европе, Горчаков вместе с тем отметил, что в случае войны «мы дадим императору Наполеону доказательства желания сохранить наши отношения своим благожелательным нейтралитетом и сосредоточением армейского корпуса на австрийской границе, достаточного, чтобы парализовать этим действия 150 тыс. австрийцев».
Взамен посланец Наполеона III, как сообщил Киселеву вице-канцлер, доверительно подтвердил намерение своего кузена оказать «самую действенную помощь в вопросе об отмене статей Парижского договора, унизительных для России…».
Подобного рода намерения император французов неоднократно высказывал и непосредственно Киселеву.
Итоги переговоров в Варшаве в целом удовлетворили ожидания Наполеона III, который после возвращения кузена в Париж принял окончательное решение о войне с Австрией и ускорил подготовку союзного договора с Пьемонтом, заключенного в январе 1859 г.
Вместе с тем император по-прежнему желал избежать ответственности как зачинщик войны. Он надеялся спровоцировать Австрию выступить первой. Одновременно Наполеон продолжил секретные переговоры с Александром, торопясь заключить с ним формальное соглашение до начала военных действий.
Секретный договор 3 марта 1859 г.[390]
В развитие достигнутых в Варшаве договоренностей в ноябре 1858 г. в Петербург прибыл личный эмиссар императора французов капитан первого ранга (capitaine de vaisseau) барон Камил де Да Ронсьер Ле Нури уполномоченный для ведения строго конфиденциальных переговоров о заключении двустороннего соглашения относительно взаимодействия в Северной Италии.
Официально было объявлено, что Ла Ронсьер послан в Петербург принцем Наполеоном, которого император предполагал назначить главнокомандующим морскими силами Франции, для изучения структуры морского министерства России. При этом французское посольство в столице Российской империи не было проинформировано относительно истинной цели миссии Да Ронсьера. Посол герцог де Монтебелло находился в это время в отпуске во Франции, а временный поверенный в делах маркиз де Шаторенар пребывал в искреннем убеждении, что капитан де Да Ронсьер проводит время в Адмиралтействе в беседах с великим князем Константином Николаевичем и русскими адмиралами.
Перед отъездом в Петербург императорский эмиссар получил специальный шифр, чтобы в случае необходимости сообщаться с Парижем в обход посольства. У него было только два адресата – принц Наполеон и сам император. По этой причине в архиве Кэ д’Орсэ нет документов, относящихся к первой миссии барона де Да Ронсьера Де Нури[391].
Содержание конфиденциальных переговоров, которые эмиссар Наполеона III вел в Петербурге, подробно раскрыто в записке, составленной Горчаковым на имя Александра II весной 1859 г.[392]
Вице-канцлер отмечал, что барон де Да Ронсьер Де Нури привез с собой два проекта. Первый, сугубо секретный проект предусматривал, что Россия в случае войны займет позицию благожелательного по отношению к Франции нейтралитета и сосредоточит на русско-австрийской границе в Галиции силы, способные парализовать возможную переброску 150-тысячной австрийской армии на Итальянский фронт. Предполагалось также, что оба государя приложат усилия для того, чтобы дать понять своим союзникам (Франция – Англии), Россия – Пруссии и другим германским государствам, что «всякий агрессивный акт против одной из двух держав будет рассматриваться другой, как враждебный акт, направленный против нее самой».
Второй проект представлял собой личные обязательства обоих государей в процессе послевоенного урегулирования конфликта в Северной Италии. Наполеон обещал, что если Россия вступит в войну с Австрией на стороне Франции и Пьемонта, он окажет ей всю возможную поддержку при заключении мира в приобретении Галиции. Россия, со своей стороны, дает согласие на присоединение к Франции Савойи и Ниццы, а также поддержит намерение Пьемонта создать государство Верхней
Италии с населением в 10 миллионов человек. Кроме того, Наполеон выражал надежду на то, что Александр не станет возражать против образования независимого Венгерского государства.
За все это Франция готова будет оказать России поддержку в «изменении условий трактата 1856 г.», ограничивающих ее суверенитет в Черном море.
В последнем пункте второго проекта Наполеон обязывался предупредить царя о начале войны не позднее, чем за месяц до ее начала, а взамен пожелал, чтобы Россия разорвала дипломатические отношения с Австрией через несколько недель после начала военных действий.
«Такова была совокупность этих предложений, – резюмировал Горчаков содержание французского проекта в докладной записке Александру II. – Их исходная точка, – продолжал он, – необходимость тесной близости между Францией и Россией – отвечала принципам политики вашего величества. Но следовало тщательно взвесить условия, на которых обе стороны вступили бы в этот союз. В противовес к несомненным выгодам, которые извлекла бы из них Франция, получили ли бы мы не только компенсацию, но и гарантию столь же действенной поддержки, как та, которую у нас требовали? – задавался вопросом князь Горчаков, и тут же давал отрицательный ответ.
«Были основания полагать, что предложенный союз не отвечал бы такой справедливой программе, – констатировал он. – Помощь, которую от нас требовали, неизбежно ввергла бы нас в европейский пожар, который революция и общее пробуждение народностей сделали бы вдвойне опасным и который поглотил бы средства необходимые для проведения наших внутренних реформ, нанеся ущерб стране».
По целому ряду положений французский проект не мог быть принятым Александром II и вице-канцлером. Во-первых, они опасались разрастания конфликта в Северной Италии, его распространения на другие районы Европы. Во-вторых, они не желали воевать с Австрией, тем более что Россия не претендовала на австрийскую Галицию, о чем неоднократно предупреждали императора Наполеона. В третьих, будучи заинтересованы в ослаблении Австрии, царь и его министр иностранных дел не хотели доводить дело до распада Габсбургской империи, т. к. вслед за созданием независимой Венгрии неизбежно встал бы вопрос о независимости Польши. И, наконец, обещание Наполеона содействовать «изменению условий трактата 1856 г.» носило слишком неопределенный, ни к чему не обязывающий характер. К тому же, в Петербурге сочли излишним заключение двух отдельных соглашений, предложив ограничиться одним.
В то же время Горчаков считал необходимым продолжить поиски компромиссного варианта соглашения, исходя из заинтересованности
России в таком соглашении. «Отказаться от него, – подчеркивал министр в докладной записке, – означало бы снова толкнуть императора Наполеона в объятия Англии. Прошлое достаточно нам доказало, какие могут быть из этого последствия…
Оставалась альтернатива – продолжать дружественное согласие с Францией, которое уже послужило нашим восточным интересам, и укрепить его, оказывая Франции все зависящее от нас содействие в ее интересах на Западе».
Продолжение диалога, по убеждению Горчакова, должно было строиться на «полной равноценности» взаимных обязательств обеих сторон.
Принципиально важным для Горчакова было закрепить в договоре конкретное обещание Наполеона в содействии отмене дискриминационных статей Парижского договора 1856 г. Вице-канцлер предложил внести в текст будущего договора следующую формулировку: «Так как русский император рассматривает статью Парижского трактата, которая ограничивает его морские силы в Черном море, как посягательство на свои суверенные права, император Наполеон обещает при заключении мира поддерживать изменение трактата в смысле изъятия этой статьи и обязуется не придавать значения гарантии, которая лежит на нем, касательно сохранения этой статьи, если представится случай»[393].
Капитан де Да Ронсьер не имел полномочий принимать подобного рода формулировку и обещал довести ее до сведения своего императора.
Одновременно Горчаков попросил передать Наполеону III еще несколько пожеланий Александра II: царь не имеет намерений присоединять к себе Галицию; он не может также согласиться на разрыв дипломатических отношений с Австрией, как того хотел бы император французов; Венгрия не должна упоминаться в тексте договора, но если развитие событий само приведет к утверждению венгерской независимости, то Россия не стала бы этому противиться [394]; не следует прямо упоминать в договоре Савойю и Ниццу, достаточно фиксирования в нем согласия России на присоединение к Франции тех территорий, которые будут ей уступлены Италией.
В конце первой декады декабря капитан де Да Ронсьер Ле Нури незаметно покинул Петербург и отправился в Париж, где подробно доложил императору и принцу Наполеону о своих переговорах с Горчаковым.
По определению самого Горчакова, в Тюильри испытали «тягостное разочарование»[395] их предварительными результатами.
Это разочарование красной нитью проходит через письмо принца Наполеона, адресованное Горчакову Письмо было доставлено в Петербург вернувшимся туда в первых числах января 1859 г. де Да Ронсьером для продолжения переговоров.
«Император французов остался очень удовлетворен той полной откровенностью, с которой вы излагаете свои взгляды, – писал принц Наполеон князю Горчакову. – Но я не вправе скрывать от вас, что его величество был несколько разочарован вашим контрпроектом»[396]. Далее формулировались пункты, которые вызвали сомнения и даже возражения французской стороны: нежелание России идти на разрыв с Австрией в случае австро-франко-сардинской войны; сомнения в надежности обещания о концентрации русских войск на границе Галиции; несогласие с изъятием из будущего договора статьи о Венгрии и т. д. Все это, по мнению принца Наполеона, существенно снижает ценность той поддержки Франции, которую обещал ей император Александр.
Соответственно, император Наполеон, заботясь об интересах своей страны, «не может считать себя свободным от соблюдения Парижского трактата», как того хотели бы в Петербурге, подчеркнул принц. «Все, что он может обещать, – это использовать первый же благоприятный случай, чтобы попытаться уговорить великие державы по своей доброй воле отказаться от статей этого трактата, которые вы считаете посягающими на суверенные права российского императора в Черном море. Эти соображения, – резюмировал принц Наполеон, – заставили императора Наполеона дать мне распоряжение предложить вам договор о нейтралитете. При столь умеренных, столь откровенных и столь дружественных намерениях обоих императоров было бы очень прискорбно, если бы они не могли договориться о формулировке договора по итальянскому вопросу…».
К письму прилагался новый проект франко-русского секретного договора, включающего в себя пять статей[397].
В 1-й статье содержалось обязательство России «с момента объявления войны придерживаться позиции благожелательного нейтралитета в отношении Франции»; 2-я статья обязывала Россию сосредоточить на границе с Австрией войска способные воспрепятствовать переброске на запад австрийской армии численностью не менее 150 тыс. человек; в 3-й статье французского проекта говорилось о том, что оба императора «договорятся об изменениях в существующих договорах, которых они будут совместно добиваться в интересах обоих государств при заключении мира»; в 4-й – император Александр обещает, что «не будет противиться расширению Савойского дома в Италии при соблюдении прав монархов, которые не примут участия в войне; 5-я статья обязывала обоих императоров успокоить своих союзников, заверив их, что война в Италии не может нанести ущерба их интересам, как не может нарушить существующего в Европе равновесия.
Пессимистичный настрой принца Наполеона был несколько компенсирован прагматизмом самого императора французов, снабдившего капитана де Ла Ронсьера личным письмом, адресованным Александру II. В этом письме акцент делался не на выявившихся расхождениях в позициях двух стран, а на общности их интересов. «После того, как окончилась война между нами, – писал Наполеон Александру, – мы начали ценить друг друга, наши желания и то, что мы думаем друг о друге. Судьба поставила нас в одинаковые условия: Ваше Величество хотело бы изменить условия Парижского мира, а я хотел бы сделать то же самое с условиями мира 1815 г.»[398]
Далее он выражал надежду, что в самом скором времени возникнут новые обстоятельства, которые смогут позволить как Франции, так и России освободиться от ограничений, наложенных договорами 1815 и 1856 гг. «Чем более мы будем соединять наши силы, тем более мы будем сильны во время мира, чтобы диктовать другим государствам наши условия. Давайте же стремиться к этой цели», – призывал Александра император французов[399]. По его мнению, готовящееся двустороннее соглашение должно исходить из двух основополагающих принципов: в борьбе каждый действует сообразно своим желаниям и средствам; в мирное время каждый берет на себя обязательство способствовать триумфу интересов своего союзника[400].
Таким образом, император Наполеон, в конечном счете, вынужден был согласиться с тем, что Россия в предстоящей войне ограничится благожелательным по отношению к Франции нейтралитетом. Дальнейшие переговоры сосредоточились на том, в каких формах должен выражаться этот благожелательный нейтралитет. Речь шла главным образом о возможных действиях России на восточной границе Австрии для сковывания мобильности австрийской армии и об умиротворяющем воздействии русской дипломатии на Пруссию и другие германские государства, потенциальных союзников Австрии.
8 января 1859 г. барон де Ла Ронсьер был принят императором Александром, который передал ему личное письмо для Наполеона III[401]. Горчаков, со своей стороны, вручил французскому эмиссару два новых проекта договора [402]. В первом Россия ограничивала себя рамками благожелательного нейтралитета. Второй предполагал возможность развертывания на границе с Галицией значительных сил русской армии в обмен на твердое обещание Наполеона «употребить все усилия с целью аннулировать статьи Парижского трактата, которые ограничивают русские морские силы в Черном море и обусловливают уступку части Бессарабии Молдавии».
Накануне отъезда в Париж Ла Ронсьер обратился с письмом к Горчакову, в котором попытался добиться от вице-канцлера дополнительных гарантий в выполнении Россией ее обязательств в случае войны в Северной Италии[403].
Завершающая стадия переговоров о заключении русско-французского договора проходила уже в Париже в феврале 1859 г. Только теперь Наполеон посвятил в это дело своего министра иностранных дел графа А. Валевского, которого уполномочил завершить переговоры и подписать соглашение.
С российской стороны переговоры доверено было довести до конца графу П.Д. Киселеву, который был введен в курс дела лишь на исходе января 1859 г. До этого он даже не подозревал о готовящемся соглашении и проходивших в Петербурге секретных контактах барона де Ла Ронсьера. «…Вы пользуетесь полным доверием нашего августейшего монарха, – писал Горчаков 12 января 1859 г. Киселеву, – и что если ни вы, ни граф Валевский не были посвящены до сих пор в это важное дело, то это единственно, вследствие просьбы самого императора Наполеона, желавшего, чтобы переговоры велись непосредственно между обоими монархами, без чьего бы то ни было посредничества»[404].
Посол был предупрежден министром о строжайшей конфиденциальности порученной ему миссии. Киселеву был направлен весь комплект документов, относящихся к переговорам барона де Ла Ронсьера Ле Нури в Петербурге, чтобы он мог свободно ориентироваться в обсуждавшихся там вопросах.
Изучив документы, Киселев пришел к выводу о том, что в интересах России было бы заключить менее обязывающее ее соглашение с Францией. В противном случае Россия, вопреки ее желанию, могла бы быть вовлечена Наполеоном III в самые сомнительные предприятия. «Я знаю все значение, которое вы придаете пересмотру Парижского трактата, – писал Киселев Горчакову; – всем сердцем одобряю это; я полностью присоединяюсь к этому; я такой же русский, как и вы, князь, и я всей душой жажду окончательного результата, которого вы добиваетесь, но, наблюдая вблизи приемы личной политики императора Наполеона, я опасаюсь, что подобное обязательство увлечет нас дальше, чем мы желаем. Я говорю откровенно, – подчеркивал Киселев, – что предпочел бы, по примеру Франции, чтобы мы оставались под действием Парижского договора до наступления более благоприятных обстоятельств, которые может нам предложить всеобщая война сегодня»[405].
Между тем в Петербурге не разделяли осторожности графа Киселева. На полях его письма император Александр сделал следующую помету; «Безусловно, я не желаю войны, но если она вспыхнет, я не отступлю. Я верю императору Наполеону, что он выполнит то, что обещал, т. е. аннулирование Парижского договора, который является для меня постоянным кошмаром» [406]. Горчаков придерживался аналогичной точки зрения и недвусмысленно дал понять Киселеву, чтобы тот точно исполнял полученные предписания, не комментируя их.
Что касается Наполеона III, то он, поразмыслив, принял первый из предложенных ему двух русских проектов – о благожелательном нейтралитете, внеся в него некоторые поправки и дополнения, в частности, о придании договору секретного характера. Согласованный Киселевым и Валевским окончательный текст был отправлен в Петербург, откуда вечером 1 марта пришла телеграмма Горчакова с уведомлением о высочайшем одобрении полученного проекта договора. Одновременно Киселев извещался, что он уполномочен императором подписать подготовленный документ.
3 марта 1859 г. граф Валевский и граф Киселев скрепили своими подписями секретный договор между Францией и Россией. Договор, состоявший из пяти статей[407], зафиксировал обязательство России сохранять благожелательный к Франции нейтралитет «в случае объявления войны между Францией и Сардинией – с одной стороны, и Австрией – с другой». В довольно неопределенной форме стороны договорились о возможности изменения существующих договоров (1815 г. и 1856 г.) в интересах обоих государств при заключении мира. Здесь нашло свое отражение нежелание Наполеона III принимать на себя более конкретные обязательства в отношении пересмотра Парижского договора 1856 г. Император Александр давал обещание, что не будет противиться расширению Сардинского королевства «при соблюдении прав монархов, которые не примут участия в войне». Имелись в виду те итальянские государства, которые не станут поддерживать Австрию. Оба императора обязывались разъяснить своим союзникам, что война между Францией и Австрией «не может нанести ущерб интересам великих нейтральных держав, равновесие которых не будет нарушено».
За скобками договора осталось согласие России на послевоенное присоединение к Франции Савойи и Ниццы, а также ее обещание придвинуть к восточной границе Австрии обсервационный корпус. И то и другое император Александр II пообещал Наполеону III, но в устной форме.
В целом заключенный договор, хотя и не оправдал первоначальных надежд Наполеона на более эффективное взаимодействие с Россией в преддверии войны с Австрией, тем не менее, имел для императора французов принципиальное значение. Не обеспечив себе благожелательного нейтралитета со стороны России, Наполеон III вряд ли решился бы на войну с Австрией, по крайней мере, в 1859 г. Без опоры на Россию он рисковал настроить против себя всю Европу, и прежде всего Пруссию и ее германских союзников. «Этот договор позволил императору (Наполеону III. – П.Ч.) приступить к переформатированию европейской политической карты, что было его давним желанием», – так оценивает значение соглашения 3 марта 1859 г. современный французский историк[408]. В этом смысле устремления Наполеона III в определенной степени совпадали с целями Александра II. «Обе державы имели общие ревизионистские интересы, – заметил по этому поводу современный французский историк и дипломат Ж.-А. Седуй. – Россия желала бы пересмотреть статьи Парижского договора 1856 г. о нейтрализации Черного моря, а Франция стремилась отменить договора 1815 г.»[409]
Проверка на прочность
Незадолго до начала войны были предприняты две попытки предотвратить ее развязывание. С первой инициативой такого рода в феврале 1859 г. выступил министр иностранных дел Англии лорд Джеймс-Говард Малмсбери, предложивший британское посредничество в назревавшем конфликте между Парижем, Турином и Веной. Однако подобное посредничество никак не согласовывалось с планами Наполеона III, уклонившегося от принятия предложения Малмсбери. При этом он нашел поддержку у Александра II, который также отверг британское посредничество. Русский император справедливо посчитал, что Англия будет посредничать в пользу Австрии.
По согласованию с Наполеоном царь выдвинул встречную идею – созвать «конгресс держав» для обсуждения итальянского вопроса. На европейском форуме, по его убеждению, Англии было бы труднее защищать австрийские интересы. Расчет, видимо, делался и на то, что Австрия не согласится впутывать посторонних в свои «домашние» проблемы и возьмет на себя инициативу в развязывании войны. Так оно и вышло.
В ходе подготовительных работ по созыву конгресса австрийский император поддался на провокации французов и пьемонтцев. В ответ на демонстративное сосредоточение сардинских войск у границ Ломбардии Франц-Иосиф 23 апреля 1859 г. предъявил Виктору-Эммануилу ультиматум о немедленном разоружении его 50-тысячной армии. Получив вполне ожидаемый отказ, Австрия 27 апреля объявила Пьемонту войну, чем, как инициатор военных действий, лишала себя права на автоматическую поддержку со стороны Германского союза. Ее 160-тысячная армия под личным предводительством императора вторглась на территорию Пьемонта.
Наполеон III, действуя в рамках заключенного с Сардинией договора, поспешил на помощь своему союзнику и двинул 100-тысячную армию в направлении Милана. 14 мая император возложил на себя функции главнокомандующего действующей армии и отбыл в ее расположение. В середине мая, пользуясь трудно объяснимым бездействием австрийского командования, французы и пьемонтцы соединились в районе Алессандрия – Казале – Монферрато, к востоку от Турина.
Активные боевые действия начались лишь в начале июня. С самого начала они стали неудачными для австрийской армии, которая потерпела два сокрушительных поражения – при Мадженте (4 июня) и Соль-ферино (24 июня)[410].
Вместо того чтобы завершить окончательный разгром противника и вынудить его к безоговорочной капитуляции, Наполеон III к всеобщему удивлению предложил Францу-Иосифу перемирие. При этом он даже не поставил об этом в известность своего союзника, Виктора-Эммануила, потрясенного вероломством французского императора[411].
8 июля 1859 г., всего через две недели после впечатляющей победы при Сольферино, Наполеон и Франц-Иосиф в г. Виллафранка скрепили своими подписями соглашение о перемирии.
К этому решению французского императора подтолкнул ряд вполне прагматичных соображений, среди которых не последнее место занимали настойчивые предостережения Петербурга о нецелесообразности продолжения войны до победного конца, т. е. полного разгрома Австрии, чреватого распадом Габсбургской империи.
Надо сказать, Александр II много сделал для умиротворения воинственных настроений в Пруссии и в других государствах Германского союза, требовавших оказать помощь гибнувшей Австрии, несмотря на ее очевидную ответственность за развязывание войны.
27 мая 1859 г. представители России при германских дворах получили циркулярную ноту вице-канцлера Горчакова, содержавшую предостережение против военного выступления последних на стороне Австрии. По свидетельству графа Киселева, этот циркуляр произвел сильнейшее впечатление в Париже, где генералы приравняли его эффект к действиям 100-тысячной армии[412].
Наполеон всерьез воспринял совет царя, который откровенно давал ему понять, что не сможет бесконечно сдерживать Пруссию от вступления в войну, а перспектива открытия второго фронта на берегах Рейна в то время совсем не улыбалась императору французов[413].
Одновременно он вынужден был учитывать едва ли не враждебную действиям Франции позицию Великобритании, своего давнего союзника. Определенные опасения у Наполеона вызывало и развертывание освободительного движения в Средней Италии – в Тоскане, Парме, Модене, а также в Романье и в Папской области. Все эти провинции, самостоятельно освободившиеся от навязанных им Австрией правителей, обнаруживали желание объединиться с Сардинским королевством, а это не входило тогда в планы французского императора, который соглашался на присоединение к Пьемонту лишь Ломбардии и, возможно, Венеции.
К тому же, он считался с тем, что французская армия за два месяца успешных для нее военных действий понесла значительные потери, при этом немалую их часть составили массовые эпидемические заболевания – дизентерия и малярия[414]. Все эти соображения и побудили Наполеона III прекратить успешно начатую войну.
Скоротечная война 1859 г., помимо прочего, оставила у Наполеона неприятный осадок в связи с нарушением, как ему казалось, императором Александром достигнутых договоренностей. Эта тема отчетливо прослеживается как в личной переписке двух императоров, так и в переписке посла в Париже Киселева с министром иностранных дел Горчаковым.
Перед тем как отправиться в действующую армию, Наполеон 5 мая 1859 г. обратился с личным письмом к Александру II, напомнив ему о данном обещании предпринять «диверсию» на русско-австрийской границе в Галиции. «В настоящее время, – обращал французский император внимание царя, – Австрия, будучи совершенно спокойной за свою северную границу, целиком ее обнажила» [415].
В ответном письме от 18 мая Александр напомнил, что, подписывая договор с Францией, он оставлял за собой свободу действий в случае войны, с чем император Наполеон тогда согласился. «Я думаю, что не ошибаюсь, – продолжал Александр, утверждая, что благожелательный нейтралитет, который я вам обещал, и политические и военные меры, в которых он проявляется, приобрели сегодня двойную ценность. Если австрийское правительство сделало вид, что оно уверено в своей безопасности, это лишь видимость, которой не следует придавать значения. Но глубокой уверенности в этом нет, донесения моего посланника в Вене это подтверждают. Я убежден, что было бы невыгодно внести большую ясность в позицию, занимаемую мной. Неуверенность относительно моих намерений – это узда, необходимость которой уже доказали события»[416].
Тем не менее, выполняя данное Наполеону устное обещание создать напряженность на русско-австрийской границе, Александр II распорядился о приведении в боевую готовность пяти армейских корпусов, часть из которых получила приказ начать продвижение в направлении Галиции. Данный приказ был сообщен французскому послу в Петербурге герцогу де Монтебелло лично Александром II, который при этом добавил, что, учитывая особенности русских дорог, войскам понадобится не менее трех месяцев, чтобы подойти к австрийской границе[417].
Скорее всего, решение о направлении войск на границу Галиции не осталось тайной и для австрийского посланника в Петербурге.
Разъясняя позицию императора в условиях войны в Италии, Горчаков писал Киселеву 1 июля 1859 г.: «Русские интересы требуют, чтобы наш августейший монарх сохранил полную свободу действий и, чтобы честно выполняя взятые на себя обязательства в обусловленных пределах, он сам решал бы вопрос, принимать или не принимать активное участие в войне в зависимости от обстоятельств и от нужд собственной страны. Французское правительство хочет бесповоротно скомпрометировать нас», – подчеркнул министр[418].
При этом, продолжал он, император Наполеон слишком боится Англии, чтобы даже заикнуться перед ней о необходимости отменить те статьи Парижского мира, которые ущемляют интересы России в Черном море. Уже по этой причине Россия не может рисковать, дав вовлечь себя в военный конфликт между Францией и Австрией, не получив ничего взамен в жизненно важном для нее вопросе.
А Наполеон продолжал недвусмысленно упрекать Александра в бездействии. В письме от 13 июля 1859 г. он утверждал: «Мне пришлось сражаться (при Казальмаджоре, в Ломбардии. – П.Ч.) с корпусом, прибывшим по железной дороге из Галиции[419]. Я говорю вам это откровенно, чтобы ваше величество знали, что воздействие диверсии, которую вы мне обещали, очень долго не появляется»[420].
Комментируя упреки французского императора, князь Горчаков в письме Киселеву отмечал, что «Наполеон – единственный в Европе человек, который не признает практического значения той моральной поддержки, которую оказал ему наш августейший монарх…
Мы можем только сожалеть о подобном образе мыслей императора французов, надеюсь, преходящем». Горчаков обратил внимание посла на сдерживающую роль России в отношении германских государств. Если бы последние были уверены, что Россия безучастна к событиям, разворачивавшимся в Италии, то не преминули бы «выступить агрессивно против Франции». И только ясно выраженный благожелательный к Франции нейтралитет России остановил Пруссию и ее союзников от вмешательства в войну на стороне Австрии. Министр поручил Киселеву при случае постараться разъяснить все это императору Наполеону[421].
Перед самой отправкой письма в Париж Горчаков сделал к нему приписку, дополнительно разъясняющую действия России. «Император Наполеон не мог ожидать, что мы будем действовать в его пользу агрессивно, – писал министр. – Обещания, которые мы дали, не шли дальше благожелательного нейтралитета и наблюдательного корпуса. Это ясно и неоспоримо. Но я пойду дальше и скажу, что даже если бы мы объявили войну Австрии, подобное решение шло бы вразрез с интересами Франции, потому что, независимо от всей Германии, ей пришлось бы иметь дело еще и с Англией. Этого Наполеон больше всего опасается, последующие же заявления британского кабинета не позволяют больше в этом сомневаться…
У императора Наполеона ум ясный, практический и расчетливый. Гораздо лучше сказать ему с полной откровенностью то, что мы думаем, чем позволить ему предполагать, что мы не имеем мужества высказывать мнения, если они не совпадают с его, и что мы скрываем мысли, которые нас заботят. Он только станет больше нас уважать. Он должен был бы быть более уверен в союзе, в котором нет ни задних мыслей, ни уверток» [422].
Киселев, напрямую общавшийся с Наполеоном и Валевским, сообщал в Петербург об их нескрываемой досаде в связи с тем, что Россия не оказала Франции достаточно энергичную поддержку в период двухмесячной австро-итало-французской войны, как было обещано. «Император Наполеон не ожидал, что мы будем действовать в его пользу агрессивно. Наши обещания действительно не шли дальше благожелательного нейтралитета и наблюдательного корпуса, – писал Киселев 2 августа 1859 г. Горчакову. – Но он рассчитывал на этот последний, который, по его мысли, предназначался для того, чтобы парализовать действие 150 тысяч австрийских солдат…
Все это давало право императору Наполеону, не думая, что Россия перейдет к агрессии, надеяться на большее, чем он получил»[423]. Прямым следствием этого, предупреждал Киселев, может стать новое сближение Франции с Англией, куда Наполеон еще в мае 1859 г. отправил послом активного поборника франко-британского союза Персиньи, и даже с Австрией. Посол позволил себе сказать больше, чем допускал его статус. «Если бы наш наблюдательный корпус был своевременно придвинут к границе, – заметил он, – мы наше бездействие смогли бы прикрыть видимостью этой материальной помощи…
Моя цель, князь, отнюдь не начинать полемику относительно позиции, которую мы заняли во время итальянской войны, – оправдывая свою смелость, добавил Киселев. – Я хотел только сообщить вам мнение, сложившееся у Наполеона, как я его себе объясняю, и как оно вытекает из оценки положения здесь, на месте, и одновременно довести до вашего сведения мои мысли о будущем. Мне кажется, что мнение, сложившееся у Наполеона, не приведя еще сейчас к ухудшению наших отношений с Францией, вызывает, как я уже говорил, сближение с Англией, которая, со своей стороны, делает все для этого. Будущее уточнит значение и размеры этого сближения. Но почти невозможно, чтобы наши отношения с Францией не пострадали от этой новой ситуации»[424].
Горчаков, недовольный излишней смелостью посла, тем не менее, вынужден был согласиться с главным выводом Киселева, относившимся к перемене настроений Наполеона. «Сдержанность, которую он высказывает в отношении к вам, указывает изменение отношений, которые предшествовали итальянской войне», – констатировал министр [425].
Инструктируя посла относительно его дальнейших действий и манеры поведения с тюильрийским двором, Горчаков настаивал на сохранении Киселевым всей возможной безучастности в связи с изменением в настроении Наполеона. «Было бы ниже нашего достоинства и ни в коем случае не на уровне нашего могущества высказывать беспокойство по поводу преходящего недовольства, – подчеркнул Горчаков, – и если император Наполеон рассчитывал вызвать среди нас тревогу по этому поводу, надо чтобы он обманулся в своем расчете; ничто не будет так способствовать этому, как полное спокойствие с вашей стороны и продолжение прежних отношений.
Наш августейший монарх сознает, что он честно выполнил обещания, данные императору Наполеону, – продолжал министр. – Дипломатические действия кабинета, управляемые волей его императорского величества, пошли дальше того, на что император Наполеон мог надеяться, и это не только в смысле усилий, но и в смысле успеха. Мы не поколебались ослабить и почти, мог бы сказать, скомпрометировать, наши добрые отношения с Германией, которые сумели установить, благодаря нашим настойчивым усилиям, со времени Парижского мира, и это только для того, чтобы оказать с этой стороны императору Наполеону поддержку, действенность которой доказана фактами, хотя это не предписывалось нам каким-либо национальным интересом»[426].
Послу поручалось сделать все возможное для того чтобы «вернуть его (Наполеона. – П.Ч.) к более верной оценке взаимных позиций». «Императору Наполеону, – писал Горчаков, – придется покориться необходимости принимать вещи таковыми, каковы они есть: характер нашего августейшего монарха во всем его величии и твердости, Россию во всем ее могуществе. Мы желаем оставаться его союзниками – союзниками искренними, лояльными, не обещающими больше того, что мы желаем сдержать, добросовестно выполняющими то, что мы обещали, но мы никогда не снизойдем до роли соучастника. Наши национальные интересы указали нам на необходимость сердечного согласия с Францией, как на базу рациональной политики; мы останемся верными этому, так как мы никогда не упускали из виду служение этим интересам. Одним словом, – резюмировал министр, – император французов найдет нас всегда на своей стороне во всех вопросах, в которых это будет выгодно Франции и не будет в ущерб России, но не следует рассчитывать на нас, как на орудие в комбинациях личного честолюбия, из которых Россия не извлечет никаких выгод, а еще меньше – в таких, которые могли бы нанести ей вред»[427].
Спокойствие, предписанное послу, не распространялось на возможные «комбинации» французской дипломатии, прямо идущие вразрез с интересами России, в частности, в Восточном вопросе. Киселеву поручалось внимательно следить за развитием отношений Франции с Англией и Австрией. «Благоволите поэтому посвятить всю свою бдительность тому, чтобы подметить всякий признак, который может проявиться в этом отношении, и сообщите нам об этом, не заботясь о кажущейся незначительности какой-либо подробности», – предупреждал Горчаков.
Далее он продолжал: «Нашему августейшему монарху было бы прискорбно чувство доверия, которое он питает к императору Наполеону, заменить недоверием или даже сомнением… Но неожиданности в действиях императора Наполеона и резкие перемены не позволяют полагаться с уверенностью на равномерный ход его политики. Позволить личным чувствам руководить собой при подобных обстоятельствах, значило бы упускать из виду положительные интересы империи. Быть бдительным – такова теперь наша первая обязанность. Мы не пойдем в настоящий момент дальше, но если мы получим доказательство, что, несмотря на последовательную лояльность нашей политики, в Париже возникают комбинации, противоречащие интересам России, мы можем оказаться вынужденными со своей стороны на комбинации, которые отклонялись бы от общей политики, проводимой нами со времен Парижского трактата. Это было бы временно навязанной нам необходимостью, которой мы подчинились бы лишь с сожалением, потому что, повторяю, мы продолжаем считать, что Франция, проникнутая сознанием своих насущных интересов, была бы всегда лучшей союзницей России»[428].
Такова была скорректированная в результате войны 1859 г. позиция России в отношении Франции. В ней четко обозначилось желание Александра II продолжать курс на «сердечное согласие» с Наполеоном III при условии, что это согласие не будет наносить ущерба национальным интересам России. Именно в таком направлении действовала дипломатия Горчакова, не позволившая втянуть Россию в австро-франкоитальянский военный конфликт, как того желал Наполеон III. При этом Россия строго выполняла те обязательства, которые были зафиксированы в секретном соглашении 3 марта 1859 г.
Одно из них предусматривало обещание России «не противиться расширению Савойского дома в Италии при соблюдении прав монархов, которые не примут участия в войне» (ст. 3-я). За скобками соглашения оставалась устная договоренность о том, что Александр II в процессе мирного урегулирования поддержит притязания Наполеона III на Савойю и Ниццу, которые ему должен будет уступить Виктор-Эммануил II. Оба эти обязательства были выполнены Россией.
Вслед за франко-австрийским перемирием в Виллафранке (8 июля 1859 г.) и подписанием в Цюрихе (11 июля) прелиминарного мира начались переговоры с участием Сардинии о заключении мирного договора. 11 ноября 1859 г. они завершились подписанием трех документов: австро-французского, франко-сардинского и общего австро-франко-сардинского договоров.
По условиям Цюрихского мира, Австрия уступила Сардинии Ломбардию; восстанавливалась власть бывших правителей Модены, Пармы и Тосканы, вопреки желанию населения этих областей объединиться с Пьемонтом; предполагалось создание под почетным председательством папы Итальянской конфедерации, куда должна была войти и Венеция, оставшаяся за Австрией; Сардиния обязалась выплатить Франции 60 млн. флоринов в порядке компенсации за понесенный в войне ущерб.
Вопрос образования Итальянской конфедерации должен был быть рассмотрен на европейском конгрессе, намеченном на 1860 год.
После Цюрихского мира Наполеон поставил перед Виктором-Эммануилом вопрос о передаче Франции Савойи и Ниццы, как они об этом договорились перед началом войны. Россия поддержала в этом своего союзника. Граф Кавур, вернувшийся в январе 1860 г. на пост главы сардинского кабинета, убедил короля в необходимости исполнить обещание, данное Наполеону еще в 1858 г. в Пломбьере и зафиксированное 26 января 1859 г. в союзном договоре.
24 марта 1860 г. Франция и Сардиния заключили в Турине соглашение по поводу Савойи и Ниццы. На следующий день французские войска были введены в теперь уже бывшие владения Виктора-Эммануила. Активную роль в дипломатической подготовке французской аннексии Савойи и Ниццы сыграл сменивший в январе 1860 г. Александра Валевского во главе Министерства иностранных дел сенатор Эдуард Тувенель[429].
Для придания этой сделке большей законности обе стороны договорились о проведении в Савойе и Ницце референдумов. Первый референдум прошел 15 апреля 1860 г. в Ницце. 99 % избирателей (25 743 человека) высказались за вхождение в состав Франции и лишь 160 человек проголосовали против. Неделю спустя, 22 апреля, 130 533 избирателя в Савойе (99,8 %) также высказались за присоединение к Франции. Против – проголосовали только 235 человек. В скором времени они составят три новых департамента – Савойя, Верхняя Савойя и Приморские Альпы с общей численностью населения 669 тыс. человек [430]. Наполеон III реализовал давнюю мечту своих предшественников о «естественных границах» Франции на юго-восточном направлении. «1860 год может считаться апогеем [Второй] империи», – справедливо заметил один из биографов Наполеона III[431].
Из всех великих держав лишь Россия открыто одобрила это очевидное нарушение Францией условий Венского мира 1815 г. Все остальные, включая ближайшего союзника Франции – Англию[432] – отнеслись к этому весьма неодобрительно, и французской дипломатии пришлось приложить немалые усилия, чтобы успокоить возникшие в европейских столицах опасения относительно планов Наполеона III продолжить перекраивание политической карты Европы.
Сам Наполеон должным образом оценил благожелательную позицию Александра II. В личном письме он писал ему: «Считаю необходимым выразить Вашему Величеству чувства, которые внушает мне линия вашего правительства на последних переговорах относительно Савойи…
Мне доставляет удовольствие выразить Вашему Величеству чувства признательности за Вашу позицию по вопросу присоединения к Франции Савойи и графства Ницца. Это дало мне доказательства доброй воли и дружбы с Вашей стороны, что очень трогает меня»[433].
Император Александр, конечно же, ожидал от Наполеона не только словесной благодарности за морально-дипломатическую поддержку, но и реального содействия в осуществлении собственной «черноморской мечты» – отмене ограничений Парижского договора 1856 г.
Однако император французов, не желая обострять отношения с Англией, не спешил с выполнением данного им обещания, предпочитая отделываться расплывчатыми декларациями, что вызвало разочарование у петербургского двора.
Глава 6 Время сомнений (1861–1862)
Отставка графа Киселева
Несмотря на неоднократное уклонение Наполеона III от обещания оказать Александру II содействие в том, чтобы избавить царя от «кошмара» Парижского договора 1856 г., русская дипломатия продолжала оказывать благожелательную поддержку Франции в тех ее направлениях, которые не представляли, с точки зрения Горчакова, угрозы интересам России. Более того, в 1860 г. обе страны проявили неожиданную, если вспомнить недавнее прошлое, солидарность в деле защиты христиан Оттоманской империи.
В мае 1860 г. в Сирии, находившейся под властью турок, произошли кровавые столкновения между мусульманами, поощряемыми англиканскими и пресвитерианскими миссионерами, и христианами-маронитами, примыкавшими с XIII в. к католической церкви, «старшей дочерью» которой издавна считалась Франция. Несколько тысяч маронитов были убиты в Дамаске, Бейруте и в других районах при полном бездействии, а то и прямом содействии погромщикам, со стороны турецких властей.
Франция, вспомнив о своем «историческом долге», усмотрела в происшедшем происки «коварного Альбиона». Новый министр иностранных дел Наполеона III Эдуард Тувенель сделал решительное представление британскому послу в Париже лорду Каули. Французская дипломатия выступила с инициативой созыва в Париже международной комиссии по рассмотрению ситуации в Сирии, но натолкнулась на отказ Лондона. Император французов воспользовался британской неосмотрительностью и направил к берегам Сирии 7-тысячный десантный отряд под предлогом защиты христиан.
В Лондоне усмотрели в действиях французов намерение захватить Сирию и попытались воспрепятствовать этому, согласившись на предлагавшийся ранее Францией созыв международной комиссии по сирийскому вопросу.
На переговорах шести держав (Франции, Англии, Австрии, Турции, Пруссии и России) по урегулированию положения в Сирии, открывшихся в Париже, российский посол граф Киселев энергично поддержал французского представителя Э. Тувенеля. Совместными усилиями им удалось добиться принятия приемлемой для Франции конвенции (5 сентября 1860 г.) «относительно европейской оккупации Сирии»[434]. Французские войска в Сирии получили ограниченный временем статус международных («европейских») сил.
Между тем Наполеон III после восстановления порядка в Сирии не спешил с выводом оттуда войск, что вызывало беспокойство в Англии, возросшее с появлением информации о консультациях на эту тему между Тувенелем и Киселевым. Вернувшийся к власти либеральный кабинет Пальмерстона усилил давление на Тюильри. Министр иностранных дел лорд Дж. Рассел, выступая 21 февраля 1861 г. в палате общин, заявил, что кабинет Ее Величества не позволит повторения в Сирии такого положения, которое с 1849 г. существует в Риме, где в течение одиннадцати лет находятся французские войска.
Угрозы с берегов Темзы вынудили Наполеона III отказаться от первоначальных замыслов и согласиться на вывод войск. Эвакуация французского военного контингента была осуществлена в июне 1861 г. во исполнение Парижской конвенции от 19 марта 1861 г., подписанной уполномоченными шести держав – Франции, Англии, Австрии, Турции, Пруссии и России [435].
Поддержав Наполеона III сначала в Италии, а затем и в Сирии, Александр II продолжал надеяться на взаимность. В Петербурге все еще не охладели к «французскому проекту» и даже попытались придать русско-французскому «согласию» официальное оформление, выходящее за пределы секретного соглашения 3 марта 1859 г.
Граф Киселев получил указание выяснить отношение тюильрийского кабинета к возможному заключению союзного договора между Россией и Францией. Центральным пунктом этого союза, по мнению Горчакова, должно было стать тесное взаимодействие двух стран на Востоке, что, конечно же, напрямую затрагивало интересы Турции. Логика Горчакова состояла в попытке распространить наполеоновский “principe des nationalites”, которого Наполеон III придерживался в Италии, также и на Балканы, где христианские провинции давно мечтали освободиться от турецкого господства.
На конфиденциальных переговорах, которые в Париже Киселев вел по этому вопросу с императором Наполеоном, его сводным братом графом де Мории и министром иностранных дел Тувенелем, русский посол предложил следующую программу: «Обоюдное желание сохранения Оттоманской империи, доколе будет возможно, и согласие избегать всякого удара извне, который мог бы ускорить ее падение; в случае значительного кризиса, взаимное обязательство не преследовать никакой исключительной выгоды. Обещание действовать сообща с целью не дозволять, чтобы какая-либо великая держава воспользовалась кризисом, дабы извлечь из него для себя выгоды, противные европейскому равновесию и интересам России и Франции. Наконец, соглашение относительно окончательного разрешения в этом случае Восточного вопроса путем образования на Балканском полуострове небольших независимых государств, в пределах их естественных границ, соединенных федеративными узами и имеющих общую столицу в Константинополе, провозглашенном вольным городом»[436].
Если французская сторона в принципе согласится с этой программой совместных действий, то, как заявил Киселев, он уполномочен своим императором продолжить переговоры до подписания с Францией оборонительного договора.
Принципы предложенного Россией союза, ориентированного на общую политику в Восточном вопросе, не совпадали с интересами бонапартистской Франции, привыкшей действовать на Востоке самостоятельно. Но отвергнуть эту идею в Тюильри некоторое время не решались, пока не подвернулся удобный случай.
22-24 октября 1860 г. в Варшаве состоялась встреча Александра II с австрийским императором Францем-Иосифом и прусским принцем-регентом Вильгельмом, управлявшим за больного короля Фридриха-Вильгельма IV. На встрече обсуждались возможные последствия активизации освободительного движения в Италии и Венгрии на Польшу, чего так опасались в Петербурге и Вене. Никакой антифранцузской направленности – ни явной, ни скрытой – на Варшавских переговорах не было. Тем не менее, эта встреча была воспринята Наполеоном III как попытка возродить Священный союз, а участие в ней Александра II в Тюильри оценили как недружественный акт по отношению к Франции, только что завершившей войну с Австрией. Любопытно, что Наполеон определил такое свое отношение к встрече трех монархов еще до того, как она состоялась, едва лишь стало известно о том, что Александр, Франц-Иосиф и Вильгельм намерены встретиться.
Раздражение в связи с предстоящей встречей в Варшаве охватило даже тех лиц из окружения французского императора, кто считался друзьями России. Среди них, в первую очередь, графа де Мории, который при встрече заметил Киселеву: «Это очень досадно, и наводит на раздумье. Положим, император не боится коалиции, конечно нет! Но все же это может вредно повлиять на предрасположение к согласию наших обоих правительств»[437].
Попытка Киселева успокоить Мории ссылками на то, что приезд в Варшаву Франца-Иосифа объясняется лишь желанием австрийского императора как-то искупить свою вину за неблаговидное поведение в Крымскую войну и попытаться восстановить прежние дружеские отношения с Петербургом, не произвела впечатления на Мории.
1 октября 1860 г., т. е. за три недели до встречи в Варшаве, Мории обратился с личным письмом к своему другу, князю Горчакову, которому передал слова Наполеона после получения известия о встрече в Варшаве. «Я крайне опечален этим варшавским свиданием, причем даже не по существу, а по внешнему его виду, – сказал император. – Огласка, политический эффект этой встречи принимаются в Европе за несомненный признак охлаждения с Францией, а это очень жаль и меня огорчает. Я хорошо знаю, что чувства императора ко мне не изменились, но наша признанная дружба была великой взаимной силой, тогда как кажущееся удаление ослабляет нас обоих» [438].
Мории признался Горчакову, что в данном случае разделяет мнение Наполеона, и добавил: «В конце концов, при франко-русском союзе, как это часто говорили мы друг другу, любезный князь, обоим нашим правительствам нечего опасаться ни внутри, ни извне; но разъединение ослабит их, а при настоящих обстоятельствах, может быть, что и не Франция наиболее пострадает от этого развода»[439].
В ответном письме (19 октября) Горчаков постарался объяснить Мории причины, вызвавшие встречу в Варшаве. Главная из них – «желание всеобщего умиротворения» в Европе. Горчаков откровенно дал понять, что Петербург, Вену и Берлин крайне обеспокоил тот размах, которое после австро-франко-итальянской войны 1859 г. приняло в Италии революционное движение, пробужденное этой войной. Далее он заверил Мории в приверженности императора Александра к союзу с Францией. «Здание, над сооружением которого трудились вы и я, – уверял он своего друга, – тесное единение между Францией и нами существует во всей целости, поскольку это касается нас. Оно не утратило в наших глазах ничего из своих свойств и представляется нам, как соглашение, основанное на взаимных и постоянных интересах обеих стран…
О союзе с другими державами нет и речи;…Россия, – особо подчеркнул русский вице-канцлер, – отделяет интересы Франции от прискорбных явлений, совершившихся в Италии после Виллафранкского мира[440], и считает необходимым соглашение великих держав, чтобы противодействовать злу. К соглашению этому она будет стремиться сообща с Францией, с которой связывают ее и общие взгляды на положение дел на Востоке». В завершение письма Горчаков заверил Мории, что пока он руководит русской дипломатией, «союз России с Францией не погибнет» [441].
В неизменности курса на дальнейшее сближение с Францией Горчаков заверял Мории и после состоявшейся в Варшаве встречи. Он убеждал его в том, что ни о какой коалиции против Франции в Варшаве не было и речи. Россия в принципе исключает для себя всякую возможность участвовать в антифранцузской коалиции. Император Наполеон может быть совершенно спокоен на этот счет, подчеркивал Горчаков[442].
Тем не менее, подготовленный Киселевым на высочайшее имя проект оборонительного союза с Францией (сентябрь 1860 г.) не получил одобрения. Перед тем, как передать документ Горчакову, император сделал на нем краткую, но многозначительную запись: «Против кого?»…
У Александра II и его министра иностранных дел было все больше оснований для недовольства результатами сближения с Францией. «После франко-австрийской войны Россию постигло еще одно разочарование, – отмечает Э. Каррер д’Анкосс, современный французский биограф Александра II. – В 1860–1862 гг. положение христиан на Балканах заставило ее оказать им помощь, и Россия предложила Франции поучаствовать в давлении на Порту. Безразличное отношение Наполеона III к призывам Горчакова еще более ухудшило отношения двух стран. Пора выяснять отношения еще не пришла, но Александр II, по-прежнему, относившийся к Пруссии лучше, чем к Франции, встречавшийся в Варшаве в 1860 г. с Францем-Иосифом и Вильгельмом, и тем не менее еще не решившийся отказаться от политики сближения с Парижем, вполне мог задаться естественным вопросом: какие выгоды извлекла его страна из усилий, предпринимавшихся с 1857 г., и из реальной поддержки, оказанной Парижу в ходе франко-австрийской войны? Просьбы России о поддержке в пересмотре договора 1856 г. оставались гласом вопиющего в пустыне. Наполеон III по-прежнему склонялся на сторону Англии, великой державы, соперницы России, и продолжал отдавать приоритет на Балканах интересам Франции, что являлось для него достаточным основанием отказывать в поддержке России в этом регионе»[443].
И действительно, Наполеон III постепенно отказывался от совсем еще недавней (и недолгой) поддержки России в восточных делах. Французская дипломатия на Востоке возвращалась к политике, предшествовавшей Крымской войне. Вскрылись давние противоречия на Балканах, вновь начались споры о праве покровительства христиан Оттоманской империи, а также относительно реставрационных работ в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, где возобновилась тяжба между восточными и западными христианами, за спиной которых стояли Россия и Франция.
Все это чувствовал граф Киселев, который тяжело переживал возобновившиеся трения в русско-французских отношениях. За годы работы в Париже, куда первоначально он отправлялся с неохотой и даже скрытой обидой на молодого государя, Павел Дмитриевич не только свыкся с порученной ему миссией, но и превратился в убежденного поборника сближения с Францией. Правда, с некоторых пор чрезмерное, в глазах Горчакова, франкофильство посла стало вызывать беспокойство в Петербурге.
Посольские функции, среди прочего, обязывали Киселева подробно информировать Петербург о развитии внутриполитической ситуации во Франции. Время от времени он направлял Горчакову подробные записки («мемуары») о раскладе политических сил во Второй империи, особенно накануне выборов в парламент (Законодательный корпус), а также по их результатам. Эти записки готовились для посла его сотрудниками, а он брал на себя их окончательную редакцию, после чего отправлял подготовленный документ министру иностранных дел.
Со времен восстания 1830/31 гг. в Польше российское посольство в Париже внимательно следило за активностью многочисленной польской эмиграции во Франции, пытаясь, по мере возможностей, быть в курсе замыслов ее руководителей, которые стремились поддерживать очаг напряженности в Царстве Польском.
В своих депешах и докладных записках в Петербург Киселев, опираясь на получаемые его сотрудниками разными путями (в том числе и через агентурную сеть) сведения[444], задолго до восстания 1863 г. многократно предупреждал о возможности нового революционного взрыва в Польше, где активно действовали эмиссары польской эмиграции во Франции.
Одновременно российское посольство, во взаимодействии с Третьим отделением Собственной Е.И.В. канцелярии, занималось наблюдением за русскими эмигрантами из числа противников самодержавия. Так, например, в августе 1862 г. Киселев направил на имя Горчакова записку (“Notice secrete”) о приезде в Париж знаменитого анархиста Михаила Бакунина. Ссылаясь на «секретные сведения, полученные из различных источников», посол сообщал, что цель приезда Бакунина в столицу Франции – добиться объединения усилий «русской демократической партии, представляемой Герценом, с польской «революционной фракцией во главе с Мирославским». Речь идет, подчеркивал посол, «о далеко идущем заговоре с целью свержения императорского правительства и установлении республиканского строя в России и Польше»[445]. Заговорщики преисполнены «самых зловещих планов в отношении членов императорской семьи и намереваются в дальнейшем разжечь в Европе пламя всеобщего восстания», предупреждал посол[446].
Среди вопросов, которыми по должности занимался граф Павел Дмитриевич, были не только политические. Он, например, вел предварительные переговоры о возможности участия французского капитала, в частности, банкирского дома Ротшильда, в финансировании строительства железных дорог в России, к чему проявляли растущий интерес французские деловые круги[447].
Именно Киселев поставил перед министром вопрос о необходимости приобретения нового здания русского посольства в Париже. В крайнем случае, по его мнению, можно было, реконструировать нынешнее (на улице Фобур Сент-Оноре), где стало очень тесно. Обосновывая свою инициативу, Киселев отметил, что первый этаж (из трех) занимает личная резиденция посла. На втором – квартиры советника и двух секретарей посольства. 3-му секретарю не нашлось в доме места, и ему приходится снимать квартиру за пределами посольства. Третий этаж, состоящий из трех комнат, занимают канцелярия и архив. По существу, констатировал посол, негде принимать многочисленных посетителей, ежедневно бывающих в посольстве. В таких стесненных условиях, подчеркнул Киселев, трудно обеспечивать порядок и соблюдение необходимой секретности в делопроизводстве[448].
К просьбе графа Киселева в Петербурге отнеслись с пониманием, но средств на реконструкцию старого и тем более на приобретение нового здания тогда изыскать не смогли. Лишь через семь лет, в 1864 г., русское посольство получит новое, более просторное здание – отель д’Эстре, на улице Гренель.
Одним из последних дел графа Киселева на посольской должности в Париже стало активное содействие в возведении русского православного храма вблизи знаменитой Триумфальной арки на площади Этуаль[449].
3 марта 1859 г. посол России, граф Киселев заложил первый камень в основание будущего православного собора в Париже. Спустя два с половиной года, 11 сентября 1861 г., прибывший из Санкт-Петербурга по высочайшему повелению преосвященный Леонтий, архиепископ Ревельский, в присутствии Киселева, освятил посольский храм в память Святого Благоверного князя Александра Невского. Неслучайной была и дата освящения. 11 сентября (30 августа ст. ст.) – день тезоименитства императора Александра II.
Как известно, храм был возведен на средства царской семьи и на общественные пожертвования, собранные по всей России. Одним из первых жертвователей стал, разумеется, граф Киселев. Он и впоследствии оказывал финансовую поддержку приходу из своих личных средств [450].
Трудно сказать, чувствовал ли Павел Дмитриевич весной 1862 года, что его посольская миссия в Париже подошла к концу. Ничто, казалось, не предвещало грядущих перемен. В Петербурге, как он искренне полагал, им должны были быть довольны.
В Тюильри он всегда был желанным гостем. Император Наполеон и императрица Евгения неизменно свидетельствовали почтенному графу свое дружеское расположение. Самые добрые отношения связывали российского посла с министром иностранных дел Александром Валевским и сменившим его в январе 1860 г. на Кэ д’Орсэ Эдуардом Тувенелем.
Действительно, казалось бы, такой посол как граф Киселев был для императора Александра и князя Горчакова идеальной фигурой, своеобразным гарантом успешного продолжения сближения с Францией. Однако в Петербурге думали иначе.
К началу 1860-х гг., как уже отмечалось, там пришли к выводу: первоначальные надежды на Францию себя не оправдывают. Да, Наполеон III оказал России эффективное содействие при заключении Парижского мирного договора в 1856 г. В дальнейшем он санкционировал определенное согласование французской политики с линией российской дипломатии на Балканах.
Но император французов не спешил исполнить главное свое обещание, данное Александру II, в частности, на их личной встрече в Штутгарте – содействовать отмене дискриминационных статей Парижского мира. А именно этого Александр и его министр иностранных дел более всего ожидали от Наполеона. Однако Наполеон всячески уклонялся от выполнения данного обещания. Зато он энергично добивался поддержки России в реализации своих планов в Северной Италии и в Германии, где намеревался «округлить» границы в пользу Франции.
Такая поддержка была ему оказана в 1859–1860 гг., как и в сирийском вопросе. Но и после этого Наполеон III не обнаруживал желания помочь России хотя бы в частичном пересмотре условий Парижского договора 1856 г.
На все запросы из Петербурга по этому поводу он давал уклончивые ответы, что, в конечном счете, привело императора Александра и вице-канцлера Горчакова к определенному выводу: реальной поддержки от Наполеона ожидать не приходится. Это убеждение, к тому же, подкреплялось попустительством со стороны французского правительства антироссийской деятельности польской эмиграции во Франции.
А граф Киселев продолжал убеждать царя и министра иностранных дел в обратном – в большом запасе прочности франко-российского сотрудничества, в искренности намерений императора французов в отношении России. В донесениях и телеграфных депешах, направляемых Горчакову, он часто (пожалуй, даже слишком часто) рассказывал, с каким радушием его всегда принимает Наполеон, описывал откровенные и дружеские беседы с ним, свидетельствующие, по мнению Киселева, о желании французского императора развивать тесное взаимодействие с Россией.
Павел Дмитриевич не мог, конечно, знать, что его депеши из Парижа с некоторых пор читаются в Петербурге с возрастающим недоверием. На полях одной из них (декабрь 1861 г.) сохранилась карандашная пометка Горчакова на французском языке: «Все, что он здесь рассказывает, не имеет, на мой взгляд, никакого значения»[451].
Как уже говорилось, отношения Горчакова с Киселевым с самого начала складывались не просто. Министр иностранных дел не одобрял назначение последнего послом в Париж, предвидя будущие осложнения с Киселевым, привыкшим к прямому общению с тремя последними императорами – Александром I, Николаем I и Александром II. Но тогда, в 1856 г., Горчаков не стал возражать против кандидатуры Киселева, поскольку это был личный выбор царя. К тому же, и сам Горчаков был сторонником сближения с Францией, оказавшей России немаловажные услуги на Парижском мирном конгрессе.
Когда же ему стало ясно, что император французов действует исключительно в собственных интересах и не намерен помогать России в ослаблении ограничений 1856 г., у Горчакова начали появляться сомнения относительно перспектив сотрудничества с Францией. Эти сомнения разделял и император Александр, которому вице-канцлер посоветовал заменить Киселева, не желающего понять, что за ласковым обхождением с ним в Тюильри нет реального политического содержания, что его сознательно вводят в заблуждение, умело играя на человеческих слабостях семидесятилетнего посла.
«В Петербурге, – отмечал один из самых авторитетных биографов Александра II, – давно уже были недовольны Киселевым и помышляли об отозвании его из Парижа, находя, что посол «проведен» Наполеоном, и не полагаясь на его умственные силы, начинавшие, видимо, слабеть от старости»[452].
Согласившись с мнением Горчакова, император Александр долго не мог решиться отозвать из Парижа «друга» своего отца, как он аттестовал Киселева Наполеону III. Однажды, в 1856 г., ему не без труда удалось убедить ветерана государственной службы сменить министерский пост на должность посла во Франции. Спустя пять лет, склонившись к решению заменить посла в Париже, Александр поначалу попытался обставить отзыв Киселева со всеми надлежащими почестями.
В 1860 г. император предложил Павлу Дмитриевичу весьма престижный и вместе с тем необременительный пост председателя Государственного Совета. Однако семидесятидвухлетний посол сделал вид, что не понял высочайшего намека и вежливо отклонил сделанное ему предложение. Киселеву хотелось оставаться в Париже, где за проведенные годы он приобрел устойчивый вкус к посольской службе, которую желал бы продолжать. К тому же, граф привык к удобствам и преимуществам жизни в тогдашней «столице мира».
Отказ Киселева занять пост председателя Государственного Совета раздосадовал императора, но он тогда не подал виду и взял паузу, которая длилась почти полтора года. За это время Горчаков нашел средство, способное сделать посла в Париже более покладистым.
В середине мая 1862 г. Павел Дмитриевич получил от Горчакова письмо. Министр извещал посла о предстоящем приезде в Париж барона Андрея Федоровича Будберга с особой миссией – подготовить двустороннее соглашение с Францией о совместных действиях в восточных делах – в Сербии, Черногории и Греции, а также о защите интересов христиан в Оттоманской империи.
Одновременно сообщалось, что Будберг, служивший до того посланником при венском и берлинском дворах, должен будет оказывать посильную помощь графу Киселеву в исполнении обременительных в его почтенном возрасте обязанностей посла Его Величества в Париже[453].
Намек был более чем прозрачным. Он не оставлял Киселеву другого выбора кроме добровольной отставки. Сразу же по получении письма Горчакова посол составил на высочайшее имя прошение следующего содержания:
Всемилостивейший государь!
Приняв с покорностию, после полувекового служения, назначение, указанное мне Вашим Императорским Величеством в прошлым 1856 г., я более надеялся на усердие, чем на силы, коими располагать еще мог.
Ныне приближается дряхлость, а с нею опасение не быть уже в состоянии выполнять служебные обязанности с тою ревностию, которые считал всегда первым своим долгом.
В таком положении мне остается только всеподданнейше просить Вас, Всемилостивейший Государь, о назначении мне преемника и о дозволении оставить вовсе службу, для исправления утраченного здоровья, если это еще возможно в преклонных моих летах.
Не чувствуя себя более в силах приносить действительную пользу на службе Вашего Величества, я буду в последние дни жизни воссылать к Всевышнему только молитвы об увенчании Ваших усилий к преуспеванию любезного Отечества.
С глубочайшим благоговением имею счастье быть Вашего Императорского Величества верноподданный
Граф Павел Киселев
Париж
1862 года, мая 15 дня [454].
В тот же день прошение было отправлено в Петербург.
Получив его, император написал карандашом для Горчакова: «Переговорить завтра. Во всяком случае, я хочу сохранить его на службе в звании Генерал-Адъютанта»[455].
Это пожелание было передано Горчаковым графу Киселеву, который ответил министру, что не питает иллюзий относительно своего дальнейшего участия в государственных делах. «В их нынешней сложности, – писал он, – они требуют привлечения более молодых сил, чем те, которыми я располагаю…». Киселев поблагодарил министра за выраженные в его последнем письме добрые чувства к нему и заверил Горчакова в своем искреннем желании «сохранить и укрепить наши давние хорошие отношения» [456].
В тот же день (6 июня) Киселев отправил письмо на имя императора с выражением «глубочайшей признательности» за все, оказанные ему «милости». «Мое намерение, Государь, – писал Павел Дмитриевич, – состояло в том, чтобы провести остаток жизни на покое, более соответствующем моему возрасту, нежели продолжение активной жизни. Благоволение ко мне, выраженное Вашим Величеством в милостиво адресованных мне пожеланиях, обязывают меня неукоснительно подчиниться им без всякого колебания и с благодарностью»[457].
Одним словом, отставленный посол, смирив уязвленную гордость, согласился продолжить службу в качестве генерал-адъютанта, каковым он стал в далеком 1823 году, еще при императоре Александре I. Впрочем, в его нынешнем положении эта служба носила сугубо формальный характер и не потребовала даже пребывания в Петербурге. Киселеву было дано высочайшее разрешение на проживание во Франции.
Два дня спустя, 8 июня 1862 г., граф Киселев получил аудиенцию у Наполеона III, которому сообщил о своей предстоящей отставке и скором приезде в Париж нового посла, барона Будберга. Огорчение императора французов сообщенной ему Киселевым новостью было совершено искренним. В свою очередь, и российский посол был искренен в выражении признательности Наполеону за неизменное расположение и доброжелательность, проявлявшиеся к нему на протяжении всех шести лет его посольской миссии в Париже. Киселев заверил императора французов в том, что его преемник в Париже, барон Будберг – человек весьма опытный в дипломатии и, несомненно, расположенный к Франции[458].
Месяц спустя, в середине июля 1862 г., граф Киселев с разрешения князя Горчакова отправился на воды в Германию, где провел полтора месяца[459].
В начале сентября он вернулся в Париж, куда уже прибыл барон Будберг. Киселев приступил к передаче ему посольских дел, а 16 октября получил прощальную аудиенцию у Наполеона. Вручив императору отзывные грамоты, Киселев официально представил ему советника посольства П.П. Убри, который до вступления в должность нового посла назначен был поверенным в делах при тюильрийском кабинете. Вслед за Наполеоном граф Киселев радушно был принят императрицей Евгенией[460]. Они распрощались как старые добрые друзья.
17 октября стало последним рабочим днем Павла Дмитриевича в качестве посла в Париже. В этот день он составил два донесения и одно письмо, отправленные с курьером в Петербург.
Письмо было адресовано императору Александру. В нем говорилось:
Ваше Императорское Величество,
С чувством глубочайшей признательности я имел счастье получить Всемилостивейший рескрипт, которым Вашему Величеству благоугодно было принять мою просьбу об увольнении от должности Вашего Величества Посла при Императоре французов.
Во исполнение Высочайшей воли я представил отзывные Вашего Императорского Величества грамоты, слагающие с меня звание Посла.
Принужденный состоянием здоровья прекратить служебную деятельность, которой я посвящал доныне все свои силы и помышления, я не престану хранить в своем сердце память о милостях Вашего Величества и Ваших Царственных Предшественников.
Да благословит Всевышний попечения Ваши, Государь, о благе подвластных Вам народов! Да упрочит великое дело, столь искренно желанное Вашим Державным Родителям, и столь счастливо совершенное Вами, и да утвердится навсегда благоденствие обновленной Вами России!
С благоговением и беспредельною преданностию имею счастие быть
Вашего Императорского Величества Верноподданный
Граф П. Киселев
Париж 5/17 октября 1862 [461].
Две депеши были адресованы князю Горчакову. В первой министр был проинформирован о прощальной аудиенции посла у Наполеона III и о передаче последнему отзывных грамот[462].
Во второй депеше Киселев давал краткие, исключительно лестные, аттестации сотрудникам дипломатической миссии в Париже, а также консулам и вице-консулам, работающим в столице Франции и в других городах – Марселе, Бордо и Гавре[463].
В тот же день граф Киселев сердечно простился с дипломатами, а поутру 18 октября покинул посольскую резиденцию на Фобур Сент-Оноре, где провел более шести лет. Карета доставила его на приобретенную им квартиру в одном из респектабельных кварталов Парижа. Здесь он проведет последние десять лет жизни, продолжая интересоваться европейской политикой и, конечно же, тем, что происходило на его родине.
Где-то здесь же, в Париже, доживала свой век и его бывшая супруга. София Станиславовна переживет Павла Дмитриевича всего на два года. Она умрет в нужде, лишившись средств, вследствие неискоренимого пристрастия к азартным играм.
В своей парижской квартире Киселев время от времени принимал немногих оставшихся старых друзей, членов императорской семьи и других гостей из России. Среди последних были и либеральные сподвижники Царя-Освободителя, видные деятели Великих реформ, включая двух именитых племянников Киселева – Дмитрия и Николая Милютиных. Первый, генерал-адъютант Е.И.В., с 1861 г. был военным министром России, второй – статс-секретарем. Все они рассказывали Киселеву о том, с какими трудностями идет процесс преобразований, а нередко спрашивали у него совета. Наверное, это была не только дань вежливости, но и знак искреннего уважения к их предшественнику в деле обновления России.
Анализируя на покое течение европейской политической жизни, Павел Дмитриевич чувствовал грядущие крупные перемены, сумев даже заглянуть за пределы XIX столетия. «Я убежден, – записал он в дневнике 9 ноября 1866 г., – что наступят большие перевороты в свете и что социальное возрождение изменит в течение XX века настоящее положение дел»[464]. Задолго до Сентябрьской революции 1870 г. он предсказал падение режима Наполеона III[465].
Граф Киселев умер в Париже 14/26 ноября 1872 г. в возрасте восьмидесяти четырех лет. Он завещал похоронить его на кладбище Донского монастыря в Москве, рядом с могилами отца, матери и младшего брата Николая, что и было исполнено.
Окончание миссии Монтебелло
Отставка Киселева предшествовала отъезду из Петербурга осенью 1863 г. французского посла герцога де Монтебелло. Между этими двумя событиями, конечно, не было прямой связи, но каждое, по своему, отражало постепенно менявшийся после 1860 г. климат в отношениях двух стран.
Как уже говорилось, в начале октября 1858 г. Монтебелло по семейным обстоятельствам взял отпуск и отбыл во Францию, откуда вернулся в начале апреля 1859 г.[466]
Это было связано с назреванием военного конфликта в Северной Италии. Монтебелло подключился к процессу франко-российского согласования позиций по итальянскому вопросу за три недели до начала военных действий.
В ходе короткой войны французский посол в Петербурге подробно информировал свое правительство о том, как реагируют в России на победы франко-сардинских войск. «Известие о победе при Мадженте, – сообщал он 17 июня 1859 г. графу Валевскому, – произвело здесь, как и повсюду, большую сенсацию. Но Петербург, наверное, – единственная столица в Европе, где эта новость была воспринята с чувством искреннего удовлетворения. Едва я успел получить от Вас сообщение [о победе при Мадженте], – продолжал Монтебелло, – как эта новость получила широкое распространение; в тот же вечер и на протяжении последующего дня на мое имя стали поступать многочисленные поздравления; среди самых восторженных откликов… я могу назвать послание от великой княгини Елены [Павловны], которая прислала ко мне гофмейстера своего двора с просьбой передать ее личные поздравления нашему императору» [467].
Когда стало очевидным военное превосходство французов и пьемонтцев над австрийцами, князь Горчаков, встречаясь с Монтебелло, просил его передать в Париж настоятельный совет императора Александра о необходимости скорейшего заключения мира с Австрией, обещая со стороны России всю необходимую дипломатическую поддержку Горчаков, как докладывал Монтебелло министру иностранных дел Валевскому, не скрывал перед ним своего беспокойства в связи с объявлением в Пруссии демонстративной мобилизации шести армейских корпусов.
Одновременно Горчаков обратил внимание посла Франции на возможные демарши со стороны Англии, обеспокоенной успехами французского оружия в Италии. Необходимо безотлагательно нейтрализовать эти возможные неблагоприятные для Франции шаги двух влиятельных европейских держав прекращением военных действий и заключением мира, который в любом случае будет почетным для победителей – императора французов и сардинского короля. Франция может быть уверена в лояльной позиции России в деле мирного урегулирования, подчеркнул в беседе с Монтебелло князь Горчаков[468].
По всей видимости, Наполеон принял во внимание рекомендации единственной из великих европейских держав, которая в ходе конфликта заняла позицию благожелательного к Франции нейтралитета. Как уже отмечалось, 8 июля в Виллафранке он заключил перемирие с австрийским императором Францем-Иосифом.
Сразу же по получении из Парижа шифрованной телеграммы о перемирии герцог де Монтебелло отправился в Петергоф на встречу с князем Горчаковым, который выразил ему «искреннее и полное удовлетворение подписанным соглашением»[469]. Проинформированный Горчаковым о заключении перемирия император Александр, находившийся в это время в Петергофе, пожелал немедленно принять французского посла. Как сообщал Монтебелло в отправленной в Париж депеше, «Его Величество в самых дружеских выражениях засвидетельствовал мне те же чувства, что и князь Горчаков»[470].
На следующей встрече с французским послом, состоявшейся через неделю, Горчаков заверил Монтебелло, что «Франция может рассчитывать на Россию как на друга, намеренного оказать ей помощь во всех ее намерениях»[471].
Как вскоре выяснится, эти слова не были пустой фразой. Заручившись эффективной дипломатической поддержкой со стороны России, Наполеон III, как мы уже знаем, в результате послевоенного мирного урегулирования достиг желанной цели – Савойя и Ницца были присоединены к Франции.
В Петербурге имели все основания ожидать от императора французов взаимной услуги – неоднократно обещанного содействия в пересмотре Парижского договора 1856 г.
Однако, как уже говорилось, Наполеон III и на этот раз не спешил исполнить свое обещание, что посеяло первые сомнения у Александра II и князя Горчакова в отношении лояльности французского союзника.
Со своей стороны, герцог Монтебелло, как и его русский коллега в Париже граф Киселев, делал все возможное, для того чтобы сгладить появившиеся в Петербурге сомнения и спасти франко-русское согласие, достигнутое после окончания Крымской войны.
В своих донесениях в Париж Монтебелло неоднократно подчеркивал, что Россия всегда была верна своим обязательствам в отношении Франции, и в этом смысле ее не в чем упрекнуть. В одной из депеш он напомнил Валевскому об обещании Горчакова, относящемуся к периоду войны в Северной Италии, – всеми средствами воспрепятствовать вступлению в войну Пруссии на стороне Австрии. Монтебелло напомнил министру, что дело тогда не ограничилось словами. Горчаков предупредил Берлин, что Россия не останется равнодушной, если Пруссия ввяжется в войну. Именно эта позиция России остудила горячие головы в Берлине, требовавшие немедленно придти на помощь родственной Австрии. «Как бы то ни было, господин граф, – писал Монтебелло Валевскому, – у меня есть все основания верить, что князь Горчаков сделал именно то, о чем он мне доверительно сообщил. Он действительно предостерег Берлин»[472].
Монтебелло высказал твердое убеждение в том, что если бы война вышла за итальянские границы, Россия не осталась бы в стороне, так как она не могла допустить, чтобы Австрия одержала победу [473].
Посол настоятельно советовал своему правительству верить в надежность русского союзника и пойти навстречу его ожиданиям, которые хорошо известны в Тюильри. Он процитировал слова, сказанные ему князем Горчаковым на их встрече в конце сентября 1859 г. «С тех пор, как император доверил мне руководство иностранными делами, – сказал Горчаков, – [внешняя] политика России основана на согласии с Францией. Такова политика императора, и именно по той причине, что я ее полностью разделяю, он и доверил мне иностранные дела.
Я убежден, что это согласие служит постоянным интересам двух империй, и я приложу все мои старания, чтобы его укрепить. Россия намерена во всех вопросах действовать сообща с Францией. Это согласие легко сохранить в вопросах большой политики, поскольку основополагающие интересы двух стран совпадают.
Если же по некоторым второстепенным вопросам мы и придерживаемся разных подходов, то можем откровенно сказать об этом друг другу. В том, что зависит от России, мы будем делать все возможное, чтобы придти к согласию. Наверное, вы могли бы найти и более выгодных друзей, но вы не найдете друзей более преданных и более надежных»[474].
Доводя до сведения Валевского, а значит и Наполеона, эти слова Горчакова, посол Франции не считал нужным скрывать, что верит в их искренность.
Важным достижением герцога де Монтебелло на посольском посту в Петербурге стало заключение 6 апреля 1861 г. франко-российской конвенции по авторским правам в области литературы и искусства[475]. Это был первый документ такого рода в истории двусторонних отношений. Он регламентировал порядок перепечатки и воспроизведения в двух странах книг, брошюр, пьес, музыкальных сочинений, произведений живописи и скульптуры, опубликованных научных трудов, карт, литографий и других объектов интеллектуальной собственности. Конвенция защищала как авторские права, так и права наследников создателей тех или иных произведений, вводя судебную ответственность за нарушение этих прав.
По понятным причинам, конвенция в наибольшей степени отвечала интересам французских авторов и издателей, в течение многих десятилетий несших убытки от несанкционированного воспроизведения и перевода их произведений в России. Еще с XVIII в. туда шел расширяющийся поток литературы из Франции. Теперь в этом отношении был наведен порядок. Подписанное Монтебелло и Горчаковым соглашение действовало в течение четверти века – вплоть до 1886 г., когда оно было денонсировано правительством Александра III..
Годом раньше завершилась и посольская миссия Монтебелло в Петербурге. Но он еще успеет стать свидетелем Великих реформ первой половины 1860-х гг., во многом изменивших привычный облик России. В своих донесениях и записках, направлявшихся в Министерство иностранных дел, Монтебелло оставил интересные свидетельства о подготовке и осуществлении реформ Александровского царствования, но об этом будет сказано в другом месте.
На исходе 1861 г. граф Киселев проинформировал князя Горчакова о возможном отзыве герцога де Монтебелло из России. На такую вероятность русскому послу в Париже намекнул сам Монтебелло, находившийся в это время в отпуске во Франции. В частном разговоре, состоявшемся между ними, Монтебелло поинтересовался мнением Киселева относительно того, много ли в Париже найдется желающих заменить его на посольском посту в Петербурге? «Я ему ответил, – докладывал Киселев Горчакову, – что в Париже, вероятно, такие люди есть, но что в Петербурге… искренне желали бы по-прежнему видеть там герцога де Монтебелло»[476]. В тот раз слух о замене посла не подтвердился, но сам факт его появления не был случайным.
Дело в том, что к началу 60-х гг., как уже говорилось, в Петербурге вынуждены были констатировать: франко-российское сближение, начавшееся на Парижском конгрессе 1856 г. не оправдывает возлагавшихся на него надежд. Александр II так и не получил обещанного Наполеоном III содействия в пересмотре Парижского мирного договора. Между тем Россия, верная договоренностям, зафиксированным в секретном договоре от 3 марта 1859 г., оказала Франции моральную и дипломатическую поддержку против Австрии. В 1860 г. Россия, единственная из великих держав, действовала согласованно с Францией в ходе урегулирования положения в Сирии.
Но вся эта реальная помощь не была должным образом оценена в Париже. Под разными предлогами император Наполеон уклонялся от неоднократно данного Александру обещания посодействовать в отмене дискриминационных статей Парижского мира. В конечном счете, Александр II и его министр иностранных дел вынуждены были корректировать свое прежнее отношение к ненадежному союзнику, каким выглядел в их глазах император французов.
Ко всему этому на рубеже 1861–1862 гг. в двусторонние отношения вмешался давний, со времен Петра I и Людовика XIV, раздражитель – злополучный польский вопрос, о котором речь еще впереди.
В такой обстановке положение герцога де Монтебелло в Петербурге становилось весьма деликатным. На протяжении пяти с лишним лет он делал все от него зависящее для укрепления франко-русского согласия, которое рисковало теперь рассеяться как мираж. При этом посол видел, что его старания не находят необходимой поддержки ни на Кэ д’Орсэ. ни в Тюильри. Монтебелло не оставалось ничего другого, как продолжать уверять Александра II и князя Горчакова в искреннем желании императора французов развивать франко-русское сотрудничество, следуя договоренностям, достигнутым в Штутгарте в сентябре 1857 г.
Трудно сказать, сколь долго еще Наполеон III сохранял бы герцога де Монтебелло на его посту в Петербурге. Впервые император французов задумался над его заменой после неожиданной для него отставки в мае 1862 г. графа Киселева, с которым у Наполеона сложились самые теплые отношения. Решение Александра II отозвать Киселева, прислав ему на замену барона А.Ф. Будберга, дипломата школы Нессельроде, всегда относившегося к Франции с недоверием, было воспринято в Тюильри как сигнал к понижению уровня двусторонних отношений, утративших за последние два года прежний доверительный характер, своеобразными символами которого были Киселев и Монтебелло.
Сам факт нахождения Монтебелло при дворе Александра II после отзыва Киселева создавал впечатление о сохраняющейся близости двух императоров, а Наполеон явно не хотел выглядеть инициатором начинавшегося де-факто «развода». Он продолжал использовать «особые отношения» с Россией в своей дипломатической игре в Европе. В то же время, соображения, связанные с необходимостью «сохранить лицо», диктовали императору французов решение заменить посла в Петербурге. Выход из затруднения неожиданно нашелся сам собой.
На исходе лета 1863 г. резко ухудшилось состояние здоровья герцогини де Монтебелло, тяжело переносившей петербургский климат. 5 сентября посол отправил министру иностранных дел телеграмму с просьбой о срочном предоставлении ему отпуска для отъезда во Францию с больной женой[477].
Обычно такого рода просьбы рассматривались неспешно, проходя согласование между Кэ д’Орсэ и Тюильри. На этот раз вопрос решился на удивление быстро. Уже 9 сентября Монтебелло получил по телеграфу извещение о согласии императора Наполеона предоставить ему бессрочный отпуск – на все время, которое потребует выздоровление его супруги[478]. Это создавало впечатление, что посол не отзывается, а отправляется в отпуск. Такой вариант устраивал обе стороны – как Париж, так и Петербург.
20 сентября 1863 г. герцог де Монтебелло направился в Царское Село, где император Александр дал ему отпускную аудиенцию[479]. После соблюдения необходимых формальностей между ними состоялся уже неофициальный разговор двух давних друзей. Царь выразил искреннюю озабоченность состоянием здоровья герцогини и выразил надежду на то, что болезнь удастся победить. В завершение беседы император пожелал супругам Монтебелло скорейшего возвращения в Петербург.
Между тем послу пришлось здесь задержаться еще почти на месяц. Состояние его жены ухудшалось с каждым днем. Доктора говорили, что герцогиня не перенесет продолжительного путешествия через всю Европу.
14 октября 1863 г. Элеонора де Монтебелло скончалась в Петербурге в возрасте пятидесяти трех лет. Убитый горем герцог отправился на родину сопровождать тело супруги, с которой они прожили душа в душу почти тридцать три года. Посол еще не знал, что в Петербург он больше не вернется. Временное руководство французской дипломатической миссией было возложено им на советника посольства, графа де Массиньяка.
В Париже Монтебелло был принят министром иностранных дел и императором Наполеоном. Ему посочувствовали в постигшем его горе и сказали, что он может не спешить с возвращением в Россию.
В отпуске посол находился уже более года, когда неожиданно для всех, 5 октября 1864 г. Наполеон III подписал декрет, по которому герцог де Монтебелло был введен в Сенат. Это означало, что в Россию он уже не вернется.
Работа в Сенате не была для него обременительной. В перерывах между сессиями верхней палаты Монтебелло активно участвовал в общественной жизни департамента Марна, где у него были обширные виноградники и где его избрали вице-президентом департаментского Генерального совета.
Здесь, в своем замке (chateau de Mareuil-sur-Ay), 18 июля 1874 г. бывший посол в России, герцог де Монтебелло скончался на семьдесят третьем году жизни.
Шестилетняя посольская миссия Монтебелло в России, составившая один из наиболее ярких эпизодов в его дипломатической карьере, пришлась на переломный период в отношениях между Францией и Россией – от сближения второй половины 1850-х гг. к охлаждению в начале 1860-х. При этом возникшее у Александра II недоверие к Наполеону III не отразилось на личном отношении царя к французскому послу в Петербурге, которому он искренне симпатизировал. В 1864 г., уже после отъезда Монтебелло из России, император Александр отметил герцога высшим знаком отличия Российской империи – орденом ев. Андрея Первозванного. Этой чести удостаивались немногие из иностранных послов.
Глава 7 Время разочарований (1863–1867)
Барон Будберг
Когда граф Киселев на одной из последних аудиенций заверял Наполеона III в том, что его преемник, барон Будберг, весьма расположен к Франции, он проявил очевидную дипломатическую корректность. Вся предшествующая биография барона никак не подтверждала утверждения отправленного в отставку посла. Тем более любопытен тот поворот в сознании, который произойдет у Будберга за пять с половиной лет его посольской миссии в Париже, куда в 1862 г. он прибыл, по меньшей мере, с настороженным отношением к Франции. Но не будем забегать вперед.
Андрей Федорович (Андреас-Людвиг-Карл-Теодор) Будберг принадлежал к баронской ветви рода фон Будберг-Беннингаузен, переселившихся в XVI в. из Вестфалии в Лифляндию. В середине XVIII в. его предки поступили на службу России, где отличились на военном и дипломатическом поприщах. При этом они сохранили верность лютеранскому вероисповеданию. Дед будущего посла в Париже, Андрей Яковлевич Будберг, недолгое время (1806–1807 гг.) был министром иностранных дел Александра I. Он был отправлен в отставку за то, что не одобрял курс на сближение с наполеоновской Францией. В память о деде Андрей Федорович и получил свое имя.
А.Ф. Будберг родился в 1817 г. в Риме. Первичное образование получил в пансионе в Эстляндии, а продолжил его в Санкт-Петербургском университете, откуда вышел со степенью действительного студента[480].
По окончании курса юный барон в 1841 г. был принят в департамент внутренних сношений Министерства иностранных дел, где первые три года служил под непосредственным руководством графа К.О. Нессельроде, главы дипломатического ведомства [481].
В 1845 г. он был направлен во Франкфурт-на-Майне младшим секретарем дипломатической миссии, а через год получил там же должность старшего секретаря. Во Франкфурте Будберг удачно женился на дочери посланника, Петра Яковлевича Убри, после смерти которого в январе 1848 г. был назначен исполняющим дела поверенного в делах при Германском союзе.
Вся его последующая служба проходила в Германии, где он возглавлял дипломатические миссии в Берлине, Мекленбург-Шверине и Ганновере, пока в 1856 г. не сменил князя А.М. Горчакова на посту посланника в Вене. В николаевское царствование барон Будберг, вплоть до Крымской войны, был убежденным приверженцем тесного союза России с Пруссией и Австрией, а после предательства последней оставался сторонником единения с Берлином.
Тайный советник Будберг считался в Петербурге лучшим знатоком германских дел и пользовался покровительством не только Горчакова, но и самого императора Александра, с давних пор питавшего особое расположение к Пруссии, где правили два его дяди – Фридрих-Вильгельм IV и сменивший его в 1861 г. Вильгельм I. Вплоть до неожиданного назначения в Париж в 1862 г. никто не мог заподозрить убежденного пруссофила Будберга в каких-либо симпатиях к Франции.
В Тюильри, как уже отмечалось, назначение Будберга в Париж встретили с большой настороженностью. Французская печать не жаловала барона еще с тех пор, как он занимал пост посланника в Берлине. Влиятельный парижский журнал “Revue des Deux Mondes” («Обозрение двух миров») давал ему следующую характеристику: «Будберг – один из чистейших представителей той русской дипломатии, которая высокомерна и повелительна. Он щеголял несдержанными и резкими замашками; он был неистощим в преувеличенных восхвалениях своего повелителя: он старался ослеплять показными приемами, движением курьеров, пароходов, специальных поездов, пускаемых на всех парах; он принимал тон и вид превосходства, которые обличали бы представителя преобладающей державы»[482].
Не случайными в свете подобной репутации были расспросы императрицы Евгении у графа Киселева относительно характера и настроений Будберга.
Барон Андрей Федорович приехал в Париж в начале лета 1862 г. в качестве специального представителя императора Александра II для ведения переговоров о заключении соглашения относительно совместных с Францией действий в отношении Сербии, над которой нависла угроза турецкой интервенции.
В 1860 г. сербский правитель князь Милош Обренович выдвинул программу создания «Великой Сербии», в составе которой должны были объединиться югославянские земли. Одновременно сербское правительство потребовало немедленного свертывания турецкого военного присутствия на территории Сербии, где Порта сохраняла отдельные крепости и гарнизоны.
Россия поддержала план создания «Великой Сербии», рассчитывая в дальнейшем опираться на крупное славянское государство на Балканах в своей восточной политике. Но этот план, по понятным причинам, вызвал крайне болезненную реакцию Порты, решившей примерно наказать Сербию. В июне 1862 г. турецкие власти в Белграде спровоцировали вооруженные столкновения между своими солдатами и местным населением, после чего подвергли артиллерийскому обстрелу из крепости мирные городские кварталы[483]. Россия потребовала проведения международного расследования этого инцидента и рассчитывала на поддержку со стороны Франции.
Для налаживания более тесного взаимодействия с французской дипломатией по сербскому вопросу, а также по другим, касающимся положения христианского населения европейской Турции (прежде всего на Балканах), в Париж был откомандирован барон А.Ф. Будберг. Прибыв на место, он встретился с французским министром иностранных дел Э. Тувенелем, который передал русскому дипломату проект соглашения по интересующему обе стороны вопросу.
Ознакомившись с проектом Тувенеля, барон Будберг нашел его неудовлетворительным. По его мнению, соглашение на этой основе было бессмысленным, так как оно «не смогло бы оказать серьезного влияния на ситуацию» в Сербии[484]. Главное, что отличало французский проект, как докладывал Будберг вице-канцлеру Горчакову, – озабоченность сохранением территориальной целостности Оттоманской Порты[485]. Французская дипломатия хотела бы получить гарантии со стороны России в этом вопросе.
Несмотря на обозначившиеся с самого начала различия в подходах к балканским делам, Будберг продолжал интенсивные консультации с Тувенелем. Подтвердив отсутствие у России намерений действовать в направлении расчленения турецкой империи, ему удалось убедить французского министра в необходимости совместного выступления двух стран в защиту сербов и других христианских народов Балканского полуострова. Этот компромисс был оплачен согласием императора Александра II признать Виктора-Эммануила II главой Итальянского королевства, провозглашенного после ликвидации и последующего присоединения к Пьемонту Королевства Обеих Сицилий и ряда других областей Италии в 1860–1861 гг.[486]
Достигнутый компромисс позволил России и Франции выступить с единых позиций на конференции европейских держав в Канлидже (предместье Константинополя), где Англия и Австрия намеревались поддержать Турцию. Совместными усилиями российской и французской дипломатий удалось преодолеть колебания Англии и Австрии и добиться принятия решения в пользу Сербии[487]. Султан вынужден был согласиться на передачу сербам двух (из шести) крепостей, в т. ч. в Белграде, и начать репатриацию турецкого населения из Сербии.
Что касается России, то ей при поддержке Франции удалось тогда восстановить, хотя и не в полной мере, влияние на Балканах, где она подтвердила свою давнюю репутацию защитницы христианского населения.
При всей неустойчивости достигнутого стараниями барона Будберга согласия с Францией по сербскому вопросу, это, безусловно, был личный успех русского дипломата, особенно заметный после двух лет взаимных обид и претензий со стороны Петербурга и Парижа.
3 ноября (ст. ст.) 1862 г. тайный советник барон Андрей Федорович Будберг был назначен чрезвычайным и полномочным послом Александра II при императоре Наполеоне III. Содержание полученной им инструкции[488] свидетельствовало о намерении императора и вице-канцлера Горчакова продолжать курс на взаимодействие с Францией. «Его Величество полагает, – говорилось в инструкции, – что среди европейских великих держав, есть только одна, чьи постоянные интересы не входят в противоречие с интересами России – это Франция, с которой до сих пор нас разделяли скорее принципы, чем интересы. Это убеждение и стало основой того интимного согласия между нами и Францией, которое установилось после заключения последнего мира (1856 г. – П.Ч.).
Наш августейший повелитель продолжает придерживаться этого убеждения, – подчеркнул составитель инструкции князь Горчаков. – Сегодня, как и тогда, мы верим, что если русское и французское правительства сознают их подлинные интересы, это согласие должно принести плоды взаимных преимуществ обеим империям. Это, как и раньше, будет составлять основу нашей внешней политики».
Отметив, что прошедшие со времени встречи двух императоров в Штутгарте годы не в полной мере оправдали первоначальные ожидания, Горчаков обратил внимание нового посла на необходимость обсуждать наиболее важные вопросы непосредственно с Наполеоном III. «Центр политической мысли во Франции находится в Тюильри, а вовсе не в особняке Министерства иностранных дел, где происходит частая смена министров[489], – отметил вице-канцлер. «Барон Будберг, – продолжал Горчаков, – должен будет стараться, прежде всего, проникнуть в этот центр политической мысли и воздействовать непосредственно на императора Наполеона». А для этого, как минимум, необходимо завоевать доверие императора французов, добавлял Горчаков.
В плане практических действий Будбергу было указано на необходимость продолжать успешно начатое согласование с Францией о совместных действиях в Сербии, распространив их на Черногорию и Грецию. В отношении последней Будберг должен добиваться от Франции всевозможного содействия в укреплении независимости греческого государства и, в частности, согласия Наполеона III на избрание преемником свергнутого с престола в марте 1862 г. короля Оттона I, герцога Лейхтенбергского, члена Российского императорского дома, одновременно находящегося в родстве с династией Бонапартов [490].
Знаком расположения императора Александра к его новому послу в Париже стало выделение в 1863 г. средств на приобретение нового здания российского посольства в Париже, о чем давно и тщетно просил предыдущий посол, граф Киселев. Стараниями Будберга первоначальную цену особняка д’Эстре на улице Гренель, в фешенебельном квартале Парижа, удалось снизить с 2 млн. до 1 млн. 300 тыс. франков[491].
К особняку, который был отремонтирован и перестроен за счет российской казны[492], прилагался земельный участок площадью 4.658 кв. метров. Весной 1864 г., по завершении ремонтно-восстановительных работ, посольство России перебралось в особняк д’Эстре.
В целом начало посольской миссии барона Будберга в Париже было обнадеживающим. Казалось, что восстанавливается прежнее доверие между Россией и Францией. В Петербурге возлагали большие надежды на то, что после разрешения итальянской проблемы, когда Франция заполучила Савойю и Ниццу, Наполеон III возвращается к умеренной внешней политике. «В позиции французского правительства, – отмечалось в отчете МИД России за 1862 г., – судя по всему, обнаруживается определенный отход от авантюристичной политики, характерной для первых лет [Второй империи].
Колеблясь между двумя принципами, составляющими в одно и то же время силу и слабость его власти – династическим абсолютизмом и всеобщим избирательным правом, – император Наполеон, испытывающий понятную в его возрасте усталость от долгого правления и перед лицом внутренних и внешних трудностей…, учитывая и явную усталость общества, финансовые и промышленные интересы своей страны, склонился к мнению тех из своего ближайшего окружения, кто призывает его к осторожности и умеренности.
Со своей стороны, мы всегда старались подсказать ему именно этот путь, внушая убеждение в том, что на этом пути он обретет нашу сердечную опору, столь полезную, как для его безопасности, так и для постоянных интересов Франции, но что эта поддержка не может быть оказана, если он пойдет по пути революционных авантюр. Такая наша твердая позиция, – отметил Горчаков в составленном им для императора отчете, – не осталась без внимания» Наполеона III [493].
Отметив наличие расхождений и даже противоречий в позициях России и Франции по отдельным вопросам, князь Горчаков вместе с тем подчеркивал: «Безусловно, мы в полной мере сознаем значение нашего согласия с Францией»[494].
Петербург и в дальнейшем намеревался следовать избранному после 1856 г. курсу на тесное взаимодействие с Францией. Но уже в 1863 г. на пути русско-французского согласия встало препятствие, оказавшееся непреодолимым – злополучный польский вопрос.
Момент истины: Польское восстание 1863 г.
Польша с давних пор была камнем преткновения в отношениях России с Францией. Для Москвы, как позднее и для Петербурга, Речь Посполитая была историческим противником, с которым Россия с конца XVI в. вела непрерывные войны. В то же самое время Польша – давний исторический союзник Франции, важнейший элемент т. н. «Восточного барьера» (Швеция, Польша, Турция), воздвигнутого французской дипломатией на рубеже XVI–XVII вв. для противодействия гегемонистским устремлениям испанских и австрийских Габсбургов.
Обе страны связывали тесные политические и династические узы. Один из сыновей Екатерины Медичи, Генрих Анжуйский, в 1573 г. был даже избран королем Польши, откуда через год, обманув поляков, тайно бежал во Францию, где открылась более привлекательная вакансия, и где он стал править под именем Генриха III. Спустя полтора столетия, в 1725 г., 15-летний Людовик XV, по настоянию тогдашнего регента, герцога Бурбонского, сочетался браком с 22-летней Марией Лещинской, дочерью изгнанного из Польши короля Станислава. А спустя еще двадцать лет, дочь короля Польши Августа III Саксонского стала супругой дофина, наследника французского престола.
Франция неоднократно, хотя и не всегда последовательно, но всегда демонстративно, выступала защитницей Польши от покушений на ее территориальную целостность со стороны более сильных соседей – России, Австрии и Пруссии. Тем не менее, по разным причинам, она не предприняла никаких решительных действий, чтобы не допустить ликвидации Польши как независимого государства в результате трех разделов – в 1772, 1793 и 1795 гг.
«Франция, – отмечал французский историк, – не всегда проводила в отношении Польши политику рыцарской дружбы и бескорыстия, как это услужливо повторяет пропаганда, заботящаяся лишь о том, чтобы увековечить полезное вопреки истине…
Министры наших королей имели в виду исключительно интересы своей страны и никогда не руководствовались соображениями сентиментального свойства. Они были хорошо информированы о том, что происходит в Польше; они холодно осуждали происходящее там и оказывали ей поддержку в самой незначительной степени»[495].
Даже Наполеон с его попыткой создания герцогства Варшавского (1807–1815) как прообраза возрожденной Польши, преследовал, прежде всего, интересы своей империи. Польша, во всяком случае, до 1812 г., была для него разменной картой в игре с Александром I, в переговорах с которым он неоднократно увязывал польский вопрос с женитьбой на младшей сестре царя, в чем ему было отказано.
Как у самого императора французов, так и у его сподвижников, можно найти немало свидетельств того, что Наполеон не рассматривал всерьез восстановление Польши в ее исторических границах и в ее былом значении. Она могла быть лишь составной частью наполеоновской империи.
Как бы то ни было, поляки, принявшие самое активное участие в походе Великой армии в Россию, навсегда остались признательны Наполеону и Франции за отмену крепостного права, ликвидацию сословного неравенства и введение Гражданского кодекса («Кодекса Наполеона») на территории герцогства Варшавского. Они искренне верили в то, что Наполеон поможет им возродить независимую Польшу в ее прежнем величии.
В то время как во внешней политике Франции «польский вопрос» всегда был подчинен собственным государственным интересам, диктовавшим постоянные компромиссы с другими участниками европейского концерта держав, во французском гражданском обществе издавна существовала искренняя солидарность с народом Польши, мечтавшим о национальной независимости. Такое противоречие в полной мере проявилось во время польского восстания 1830–1831 гг.
Франция, отвергнувшая в июле 1830 г. режим Реставрации Бурбонов, требовала от «короля-гражданина» Луи-Филиппа и его правительства решительной поддержки восставших поляков. Однако пришедшие к власти либералы и сам король, озабоченный устойчивостью своего «республиканского трона», не пошли навстречу общественным настроениям. Выразив осторожное осуждение карательных действий русских войск в Польше, Июльская монархия этим и ограничилась, отвергнув саму возможность военного вмешательства в дела «русской» Польши. Глава либерального кабинета Казимир Перье заявил 11 сентября 1831 г. в Палате депутатов: «Франция никому не даст право принуждать себя сражаться за другой народ; французская казна, как и французская кровь, принадлежат только Франции»[496]. При голосовании большинство депутатов (214 человек) поддержали позицию правительства. За оказание военной и иной помощи восставшим полякам высказался 161 депутат. Таким образом, преобладавшие во французском обществе полонофильские настроения не нашли поддержки у правительственного большинства Палаты депутатов.
После подавления польского восстания многие из его участников нашли убежище во Франции, где встретили самый радушный прием со стороны общества. Польская диаспора, численность которой возросла до пяти тысяч человек, развернула энергичную пропаганду в пользу независимости Польши, что служило предметом постоянных выяснений отношений между русским посольством в Париже и французским Министерством иностранных дел. Кабинет Луи-Филиппа, как мог, пытался ограничить чрезмерную активность польской эмиграции, но должен был считаться с общественными настроениями.
В поддержку поляков выступали не только левые либералы и республиканцы, но и клерикалы, озабоченные притеснениями католической и униатской церквей в Царстве Польском, на Украине и в Белоруссии. Свидетельством общественного внимания к польскому делу стало открытие в 1840 г. в Коллеж де Франс кафедры славянских языков и литературы, которую в течение четырех лет возглавлял классик польской литературы Адам Мицкевич.
Вторая империя, пришедшая на смену Июльской монархии и эфемерной Второй республике, унаследовала, среди прочего, и устойчивые полонофильские настроения в обществе. Народная монархия, провозглашенная Наполеоном III, в еще большей степени, чем либеральная Июльская, вынуждена была считаться с этими настроениями. Многие, прежде всего, в Польше, да и в самой Франции, надеялись, что Луи-Наполеон продолжит дело восстановления польской государственности, начатое его дядей в 1807 г.
Но Наполеон III оказался не меньшим прагматиком, чем его великий предшественник. Возрождение Франции, освобождение ее от ограничений Венского мира 1815 г., было для него несравнимо более важным делом, чем забота о несчастной Польше. После победы над Россией в 1856 г. он попытался было поднять польский вопрос на Парижском конгрессе, но, встретив твердый отпор со стороны молодого императора Александра II, отказался от этого намерения.
Тем не менее, и в дальнейшем он предпринимал столь же неудачные попытки в строго конфиденциальном порядке обсудить эту тему с царем или его доверенными лицами. В марте 1861 г. на обеде в Тюильри император, заведя разговор с Киселевым о волнениях в Польше, философски изрек: «В наше время чрезмерная суровость способна лишь разжигать страсти; репрессии вызывают ответную реакцию…»[497]. Эту же мысль, полтора месяца спустя, Наполеон III повторил в личном письме Александру II, заверив царя, что распространяемые слухи о соучастии французских «агентов» и французского «золота» в разжигании беспорядков в Польше не соответствуют действительности. Одновременно Наполеон просил Александра понять затруднительность своего положения по той причине, что во Франции существуют «давние симпатии» к Польше [498].
Осторожная настойчивость Наполеона III в польском вопросе во многом объяснялась как исторической традицией французской солидарности с поляками, так и давлением, которое он постоянно ощущал в своем ближайшем окружении, где образовалось нечто вроде «польской партии», зачастую составленной из людей ненавидящих друг друга – таких, например, как «красный принц» Наполеон-Жером и императрица Евгения.
Кузен императора, как уже говорилось, был дружен не только с республиканцами, но и с польской эмиграцией, чьим адвокатом слыл в общественных кругах. Он использовал любой случай, чтобы высказаться в защиту «угнетенной Польши». Принц Наполеон не изменил этой привычке даже на встрече с Александром II в Варшаве, чем возмутил царя («Мне осмелились говорить о Польше!») и чем сорвал подписание ряда подготовленных Горчаковым и Монтебелло документов. И Горчаков, и сам император Александр пребывали в недоумении – высказал ли принц собственное мнение или это мнение Наполеона III?
По-своему о Польше радела и императрица Евгения, озабоченная положением польских католиков. Конечно, она делилась с супругом не только своими личными опасениями. Императрицу не без оснований считали во Франции покровительницей клерикалов, которые настаивали на более решительной защите интересов католической церкви, будь то в Италии, в Мексике[499] или в Польше. Клерикалы, идейным рупором которых был известный литератор Шарль Форб граф де Монталамбер, напрямую связывали дело католицизма с независимостью Польши[500].
В разговорах с русским послом Киселевым на тему Польши императрица Евгения могла себе позволить говорить более откровенно, чем Наполеон III. На аудиенции, данной Киселеву 16 октября 1862 г., императрица среди прочего сказала: «…если бы спросили меня, я посоветовала бы оставить поляков самим себе, предоставя им выбрать себе короля. Россия, при своем могуществе, всегда будет стоять выше, будет сильнее и у себя, и в отношении других; всякие другие мнимые примирения, которые выдумают, не установят прочного спокойствия, столь желаемого Европою и которого тоже должна желать и Россия. Я говорю в интересах Польши и в то же время в интересах России и Европы» [501].
Со своей стороны, и граф Киселев, и сменивший его в Париже барон Будберг многократно обращали внимание французского правительства, да и самого императора Наполеона на подстрекательскую и ничем не ограничиваемую деятельность польской эмиграции во Франции по разжиганию антирусских настроений. Под давлением этих настойчивых представлений МВД и парижская префектура полиции были вынуждены время от времени вмешиваться и принимать определенные ограничительные меры против наиболее радикально настроенных польских эмигрантских организаций, направлявших своих эмиссаров в Польшу для возбуждения там беспорядков. Так, осенью 1862 г. французская полиция пресекла деятельность одной из эмигрантских групп, наладивших канал поставки оружия и пропагандистской литературы в Польшу.
По этому поводу наместник в Царстве Польском великий князь Константин Николаевич просил российское посольство передать свою благодарность императору Наполеону III[502].
В начале января 1863 г. полиция задержала в Париже трех поляков, один из которых (Игнатий Шмиелевский) подозревался в соучастии в подготовке покушения на жизнь великого князя Константина в Варшаве в июле 1862 г. Он был арестован, а двое других – в 24 часа высланы за пределы Франции[503].
Но это были лишь отдельные из многочисленных групп, готовивших восстание в Польше. Другие продолжали действовать, усилив меры конспирации. То, что восстание неизбежно, российское посольство в Париже предупреждало Петербург с октября 1862 г. Называлась даже точная дата – 29 ноября 1862 г., приходившаяся на очередную годовщину начала восстания 1830 г.[504]
В начале декабря 1862 г. один из тайных осведомителей посольства, некий М. Леруа, назвал новое время выступления заговорщиков – конец января 1863 г. Он же сообщил, что восстание готовит Центральный национальный комитет, часть членов которого находятся в Париже[505]. В полученной информации был указан точный адрес их проживания.
Сменивший Киселева в должности посла во Франции барон А.Ф. Будберг, не раскрывая, разумеется, имени осведомителя, сообщил префекту парижской полиции о подготовке восстания, потребовав арестовать заговорщиков, намеревавшихся со дня на день отправиться из Парижа в Варшаву. В ночь с 20 на 21 декабря полицейский наряд явился по указанному адресу, где были задержаны четверо поляков, оказавшихся членами Военной комиссии ЦНК. Среди них был и «чрезвычайный комиссар» ЦНК Годлевский.
Из найденных на квартире бумаг следовало, что арестованные члены Военной комиссии занимались отправкой в Польшу оружия для повстанцев, а само оружие поступало из Англии. Подготовленная ими очередная партия должна была быть переправлена до конца декабря через Пруссию[506].
Информация о предстоящем восстании в Польше, заблаговременно полученная российским посольством в Париже, подтвердилась. 22 января 1863 г. вооруженные отряды польских повстанцев предприняли скоординированное нападение на гарнизоны русской армии, рассредоточенные по территории Царства Польского. Поводом к восстанию, продолжавшемуся шестнадцать месяцев, стал рекрутский набор, объявленный главой гражданской администрации при царском наместнике маркизом Александром Велепольским, хотя причины этого восстания, разумеется, были куда глубже[507].
Революционный взрыв со всей очевидностью свидетельствовал и о провале либерального курса, проводившегося назначенным в июне 1862 г. наместником Царства Польского великим князем Константином Николаевичем и его ближайшим сподвижником А. Велепольским. Поляки ясно дали понять, что никакие либеральные послабления не способны заставить их отказаться от мечты о национальном возрождении Польши [508].
О первой реакции в Петербурге на события в Польше посол Франции герцог де Монтебелло проинформировал Париж 30 января 1863 г.
В депеше, адресованной новому министру иностранных дел Э. Друэн де Люису[509], посол писал о полученном здесь сообщении, согласно которому, в ночь с 22 на 23 января в ряде гарнизонов в Царстве Польском произошло скоординированное массовое убийство русских солдат, застигнутых врасплох в своих казармах[510].
Монтебелло посетил по этому поводу вице-канцлера Горчакова. «Я не скрыл от князя Горчакова, – докладывал посол, – что в Европе эти события могут произвести плохое впечатление, а пресса, благосклонная к полякам, о чем ему хорошо известно, постарается представить это дело таким образом, что правительство окажется провокатором, а повстанцы – жертвами». Вице-канцлер, по словам Монтебелло, согласился с ним, добавив, что «ожидает именно такой трактовки», но, со своей стороны, может сказать совершенно определенно, что речь идет о «попытке государственного переворота».
С самого начала восстания в Польше российское посольство в Париже внимательно отслеживало, как реагируют на развитие событий в Тюильри и в обществе. «Невозможно не признать, – сообщал барон Будберг в личном письме Горчакову, – что польское дело встречает здесь многочисленные симпатии, с чем не может не считаться правительство». Судя по имеющейся информации, продолжал посол, «император Наполеон может предпринять в отношении нас демарш в пользу Польши» [511].
Однако Наполеон III не стал спешить с демаршем. По всей видимости, он пока не предвидел того размаха, которое может принять польское восстание. Поначалу императору французов казалось, что речь идет о локальных выступлениях, каких в Польше было немало за последние годы, и которые довольно быстро подавлялись на местах. Именно поэтому первая официальная реакция тюильрийского кабинета, представленная в выступлении государственного министра Адольфа Бильо в Законодательном корпусе 5 февраля 1863 г., была весьма сдержанной. Министр сказал, что правительство Франции рассматривает волнения в Польше не более чем революционную вспышку, «что было в его устах почти синонимом слова «преступную»[512].
По этой же причине Наполеон III первое время ограничивался осторожными предостережениями по адресу России. Во всяком случае, при встречах с Будбергом император выражал свою «обеспокоенность» и высказывал пожелания избегать в Польше применения «чрезвычайных мер»[513].
Но уже тогда, в самом начале восстания, как сообщал Будберг в Петербург, Наполеон III подвергся сильнейшему давлению со стороны общества, единодушно поднявшемуся на защиту поляков. На одной из встреч с русским послом император откровенно признался, что находится в крайне затруднительном положении: с одной стороны, опора на общественное мнение – это важнейшее условие устойчивости возглавляемого им режима; с другой – его личные и политические устремления направлены на то, чтобы сохранить добрые отношения с императором Александром. Если в ближайшее время Польша каким-то образом не успокоится, подчеркнул Наполеон, «я предвижу, что мое правительство не сможет остаться индифферентным к тому, что там происходит»[514].
Для того чтобы укрепить позицию Будберга в его контактах с императором Наполеоном, князь Горчаков снабжал посла всей нужной информацией и дополнительной аргументацией для обоснования действий России в Польше. В одной из шифрованных телеграмм, адресованных Будбергу, вице-канцлер подчеркивал, что «Польша становится пробным камнем в оценке ценности нашего союза с Наполеоном»[515].
В противовес тому, что писала о ситуации в Польше французская печать, Горчаков заверял посла в Париже, что эта ситуация находится под контролем (что не соответствовало действительности) и в самом недалеком будущем будет нормализована. Только после этого можно будет говорить о милосердии и амнистии организаторов и участников восстания, к чему призывает император Наполеон[516].
В личном письме, одобренном Александром II, Горчаков представил Будбергу развернутую аргументацию для бесед с Наполеоном по польскому вопросу. Посол должен был внушить императору французов, что есть три Польши. Одна – мятежная, представленная революционерами («мадзинистами»), стремящимися посеять хаос. Другая – аристократическая, озабоченная исключительно собственными интересами. «Есть еще и третья Польша, – писал Горчаков. – Это простые земледельцы, которые признают то благо, которое сделало для них правительство и которые спонтанно поддерживают его в моменты потрясений. Их здравые, но слабые голоса не так слышны, как другие, но не подлежит сомнению, что они не имеют ничего общего с зачинщиками нынешних волнений… Именно эта Польша имеет право на симпатии и поддержку Императорского правительства, и именно она дорога сердцу Императора…»[517].
Будберг должен был напомнить Наполеону, что у России есть еще и горький опыт в отношении своенравной и эгоистичной польской аристократии, которая не захотела воспользоваться плодами дарованной Польше Александром I конституции, оставлявшей за Царством Польским ряд государственных институтов, включая национальную армию. В 1830 г. мятежники спровоцировали эту армию поднять оружие против наследника того, кто даровал Польше конституцию. «Этот опыт слишком дорого обошелся и Польше, и России, чтобы позволить повторить его вновь», – резюмировал Горчаков, рекомендовавший Будбергу при первой же возможности ознакомить с содержанием своего письма Наполеона III [518]. Посол, разумеется, исполнил пожелание министра, но резоны Горчакова не произвели на Наполеона ожидаемого впечатления.
Император французов испытывал растущее давление не только со стороны общества, но и в своей семье. Слева на него давил принц Наполеон с его, по выражению Будберга, «экстравагантной программой» оказания немедленной помощи восставшим полякам. Справа – императрица Евгения с ее горячей приверженностью делу католицизма. Обо всем этом русскому послу доверительно сообщал герцог де Мории[519], пытавшийся спасти оказавшееся под угрозой франко-русское согласие и призывавший сводного брата-императора к сдержанности[520].
Старания Мории стали крайне затруднительными после того, как неожиданно для Франции и других участников европейского концерта, Россия и Пруссия 8 февраля 1863 г. заключили в Петербурге конвенцию о совместной борьбе с польским восстанием, причем, инициатива в этом исходила от Берлина[521].
Подписанная против воли Горчакова, уступившего настойчивому желанию Александра II укрепить монархическую солидарность с Пруссией, конвенция оправдала опасения вице-канцлера, настроив против России три великие державы – Англию, Австрию и Францию, вступивших в секретные переговоры о согласованных действиях в связи с ситуацией в Польше.
8 февраля 1863 г. произошло то, чего больше всего опасался Горчаков – польский вопрос из внутрироссийского, на чем всегда настаивал Петербург, становился международной проблемой. В Европе неожиданно вспомнили о том, о чем прежде предпочитали не говорить – о нарушении Николаем I, отменившим в 1831 г. польскую конституцию, условий Венского мира 1815 г., относившихся к автономному статусу Польши в составе Российской империи.
Наполеон явно не желал портить отношений с Александром. Пока его министр иностранных дел Э. Друэн де Люис проводил консультации с британским и австрийским послами по вопросу положения в Польше, император выслушивал мнения других своих помощников о дальнейших действиях в отношении России.
О том, что происходило на заседаниях Совета министров, один из его участников, герцог де Мории, рассказывал барону Будбергу. Сам Мории на заседании, состоявшемся в середине февраля 1863 г. высказался за невмешательство в польские дела, считая недопустимым официально поощрять повстанцев. Его мнение поддержал Друэн де Люис, считавший, что открытая солидарность с восставшими поляками может быть воспринята как недвусмысленная поддержка Францией революционных выступлений в других странах Европы. Эжен Руэр, министр сельского хозяйства, торговли и общественных работ в принципе присоединился к двум своим коллегам, но при этом обратил внимание на необходимость учитывать господствующие в обществе либеральные настроения, а они были исключительно полонофильскими.
Решительное несогласие с Мории и Друэн де Люисом высказал министр внутренних дел граф Виктор де Персиньи, выступивший с самой резкой критикой Петербургской конвенции от 8 февраля и потребовавший достойного ответа на сговор двух держав. Кроме того, Персиньи увязал позицию Франции в польском вопросе с предстоящими в конце мая – начале июня 1863 г. выборами в Законодательный корпус. Правительство, по его убеждению, не может игнорировать всеобщих настроений в обществе в пользу поляков, иначе оно потеряет доверие избирателей и проиграет выборы.
Выслушав все мнения, Наполеон III призвал к взвешенной оценке происходящих событий, предупредив о недопустимости скоропалительных решений, которые могли бы связать руки Франции. Вместе с тем император признал существование связи между событиями в Польше и предстоящей во Франции избирательной кампанией. В этом смысле подконтрольные и близкие к правительству газеты и журналы должны «дать определенное удовлетворение настроениям либеральной общественности»[522].
Наполеон продолжал консультации с русским послом, справедливо полагая, что сговор России с Пруссией изменил прежние подходы к положению в Польше, поставив другие европейские державы перед необходимостью реагировать на интернационализацию польского вопроса. Об этом Наполеон откровенно сказал Будбергу 9 марта на данной послу аудиенции[523].
«Вы могли убедиться, – начал разговор император, – что в начале восстания я старался держаться в стороне от этого дела, которое непосредственно меня не затрагивало. Теперь же, с его развитием, все осложнилось. Мне будет невозможно уклониться от дипломатического демарша. Поверьте, у меня нет намерения ссориться с Россией, но я, как и Англия[524], не могу поступить иначе, потому что это польское дело, вызвав большое волнение в Европе, приобрело общеевропейский характер. Я говорю вам это совершенно откровенно, так как не вижу никакой возможности избежать подобного демарша. Я нахожусь во главе правительства, которое должно считаться с общественным мнением, особенно в тех случаях, когда оно выражается столь единодушно».
Будберг обратил внимание Наполеона на сомнительность ссылок британского кабинета на Венский договор 1815 г., который, как известно, «был направлен, прежде всего, против Франции»[525].
«Безусловно, договор 1815 г. был заключен против Франции, – живо отреагировал император, – и мы не заинтересованы в том, чтобы он был увековечен. Но польские дела силой обстоятельств приобрели общеевропейский характер,[526] и я не могу не признать, что они становятся объектом европейского согласия».
Русский посол попытался парировать утверждение Наполеона относительно общеевропейского значения восстания в Польше. «Но тогда какую интерпретацию, по-вашему, можно было бы ему дать?» – спросил император.
Будберг предложил посмотреть на проблему иначе. Вот, если восстание выйдет за пределы Польши, чего, разумеется, никто не хочет, то только тогда оно приобрело бы «европейский характер», а пока речь идет исключительно о внутреннем деле России. Именно по этой причине император Александр никогда не согласиться обсуждать польский вопрос на международной конференции, как того хотел бы кое-кто в Европе.
«Мне говорят, – заметил Наполеон, – что многие русские считают, что их страна только выиграет, если освободится от Польши».
«Сир, если среди русских и есть такие люди, то могу вас уверить, что во всех странах можно найти людей, рассуждающих о вопросах, в которых они не разбираются», – отреагировал Будберг. И чтобы не оставлять у французского императора малейших иллюзий относительно намерений Александра II, посол продолжил: «Сир, всякая попытка восстановить независимое Польское королевство не оставит России другого выхода, как мобилизовать все силы для того чтобы подавить ее».
«Но это еще не все, что я хотел бы сказать», – воскликнул Наполеон, и развернул перед Будбергом заманчивую, как ему представлялось, перспективу получения Россией ощутимой компенсации за утрату Польши на Востоке, к которому, как он сказал, «вы имеете естественное тяготение».
«Но кто вам сказал, Сир, что у нас есть планы завоеваний на Востоке? – ответил посол, – Я вас уверяю, что в мыслях императора нет более далекой мысли, чем эта» [527].
На этом разговор был окончен, оставив обе стороны при своем мнении.
Линия поведения Будберга получила полное одобрение в Петербурге. «Император рекомендует вам, мой дорогой барон, держаться занятой Вами позиции – достойной, сдержанной, без какой-либо раздражительности, – писал ему Горчаков в личном письме. – Император Наполеон должен продолжать поддерживать иллюзию относительно наших близких отношений…»[528].
Между тем польский вопрос продолжал быть предметом обсуждения на заседаниях французского правительства. По окончании одного из таких заседаний, состоявшегося в середине марта 1863 г., Наполеон, как сообщил позднее Будбергу герцог де Мории, попросил его задержаться. Император поделился с братом своим серьезным беспокойством относительно перспектив отношений с Россией, а затем, как бы рассуждая вслух, сформулировал неожиданное предложение, хорошо зная, что Мории доведет его до сведения князя Горчакова, с которым тот состоял в личной переписке. Самое лучшее, что Александр II мог бы сделать для успокоения Европы, сказал Наполеон, это «дать независимость Польше под скипетром одного из членов своей семьи»[529]. Французский император имел в виду великого князя Константина Николаевича, чьи либеральные убеждения были ему хорошо известны.
Предложение Наполеона III немедленно было передано в Петербург, где его отвергли самым решительным образом. Идея независимой Польши, в какой бы то ни было форме, была абсолютно неприемлема для царя. «…Подобное разрешение вопроса было отвергнуто Александром II с таким высокомерием, – отмечал профессор Антонен Дебидур, авторитетный историк европейской дипломатии XIX века, – что Наполеон III, гордость и достоинство которого были в свою очередь уязвлены, внезапно позволил увлечь себя соблазну восстановить Польшу вопреки воле русского императора. Его всегда склонное к самым широким и фантастическим комбинациям воображение породило тотчас же план, осуществление которого коренным образом изменило бы карту Европы»[530].
В основе этого поистине фантастического плана лежала идея тесного франко-австрийского союза, который должен был заменить для Франции союз с Россией, а его центральным пунктом – независимая Польша в новых границах, расширенных, в том числе, и за счет австрийской Галиции, которую еще недавно Наполеон III настойчиво предлагал Александру II. Австрия должна была отказаться и от Венецианской области, которую ей с большим трудом удалось сохранить за собой в результате неудачной войны 1859 г.
Австрии предлагалась компенсация за счет турецких владений на Адриатическом побережье, а также Силезия, которая должна быть отторгнута от Пруссии. Кроме того, Франция обещала всемерно содействовать возвращению прежнего господствующего влияния Австрии в Германском союзе. К Турции, по плану Наполеона, перейдет часть территории Северного Кавказа[531]. Самое удивительное, и в Вене не могли не обратить на это внимание, в плане Наполеона никак не были обозначены интересы и намерения Франции, что само по себе вызывало к нему подозрительное отношение. Ни для кого не была секретом давняя мечта императора французов «округлить» границы Франции не только в Северной Италии, но и по левому берегу Рейна, что напрямую затрагивало интересы Пруссии и ее союзников в Германии. К тому же, попытка реализации плана автоматически означала европейскую войну, на что ослабленная Австрия пойти не могла. «Вена сочла, что новые потрясения в Европе после тех, жертвой которых она стала в 1859 г., нежелательны», – заметил по этому поводу современный французский исследователь европейской дипломатии XIX века[532].
Неодобрительно отнеслись к идее Наполеона и в Лондоне, с которым Вена посчитала необходимым проконсультироваться на этот счет. Пальмерстон давно желал расстроить хрупкое, но, тем не менее, опасное в его глазах, франко-русское согласие и вернуть Францию на путь следования за курсом Великобритании, как это было во времена Луи-Филиппа, накануне и в ходе Крымской войны. Чрезмерная самостоятельность и активность Наполеона III внушала серьезные опасения сент-джеймскому кабинету.
Восстание в Польше дало Пальмерстону долгожданный случай для реализации его намерений в отношении Франции и России. В начале марта 1863 г., предварительно договорившись с Веной, Лондон предложил Парижу совместные трехсторонние действия в защиту восставшей Польши. Наполеон с готовностью устремился в ловушку, устроенную для него Пальмерстоном, тем более что в перспективе предстоявших в конце мая выборов в Законодательный корпус необходимо было дать удовлетворение общественным настроениям, требовавшим разрыва с Россией.
Будберг в начале апреля сообщал в Петербург, что повсюду, где бы ни появлялся на публике Наполеон, парижане встречают его двумя возгласами: “Vive PEmpereur! Vive la Pologne!” И все же, по мнению посла, «император Наполеон пока еще испытывает некоторые колебания в том, чтобы порвать отношения с Россией»[533].
В то время, когда Будберг составлял свою депешу, Париж, Лондон и Вена уже завершили согласование совместного демарша по польскому вопросу. В середине апреля послы трех держав в Петербурге получили указания представить Горчакову соответствующие ноты, в которых их правительства настаивали на принятии мер «для предотвращения кровопролития в Польше»[534].
Французская нота в отличие от британской, составленной в резких выражениях, была выдержана в более сдержанных тонах. Акцент в ней делался на том, что польский вопрос с расширением восстания и привлечением значительных сил русской армии для его подавления, приобрел общеевропейское звучание, и потому нуждается в обсуждении на международном конгрессе.
В сопроводительном письме, адресованном послу в Петербурге герцогу де Монтебелло, министр иностранных дел Э. Друэн де Люис просил его обратить особое внимание царя и вице-канцлера Горчакова на то, что непрекращающееся в Польше пролитие крови «вызывает всеобщие и глубокие переживания», что нынешние прискорбные события тюильрийский кабинет не считает случайными и преходящими. Периодические потрясения, которые происходят в Польше, – это симптомы застарелой болезни, давно требующей принятия серьезных мер. В письме выражалась надежда на то, что в Петербурге с пониманием отнесутся к озабоченности французского правительства положением в Польше и согласятся на мирное урегулирование польской проблемы [535].
В ожидании реакции Александра II на предложение о созыве нового европейского конгресса Наполеон III начал демонстративную игру с общественным мнением, которое требовало оказать польским повстанцам прямую военную помощь. Затеяв эту игру, французский император, помимо прочего, рассчитывал подтолкнуть царя к принятию своего предложения. Путем организации дезинформационных публикаций во французской и иностранной печати он сумел создать впечатление о намерении своего правительства пойти навстречу общественным настроениям, чем вызвал серьезную обеспокоенность в Петербурге. 10 апреля 1863 г. Горчаков шифром телеграфировал Будбергу: «Проверьте, соответствует ли действительности намерение Наполеона просить разрешения на прохождение армии через территорию Германии…»[536]. На следующий день последовала еще одна шифротелеграмма тому же адресату: «Нас уверяют, что Франция пригласила наиболее влиятельные германские государства присоединиться к демаршам в защиту Польши. Проверьте.»[537]
Будберг получил указание разъяснить тюильрийскому кабинету, что всякое иностранное вмешательство в польские дела способно лишь их осложнить. Когда Наполеон III будет ссылаться на французское общественное мнение, требующее защитить поляков, говорилось в инструкции Горчакова, посол должен отвечать в том смысле, что император Александр II тоже связан общественным мнением в своей стране, а оно, за исключением отдельных личностей, единодушно высказывается за сохранение Польши в составе Российской империи. Уже по этой причине, не говоря о других, царь не может пойти против воли народа и давних исторических традиций своего государства. «Перед лицом такого единодушия, – отмечалось в инструкции, – любое внешнее вмешательство рассматривалось бы русской нацией как давление, несовместимое с достоинством, суверенитетом и честью страны»[538].
О том, что общественное мнение в России поддерживает правительство и его политику в Царстве Польском, сообщал в своих донесениях из Петербурга герцог де Монтебелло. В обзоре внутреннего положения страны посол Франции отмечал, что одновременно с национальным восстанием в Польше в самой России, в ее поволжских губерниях и в ряде других районов империи происходят крестьянские волнения, но они никак не связаны с польскими событиями. Их причина – претворение в жизнь манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян. Крестьянские выступления, отмечал Монтебелло, оживили здесь активность «революционной партии», но все это не способно подорвать единство России. Важнейшим гарантом такого единства, по убеждению посла, является армия, готовая до конца «исполнить свой долг».
«Ваше превосходительство может быть уверен в том, – подчеркивал Монтебелло в депеше министру иностранных дел Друэн де Люису, – что в случае войны все классы в России объединятся в едином чувстве патриотизма» [539].
Думал ли всерьез император французов в 1863 г. о военном столкновении с Россией?
Этим же вопросом задаются и некоторые современные историки Второй империи. «Наполеон всегда симпатизировал польскому делу, – отмечает один из них. – Безусловно, он желал бы видеть польское государство восстановленным. Однако следует ли ради воплощения этого идеала начинать новую европейскую войну?..
Для того чтобы вмешаться в Польше, существовала только одна возможность – переброска войск через Балтийское море. Но для этого необходима помощь англичан, которые хотели ограничиться дипломатическим давлением. Тогда Наполеон нашел другое решение – созвать европейский конгресс, как это было сделано на исходе Крымской войны, и навязать России новую карту Европы»[540].
В действительности Наполеон III всерьез никогда не думал о войне за независимую Польшу. У него не было таких намерений, да и возможностей, учитывая, что в то время Франция увязла в мексиканской авантюре. К тому же ни Англия, ни Австрия, ни тем более Пруссия не допустили бы развязывания войны в центре Европы, тем более ради спасения восставших поляков. Ведь независимость «русской Польши» неотвратимо поставила бы вопрос о судьбе польских земель, доставшихся по трем разделам Австрии и Пруссии.
Но разговоры о самой вероятности такой войны должны были нервировать Петербург, побуждая его к большей сговорчивости в вопросе созыва нового европейского конгресса. Помимо прочего, французский император давал удовлетворение настроениям общественного мнения накануне важных для него выборов в Законодательный корпус. Как только эти выборы прошли, подтвердив преобладающее положение бонапартистов в парламенте [541], все разговоры о военной операции в Польше были прекращены, во всяком случае, в близких к правительству органах печати.
Будберг в Париже без труда разгадал немудреный замысел императора французов, имитировавшего военные приготовления. Посол докладывал в Петербург, что Франция не располагает достаточными транспортными средствами для переброски войск в Польшу через Балтийское море и могла бы рассчитывать в этом только на содействие Англии. Другой вариант – переброска войск через Германию – неизбежно вызовет опасения соседей Франции относительно ее намерений закрепиться под этим предлогом на берегах Рейна. Что реально способен сделать Наполеон, и что он уже делает, как отмечал русский посол, – так это фактически содействует направлению в Польшу французских волонтеров[542].
Разумеется, правительство само не занималось набором волонтеров, но смотрело сквозь пальцы на то, как это делают французские и польские общественные организации, не препятствуя их отправке в охваченную восстанием Польшу.
Уже весной 1863 г. среди взятых в плен повстанцев все чаще стали обнаруживаться французы, преимущественно совсем молодые – 16-18-летние юноши. Об этом Горчаков с неудовольствием сообщал Монтебелло на их регулярных встречах. Так, в начале мая вице-канцлер проинформировал посла Франции о том, что под Калишем казачий отряд князя Шаховского взял в плен 36 иностранцев – французов и итальянцев, входивших в «банду» графа де Ноэ, французского подданного[543].
Монтебелло информировал Париж о таких, ставших ему известными фактах, и пытался через обращения к князю Горчакову облегчить участь своих несчастных соотечественников. Объяснения с вице-канцлером на эту тему были не самыми приятными для посла, но он неизменно следовал своему долгу – отстаивать позицию своего правительства и интересы сограждан, попавших в затруднительное положение.
А в Петербурге у императора шли совещания относительно возможной реакции на совместный демарш Франции, Англии и Австрии. В конечном счете было решено ноты трех держав вежливо отклонить, но обещать амнистию польским повстанцам, если они в предложенный им срок сложат оружие [544].
Такой ответ не устраивал Наполеона III, пытавшегося показать остальной Европе, что он делает для независимости Польши больше, чем кто-либо другой, а своим подданным – больше, чем это делал предыдущий защитник угнетенных поляков, король Луи-Филипп. «Независимость королевства [Польши], по всей видимости, составляет доминирующую мысль Наполеона III и Друэн де Люиса», – констатировал Горчаков[545]. «Французское правительство продолжает свой крестовый дипломатический поход против нас», – писал он барону Будбергу[546].
Не получив удовлетворения требований, содержавшихся в апрельских нотах трех держав, император Наполеон выступил инициатором второго коллективного демарша в отношении России. 17 июня 1863 г. герцог де Монтебелло вручил Горчакову новую ноту по польскому вопросу, составленную в более решительных тонах, чем предыдущая. Одновременно вице-канцлер получил аналогичные ноты от послов Англии и Австрии. В этих документах содержалось шесть основных требований к России: полная и всеобщая амнистия в Польше; созыв там представительного собрания, как это было в ноябре 1815 г.; предоставление Польше местной автономии; обеспечение всех прав католической церкви; введение польского языка в качестве официального в правительственных и судебных учреждениях, а также в системе образования; принятие приемлемой для поляков системы рекрутских наборов[547].
По получении этих требований Александр II взял паузу, затянувшуюся на месяц. Он хорошо знал, что между Парижем, Лондоном и Веной нет единства в подходе к польскому вопросу, и занял выжидательную позицию, будучи уверен, что существующие между ними разногласия неизбежно вскроются. Для такой уверенности у царя были серьезные основания. Еще 14 марта 1863 г., т. е. за месяц до апрельского демарша трех держав, Александр II услышал от британского посла лорда Нэпира неожиданное признание. Выразив сожаление относительно беспорядков в Царстве Польском, посол вместе с тем заметил, что протестантская Великобритания не может желать восстановления независимости католической и франкофильской Польши и что религиозные и материальные интересы Британской империи сближают ее позицию в польском вопросе скорее с позицией России и Пруссии, но не восставших поляков. Что касается демонстративного осуждения действий России, то оно, как заверил царя посол, адресовано главным образом английским избирателям [548].
Позиция Англии объяснялась просто. Сент-джеймский кабинет был обеспокоен настойчивым желанием Наполеона III пересмотреть договора 1815 г., а также его амбициозными планами в Мексике. В то же время, выставляя французского императора инициатором антироссийских демаршей, Г.-Дж. Пальмерстон и министр иностранных дел Дж. Рассел пытались расстроить и без того хрупкое согласие между Францией и Россией.
Конфиденциальная информация, полученная от лорда Нэпира, укрепила императора и вице-канцлера в решимости отвергнуть предъявленный 17 апреля России ультиматум.
Ответ на второй демарш был дан через месяц, 13 июля 1863 г., в форме депеш Горчакова российским послам в Париже, Лондоне и Вене с последующей передачей их правительствам трех стран. Ответ был резко отрицательным. Попытки извне вмешаться в польские дела объявлялись недопустимыми, а все шесть требований решительно отклонялись и не подлежали никакому обсуждению.
Передавая полученную от Горчакова депешу Друэн де Люису, барон Будберг объявил французскому министру, что все необходимые свободы и гражданские права в Польше могут быть восстановлены только после подавления восстания, но никак не раньше. Одновременно посол заметил, что «терпимость, проявляемая французским правительством к агитации в пользу поляков, – главная причина продолжающегося восстания»[549]. На это замечание Друэн де Люис, как писал Будберг, «ответил мне в язвительном тоне, что он категорически отвергает всякие подобные инсинуации» и напомнил, что парижская префектура неоднократно пресекала подрывную деятельность польских заговорщиков. В то же время, подчеркнул министр, «французское правительство не могло в сложившихся обстоятельствах открыто идти против общественного мнения, симпатизировавшего польскому делу, но оно ни в коей мере не поощряло поляков; напротив, правительство делало все для того, чтобы их успокоить»[550]. В завершение беседы Друэн де Люис напомнил русскому послу, что польский вопрос приобрел международное звучание не в результате действий Франции, а после подписания Россией и Пруссией 8 февраля известной конвенции[551].
Прямым следствием антироссийских демаршей Франции, Англии и Австрии, породивших у поляков иллюзии в успехе дипломатического давления на Россию, стал отказ повстанцев от предложенной им амнистии в обмен на прекращение вооруженного сопротивления. Летом 1863 г. восстание разгорелось с новой силой, вызвав расширение и ужесточение репрессий в Царстве Польском. В этих условиях, получив из Петербурга категорический отказ удовлетворить их требования, Франция и Англия попытались усилить давление на Россию. Монтебелло и лорд Нэпир делали Горчакову все более угрожающие представления, на которые всякий раз получали элегантно оформленные, но решительные по смыслу ответы: Россия не намерена обсуждать с кем-либо положение в Польше.
В резко обострившейся обстановке Пальмерстон и Рассел хотели бы предоставить Наполеону III сомнительную честь инициатора дипломатического разрыва с Александром II, но император французов проявил в данном случае осмотрительность. Будберг передал в Петербург одно из высказываний Наполеона III на этот счет: «Будьте уверены, что я не сделаю здесь ничего без Англии и Австрии»[552].
На исходе лета 1863 г. Будберг констатировал, что обсуждение польской проблемы с Наполеоном и его министрами окончательно зашло в тупик, отражая возросшую напряженность в отношениях между Россией и Францией[553].
Польская эмиграция во Франции всеми доступными способами поощряла антирусский настрой французского правительства. Один из лидеров польских эмигрантов князь Владислав Чарторыйский писал 23 сентября 1863 г. министру иностранных дел Друэн де Люису: «Благодаря инициативе французского правительства, голос Польши, борющейся за свободу и независимость, был услышан европейскими правительствами»[554]. Любопытно, что министр посчитал необходимым переслать копию этого письма в Петербург, герцогу де Монтебелло.
Французский посол внимательно отслеживал борьбу группировок в окружении царя по польскому вопросу, констатируя падение влияния либералов во главе с великим князем Константином Николаевичем. Именно на него, как на наместника в Царстве Польском, консервативная партия возлагала ответственность за восстание поляков, ставшее возможным вследствие недопустимой слабости, проявленной великим князем в Польше[555].
В конечном счете, как сообщал в Париж Монтебелло, противникам великого князя удалось добиться его отставки с поста наместника в Польше, где было покончено с либеральными экспериментами[556].
Будберг, со своей стороны, информировал Петербург о том, что французская дипломатия может отказаться от прежде согласованных с Россией действий на Востоке и вернуться к антироссийской политике, характерной для начала 1850-х гг. В одной из депеш он процитировал Наполеона III, сказавшего по этому поводу: «В политике России восточные дела имеют первостепенное значение, но ей нужен союз с Францией, так как она не сможет найти здесь общий язык, ни с Англией, ни с Австрией»[557]. Это могло означать, что условием дальнейшей поддержки интересов России на Востоке французский император считает ее уступки в Польше.
Очевидный кризис в отношениях Франции и России попытался преодолеть герцог де Мории, стоявший у истоков франко-русского согласия. Председатель Законодательного корпуса, как сообщал в Петербург барон Будберг, настойчиво внушал своему сводному брату ошибочность курса, проводимого Друэн де Люисом, и настаивал на замене министра иностранных дел. Чрезмерный полонофильский крен в политике Франции, по мнению Морни, опасен как для национальных интересов Франции, так и для правящей династии, у которой, по его словам, «во всей Европе имеется лишь один искренний союзник – Россия». Это основополагающее соображение должно доминировать над всеми другими, второстепенными. «Друэн не Люис, – настаивал Морни перед императором Наполеоном, – это адвокат, который ради произнесения яркой защитительной речи, способен забыть об интересах своего клиента». А эти интересы требуют сохранения и укрепления отношений с Россией, а не их разрушения, чем занимается нынешний министр иностранных дел[558].
Наполеон, как сообщал Будберг со слов Морни, пытался защитить своего министра, пытающегося якобы совместить заботу о сохранении добрых отношений с Россией с очевидными симпатиями французского общества к Польше. Император подчеркнул, что он и сам желает поддерживать добрые отношения с царем, но вынужден, прежде всего, считаться с общественным мнением у себя в стране. Из тех же побуждений действует и его министр иностранных дел.
Морни возразил на это, что любой другой министр «в течение двух месяцев» нашел бы выход из существующего противоречия, но не вел бы дело к войне, как это безответственно делает Друэн де Люис.
Наполеон заверил брата, что он никогда не решился бы на войну без участия в ней Англии и Австрии, но что он продолжает настаивать на европейском характере польской проблемы, требующей коллективного обсуждения. В любом случае, подчеркнул император, он не позволит втянуть себя в какую бы то ни было авантюру из-за Польши.
Непримиримость Александра II в польском вопросе побудила Наполеона III действовать иначе, отказавшись от прямого (и безуспешного) давления на царя. В августе 1863 г. он вернулся к идее европейского конгресса, попытавшись увлечь Александра II перспективой отмены на нем тех статей Парижского мира 1856 г., которые запрещали России держать военный флот на Черном море. В предложении Наполеона заключался и скрытый смысл – пересмотреть на конгрессе дискриминационные для Франции условия Венского договора 1815 г., добившись расширения ее границы на востоке по левому берегу Рейна. Россия нужна была императору французов как влиятельная сообщница в ревизии договора 1815 г. Что касается пересмотра договора 1856 г., в чем кровно была заинтересована Россия, то Наполеон III и на этот раз надеялся обмануть Александра II. Он не мог не сознавать, что такого рода попытка натолкнется на сопротивление Англии и Австрии, и в этом случае
Франция ограничится тем, что демонстративно выразит России свое сожаление. Зато в ходе конгресса французский представитель мог бы попытаться поставить на обсуждение польский вопрос, и даже в случае неудачи Франция подтвердила бы свою репутацию самоотверженной защитницы угнетенных поляков.
Исходя из указанных соображений и расчетов, Наполеон III 4 ноября 1863 г. обратился к руководителям европейских держав с приглашением направить на конгресс в Париж своих представителей. На следующий день, выступая на открытии сессии Законодательного корпуса, император дал обоснование своим намерениям относительно предложенного им конгресса. «Договора 1815 г. перестали существовать, – заявил Наполеон. – Силой обстоятельств они уже отвергнуты почти повсеместно – в Греции, в Бельгии, во Франции и в Италии, как и в Дунайском регионе. В пользу их изменения действует Германия. Англия меняет их, уступив Ионические острова. Россия попирает их в Варшаве… Наберемся мужества для того, чтобы заменить болезненное и непрочное состояние [Европы] на здоровое и устойчивое… Объединимся же, без себялюбивых устремлений, вдохновляясь исключительно заботой об установлении такого порядка вещей, который основывался бы на правильно понятом интересе государей и народов»[559].
Идея конгресса была поддержана несколькими европейскими государствами[560]. Иначе отнеслись к затее Наполеона в Англии. Пальмерстон и Рассел усмотрели в ней потенциальную угрозу британским интересам на Черном и Средиземном морях, где Россия могла бы восстановить свое военное присутствие. Они не исключали и того, что неожиданный в своих действиях Наполеон III может вернуться к политике сближения с Россией в обмен на поддержку его требований исправить «несправедливые» границы Франции на востоке.
Усиления России не желали и в Вене, где опасались за австрийские интересы на Балканах. Кроме того И.Б. фон Рехберг и А. фон Шмерлинг, самые влиятельные министры в кабинете императора Франца-Иосифа, помнили и о недавнем единении России и Франции, которое так дорого обошлось Австрии. Тем не менее, Вена, преодолев колебания, согласилась прислать своего представителя на конгресс.
С оговорками французское предложение поддержал и Бисмарк, подлинный творец и проводник внешней политики Пруссии.
Горчаков, разгадавший скрытые мотивы действий Наполеона, посоветовал Александру II не спешить с ответом на предложение французского императора[561]. Расчет вице-канцлера в полной мере себя оправдал.
На этот раз Наполеон III получил отказ на свое предложение вовсе не из Петербурга, к чему был готов, а из Лондона, откуда меньше всего ожидал. Пальмерстон и Рассел не стали искушать судьбу. 12 ноября 1863 г. министр иностранных дел Англии лорд Рассел запросил у Друэн де Люиса дополнительных разъяснений относительно повестки дня предлагаемого конгресса. Получив и изучив эти разъяснения, Форин офис 25 ноября предельно кратко проинформировал Кэ д’Орсэ о следующем: «Ее Величество, следуя своим убеждениям и после серьезных размышлений, сочла невозможным принять приглашение Его Императорского Величества»[562]. Для придания большей гласности позиции Великобритании ответ, составленный лордом Расселом, был опубликован в газете «Таймс».
Неожиданное британское вето поставило крест на «великом замысле» (le Grand dessein) императора французов. Без участия Англии конгресс становился бессмысленным. «Идея конгресса, предложенного мною великим державам, – с сокрушенно констатировал Наполеон, – не была понята, как я бы того желал»[563].
Провал инициативы Наполеона III вызвал заметное охлаждение между Парижем и Лондоном. Французский император начал уже подумывать о том, как восстановить подорванные отношения с Александром II, тем более что восстание в Польше к концу 1863 г. исчерпало свои ресурсы и пошло на спад. Было ясно, что в самое ближайшее время последние его очаги будут погашены[564]. Все мои симпатии, и все мои убеждения естественным образом влекли меня к налаживанию союзных отношений с Россией, – признался Наполеон. – И вдруг, между мною и императором Александром встал этот злополучный польский вопрос, вызвав, если не ссору, то серьезное охлаждение в наших отношениях. Если бы в результате каких-нибудь комбинаций удалось закрыть этот вопрос, то мы могли бы договориться по всем другим делам. Если же решение [польского] вопроса затянется, то сближение станет невозможным»[565].
С подавлением восстания в Польше французскому правительству оставалось лишь позаботиться о сотнях новых польских беженцев, которые искали убежища во Франции. Эмиграция была деморализована. В ее рядах усилилось брожение и внутренняя борьба между различными организациями и группировками. Советник российского посольства в Париже В.Н. Чичерин в сентябре 1864 г. сообщал Горчакову о «полной дезорганизации» в рядах польской эмиграции[566].
В целях содействия дальнейшему ее разложению посольство запросило у министра иностранных дел дополнительных субсидий (200 тыс. франков) на подкуп редакторов двух парижских газет – “Nation” и “Nord”, которые должны были помещать статьи с оправданием политики России в Польше[567]. Запрошенная сумма была выделена, но посольство было предупреждено о недопустимости ее превышения.
После неудачи с созывом конгресса и последующим «умиротворением» Польши Наполеон III, как свидетельствовал барон Будберг, неоднократно высказывал ему свое сожаление охлаждением отношений с Россией.
В скором времени императору французов представился случай непосредственно объясниться с самим Александром II, неожиданно посетившим Францию с частным визитом. Правда, приехал он не в Париж, а в Ниццу, «столицу» Французской Ривьеры, в 1860 г. доставшейся Франции не без помощи царя.
В один из погожих октябрьских дней 1864 г. толпа жителей Ниццы и отдыхающих восторженно встречала русскую императорскую чету – Александра II и императрицу Марию Александровну, которых сопровождали наследник престола, великий князь Николай Александрович и брат императора, великий князь Константин Николаевич. Никто из встречавших не знал, что членов августейшего семейства привела сюда беда. У 21-летнего цесаревича прогрессировала чахотка. Родители надеялись, что солнце и воздух Французской Ривьеры спасут жизнь их старшему сыну. Все другие средства были к тому времени исчерпаны, и доктора беспомощно разводили руками, уповая лишь на чудодейственный средиземноморский климат, да на милость Божию.
Извещенный о приезде царя, в Ниццу поспешил и император Наполеон III, чтобы засвидетельствовать почтение русской императорской чете. Но не только за этим. Он хотел попытаться сгладить то удручающее впечатление, которое произвел на Александра своей вызывающей позицией во время польского восстания. Оба императора нашли возможность коротко обменяться мнениями по текущим вопросам европейской политики. Наполеон постарался не касаться болезненной польской темы, а Александр, со своей стороны, не стал пенять ему на недавнее недружественное поведение. Тем не менее, восстановить прежнее взаимопонимание с Александром императору французов не удалось. В конечном счете, все свелось к обмену обычными в таких случаях любезностями. Пользуясь своим пребыванием в Ницце, Александр II передал для герцога де Монтебелло знаки ордена ев. Андрея Первозванного, отметив его выдающиеся заслуги в развитии отношений между Францией и Россией. Французский посол, формально еще не замененный, в то время находился в Париже.
Через несколько дней Наполеон вернулся в Париж, а Александр вслед за ним отправился обратно в Россию, сопровождаемый младшим братом Константином Николаевичем, которому предстояло через два месяца занять пост председателя Государственного Совета.
По возвращении в Париж Наполеон III пригласил на обед в свою резиденцию в Компьене барона Будберга, которому посетовал на то, что его встреча с императором Александром была совсем короткой, и что им не удалось углубленно обсудить весь круг вопросов европейской политики и двусторонних отношений. «Император Наполеон, – докладывал Будберг в Петербург о состоявшейся в Компьене беседе, – выразил свою обеспокоенность тем, что события прошлого года прервали доброе согласие, прежде существовавшее в отношениях между двумя странами, и что он надеется на то, что взаимные интересы возобладают и приведут к новому сближению»[568].
Русский посол заверил императора Наполеона в неизменном расположении своего государя к «добрым отношениям с Францией». Одновременно он, как бы вскользь, заметил, что и Франции, и России необходимо избегать затрагивать жизненно важные интересы, которые имеются у каждой из них; в противном случае нам трудно будет добиться согласия[569]. Намек был более чем прозрачным – Польша.
Через пять месяцев после короткого свидания в Ницце Александру и Наполеону вновь довелось встретиться, хотя и мимолетно.
В начале апреля 1865 г. из Ниццы в Петербург пришло тревожное сообщение о резком ухудшении здоровья наследника-цесаревича. По единодушному мнению наблюдавших за ним докторов, дело приняло безнадежный оборот. Туберкулез осложнился менингитом. Трагической развязки можно было ожидать со дня на день.
16 апреля в Ниццу выехал великий князь Александр Александрович, младший брат цесаревича, а 18-го – сам государь, сопровождаемый великими князьями Владимиром и Алексеем. Новый французский посол в Петербурге барон де Талейран, сменивший Монтебелло, сообщил своему министру иностранных дел, что Александр II не задержится в Париже, и у него будет только несколько часов, чтобы встретиться с Наполеоном. «Русское правительство, – писал Талейран, – предписало священнослужителям молиться за исцеление великого князя-наследни-ка. Я счел своим долгом попросить настоятеля посольского храма отслужить завтра утром мессу за восстановление здоровья Его Императорского Высочества»[570].
Путь из Петербурга до Ниццы был проделан с невероятной быстротой – всего за 85 часов. Царский поезд сделал лишь две остановки – в Берлине, где Александра встречал его дядя, король Вильгельм, и в Париже, где на Северном вокзале императора ожидал Наполеон. Достоверно неизвестно, о чем говорили на вокзале оба императора, обсуждали ли они политические вопросы. Возможно, без этого не обошлось, хотя повод, по которому они встретились, не особенно располагал к серьезному политическому разговору.
В Дижоне к царскому поезду присоединился другой, на котором следовала датская королевская семья, в том числе, принцесса Дагмара, невеста умиравшего цесаревича Николая Александровича.
Оба состава прибыли в Ниццу 22 апреля, а в ночь с 23 на 24 наследник русского престола скончался на вилле Бермой [571], успев попрощаться с теми, кто был ему близок. Когда он умирал, одну его руку держали родители, а другую – принцесса Дагмара и любимый брат, великий князь Александр. По воле умиравшего, с согласия принцессы Дагмары, она станет невестой Александра Александровича, а в последующем – императрицей Марией Федоровной. Останки цесаревича были перенесены на фрегат «Александр Невский», отбывший из Вильфранша в Кронштадт, а 29 апреля из Ниццы выехала и императорская семья.
Комментируя смерть наследника-цесаревича, французский посол барон де Талейран писал из Петербурга в Париж: «Великий князь Николай останется в памяти своих современников как интересная, поэтическая фигура. Свойственное русскому народу живое воображение было потрясено трагической картиной жизни, разбитой в двадцать лет, вдали от родной земли, а также тем, как этот принц, на которого возлагалось столько преждевременных надежд, умирал на руках своей невесты и своих родителей, поспешивших из дальних уголков Европы, чтобы проститься с ним. С подлинно христианским смирением он ушел из жизни, которая обещала ему все мыслимые радости и величие[572].
Когда в Париж из Ниццы пришло телеграфное сообщение о кончине наследника русского престола, Наполеон III распорядился отменить намеченный большой бал в Тюильри. При дворе был объявлен продолжительный траур. Впрочем, это была дань общепринятой в тогдашней монархической Европе практике с поправкой на то, что цесаревич умер на французской земле, и это обстоятельство налагало на тюильрийский двор дополнительные правила этикета.
Покидая Лазурный берег, убитый горем царь распорядился передать 3 тыс. франков из личных средств в пользу бедняков Вильфранша. Эти деньги в конце мая 1865 г. были переданы российским консулом в Ницце мэру Вильфранша[573]. А по возвращении в Россию Александр II отправил в Париж символический подарок, который можно было воспринять как напутствие сыну и наследнику Наполеона III. Девятилетний принц «Лулу» был отмечен орденом ев. Андрея Первозванного. Высшую награду Российской империи в Париж доставил флигель-адъютант императора полковник князь Витгенштейн. Он же передал императору французов личное письмо Александра II с выражением искренней признательности за те знаки внимания и заботу, которыми Наполеон и императрица Евгения окружили императрицу Марию Александровну, полгода проведшую в Ницце, рядом с умиравшим сыном[574].
Искреннее сочувствие Наполеона и Евгении трагедии, случившейся в царском семействе, несколько смягчило крайне болезненную реакцию Александра II на недружественное в отношении России поведение императора французов в ходе восстания в Царстве Польском. Да и вице-канцлер Горчаков не торопился пока расставаться со своим французским проектом, за который его все чаще стали критиковать в окружении императора. В отличие от многих он отчетливо понимал, что Англия и Австрия, исходя из собственных интересов, весьма далеких от интересов России, давно и настойчиво желают расстроить отношения между Петербургом и Парижем. В этом смысле Польша представлялась Лондону и Вене удобным поводом, чтобы окончательно поссорить Александра II и Наполеона III[575]. Горчаков не мог этого допустить.
Франция, как продолжал считать вице-канцлер, необходима России для противовеса не только Англии и Австрии, но и Пруссии с ее постоянно возрастающими притязаниями, несмотря на проявленную Берлином солидарность с Петербургом в польском деле[576]. Горчаков делал все от него зависящее, чтобы не допустить окончательного разлада в русско-французских отношениях.
В начале 1864 г. у Александра II появилось намерение пышно отметить пятидесятую годовщину вступления союзных войск в Париж в марте 1814 г. Перед Зимним дворцом было запланировано возведение временной Триумфальной (Парижской) арки, под которой должны были торжественным маршем пройти войска гвардии и армии. Командовать парадом император назначил генерала от кавалерии, графа П.П. Палена, участника взятия Парижа. В марте 1814 г. он возглавлял авангард союзных войск, вступивших в столицу Франции[577]. По случаю юбилея император намеревался даровать графу Палену титул князя Парижского[578]. На торжества были приглашены сто сорок ветеранов кампаний 18121814 гг.
Замещавший находившегося в отпуске герцога де Монтебелло французский поверенный в делах граф де Массиньяк немедленно проинформировал о предстоящем праздновании министра иностранных дел Друэн де Люиса, который категорически запретил ему присутствовать на параде и других юбилейных мероприятиях, запланированных в Петербурге[579].
В этом деликатном деле французский дипломат нашел неожиданного союзника в лице вице-канцлера Горчакова, который посчитал, что предстоящее широкое празднование победы над Наполеоном I может окончательно испортить отношения с его царствующим племянником. С большим трудом Горчакову удалось убедить императора в необходимости избежать хотя бы наиболее болезненных для самолюбия Наполеона III уколов в связи с полувековой годовщиной сдачи Парижа. Александр II с крайней неохотой отказался от первоначального намерения дать Палену титул князя Парижского (или Монмартрского)[580]. В остальном все прошло, как было запланировано – военный парад и последовавший за ним праздничный банкет в Зимнем дворце с участием ветеранов войн 1812–1814 гг.[581]
Из поведения Наполеона III во время бурных событий в Польше Горчаков, а, возможно, и Александр II, извлек один важный для себя урок. Наверное, впервые вице-канцлер в полной мере осознал, насколько правитель может зависеть в своих действиях от общественного мнения. Разумеется, в сознании Горчакова и тем более царя, это не распространялось на Россию. Понимание того, что император французов находился под сильнейшим давлением общества, требовавшего от него оказать всю возможную помощь восставшей Польше, и потому вынужденный делать то, чего он мог и не желать, облегчило в дальнейшем некоторую нормализацию отношений Петербурга с Парижем[582].
Одновременно Горчаков сохранял бдительность, не питая иллюзий в отношении революционного происхождения бонапартистского режима и непредсказуемости императора французов[583]. Основополагающие интересы России, по убеждению вице-канцлера, полностью разделяемому императором, диктовали ей «сближение с правительствами, которые, как и мы, больше рискуют потерять, чем выиграть от революций»[584]. Горчаков имел здесь в виду прежде всего Пруссию.
В том, что ресурсы русско-французского сотрудничества окончательно не исчерпаны, настойчиво убеждал царя и барон Будберг, неожиданно для многих превратившийся в Париже из пруссофила в последовательного сторонника сближения с Францией.
Со своей стороны, Наполеон III, уязвленный поведением Англии, провалившей его проект европейского конгресса, а вместе с ним и надежды на полную ликвидацию Венского договора 1815 г., предпринимал настойчивые попытки восстановить прежние доверительные отношения с Россией. Эта задача была возложена им на нового посла Франции в Петербурге.
Барон де Талейран
Назначение посла было произведено в тот же день, когда герцог де Монтебелло стал сенатором – 5 октября 1864 г. Выбор Наполеона III был сделан в пользу «карьерного», как говорят во Франции, дипломата (diplomate de carriere), почти четверть века отдавшего дипломатической службе. Одновременно избранник императора носил громкую фамилию, состоя в родстве с самим Талейраном, что должно было понравиться Александру II.
Шарль Анжелик барон де Талейран-Перигор принадлежал к младшей ветви знаменитого рода, разделившегося в середине XVIII в. Он родился в ноябре 1821 г. В девятнадцать лет (в июне 1840 г.) барон вступил в дипломатическую службу, получив место сверхштатного атташе посольства Франции в Австрии[585].
С начала 1843 до конца 1845 г. Талейран служил в должности штатного атташе в посольстве в Лондоне. В последующие три года он – 2-й секретарь в Мадриде и Лиссабоне, откуда в апреле 1849 г. едет в Вену в качестве 1-го секретаря посольства Франции.
Первое знакомство будущего посла с Россией произошло весной 1850 г. В течение двух лет он прослужил в Петербурге в должности 1-го секретаря посольства, возглавлявшегося генералом де Кастельбажаком.
В феврале 1852 г. Талейран становится полномочным министром в Веймаре, а затем в Карлсруэ. После завершения Парижского конгресса 1856 г. ему доверена миссия специального представителя Франции в Дунайских княжествах, откуда в ноябре 1859 г. его переводят полномочным министром в Турин, где Талейран принимает самое деятельное участие в переговорах о передаче Савойи и Ниццы состав Франции. Здесь же, в Турине, Талейран знакомится с русским посланником графом Э.Г. Стакельбергом, который через несколько лет возглавит посольство в Париже.
В 1856 г. 35-летний барон де Талейран вступил в брак с княгиней Витгенштейн. Этот брак был непродолжительным, он продлился всего пять лет.
В период с июня 1861 г. до октября 1864 г. барон Талейран возглавлял посольства Франции в Брюсселе и Берлине. Он был кавалером четырех степеней ордена Почетного легиона, включая крест Великого офицера (Grand officier).
Его послужной список сам по себе свидетельствовал о том, что в Петербург был назначен посол, посвященный во все хитросплетения европейской дипломатии середины XIX века.
Ко времени приезда в Петербург Талейрана уже связывали с Россией семейные узы. В 1862 г. он вторично женился. Его новой избранницей стала двадцатилетняя Вера Дмитриевна Бенардаки, дочь выходца с острова Крит, успешного предпринимателя, разбогатевшего на поставках вооружений для русской армии и возведенного Николаем I в потомственное дворянство Российской империи. Дмитрий Бенардаки (Деметриос Бернардакис) пользовался благоволением и императора Александра II, а его дочь получила соответствующее дворянское воспитание и образование. Впоследствии баронесса де Талейран-Перигор станет хозяйкой модного светского салона, собиравшегося в их с мужем особняке на авеню Монтень, в одном из самых фешенебельных кварталов Парижа.
Новый посол прибыл в Петербург 7 ноября 1864 г.[586] С его приездом обновился и состав посольства Франции. Граф де Массиньяк первое время вводил посла в курс дел, а затем получил новое назначение и покинул Россию. Ближайшим помощником барона де Талейрана в петербургском посольстве станет М. де Фрезаль[587].
Начало миссии Талейрана не обещало успеха. Трагические события в Польше еще не стали в Петербурге воспоминаниями, как не ушла в прошлое совсем недавняя «война перьев» с Кэ д’Орсэ, вызванная польским восстанием. Талейрана встретили в столице Российской империи весьма сдержанно[588]. К тому же посол совершил очевидный просчет, начав с того, что попросил Горчакова содействовать освобождению трех французов, отправленных в Сибирь за участие в восстании поляков. В действительности таких было гораздо больше, но не все имена французских волонтеров, взятых в плен русской армией, еще стали известны в Париже. «Иностранцы, захваченные с оружием в руках, еще более виновны, чем сами поляки», – сухо ответил послу князь Горчаков, – Три человека, о которых вы просите, – продолжал вице-канцлер, – были осуждены в общепринятом порядке, и приговор в отношении их вступил в законную силу». На настойчивую просьбу Талейрана исхлопотать все же для несчастных французов высочайшего помилования, Горчаков коротко ответил: «Вы имеете дело не с Нероном»[589].
Еще до назначения в Петербург Талейрана в Тюильри и на Кэ д’Орсэ проявляли серьезную озабоченность в связи с признаками начинавшегося после подавления восстания в Польше сближения России с Пруссией и Австрией. Временный поверенный в делах Франции в России Массиньяк весной 1864 г. предупреждал Париж относительно слухов о возможности возрождения в новой форме Священного союза[590].
Когда летом того же года в курортном городке Бад-Киссинген в Баварии неожиданно для Наполеона встретились Александр II, Вильгельм I и Франц-Иосиф, эти слухи усилились, вызвав тревогу в Париже, где усмотрели в этой встрече попытку трех держав, как и в 1815 г., договориться против Франции. В действительности же в Бад-Киссингене обсуждались перспективы разрешения военного конфликта между Данией, с одной стороны, и Пруссией и Австрией – с другой из-за Шлезвига и Гольштейна[591].
Тем не менее, попытки согласования позиций трех бывших участниц Священного союза, по мнению Наполеона III, содержали угрозу для реализации его давней мечты о восточной границе Франции по Рейну.
По этой причине одна из главных целей миссии барона Талейрана, помимо нормализации отношений Тюильри с петербургским двором, состояла в отслеживании динамики и перспектив русско-прусско-австрийского взаимодействия в Европе.
Со временем Талейрану удастся наладить нормальные рабочие отношения с Горчаковым, который держал двери открытыми для продолжения диалога с Францией, продолжая считать ее необходимым противовесом не только Англии, но и Пруссии. Вице-канцлер, в отличие от своего императора, с возраставшим недоверием относился к Бисмарку и проводимой им политике.
По мере обострения соперничества между Пруссией и Австрией за преобладающее положение в Германии, приведшего в июне 1866 г. к войне между ними, барон Талейран на своем посту старался понять, какую позицию в происходившем противоборстве может занять Россия. В скором времени он уяснил, что в Петербурге не было единодушия в этом вопросе. Царь, всегда расположенный к Пруссии, после 1863 г. считал себя буквально обязанным королю Вильгельму I за поддержку, оказанную в ходе подавления восстания в Польше. Все это склоняло его в пользу Пруссии. В то же время тесные, зачастую династические, связи петербургского двора с малыми германскими владетельными домами определяли заинтересованность Александра II в сохранении их самостоятельности в рамках Германского союза, что противоречило замыслам Бисмарка. К Австрии же со времен Крымской войны Александр испытывал непреодолимую неприязнь и не желал содействовать ее усилению.
Со своей стороны, вице-канцлеру Горчакову, который разделял нерасположение императора к Австрии, внушали серьезные опасения амбиции Пруссии, которые, при изменении сложившейся политической конфигурации в Европе могли бы однажды составить угрозу интересам России.
В конечном счете, в Петербурге пришли к выводу о предпочтительности нейтральной позиции в конфликте между Берлином и Веной, даже если он перерастет в войну.
Когда Талейран по поручению своего правительства в начале мая 1866 г. предложил Горчакову план трехстороннего (Франция, Россия и Англия) посредничества в мирном урегулировании австро-прусского спора из-за Шлезвига и Голштинии, который уже через месяц станет поводом к войне, вице-канцлер не поддержал эту идею. Он ответил, что подобный «арбитраж встретил бы серьезные препятствия», которые не позволят достичь желанной цели. Из беседы с Горчаковым французский посол вынес впечатление о том, что Александр II возможно рассчитывает выступить единоличным посредником между Берлином и Веной[592].
Что касается Наполеона III, то он в то время был обуреваем сомнениями – какую выгоду можно извлечь из австро-прусского конфликта для Франции? Император постоянно метался, вступая в переговоры то с Берлином, то с Веной, то с Флоренцией, тогдашней столицей Итальянского королевства, которое Бисмарк привлекал на свою сторону, пообещав Виктору-Эммануилу II Венецианскую область. Смутно ощущая нараставшую угрозу со стороны Пруссии, Наполеон III, тем не менее, не решился поддержать Франца-Иосифа, о чем впоследствии горько сожалел. Более того, он позволил своему младшему партнеру, Виктору-Эммануилу принять предложение Вильгельма I о военном союзе против Австрии. Император французов просчитался и в отношении боеспособности австрийцев, полагая, что война примет затяжной характер и ослабит обе стороны. Наполеон надеялся, что в нужный момент он появится во главе армии на левом берегу Рейна и продиктует Вильгельму свои условия об «исправлении» границы.
Война, начавшаяся 16 июня 1866 г., вопреки ожиданиям Наполеона, оказалась скоротечной. Она продолжалась всего полтора месяца. Сначала австрийцы сумели разгромить итальянскую армию, но потом сами потерпели сокрушительное поражение от пруссаков (3 июля 1866 г.) в битве при Садове, в Богемии. Франц-Иосиф вынужден был согласиться на все требования, выдвинутые Бисмарком и подписать 26 июля 1866 г. перемирие, а 24 августа окончательный мир. Разгромленные итальянцы получили от прусского союзника утешительный приз – Венецию.
Столь стремительное поражение Австрии оказалось не менее неожиданным для Александра II и Горчакова. Еще до решающего сражения при Садове барон Талейран сообщал из Петербурга: «Военные успехи Пруссии в Саксонии, Ганновере, Гессене и Богемии начинают вызывать здесь беспокойство»[593]. Теперь уже сам вице-канцлер в беседе с французским послом выдвинул идею совместного демарша России, Франции и Англии в Берлине в связи с намерением Бисмарка реформировать Германский союз [594].
В начале 1867 г. министр-президент Пруссии осуществил свой давний план. Прежний Германский союз был распущен, а вместо него под эгидой прусского короля создавался Северогерманский союз, в котором не нашлось места ни Австрии, ни ее союзникам из числа мелких немецких княжеств. Те из них, кто воевал на стороне Австрии, утратили самостоятельность и были включены в состав Пруссии. Для Отто фон Бисмарка была учреждена должность канцлера Северогерманского союза.
Важное место в работе барона Талейрана в Петербурге занимало изучение внутреннего состояния России, погруженной в реформы[595], и выяснение вопроса о степени ее возможной активности в европейских делах. Освоившись в Петербурге, Талейран согласился с ранее высказанным мнением своего предшественника, графа де Массиньяка о том, что «Россия, занятая внутренними делами, по мере возможности, будет воздерживаться от активного участия в том, что происходит за ее пределами»[596].
Экономические трудности, связанные с проводимыми реформами, как констатировал посол, вынуждали администрацию Александра II сокращать расходы на армию и флот[597]. Были урезаны государственные ассигнования и на начавшееся ранее в широких масштабах строительство железных дорог. И все равно денег катастрофически не хватало. Бюджетный дефицит на 1866 г. официально оценивался в 21,6 млн. рублей. Главным средством пополнения бюджета для правительства, как сообщал Талейран, была продажа акцизов на алкоголь, достигшая в 1866 г. суммы в 115,6 млн. рублей.
Остро, по мнению посла, стоял и вопрос устойчивости рубля[598]. Восстановление бюджетного равновесия и укрепление рубля стало главной задачей министра финансов М.Х. Рейтерна, влиятельного члена либеральной команды реформаторов. Как заметил барон Талейран, «для лечения тяжелых экономических недугов потребуются серьезные лекарства», одним лишь сокращением государственных расходов здесь не обойтись. В этом смысле он обратил внимание на перспективное предложение министра финансов более активно прибегать к внешним и внутренним займам[599].
Удивительным образом экономические трудности не помешали России начать в это время активное продвижение в Среднюю Азию, где не существовало четко обозначенной границы с британскими владениями в Южной Азии. Барон Талейран пристально наблюдал за этим процессом. От его внимания не ускользнули противоречия, возникшие между А.М. Горчаковым и военным министром Д.А. Милютиным. Если первый считал нецелесообразным отвлечение сил на Среднюю Азию, что, помимо прочего, было чревато обострением и без того натянутых отношений с Англией, то второй настаивал на дальнейшей экспансии в этом районе.
В беседе с Талейраном князь Горчаков откровенно осудил действия военного губернатора Туркестанской области генерала М.Г. Черняева, который якобы по собственной инициативе взял Ташкент и намеревался также захватить Бухару и Самарканд. Горчаков характеризовал генерала Черняева как «очень авантюрного офицера», не склонного соблюдать субординацию и подчиняться приказам, за что он и был отстранен от должности[600]. Одновременно он заверил посла Франции в том, что «императорское правительство не одобряет действий своего агента в Ташкенте и сожалеет о возможных последствиях его авантюрной экспедиции». Вице-канцлер, по словам Талейрана, заверил его также в отсутствии у России планов расширения своих владений к югу от Ташкента [601].
Посол Франции стал свидетелем первого в истории России публичного покушения на жизнь царя, случившегося 4 апреля (ст. ст.) 1866 г., когда человек с внешностью простолюдина, выстрелил в императора Александра II, который прогуливался в Летнем саду, недалеко от Зимнего дворца.
Сам император поначалу подумал, что это месть поляков за подавление им восстания 1863 года. Когда же оказалось, что стрелял русский, назвавшийся после задержания крестьянином, Александр совершенно растерялся. Он искренне и глубоко верил в гармонию своих отношений с народом, которого в 1861 году освободил от крепостной зависимости.
Царь испытал настоящее облегчение, когда ему сообщили, что злоумышленник – вовсе не крестьянин, а бывший студент и даже дворянин Дмитрий Каракозов. Одновременно ему сказали, что замысел террориста был сорван благодаря своевременному вмешательству некоего Комисарова, костромского крестьянина, перебравшегося на жительство в Петербург и случайно оказавшегося у места происшествия. Комиссаров в последний момент успел отвести руку стрелявшего Каракозова, и пуля пролетела мимо головы самодержца всея Руси.
Этому событию и обстоятельствам расследования преступления Талейран посвятил серию депеш, отправленных им в Париж[602].
Сам же барон немедленно посетил князя Горчакова, которому выразил «чувство глубокого негодования» в связи с происшедшим преступлением[603]. 18 апреля французский посол от имени иностранного дипломатического корпуса на аудиенции в Зимнем дворце поздравил Александра II с чудесным спасением от пули злоумышленника[604].
26 апреля 1866 г. Талейран передал Горчакову адрес на имя императора, полученный им из Москвы от проживавшей там французской диаспоры, с выражением осуждения «ужасного преступления» и одновременно – благодарности Всевышнему, сохранившему жизнь своему помазаннику, «Отцу русского народа»[605].
Царь получил множество сочувственно-поздравительных откликов и из Франции. Среди них встречались даже незамысловато-вычурные стихотворные обращения. Одно из них принадлежало редактору парижской газеты «Конститюсьоннель» Ш. Пьелю де Труамону [606].
Императору России[607] Опять попытка покушенья – в который раз! Молва о страшном злодеянье достигла нас, Как темный вал, добра не предвещавший, Разбившийся о твердый риф скорбящих. Что было Вам служить примером подражанья И путь открыть народу к процветанью? Великий Александр! В покушенье Переплелись все мира прегрешенья. Отнять жизнь государя – божий дар, В Святую Русь Иуда целил свой удар. Но Бог хранит от замыслов двуличных Тех, кто привносит в этот мир величье, Он жизнь и образ государя сохранил И выбил из убийцы злобный пыл. Париж простерт пред чудом избавленья, Как Ваш народ объят благодареньем.Талейран сообщал в Париж о последовавших за покушением важных перестановках в петербургской бюрократической иерархии, когда были отправлены в отставку начальник Третьего отделения князь В.А. Долгоруков, генерал-губернатор Петербурга князь А.А. Суворов и либеральный министр народного просвещения А.В. Головнин. Они были заменены сторонниками более решительных мер по борьбе с «революционной заразой».
Все эти перемены производились в процессе работы Верховной комиссии по расследованию «дела Каракозова». Комиссию возглавил граф М.Н. Муравьев, бывший до того министром государственных имуществ и генерал-губернатором Северо-Западного края. Талейран называет его «проконсулом Литвы». В 1863 г. Муравьев железной рукой подавил восстание в Польше, за что заслужил в либеральных кругах репутацию «вешателя». Именно его посол Франции считал инициатором произведенных императором Александром министерских перемещений, в частности, Головнина, который по убеждению Муравьева, «распустил студентов», чем способствовал распространению среди них «ниспровергательных настроений».
Наполеон III, сам переживший несколько покушений, направил Александру II личное письмо с выражением искреннего сочувствия, солидарности и радости по случаю его чудодейственного спасения. Впечатленный подвигом спасителя царя, костромского крестьянина Осипа Комиссарова, император французов произвел его в кавалеры Почетного легиона.
В ответном письме Александр II отметил, что «растроган тем сердечным порывом, с которым Вы, Ваше Величество, выразили мне свое сочувствие в такой печальной ситуации…
Я искренне ценю те дружественные чувства, с которыми Вы, Ваше Величество, отнеслись к этому»[608].
Воспользовавшись удобным случаем, царь проявил солидарность с императором французов, обеспокоенным возможными последствиями конфликта между Пруссией и Австрией. «Я разделяю Ваши опасения по поводу ситуации с Германией и очень счастлив, что мы разделяем общую точку зрения с Вами, Ваше Величество, потому что я уверен, что так же как и я, Вы хотите сохранить Германскую конфедерацию, в существовании которой заинтересована Европа для сохранения равновесия», – писал Александр II [609].
Александр II по-человечески оценил реакцию Наполеона III на драму, разыгравшуюся у Летнего сада. Неподдельное сочувствие императора французов имело следствием определенное смягчение у Александра прежнего его раздражения против Наполеона.
Барон Талейран продолжал внимательно следить за расследованием «дела Каракозова», но судебного приговора он не дождался. Еще в июле 1866 г. посол, сославшись на наступившее в политической жизни летнее затишье, попросил Друэн де Люиса предоставить ему отпуск. Тогда ему было отказано. На полях депеши Талейрана об отпуске министр написал: «Император [Наполеон] желает, чтобы он [Талейран] повременил с отпуском»[610].
Разрешение на отпуск было дано только в конце августа. 1 сентября 1866 г. Талейран выехал из Петербурга, куда вернется через месяц, чтобы принять участие в торжествах по случаю бракосочетания наследника-цесаревича Александра Александровича с датской принцессой Дагмарой.
Пока барон Талейран находился в краткосрочном отпуске, на Кэ д’Орсэ произошла очередная смена министра. Эдуард Друэн де Люис покинул свой пост и перебрался в Сенат. Новым министром стал маркиз Леонель (Лионель) де Мустье (1817–1869), потомственный дипломат, бывший посол в Вене и Константинополе, а в 1849–1851 гг. – депутат Законодательного собрания. Мустье был известен консервативно-клерикальными убеждениями. При этом император не предоставил ему самостоятельности, как, впрочем, и всем его предшественникам. Наполеон III всегда считал внешнюю политику своей «заповедной зоной» (domaine reserve), оставляя министрам иностранных дел лишь ведение текущих дел.
Первой и едва ли не главной обязанностью маркиза де Мустье на министерском посту стало участие в подготовке Всемирной выставки в Париже, открытие которой было намечено на апрель 1867 г. Министр иностранных дел должен был организовать посещение выставки европейскими монархами.
Среди них особое значение Наполеон III придавал приезду в Париж императора Александра II, о чем заблаговременно велись переговоры. В ходе личных встреч с царем Наполеон надеялся восстановить прежнее взаимопонимание с царем, разрушенное в 1863 г.
Александр II в Париже (июнь 1867 г.). Покушение Березовского
Александр II, конечно же, негодовал на императора французов за его недвусмысленную поддержку поляков, но все же внял совету А.М. Горчакова принять протянутую Наполеоном III руку. В Петербурге все еще питали некоторые надежды на содействие Франции в отмене ограничений Парижского мира 1856 года, хотя весь предшествующий опыт общения с ненадежным французским партнером и не давал к этому серьезных оснований. Вполне возможно, что на решение императора Александра поехать в Париж в большей степени повлияло простое человеческое любопытство – ведь о Всемирной выставке по всей Европе так много говорили, и побывать на ней считалось, чуть ли не обязательным для всякого просвещенного человека. Существовал и еще один мотив, быть может, самый важный для Александра Николаевича – возможность встретиться с Екатериной Долгоруковой, с которой его разлучила императрица.
Конфиденциальные переговоры о приезде царя в Париж велись с конца марта 1867 г. через Талейрана и Будберга. К концу апреля была достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу[611]. При этом, правда, не обошлось без досадных для императора французов трудностей, грозивших воспрепятствовать визиту Александра II.
Дело в том, что Наполеон III после австро-прусской войны все более проникался пруссофобией, и не желал приглашать на Всемирную выставку короля Вильгельма. Со своей стороны, Александр II ясно дал понять, что его приезд в Париж обусловлен одновременным визитом туда короля Пруссии. Царь хотел избежать подозрений, которые могли бы возникнуть в Берлине, относительно возрождения прежнего русско-французского согласия в ущерб интересам Пруссии. К тому же он намеревался выступить в роли посредника между Наполеоном и Вильгельмом и добиться их примирения. Демонстрация близких отношений с берлинским двором должна была, по замыслу Александра, сделать Наполеона более сговорчивым в восточных делах, где Россия желала заручиться содействием Франции в давлении на Турцию, препятствовавшую передаче Крита Греции и предоставлению автономии христианским народам на Балканах.
Опасаясь дальнейшего сближения России с Пруссией за своей спиной, Наполеон вынужден был принять условие Александра. Он направил королю Вильгельму приглашение посетить Всемирную выставку одновременно с царем [612].
5 мая барон Будберг известил Горчакова шифрованной телеграммой о предложенной французской стороной программе пребывания Александра II в Париже. Император Наполеон готов был предоставить Александру в качестве резиденции Елисейский дворец. Программа пребывания, помимо посещения павильонов Всемирной выставки, предусматривала балы в Тюильри и в мэрии Парижа, гала-концерт в Опере, военный смотр на ипподроме Лоншан, обед в Версале и другие мероприятия. Посол испрашивал высочайшего разрешения на устройство бала в своей новой резиденции на улице Гренель по случаю приезда императора[613].
Предложенная программа была принята царем. «Я с удовольствием приму то гостеприимство, которое Ваше Величество предложил мне в Елисейском дворце, и я сердечно благодарю Вас за это, – писал он Наполеону. – 16 мая (4 мая ст. ст.). – Я рад, что сумел устранить трудности, которые угрожали нарушить мир, и я вдвойне счастлив, что именно я смог этому поспособствовать, ведь это обстоятельство сделало возможной мою поездку в Париж. Я считаю, – продолжал Александр, – что при нынешнем положении вещей чистосердечные объяснения монархов помогут разрешить недопонимание, сблизить взгляды монархов и правительств и спасти тем самым Европу от последствий, вредных для процветания всех народов. Я буду искренне рад, если наша с Вами дружба, Ваше Величество, укрепляющая наши старые отношения, сможет поспособствовать достижению желаемого результата»[614].
28 мая 1867 г. из Царского Села по железной дороге Александр II отправился в дальний путь. Императора сопровождали два старших сына – великие князья Александр и Владимир, вице-канцлер князь А.М. Горчаков, генерал-адъютант князь В.А. Долгоруков, министр Императорского двора граф А.В. Адлерберг и граф П.А. Шувалов, начальник Третьего отделения, шеф корпуса жандармов.
Французский посол в Петербурге барон де Талейран сообщал в Париж, что в окружении Александра II раздавались голоса, предостерегавшие его от этой поездки[615]. Кое-кто прямо говорил о возможности покушения на его жизнь в Париже, где укрылись многие участники польского восстания 1863 г. Однако царь был непреклонен в своем решении. «Его Величество, – докладывал Талейран министру иностранных дел маркизу де Мустье, – остался безразличен ко всем этим внушениям, с достоинством ответив, что подобные опасения не могут заставить его волноваться, так как он целиком полагается на гостеприимство Франции»[616]. Наверное, эти слова не раз потом вспомнят и в Петербурге, и в Париже…
Хорошо понимая, куда он едет, и с какими требованиями может столкнуться в Париже, Александр II, сделав остановку на пограничной станции Вержболово (Царство Польское), 29 мая подписал указ об амнистии участников восстания 1863 года. «По существующему здесь единодушному мнению, – сообщал из Петербурга барон Талейран, – среди мотивов, которыми продиктован этот великодушный акт императора Александра перед его приездом в Париж, несомненно, есть и желание сделать приятное Его Величеству [Наполеону III], избежав тем самым тягостных воспоминаний о Польше в беседах двух монархов»[617].
Французский посол высказал также мнение, что объявленная царем амнистия, безусловно, будет одобрительно встречена в Польше, где на обратном пути из Парижа Александр II намерен сделать остановку и встретиться со своими польскими подданными[618].
Еще ранее, в середине марта 1867 г., император Александр амнистировал французов, участвовавших в польском восстании и отправленных в Сибирь. Прощения этих французских волонтеров давно и тщетно добивалось посольство Франции в Петербурге. На все просьбы герцога де Монтебелло и сменившего его на посольском посту барона де Талейрана вице-канцлер Горчаков неизменно ссылался на то, что французы были взяты с оружием в руках и осуждены в законном порядке, как это принято в любом современном европейском государстве. «Валуев[619] проинформировал меня, что император Александр только что помиловал всех французов, замешанных в последних событиях в Польше, депортированных в Сибирь или заключенных в тюрьмы в других провинциях империи», – телеграфировал шифром Талейран министру иностранных дел Мустье 14 марта 1867 г.[620]
В Петербурге рассчитывали на то, что этот жест доброй воли будет должным образом воспринят как в Тюильри, так и во французском обществе. Если в отношении официальной Франции расчет в целом оправдался, то с настроениями в обществе все было иначе.
Александр II и его свита поняли это сразу же, как только покинули пределы Северного вокзала Парижа, где царя встречал сам император Наполеон III. На пути следования кортежа к императорской резиденции Тюильри из толпы, как обычно в торжественных случаях собравшейся на улицах, неоднократно слышались возгласы: “Vive la Pologne!” То же самое повторилось на следующий день, когда Александр II посетил средневековую часовню Сент-Шапель, в самом сердце Парижа. Здесь, у Дворца правосудия, группа адвокатов встретила его появление тем же возгласом: «Да здравствует Польша!».
В ходе переговоров, проходивших в перерывах между посещениями выставки, официальными приемами и балами между двумя императорами и их министрами иностранных дел, обсуждались вопросы европейской политики и восточные дела[621].
Александр II и князь Горчаков убеждали Наполеона III и маркиза де Мустье в необходимости проведения Францией сдержанной политики в отношении Пруссии, которая, якобы, не имеет территориальных и иных претензий к своим соседям. В любом случае Петербург готов быть посредником между Парижем и Берлином, если будут возникать непредвиденные недоразумения.
Подобные заверения служили слабым утешением для французского императора, настаивавшего на том, чтобы Пруссия остановилась на пути поглощения Германии, а для начала – вывела бы свои гарнизоны из южногерманских крепостей, где они оставались после окончания австро-прусской войны.
Для царя и Горчакова принципиально важно было добиться согласованных с Францией действий в отношении Турции, продолжавшей притеснять христианское население своей империи. При этом Наполеону были даны четкие заверения в отсутствии у России намерений расчленить Турцию. Но и в этом вопросе на переговорах не удалось придти к согласию. Более того, французская дипломатия фактически отступила от ранее данного обещания содействовать передаче Греции не только восставшего против турок Крита, но также Эпира и Фессалии. Наполеон и Мустье отговаривались необходимостью не поощрять греков к новым территориальным притязаниям за счет Оттоманской Порты.
На всем протяжении переговоров и неформальных контактов Наполеон III ни разу даже не заикнулся о необходимости пересмотра Парижского договора 1856 г., чем крайне раздосадовал Александра II. Раздражение царя в связи с позицией Наполеона было усугублено попыткой покушения, предпринятой в Париже.
В погожий солнечный день 6 июня 1867 года, около пяти часов пополудни, открытая коляска, в которой находились два императора – Александр II и Наполеон III – неспешно катила по Булонскому лесу. Вдоль аллей рассредоточились толпы зевак, затруднявших продвижение экипажа. Парижане радостно приветствовали своего императора и его высокого гостя, русского царя, которые возвращались с военного смотра на ипподроме Лоншан. Рядом с августейшими особами в коляске находились два сына Александра II – великие князья Александр и Владимир.
Когда экипаж поднялся на Большой каскад Булонского леса, из толпы один за другим прозвучали два выстрела, произведенные почти в упор. Перед тем как раздался второй выстрел, берейтор экипажа успел ударить стрелявшего по руке. Первая пуля задела женщину из толпы, другая – лошадь. К тому же, при втором выстреле разорвало ствол пистолета, от чего пострадал сам стрелявший, правая рука и лицо которого были залиты кровью. Толпа набросилась на него, и лишь вмешательство царя спасло террориста от расправы на месте. «Несите его в карету, и найдите для несчастного врача», – сказал Александр II, и только когда его просьба была удовлетворена, он согласился продолжить путь, уступая настояниям Наполеона III. «Если это итальянец, то он хотел убить меня, а если поляк – то вас», – мрачно заметил император французов[622], вспомнив, видимо, о трех покушениях на свою жизнь, предпринятых итальянскими революционерами в 1855 и 1858 гг.
Наполеон лично сопроводил царя до его резиденции в Елисейском дворце. Он был крайне удручен инцидентом в Булонском лесу, грозившим перечеркнуть все его планы по улучшению отношений с Россией.
Можно было понять его беспокойство возможными последствиями покушения 6 июня для франко-российских отношений, тем более когда выяснилось, что террористом оказался участник польского восстания 1863 г. 20-летний Антоний (Антон) Березовский, который нашел приют во Франции.
Сколько раз князь Горчаков делал представления французскому послу в Петербурге относительно антироссийской активности польской эмиграции во Франции! Сколько раз русский посол в Париже барон Будберг делал аналогичные представления и лично Наполеону III, и его министрам! Все эти демарши повисали в воздухе, не находя должного понимания ни в Тюильри, ни на Кэ д’Орсэ. И вот теперь случилось то, чего не без основания опасались в Петербурге.
На следующий день после покушения Наполеон отправил в Елисейский дворец свою супругу, императрицу Евгению, которая со слезами на глазах умоляла Александра не прерывать его пребывание в Париже. Она уверяла царя, что покушение – дело рук одиночки, который понесет самое суровое наказание.
Император Александр внял просьбе Евгении, заверив ее, что программа визита не будет сокращена из-за этого прискорбного инцидента. Помимо политических соображений, у Александра были и личные мотивы остаться в Париже еще некоторое время. Здесь находилась его любимая Катя, княжна Екатерина Долгорукова, примчавшаяся по первому же зову из Неаполя, куда в конце 1866 г. она была отправлена в «ссылку» по настоянию императрицы Марии Александровны.
Перед приездом в Париж император распорядился снять для своей возлюбленной, с которой не виделся долгие шесть месяцев, небольшой особняк на улице Бас-дю-Рампар, по соседству с Елисейским дворцом, куда Екатерина Долгорукова тайком проникала каждый вечер в течение всего десятидневного пребывания царя в столице Франции. «Еще более сблизившись вследствие произошедших событий и долгой разлуки, имея большую свободу для встреч, чем в российской столице, вдалеке от двора и сплетен, они, практически не таясь, дали развитие своим романтическим отношениям», – отмечает Элен Каррер д’Анкосс, современный биограф Александра II[623].
Первым, кого Александр пожелал увидеть после инцидента в Булонском лесу, была его Катя. Короткие, полные страсти парижские ночи окончательно и бесповоротно превратили Екатерину Долгорукову в самого близкого для Александра человека. По возвращении в Петербург их отношения перестанут быть тайной. Император обеспечит своей возлюбленной официальный статус при дворе, и с тех пор они уже никогда не расстанутся.
Что он чувствовал в душе? Может быть, досаду на самого себя за то, что поддался искушению побывать в Париже. Но ведь здесь ему предстояли не только непростые переговоры с императором Наполеоном и содержательные экскурсии по павильонам Всемирной выставки, но и встречи с любимой женщиной… Кто знает, о чем он думал?.. Во всяком случае, всю намеченную программу визита Александр выполнил до конца.
А вот в Петербурге и Москве, во всей России покушение в Булонском лесу вызвало бурю возмущения, – быть может, даже более сильного, чем год назад, когда у Летнего сада в царя стрелял Дмитрий Каракозов. Поначалу здесь сочли, что в императора стрелял француз, и это было чревато подъемом ксенофобии, как после падения Севастополя в 1855 г. Правда, вскоре последовало разъяснение, что злоумышленником оказался поляк, и всё стало на свои места. Временный поверенный посольства Франции в России маркиз Жозеф де Габриак, замещавший находившегося в Париже Талейрана, сообщал из Петербурга, что здесь сразу же активизировались противники поездки императора в Париж[624].
Габриак и весь состав французского посольства 7 июня присутствовали в Исаакиевском соборе на благодарственном молебне по случаю спасения императора Александра от пуль злоумышленника. Французский дипломат в донесении в Париж отметил огромное стечение народа в соборе и вокруг него. Вечером весь город был иллюминирован.
10 июня Габриак присутствовал на приеме, который устроила для дипломатического корпуса императрица Мария Александровна. Подойдя к французскому поверенному в делах, она взволнованно сказала: «Я глубоко тронута проявлением чувств Ее Величества императрицы [Евгении] и французского народа по отношению к императору Александру в этих грустных обстоятельствах, послуживших нашему сближению» [625].
Что же касается Александра II, то остававшиеся до отъезда в Россию дни он аккуратно посещал в Париже все определенные программой официальные мероприятия и балы. Его видели неизменно спокойным, вежливым и открытым. Перед отъездом царь поблагодарил французскую императорскую чету за теплый прием. Он щедро вознаградил и берейтора, возможно, спасшего ему жизнь в Булонском лесу.
11 июня Александр II покинул столицу Франции. «При воспоминании о нашем пребывании в Париже меня охватывает дрожь…, – писал великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III своему другу князю Мещерскому. – Да, нам пришлось там нелегко. Ни единой минуты я не чувствовал себя спокойно. Никто не мог гарантировать, что это (покушение) не повторится…
У меня было единственное желание: уехать из Парижа. Я послал бы все к дьяволу, лишь бы император мог целым и невредимым как можно скорее вернуться в Россию. Каким счастьем было покинуть этот вертеп»[626].
После продолжительной остановки в Варшаве Александр II 30 июня вернулся в Царское Село. При первой же встрече с бароном Талейраном император подтвердил то, что ранее императрица сказала маркизу Габриаку, добавив, что оказанный ему в Париже Наполеоном и Евгенией прием был поистине сердечным и дружеским. «Он мне сказал, – докладывал Талейран в Париж, – что вынес из поездки во Францию исключительно приятные воспоминания и впечатления»[627].
В течение нескольких месяцев после отъезда Александра II из Парижа российское посольство на рю де Гренель получало многочисленные обращения как именитых, так и рядовых французов, выражавших искреннее сочувствие в связи с инцидентом в Булонском лесу и одновременно – радость по случаю чудодейственного спасения царя. Эти обращения, переданные в Петербург, составили два увесистых тома[628].
А в Париже в это время начинался судебный процесс над террористом. Следствие подтвердило, что Березовский действовал в одиночку, на свой страх и риск. Обвинение сразу же исключило личные мотивы в его поступке, сославшись на то, что Березовский стал жертвой политических страстей вокруг польской проблемы, что могло бы послужить некоторому смягчению его безусловной вины. Эмманюэль Араго, адвокат подсудимого, упирал на политическую подоплеку действий Березовского, мстившего за свою порабощенную родину и за сосланную после подавления восстания семью. Сам же он – человек благородный и добрый, что подтверждают привлеченные адвокатом свидетели.
Березовский, к которому за прошедшее после покушения время вернулось самообладание, говорил, что действовал исключительно во имя независимости униженной Польши, и сожалеет лишь о том, что все это случилось в «дружественной» полякам Франции. Он категорически утверждал, что покушение на царя задумал давно и не имел сообщников ни среди французов, ни среди польских эмигрантов.
Страстная речь защитника, обрушившего град критики на царя, залившего кровью несчастную Польшу, произвела должное впечатление на присяжных. В своем вердикте, вынесенном 15 июля, они признали Березовского виновным, но по некоторым обстоятельствам заслуживающим снисхождения. В результате террорист избежал смертной казни, получив пожизненный срок, который он должен был провести на каторжных работах в Новой Каледонии. «Александр [II] был уязвлен дважды, – заметил по этому поводу его биограф: – во-первых, этот приговор свидетельствовал об извращенном общественном мнении французов; во-вторых, он лишил его возможности обратиться к Наполеону III с просьбой о помиловании осужденного на смерть в качестве жеста милосердия»[629].
О том, как восприняли приговор Березовскому в России, сообщал в Париж барон Талейран. «Вердикт суда департамента Сена, который приговорил Березовского к пожизненным каторжным работам с учетом смягчающих обстоятельств, – отмечал посол, – был встречен большей частью общественного мнения в России с неодобрением»[630].
Талейран ссылался при этом на отклики в петербургской и московской прессе, в частности, на «Московские ведомости» и «Голос», которые выступили с острой критикой решения парижского суда. «Эти атаки русской прессы…, – писал Талейран, – довольно точно отражают общее настроение в стране. Что касается князя Горчакова и лиц из его окружения, – добавил он, – то они предпочли не входить со мной в объяснения по данному вопросу, сохраняя сдержанность»[631].
В то же время французский посол вынужден был констатировать, что за всеми теми любезными словами, которые он услышал от императора Александра по возвращении из Парижа, скрывается его разочарование во Франции, в возможности и полезности дальнейшего сотрудничества с ней. После инцидента в Булонском лесу и реакции на него французского общества, проявившейся и в приговоре Березовскому, в царе, по наблюдениям Талейрана, произошла перемена его отношения к Франции. «Поездка императора Александра в Париж, которая могла открыть новую эру в наших отношениях с Россией, мало что дала, – признавался Талейран в личном письме маркизу де Мустье. – Конечно, произошло очевидное улучшение личных отношений между двумя монархами, даже сближение между ними, что само по себе хорошо. Но, к сожалению, происшествие в Булонском лесу и последующее развитие событий… вызвали в душе императора Александра горькое чувство относительно нынешнего состояния общественного мнения в нашей стране…
Я нисколько не сомневаюсь в том, – продолжал посол, – что вся эта горечь не относится лично к императору Наполеону, и лишь косвенно она может затрагивать его правительство. Я уверен, что в скором времени это пройдет, и надеюсь, что через два месяца, когда император Александр вернется из Крыма, куда он уехал, я буду иметь возможность сообщить вам, что его настроение изменится в лучшую сторону»[632].
Барон Талейран ошибся в своих ожиданиях. Перелом в отношении Александра II к Франции после поездки в Париж был окончательным и бесповоротным. «Много раз между Францией и Россией вставала тень Польши, – отмечал французский историк Ф. Шарль-Ру. – В этом отношении поездка царя в Париж, которая могла бы стереть еще свежие воспоминания о вражде, лишь оживила их» [633].
Важнейшим следствием этой, оказавшейся неудачной, поездки стало более тесное сближение России с Пруссией, что определило фактическую изоляцию Франции перед нараставшей прусской угрозой. После 1867 г. Александр II, всегда тянувшийся к Пруссии, и одновременно всегда подозрительно относившийся ко Второй французской империи, сделал окончательный выбор в пользу Берлина.
Глава 8 Россия и франко-прусский антагонизм (1868–1870)
Путь к изоляции
Разочарование в результатах взаимодействия с Францией и курс на сближение с Пруссией не означали, что Александр II и Горчаков намеревались свернуть отношения с Парижем. В Петербурге продолжали считать Францию важнейшим элементом поддержания пошатнувшегося после австро-прусской войны равновесия в Европе. При всей династической и, как бы теперь сказали, идеологической близости Романовых и Гогенцоллернов, в Петербурге с настороженностью отнеслись к ликвидации Пруссией суверенных германских монархий и к перспективе возникновения в центре Европы мощной Германии. «Мы не можем не признать, – писал Горчаков в докладе царю, – что поглощение Германии Пруссией не отвечает нашим интересам»[634].
При всей нелюбви Александра II к Австрии его не могло не беспокоить резкое ее ослабление перед лицом набиравшей силу Пруссии. Все это побуждало Петербург к продолжению диалога с Парижем, в ходе которого Александр II надеялся предостеречь Наполеона III от необдуманных шагов, чреватых пагубными последствиями как для самой Второй империи, так и для европейского спокойствия. Формулируя задачи российской дипломатии на европейском направлении, князь Горчаков, ставший в 1867 г. канцлером империи, рекомендовал Александру II: «Оставлять всегда открытой дверь для сближения с Францией…; развивать наши традиционные добрые отношения с Пруссией, построенные на базе взаимных интересов, при сохранении за нами свободы действий…; поддерживать определенное равновесие между нею (Пруссией. – П.Ч.) и Францией, которое, при наличии элементов противоборства, не позволило бы довести дело до военного конфликта…». По убеждению Горчакова, противоречия между Францией и Пруссией даже выгодны России, так как побуждают каждую из соперничающих сторон обращаться за содействием и посредничеством в Петербург. Но они выгодны лишь до той степени, пока обе стороны не перейдут красную черту, отделяющую мир от войны. Поэтому, подчеркивал канцлер, Россия заинтересована в «сохранении равновесия между двумя державами»[635].
Стремление сохранить мир на континенте в решающей степени определялось для России внутренними причинами. Поглощенное реформированием страны, высшее российское руководство желало любой ценой избежать отвлечения ограниченных материальных ресурсов за ее пределы. «Россия нуждается в покое, – писал Горчаков императору Александру. – Все ее заботы сосредоточены на внутренних работах, проводящихся под руководством Вашего Величества»[636].
Таким образом, даже после неудачного визита Александра II в Париж Франция не была исключена из российских внешнеполитических приоритетов. Безусловно, еще со времени польского восстания 1863 г., доверие к Наполеону III в Петербурге постоянно падало, но вместе с тем Россия нуждалась в сильной Франции, как для поддержания равновесия в Европе, так и в интересах своей восточной политики, где продолжала надеяться на возможность взаимодействия с Парижем.
Подобного рода надежды и ожидания с некоторых пор энергично поддерживал барон А.Ф. Будберг, российский посол при тюильрийском дворе. Первое время, как уже отмечалось, Будберг, выученик графа Нессельроде, относился к Франции достаточно сдержанно и даже недоверчиво. Еще в 1864 г., спустя два года после приезда в Париж, он не был убежден в целесообразности и тем более надежности союза с Францией. Свои сомнения Будберг основывал на неустойчивости бонапартистского режима, держащегося, как он полагал, только на личности императора Наполеона. «Сегодня она (Франция. – П.Ч.) сильна, – делился своими размышлениями посол с князем Горчаковым, – но ее будущее покрыто неопределенностью. Принципы, которые в настоящее время служат опорой для ее правительства и составляют его силу, завтра могут обернуться против него и привести к его падению. Поддержка, которую правительство находит в стране, основана не на прочной базе институтов, а на потребностях текущего момента. Эта поддержка имеет личностный, а потому – преходящий характер»[637].
Но уже в 1866 г. барон Будберг неожиданно меняет свою точку зрения на Францию и на возможности русско-французского взаимодействия.
Причины такого поворота в сознании посла не нашли отражения в его переписке с Горчаковым. Поэтому остается лишь строить предположения на этот счет. Не исключено, что Будберг, как и его предшественник, граф Киселев, подпал под обаяние императора французов, умевшего убеждать сомневающихся в своей искренности и самых добрых намерениях. Так или иначе, но после австро-прусской войны Будберг становится горячим поборником дальнейшего сближения с Францией.
Его новые устремления совпали с тогдашними настроениями в Петербурге, где были обеспокоены неожиданно быстрым сокрушением военной мощи Австрии и возрастанием влияния Пруссии. Это создавало предпосылки для улучшения отношений между Россией и Францией, изрядно испорченных в результате польского восстания 1863 года.
По убеждению Будберга, сближение с Францией могло основываться на обоюдном опасении чрезмерного возвышения Пруссии, а также на определенной близости интересов Петербурга и Парижа в Восточном вопросе. Наполеон III и его министр иностранных дел маркиз де Мустье умело укрепляли русского посла в подобных настроениях. Мустье заверял Будберга в желании Франции согласованно действовать с Россией на Востоке[638], но одновременно вел закулисные переговоры об установлении союзных отношений с Австрией, имевшей собственные интересы на Балканах, во многом противоречившие интересам России.
Будберг поверил заверениям Мустье, ошибочно полагая, что для Франции Восточный вопрос имеет второстепенное значение, а уклонение Наполеона от обещаний содействовать отмене нейтрализации Черного моря объяснял главным образом влиянием Англии. При этом Будберг считал, что стесняющие Россию ограничения Парижского договора 1856 г. отпадут сами собой[639]. Недоверие, сохранявшееся в Петербурге относительно роли Франции на Востоке, барон объяснял тенденциозностью информации, получаемой от посла в Константинополе Н.П. Игнатьева[640].
В обоснование необходимости более тесного сближения с Францией, посол пытался убедить Горчакова в том, что французское правительство не имеет намерений использовать польский фактор в антироссийских целях, как это было в недавнем прошлом[641].
Все это вызывало у канцлера возраставшее недоверие к оценкам Будберга, которое он неоднократно высказывал в докладах императору.
«Всякий раз, когда французский кабинет нуждается на момент в нашем благоволении, имея в виду расчеты своей европейской политики, – писал Горчаков Александру II 27 ноября 1867 г., – он слепит наши глаза миражем согласия на Востоке, чтобы использовать затем конфиденциальные объяснения, мотивированные этой близостью, для компрометации нас перед Англией и Турцией»[642].
Со своей стороны, император Александр после австро-прусской войны склонен был поддержать старания Будберга по налаживанию взаимодействия с Францией. Царя привлекала возможность опереться на Францию в интересах своей восточной политики. «Что касается меня, – заявил он в конце ноября 1866 г. французскому послу барону Талейрану, – я хочу сохранять с вами хорошие отношения. Они нам взаимно необходимы, в особенности сейчас, когда восточный вопрос, кажется, должен прийти в движение с момента на момент»[643]. Император имел в виду вспыхнувшее в августе 1866 г. антитурецкое восстание на Крите, христианское население которого желало присоединения острова к Греции.
В этом вопросе в Петербурге не было единодушия. Одни (Азиатский департамент МИД и посол в Константинополе граф Н.П. Игнатьев) настаивали на активных действиях в поддержку критских греков и балканских славян. Другие, и прежде всего князь Горчаков, выступали с более осторожных позиций, считая нецелесообразным подогревать воинственные настроения в европейских провинциях Оттоманской империи.
В конечном счете выбор был сделан в пользу согласованных с великими державами, и в первую очередь с Францией, действий по защите интересов христиан, находившихся под властью Турции. Барон Будберг воспринял это как прямое руководство к действию. При этом он не только вышел за пределы своих посольских полномочий, но и разошелся с официальной линией, проводимой Горчаковым и одобренной Александром II. Позиция России предполагала защиту интересов христианского населения турецких провинций, содействие автономизации (а в отдельных случаях – даже независимости) последних и учреждению в них местного самоуправления.
Будберг же не сумел разглядеть того, что цели Франции на Востоке, помимо удержания там своего влияния, заключались в другом – в уравнивании в правах мусульманского и христианского населения Оттоманской империи при сохранении жесткой централизации управления, способной обеспечить целостность этой империи. Глава французского дипломатического ведомства Мустье в письме барону Талейрану откровенно высказывал свои опасения относительно распространения «панславистских идей, имеющих целью разрушение Турции и Австрии», что, как отметил министр, «представляет самую серьезную угрозу для наших интересов». «Мы должны, – подчеркивал он, – бороться с этой угрозой, как через прессу, так и дипломатическими средствами… Это не тот вопрос, где русские могли бы найти согласие с Францией»[644].
Не менее четко Мустье высказался и по вопросу Крита, где не только Будберг, но даже и Горчаков надеялись на взаимодействие с кабинетом Наполеона III. В письме к Талейрану Мустье называет этот вопрос «одной из самых опасных ловушек» для Франции. «Критский вопрос закрыт…, и мы не желаем вновь его открывать. Прикидывайтесь глухим, – напутствовал посла министр иностранных дел, – когда вас будут пытаться вовлечь в разговоры на эту тему» [645].
Совершенно очевидно, что такой подход в корне противоречил концепции национальных суверенитетов, составлявшей одну из основ внешней политики Второй империи. Удивительным образом “principe des nationalites”, которым французская дипломатия руководствовалась в Италии, Германии и даже в отношении зависимой от России Польши, не распространялся ею на европейские провинции Турции.
Получив указание изыскивать возможности для согласования с тюильрийским кабинетом действий на Востоке, барон Будберг в начале 1867 г., не имея на то полномочий из Петербурга, начал зондировать в Париже почву относительно перспективы заключения союза с Францией на базе общей восточной политики. Как только об этом узнал Горчаков, он поспешил одернуть посла, отношения с которым у него последнее время разладились. Возможно, помимо политических соображений, здесь сыграли свою роль появившиеся в окружении императора слухи
0 предстоящей отставке главы дипломатического ведомства и его замене более молодым дипломатом. Чаще всего называлась фамилия 50-летнего барона Будберга, к которому благоволил император Александр. В январе 1864 г. он пожаловал послу орден св. Александра Невского, а в июне 1867 г. произвел Будберга в действительные тайные советники, что выдвинуло барона в первый ряд сановников империи[646]. Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая его карьера, если бы не нелепая случайность.
В начале 1868 г. Будберг был вызван в Петербург для участия в совещании у императора по вопросам восточной политики России. Туда же прибыл из Константинополя и граф Игнатьев, продолжавший настаивать на более энергичной поддержке национально-освободительного движения греков и балканских христиан. На совещании возобладала точка зрения Горчакова, выступавшего за умеренность и осторожность в восточных делах. К тому времени канцлер убедился и в том, что расчеты на французское содействие на Востоке, обещанное Будбергом, оказались несостоятельными. «Франция, – писал он императору в феврале 1867 г., – до сих пор не предложила России никаких специальных выгод, а требует очень многого»[647]. Более того, у Горчакова имелась достоверная информация об антироссийских интригах Франции в Вене. В августе 1867 г., на встрече с Францем-Иосифом в Зальцбурге, Наполеон III договорился о необходимости защиты целостности Османской империи. Переговоры на эту тему между Парижем и Веной продолжались.
На обратном пути в Париж, на одной из остановок в Германии, Будберг подвергся публичному нападению со стороны отставного офицера, 36-летнего барона Рудольфа фон Мейендорфа, известного скандалиста, которого многие считали душевнобольным [648].
Когда Мейендорф предъявил раздобытое у кого-то из немецких докторов медицинское свидетельство о своем психическом здоровье, у барона Будберга не оставалось другого выхода, как вызвать обидчика на дуэль, которая состоялась в окрестностях Мюнхена.
Вот что пишет об этой истории в своем дневнике граф П.Д. Киселев, ссылаясь на разговор с Будбергом: «Он (Будберг. – П.Ч.) говорил об этом с совершенным спокойствием, без злобы; упреки его относились только к тому, что оставили совершенно на свободе, и без всякого надзора безумца, обнаружившего свое неистовство еще в прошлом году таким же образом с советником посольства Чичериным, о чем Будберг узнал только сегодня. Если бы он знал об этом прежде, то принял бы предосторожности. Во всем этом нужно отдать справедливость безукоризненному поведению барона, понимавшего серьезность своего положения и то, что, во вред ему, этим событием могут воспользоваться его личные и политические враги…
Дуэль барона Будберга с бароном Рудольфом Мейендорфом происходила 14-го апреля в Мюнхене. Посол имел свидетелями генерала графа Бетанкура, полковника Новицкого и князя Витгенштейна.
Они обменялись пулями, не затронув друг друга, что чрезвычайно счастливо для Будберга – отца семейства и без средств. Русские в Париже полагают, что послу не следует оставаться на своем настоящем посту…
Я, со своей стороны, не вижу особенно веских причин, которые заставляли бы должностное лицо оставить свой пост после дуэли, выдержанной с достоинством. Барон Будберг, возвратясь из Мюнхена, передал мне подробности своей эпопеи. Он исполнил свою обязанность как джентльмен, и рассказ его отличался спокойствием и умеренностью. Будберг отправляется в Петербург, чтобы возобновить просьбу о замещении его поста в Париже. Он сделает это, повинуясь долгу чести в отношении к своему государю, осыпавшему его милостями»[649].
Действительно, дуэль с участием действующего посла была, наверное, беспрецедентным случаем в дипломатической практике. Прошение об отставке барон Будберг подал в первых числах апреля 1868 г. Оно было удовлетворено, после чего Будберг, получив прощальную аудиенцию у Наполеона III, покинул Париж [650].
Комментируя неожиданный отзыв русского посла, его петербургский коллега барон Талейран в депеше маркизу Мустье сообщал, что независимо от непосредственной причины этой отставки, у Будберга оказалось в Петербурге немало недоброжелателей, включая канцлера Горчакова. Барон Будберг, по свидетельству Талейрана, многих раздражал «надменностью манер, неуживчивым характером и язвительным умом». Его противники воспользовались удобным случаем, чтобы свести с ним счеты. Они подвергают Будберга ожесточенным, безжалостным нападкам. «У бывшего посла в Париже, – писал Талейран, – нашлось здесь совсем немного защитников»[651].
Но среди этих немногих защитников оказался сам император Александр II, не позволивший окончательно погубить репутацию человека, к которому благоволил. По возвращении в Петербург Андрей Федорович был оставлен в штате Министерства иностранных дел с годовым жалованием в 12 тыс. руб. серебром, но уже 20 мая 1868 г. император ввел его в Государственный Совет, где бывший посол будет заседать в течение последующих двенадцати лет, до конца своих дней.
9 февраля 1881 г. барон Будберг скончается в Петербурге в возрасте шестидесяти четырех лет. Два года спустя умрет и психопат Мейендорф, разрушивший его блестящую карьеру.
Если подвести итог шестилетней дипломатической миссии барона Будберга в Париже, нельзя не признать, что он сделал максимум возможного для того, чтобы вывести российско-французские отношения из того тупика, в котором они оказались в результате польского восстания 1863 г. То, что послу не удалось во многом преуспеть – не его вина. Часто его инициативы по развитию взаимодействия с Францией не находили поддержки у Горчакова. Но в значительной степени ответственность за то, что к роковому для судьбы Второй империи моменту ее отношения с Россией разладились, безусловно, лежит на Наполеоне III. Он упустил предоставлявшийся ему шанс заручиться если не поддержкой, то хотя бы строгим нейтралитетом России перед столкновением с Пруссией. В отчете МИД за 1868 г., представленном Александру II, Горчаков констатировал «глубокое расхождение между нашим видением проблем и позицией Франции»[652].
К своему шестидесятилетию, исполнявшемуся в 1868 г., император французов подошел преждевременно состарившимся и разбитым физически от одолевавших его недугов. К застарелому ревматизму и изводившим Наполеона геморроидальным коликам, нажитым еще в годы скитаний и тюремного заключения, добавилась мочекаменная болезнь. Доктора упустили образование в почках большого размера камня, причинявшего невыносимые страдания императору. Регулярные курсы водолечения, которые он проходил в Виши, не приносили желаемого результата. Острые приступы становились все более частыми, и иногда Наполеону казалось, что он умирает. Будучи не в силах ему помочь, доктора вместе с тем не решались пойти на хирургическую операцию, опасаясь летального исхода.
Мучимый болезнями, Луи-Наполеон не оставлял однако любовных похождений. Во время одного из свиданий у любвеобильного императора произошел сердечный приступ, потребовавший срочного вмешательства врачей.
В более спокойное время все это не имело бы столь серьезных политических последствий для страны, но перед надвигавшейся с востока угрозой физическое и психологическое самочувствие императора французов приобретало особое значение. «Больной император утратил прежде свойственную ему проницательность и изворотливость, – отмечает современный французский историк. – Ведомая им Франция на глазах теряла поддержку тех стран, которые могли бы позволить ей сдержать нараставшую мощь Пруссии. Франция повсеместно теряла доверие и оказывалась в опасной изоляции»[653].
Англия, давний союзник Франции, с растущим беспокойством следила за лихорадочной активностью бонапартистской внешней политики, подрывавшей устои европейского равновесия, и все менее склонна была поддерживать Наполеона III. В Лондоне более чем сдержанно отнеслись к «округлению» границ Франции в Италии и к намерению императора французов утвердиться на берегах Рейна. Еще большую озабоченность у сент-джеймского кабинета вызывали притязания императора французов на Люксембург и Бельгию, о чем еще будет сказано. Неодобрительно отнеслись в Англии и к мексиканской авантюре Наполеона III, вынужденного в 1864 г. вывести войска из Мексики и фактически отдавшего на расправу своего ставленника, злополучного императора Максимилиана, расстрелянного республиканцами в 1867 г.
Серьезные противоречия между Лондоном и Парижем возникли в связи со строительством Суэцкого канала, который Франция не прочь была присвоить себе, добиваясь выкупа у Египта 44 % принадлежавших ему акций. Британское правительство полагало, что открытие этого канала создает угрозу не только для целостности Османской империи, куда входил Египет, но и для английского господства в Индии. По этой причине Англия настойчиво стремилась перекупить египетские акции, что ей удалось осуществить лишь в 1875 г., после чего Суэцкий канал станет совместным франко-английским предприятием[654].
В общем и целом кабинет королевы Виктории не только отказывался поддерживать Францию против Пруссии, но счел необходимым пойти на определенное сближение с Берлином, в котором увидел полезный противовес непомерным амбициям Парижа.
Серьезные претензии к Франции были у Австрии, превратившейся в 1867 г. в двуединую монархию – Австро-Венгрию. В Вене не могли забыть унижения 1859 г., как не забыли благожелательный по отношению к Пруссии нейтралитет Франции в ходе австро-прусской войны 1866 г.
Тем не менее, боязнь Пруссии и «русский кошмар», вызванный активной панславистской пропагандой в пределах «лоскутной» Габсбургской империи, поощряемой из Петербурга, побудил Франца-Иосифа и канцлера графа Ф.-Ф. фон Бейста искать взаимопонимание с Наполеоном. В июне 1867 г. в Зальцбурге состоялась встреча двух императоров, обсуждавших возможность установления союзнических отношений. Однако переговоры на эту тему, продолжавшиеся в последующие два года, успехом не увенчались. Заключению военного союза воспротивился граф Бейст, ближайший сподвижник Франца-Иосифа. «…Обладая проницательным умом и будучи хитрым дипломатом, – писал по этому поводу авторитетный французский историк, – Бейст всегда питал весьма слабую веру в Наполеона III. Его неотступно преследовала навязчивая мысль, что этот монарх может завлечь его в ловушку, что, например, столкнув венский двор с Пруссией, он был бы способен покинуть союзника на произвол судьбы, чтобы с выгодой для себя договориться с этой державой. Бейст желал увлечь Францию на Восток. Франция же хотела, чтобы он скомпрометировал себя на Западе. Поэтому он не отвергал категорически предложений, передававшихся ему от имени Наполеона III австрийским представителем в Париже князем Рихардом фон Меттернихом, человеком, близким к тюильрийскому двору и ревностным сторонником австро-французского союза. Но он и не решался также принять их»[655]. В конечном счете, к началу франко-прусской войны сторонам не удалось договориться о создании единого фронта против Пруссии.
У Наполеона III оставалась еще надежда на Виктора-Эммануила II, для которого он в свое время так много сделал, превратив савойского герцога в короля Италии. Правда, возможности и ресурсы Италии были далеки от того, чтобы компенсировать отсутствие британской, австрийской или российской поддержки против Пруссии. К тому же, существовал крайне болезненный для франко-итальянских отношений «римский вопрос» – затянувшееся с 1848 г. нахождение французского гарнизона в Риме, где французы защищали суверенитет папы над Вечным городом. Итальянское правительство долго и настойчиво добивалось вывода иностранных войск из Рима, который предполагалось сделать столицей Италии. С большим трудом Виктору-Эммануилу удалось в конце 1866 г. убедить Наполеона эвакуировать римский гарнизон, чем не преминули воспользоваться республиканцы. В октябре 1867 г. отряды Дж. Гарибальди с молчаливого согласия итальянского правительства пересекли границу Тосканы и вторглись в пределы папского государства, где развернулось патриотическое восстание.
Энергично побуждаемый клерикальной партией во главе с императрицей Евгенией, Наполеон III санкционировал проведение военной операции по восстановлению власти папы в Риме. Высадившийся в Чивитавеккии французский экспедиционный корпус, соединившись с зуавами из папской гвардии, 3 ноября наголову разгромил 6-тысячный отряд гарибальдийцев под Ментаной, в двадцати километрах к северу от Рима, после чего власть папы была восстановлена, а французский гарнизон вновь обосновался в Вечном городе. Военная интервенция, вызвавшая волну протестов, как в Италии, так и в самой Франции, серьезно испортила франко-итальянские отношения. Когда Наполеон III летом 1870 г. окажется в критическом положении, его вчерашний верный союзник Виктор-Эммануил II не сделает ничего, чтобы помочь ему, а после Седанской катастрофы и падения Второй империи осуществит давнюю мечту итальянцев – превратит Рим в столицу Италии.
Болезненно ощущая угрозу изоляции, Наполеон после австро-прусской войны предпринимает попытку договориться с Пруссией, настаивая на компенсации с ее стороны за свой нейтралитет в недавно завершившейся австро-прусской войне. Более того, он почему-то счел, что может найти в лице короля Вильгельма сообщника в осуществлении своих аннексионистских планов в самом сердце Европы. В этом, по всей видимости, нашло отражение общее состояние упадка физических и душевных сил императора французов. Он явно не принял во внимание, что дело ему придется иметь не с благодушным прусским королем, а с его железным канцлером – Бисмарком.
Пребывая во власти иллюзий, Наполеон еще летом 1866 г. инициировал конфиденциальные переговоры с Пруссией, добиваясь ее согласия на передачу Франции герцогства Люксембург и прирейнских областей Ландау и Саарбрюккена[656]. Уклонившись от прямого ответа, Бисмарк усмотрел в этом неожиданном предложении удобную возможность серьезно скомпрометировать Францию перед ее соседями и другими европейскими державами. Он повел с Наполеоном тонкую игру, провокационно поощряя аннексионистские аппетиты императора французов. Зная о давних видах Наполеона на Бельгию, Бисмарк через посла в Париже графа Гольца довел до сведения императора, что Пруссия не стала бы возражать против присоединения франкоговорящих бельгийских провинций к Франции.
Наполеон с готовностью устремился в западню, ловко устроенную для него Бисмарком. Французский посол в Берлине граф Бенедетти получил полномочия вступить в переговоры о возможности заключения секретного военного союза между Францией и Пруссией. Не беря на себя никаких формальных обязательств, Бисмарк сумел заполучить через Бенедетти письменный текст французских предложений, относящихся к судьбе Бельгии и прирейнских княжеств, после чего постепенно стал сворачивать переговорный процесс. Бисмарк добился главного – компрометирующий Францию документ оказался у него в сейфе. Одновременно канцлер сознательно организовал утечку информации о конфиденциальных переговорах с Парижем по поводу Люксембурга[657], что стало поводом для обсуждения этого вопроса в северогерманском рейхстаге, высказавшимся против изменения статуса Люксембурга. С предложением гарантировать нейтральный статус Люксембурга весной 1867 г. выступила Россия, по инициативе которой в мае того же года была созвана международная конференция, подтвердившая нейтралитет герцогства, с территории которого должны были быть выведены прусские войска, находившиеся там со времени австро-прусской войны. Таким образом люксембургский вопрос был разрешен вовсе не так, того хотелось бы Наполеону III. Немалую роль в этом сыграл Бисмарк, которого Наполеон III без всяких на то оснований посчитал возможным союзником в исправлении границ в Европе.
Бисмарк же постарался довести до сведения Лондона намерения Франции в отношении Бельгии, тесно связанной, как и Голландия, с Англией. Все это серьезно подорвало и без того пошатнувшийся престиж Второй империи, создавая угрозу ее полной изоляции.
Утвердив главенство Пруссии в Северогерманском союзе, Бисмарк обратил взор в сторону католических государств Южной Германии, исторически близких к Австрии и Франции. Лишив Баварию, Баден, Вюртемберг и Гессен поддержки двух мощных соседей, Бисмарк предполагал без особых трудностей включить их в Северогерманский союз и завершить тем самым объединение Германии под короной Гогенцоллернов.
После разгрома в 1866 г. Австрии неизбежно наступала очередь Франции, главного соперника Пруссии в Европе. Французский посол в Берлине граф Бенедетти – тот самый, который еще вчера вел секретные переговоры с Бисмарком о военном союзе, – с начала 1868 г. регулярно сигнализирует в Париж о намерении Пруссии поглотить южногерманские государства, в чем посол усмотрел потенциальную военную угрозу для Франции. «Чем больше я анализирую поведение прусского правительства, – писал Бенедетти 5 января 1868 г., – тем больше убеждаюсь, что все его усилия направлены на то, чтобы утвердить свою власть над всей Германией. Каждый день приносит новые доказательства того, что оно с успехом следует по этому пути, будучи убежденным, что сможет достичь желанной цели, только нейтрализовав Францию» [658].
Нарастание угрозы со стороны Пруссии побуждало императора Наполеона принимать срочные меры по реорганизации французской армии и одновременно искать внешней поддержки, которую он в значительной степени утратил по собственной вине. Его взор вновь устремляется в сторону Александра II, который, как он полагал, несмотря на родственные связи с Гогенцоллернами, должен опасаться чрезмерного возвышения Пруссии. С Петербургом была связана последняя надежда Луи-Наполеона.
Граф Стакельберг и генерал Флери
Неожиданная отставка барона Будберга, которого он сумел расположить в свою пользу, озадачила императора французов. Кого Александр II определит на роль нового посла в Париже, и какими инструкциями снабдит его канцлер Горчаков? Будет ли преемник Будберга привержен линии на взаимодействие с Францией?
Царь не замедлил с назначением. Уже 23 апреля 1868 г., за десять дней до отъезда Будберга из Парижа[659], барон Талейран телеграфировал Мустье о намерении Александра II направить во Францию графа Э.Г. Стакельберга, посланника в Вене. Информируя французского посла
0 выборе императора, князь Горчаков, как это принято в дипломатической практике, просил его узнать, будет ли такой выбор одобрен Наполеоном III[660]? В тот же день барон Талейран получил от министра телеграмму следующего содержания: «Император разрешил мне дать вам знать, что назначение графа Стакельберга в качестве посла в Париже не вызовет никаких замечаний»[661]. Столь быстрая реакция Наполеона III свидетельствовала о его желании не допустить затягивания паузы в политических контактах с Александром II, который, со своей стороны, не замедлил с назначением нового посла[662].
Эрнест Густавович Стакельберг[663] родился 2 апреля 1813 г. в семье видного российского дипломата, действительного тайного советника и камергера, сохранившего верность протестантской конфессии. Его отец, Густав Оттонович (Густав Эрнст) Стакельберг (1766–1850) занимал посольские должности в Турине, Цюрихе, Гааге, Берлине, Вене и Неаполе, участвовал в Венском конгрессе 1814–1815 гг.
Выйдя в отставку в 1835 г., он поселился в Париже, где уже в преклонном возрасте завел роман с юной куртизанкой Альфонсиной Плесси (Мари Дюплесси), ставшей для Александра Дюма-сына (одного из ее любовников) прообразом Маргариты Готье из «Дамы с камелиями»[664].
Будущий посол получил домашнее воспитание, а в 1832 г. был зачислен фейерверкером в гвардейскую конную артиллерию, где, спустя два года, был произведен в прапорщики. Отправленный на Северный Кавказ, Стакельберг неоднократно принимал участие в боевых вылазках против горцев, был контужен. Начальство обратило внимание на храброго и старательного офицера. Его отзывают в Петербург, где он становится адъютантом военного министра графа А.И. Чернышева. В 1840–1841 гг. Стакельберг вновь на Кавказе, где за проявленные в боях отличия получает орден св. Владимира 4 степени и чин штабс-капитана. Он возвращается в Петербург на прежнюю должность. В 1843 г. Стакельберг был произведен в полковники и назначен исполнять при военном министре особые поручения.
В 1852 г. начинается дипломатическая деятельность, к тому времени уже генерал-майора Стакельберга, прикомандированного к посольству в Вене. В 1856 г. он получает первый самостоятельный пост, став чрезвычайным посланником и полномочным министром в Пьемонте. Прослужив в Турине пять лет, Стакельберг стал свидетелем австро-франко-итальянской войны 1859 г. и процесса присоединения Савойи и Ниццы к Франции. В это время у него установились тесные контакты с бароном де Талейраном-Перигором, посланником в Турине, а впоследствии – послом Франции в Петербурге.
В 1860 г. граф Стакельберг был пожалован в генерал-адъютанты, а в следующем году направлен посланником в Испанию. В 1862 г. он возвращается в Италию, где прослужит два года, после чего получит назначение в Вену.
Высочайшее распоряжение отправиться в Париж, последовавшее в апреле 1868 г., было для Стакельберга столь же неожиданным, сколь и приятным. Его многое связывало с Францией – воспитание на французский манер, родители, которые провели здесь долгие годы и похороненные в Париже, наконец, жена-француженка… Все это, видимо, дало основание парижским журналистам утверждать, что по культуре и вкусам Стакельберг – не столько немец или русский, сколько француз, любящий Францию и все французское[665].
Граф Стакельберг прибыл в Париж в июне 1868 г. в звании чрезвычайного и полномочного посла. Он не получил специальной инструкции, и должен был руководствоваться текущими указаниями канцлера Горчакова, общий смысл которых определялся необходимостью поддержания равновесия между Францией и Пруссией и сохранением за Россией свободы рук от всяких «преждевременных обязательств»[666].
В личном письме, адресованном Стакельбергу, князь Горчаков обращал внимание посла на желание императора содействовать «устранению любых поводов, способных вызвать конфликт между Францией и Пруссией», для чего следует оказывать умиротворяющее влияние на «партию войны» как в Париже, так и в Берлине. Со своей стороны, сообщал канцлер, император Александр делает все возможное в этом направлении в его личных контактах «с августейшим дядей», т. е. с прусским королем Вильгельмом I [667]. Соответственно в Петербурге ожидали, что граф Стакельберг будет всеми доступными способами побуждать императора Наполеона сдерживать активность «партии войны» в своем ближайшем окружении. Именно этому во многом будет подчинена деятельность нового российского посла в Париже.
В своих донесениях в Петербург Стакельберг сообщал о крайней озабоченности Наполеона судьбой соседних южногерманских государств, суверенитету которых, по его убеждению, угрожает Пруссия. После поражения Австрии в последней войне эта угроза становится все более очевидной. «Нельзя допустить, – подчеркивал император в разговоре с русским послом, – чтобы Австрия окончательно утратила свое влияние в Германии» и чтобы «южногерманские княжества были растворены в большой Германии». При этом Наполеон сослался на императора Александра, сказавшего ему в ходе его прошлогоднего визита в Париж, что река Майн «должна стать естественным барьером, разделяющим Германию на две части»[668]. На это Стакельберг ответил, что в создавшихся условиях лично он не видит средства остановить процесс объединения Германии[669].
Германская проблематика станет постоянной темой обсуждений графа Стакельберга как с императором, так и с его министром иностранных дел. В середине декабря 1868 г. маркиз де Мустье, более двух лет стоявший во главе французской дипломатии, по состоянию здоровья ушел в отставку Спустя полтора месяца он умер. На его место Наполеон III назначил маркиза Шарля де Да Валетта. С 1865 г. он был министром внутренних дел, а ранее возглавлял посольства Франции в Константинополе и при Святом престоле, считаясь креатурой т. н. «итальянской партии» в окружении императора. В Риме посол Да Валетт безуспешно старался примирить папу с молодым Итальянским королевством. Придя на Кэ д’Орсэ, маркиз де Да Валетт по поручению императора будет продолжать начатые еще до него секретные переговоры с Австрией о военном союзе против Пруссии[670].
Пытаясь договориться с Францем-Иосифом, Наполеон III одновременно все еще надеялся найти поддержку и у Александра II, что было для него особенно важно, учитывая тесные связи царя с королем Вильгельмом.
Эту ответственную миссию император доверил своему любимцу, генералу Флери, которого он направил в Петербург, чтобы сменить там барона Талейрана[671] в качестве посла Франции.
Известие о предстоящем отъезде Талейрана было для Александра II и Горчакова скорее ожидаемым, чем неожиданным. Когда граф Стакельберг поинтересовался у французского министра иностранных дел, чем вызвана замена посла, тот откровенно ответил, что, к сожалению, по многим признакам, барон Талейран не обладает в Петербурге тем авторитетом, на который мог бы рассчитывать представитель императора французов. Император Александр якобы дал это понять Наполеону III еще в апреле 1867 г., когда гостил в Париже. На полях депеши Стакельберга Александр II сделал в этом месте короткую запись по-французски: C’est vrai (Это правда)[672].
Теперь, продолжал французский министр, пожелание царя учтено. Император Наполеон «пожелал направить в Петербург известного человека, пользующегося его полнейшим доверием, способного укрепить узы дружбы двух правительств и рассеивать недоразумения, которые могли бы возникать между ними»[673].
При другой встрече министр иностранных дел особо подчеркнул, что генерал Флери – «близкий друг императора, и уже по этой причине он, как никто другой, способен укрепить дружеские связи и доверие между нашими странами»[674].
Первая половина сознательной жизни Эмиля Феликса Флери (18151884) была связана с военной службой, которую в 1838–1851 гг. он проходил в Алжире, участвуя в многочисленных экспедициях по «умиротворению» этой французской колонии. Здесь Флери близко знакомится с полковником А.Ж. де Сент-Арно, будущим маршалом Второй империи. На молодого способного офицера обращают внимание генерал-губернатор Алжира маршал Т.Р. Бюжо и сменивший его на этом посту герцог Омальский, сын короля Луи-Филиппа. В годы Июльской монархии капитан Флери был убежденным орлеанистом. Поэтому его обескуражила бездеятельность герцога Омальского, который, имея под ружьем боеспособную Алжирскую армию, не повел ее в марте 1848 г. на Париж, чтобы спасти трон своего отца и свергнуть Временное правительство.
В дальнейшем на политические взгляды Флери большое влияние оказал Жан-Жильбер Виктор де Персиньи, «исторический бонапартист», с которым будущий генерал познакомился еще в юности, когда короткое время находился в Англии. Тогда же Персиньи представил Флери Луи-Наполеону, проживавшему в Англии на положении эмигранта. «Именно Персиньи определил мою политическую судьбу», – признавался впоследствии Флери[675].
Подполковник Флери принял непосредственное участие в бонапартистском перевороте 2 декабря 1851 г., когда он был ранен при взятии Бурбонского дворца, парламентской резиденции. В ноябре 1852 г. Флери уже полковник. С провозглашением Второй империи он становится адъютантом Наполеона III и получает придворный чин первого шталмейстера, а позднее – обер-шталмейстера. В 1856 г. император производит его в бригадные, а в 1863 г. – в дивизионные генералы. Наполеон щедро осыпает Флери своими милостями. Он награждает его высшими степенями ордена Почетного легиона, вводит в Сенат, доверяет деликатные дипломатические миссии – в Турин, Копенгаген, Флоренцию, Петербург…
В ближайшем окружении Наполеона III генерал Флери был, пожалуй, единственным, кто оставался у него в фаворе на протяжении всей, без малого двадцатилетней истории Второй империи. Французские историки объясняют этот феномен личными качествами генерала – ясным, аналитическим умом, редкой способностью видеть реальную картину происходящего и предвидеть развитие событий. В отличие от большинства сановников Флери никогда не льстил императору, всегда был с ним откровенен, нередко противоречил Наполеону, если считал его мнение ошибочным. Надо отдать должное императору французов. Он не только терпел подобную независимость суждений Флери, но и дорожил ею. Перед принятием важных решений он часто советовался с ним, что, конечно же, не отменяло влияния других соперничавших группировок в императорском окружении.
Разумеется, уже только по названным причинам, Флери имел в Тюильри множество недоброжелателей, завидовавших его исключительному положению. Среди них была и императрица Евгения, видевшая в генерале соперника в борьбе за влияние на императора и испытывавшая к нему личную неприязнь[676].
Кто знает, если бы в самый критический для Наполеона III момент, связанный с развязыванием франко-прусской войны, генерал Флери продолжал оставаться рядом с ним, а не оказался бы в далеком Петербурге, быть может, он сумел бы предостеречь императора от роковых решений, навязанных его тогдашними безответственными советниками.
Так или иначе, но назначение генерала Флери послом в Петербург свидетельствовало о том, что император Наполеон связывал с доверенной ему миссией последние надежды на содействие Александра II, если не в устранении, то хотя бы в ослаблении угрозы со стороны Пруссии. Смена послов была произведена на редкость быстро, так как нарастание напряженности в отношениях между Парижем и Берлином не терпело затягивания с этим вопросом.
28 сентября 1869 г. генерал Флери был официально извещен министром иностранных де Ла Тур д’Овернем[677] о назначении послом в Россию. «Возлагая на вас эти функции, – писал министр, – Его Величество дает вам новое свидетельство своего уважения и благосклонности»[678]. 8 октября Флери получил верительные грамоты[679] и вскоре отправился в Петербург, предварительно нанеся визит своему коллеге, графу Стакельбергу[680].
В Петербург новый посол прибыл 5 ноября 1869 г., а спустя неделю, 13 ноября, получил первую аудиенцию у Александра II, которому вручил свои верительные грамоты. В отправленной в тот же день в Париж депеше Флери сообщал, что оказанный ему царем прием «был доброжелательным, простым и дружеским». В беседе, состоявшейся после официальной церемонии, как писал Флери, император Александр спросил посла, не виделся ли он во время остановки в Берлине с королем Вильгельмом?
«Нет, сир», – ответствовал Флери. «Меня это не удивляет, – заметил император, – я знаю от Рейса (прусский посол в Петербурге. – П.Ч.), что мой дядя весьма заинтригован вашей миссией при мне» [681].
Из продолжительного разговора с императором Флери вынес впечатление о крайнем недовольстве Александра II поведением Австрии, которая заигрывает с Турцией на почве антироссийской солидарности. Поражение в последней войне побудило Вену заняться урегулированием своих отношений с Венгрией, а также обратить взор на Восток, чем и объясняется наблюдающееся австро-турецкое сближение. Тем не менее, делал вывод Флери, есть определенные основания рассчитывать на содействие России в сохранении суверенитета княжеств Южной Германии, в чем заинтересованы как Франция, так и Австрия.
Самым важным для французского посла было прояснение позиции Александра II в германских делах. «Царь, – докладывал он в Париж по окончании беседы, – отчетливо сознает опасность, проистекающую для Европы от германской идеи, которая, в случае распространения, способна включить в сферу своего влияния все страны, где говорят на немецком языке – от Курляндии до Эльзаса»[682].
Здесь Флери, как и его руководство в Париже, явно переоценил степень беспокойства Петербурга в связи с подъемом пангерманизма, на чем французская дипломатия надеялась найти общую с Россией платформу для противодействия возрастающей мощи Пруссии[683].
Во всяком случае, основывать сотрудничество с Россией исключительно на базе совместного противостояния пангерманизму было серьезным просчетом со стороны Наполеона III и его дипломатических советников. У Второй империи были более реальные инструменты и возможности, способные осложнить особые отношения, сложившиеся в середине 1860-х гг. между Россией и Пруссией – взаимодействие в Восточном вопросе, который для Петербурга всегда имел первостепенное значение. Но именно в этом важном для Александра II и князя Горчакова вопросе Наполеон III не желал идти навстречу даже перед лицом смертельной угрозы со стороны Пруссии.
Что же касается нового посла Франции, то он с самого начала произвел благоприятное впечатление в Петербурге. «Он проявляет такт, осмотрительность и желание развивать и укреплять добрые отношения между нашими странами. Как в Зимнем дворце, так и в петербургских салонах, он чувствует себя очень комфортно», – делился своими впечатлениями о генерале Флери канцлер Горчаков в письме графу Стакельбергу[684].
Свою посольскую деятельность Флери начал с того, что попытался склонить Александра II к поддержке требования Наполеона III о возвращении Северного Шлезвига Дании в соответствии с 5-й статьей Пражского мира 1866 г., завершившего австро-прусскую войну. Согласно этой статьи, в Северном Шлезвиге, населенном преимущественно датчанами, должен был состояться референдум о том, хотят ли граждане этой провинции остаться в составе Дании или желают присоединения к Пруссии.
Наполеон делал расчет на прямые родственные связи российского императорского дома с правящей в Дании династией. Старший сын Александра II наследник-цесаревич Александр Александрович был женат на датской принцессе Дагмаре (Марии Федоровне). Тем не менее, ожидаемого вмешательства России в датско-прусский спор не произошло. На соответствующий запрос Горчаков ответил Флери, что «Россия, не вовлеченная в это дело, намерена сохранить за собой свободу действий»[685]. По мнению канцлера, если кто и может вмешаться в этот спор, то только Австрия, как сторона, подписавшая Пражский мирный договор. Единственное, что может себе позволить император Александр, так это в неофициальном порядке дать королю Вильгельму совет – ускорить решение этого вопроса в интересах сохранения мира.
Действительно, такой совет был дан царем, о чем сам Александр II сообщил генералу Флери в конце января 1870 г. «Его Величество объявил мне, – писал Флери министру иностранных дел, – что король Пруссии сообщил ему о возобновлении прерванных ранее переговоров с королем Дании в целях прекращения спора»[686].
Единственное требование его дяди, добавил при этом Александр II, состоит в получении гарантий для немецкого населения в спорной части Шлезвига. «Я могу вам гарантировать одно, – подчеркнул царь; – передайте императору Наполеону и вашему правительству, что Пруссия не предпримет ничего, что могло бы нарушить мир» [687].
В своем донесении об этой встрече генерал Флери, помимо прочего, сообщал о глубоком интересе, проявленном Александром II в связи с процессом реформирования Второй империи, инициированным Наполеоном II в январе 1870 г. Речь шла о проекте преобразования авторитарного бонапартистского режима в «либеральную империю». Этот проект был связан с именем нового главы тюильрийского кабинета Э. Олливье.
«…Мы решили ничего не предпринимать»
Выборы в Законодательный корпус, состоявшиеся во Франции 24 мая – 7 июня 1869 г., принесли победу левым бонапартистам и республиканцам, получившим в нижней палате парламента 150 депутатских мест (из 289)[688].
Результаты выборов взбодрили Наполеона III, страдавшего от одолевавших его недугов и подвергавшегося постоянному давлению консервативно-клерикальных кругов[689]. Они придали ему уверенности в давнем намерении реформировать в либеральном духе основанную им империю, которая должна была превратиться в парламентскую монархию. Император пришел к выводу, что ответственность за управление государством должны разделять с ним те политические партии, которые побеждают на выборах.
Эта попытка стала последним благим начинанием «последователя Сен-Симона», и она, наверное, могла быть успешной, если бы Наполеон не позволил в самом начале преобразований вовлечь себя в войну с Пруссией.
2 января 1870 г. император, отказавшись от непосредственного руководства работой правительства, чем он занимался с 1851 г., возложил обязанности главы кабинета на Э. Олливье.
Потомственный республиканец, Эмиль Олливье (1825–1913) со времени учреждения Второй империи принадлежал к оппозиции[690]. В 1857 г. он победил на парламентских выборах в департаменте Сена и вынужден был принести присягу на верность Наполеону III, чтобы получить возможность заседать в Законодательном корпусе. Тогда же Олливье женился на дочери композитора Ференца Листа. Она умрет родами в 1862 г. в возрасте двадцати шести лет. Вторично 44-летний Олливье женится в 1869 г. на 19-летней Мари-Терез Гравье, которая родит ему троих детей и станет его верной спутницей и незаменимой помощницей. В 1863 г. Олливье был переизбран в парламент, где отстаивал законопроект о праве на забастовку, одобренный императором. В Законодательном корпусе он обратил на себя внимание герцога де Морни и сменившего его во главе палаты графа Валевского. Кто-то из них, а, возможно, – «красный принц» Наполеон, организовал в 1865 г. личное знакомство энергичного и перспективного депутата с Наполеоном III. Следствием этого знакомства стал постепенный отход Олливье от республиканцев и его сближение с левыми бонапартистами.
Приняв предложение императора возглавить кабинет, Олливье получил согласие Наполеона III на то, что составит его из новых людей, принадлежащих к силам, победившим на прошедших выборах. В результате ему удалось сформировать центристское правительство, где он обеспечил за собой также портфель министра юстиции и культов. Два важных поста достались представителям левого центра. Министерство финансов возглавил Луи Бюффе. В 1851 г. он открыто выступил против переворота Луи-Наполеона, за что некоторое время провел под арестом.
Министерство иностранных дел было доверено Наполеону Дарю. Сын главного интенданта Великой армии, графа империи, крестник самого императора Наполеона, названный в его честь, Дарю-младший никогда не был бонапартистом. 2 декабря 1851 г. он осудил переворот и был даже арестован. После освобождения граф Дарю ушел в частную жизнь, из которой вышел только в 1869 г., когда был избран депутатом Законодательного корпуса, где вошел в либеральную фракцию.
Из первой встречи с новым министром иностранных дел русский посол Стакельберг вынес следующее впечатление о нем: «В делах он новичок, но это разумный, любезный и порядочный человек, придерживающийся умеренных взглядов»[691]. Граф Дарю заверил Стакельберга в твердом намерении правительства способствовать поддержанию мира в Европе, где оно рассчитывает на содействие со стороны России. Как истинный либерал, Дарю высказал поддержку важным преобразованиям, происходящим в России, и особенно отмене крепостного права[692].
Уже первые шаги кабинета Олливье, опиравшегося на поддержку Наполеона III, свидетельствовали о его широких планах по модернизации Второй империи. Шестимесячный период министерства Олливье остался в истории Франции под названием «Либеральная империя»[693].
В это время развернулась энергичная работа по реформе конституционного устройства Франции с целью перераспределения власти между императором и Законодательным корпусом в пользу последнего; было принято новое законодательство, расширяющее свободу прессы; отправлены в отставку префекты, вызывавшие аллергию у общества, среди них – казавшийся непотопляемым барон Жорж Эжен Османн, префект департамента Сена с 1853 г., известный не только перестройкой Парижа, но и своими жесткими авторитарными замашками; был амнистирован находившийся в изгнании Александр Ледрю-Роллен, один из вождей республиканцев 1848 года.
Олливье проявил очевидную смелость, приказав арестовать и отдать под суд кузена императора, принца Пьера-Наполеона Бонапарта, застрелившего в ссоре 10 января 1870 г. журналиста Виктора Нуара. А когда это убийство вызвало в Париже многотысячную антиправительственную демонстрацию, Олливье распорядился жестко подавить выступление непримиримой оппозиции. Аналогичную твердость вчерашний республиканец проявил и при подавлении беспорядков на заводах, принадлежавших семейству Шнейдеров в г. Крезо, в Бургундии. По его приказу были арестованы главные руководители французской секции Первого Интернационала, организовавшие выступление рабочих Крезо.
Направляющей идеей в деятельности Олливье на посту главы правительства было желание совместить принципы свободы и порядка, что соответствовало убеждениям и самого Наполеона III.
План либерализации Второй империи, разработанный Олливье, был вынесен на национальный плебисцит, состоявшийся 8 мая 1870 г. В его поддержку высказались 82 % голосовавших избирателей (7,3 млн. человек)[694]. Это был лучший показатель доверия к императору французов после 1852 г.
«Ты освящен этим плебисцитом», – удовлетворенно сказал Наполеон принцу «Лулу», своему сыну и наследнику[695]. Последнее время император все чаще задумывался о том, чтобы передать ему престол. В этом намерении его поддерживала императрица, имевшая на единственного сына преобладающее влияние.
Результаты голосования обескуражили республиканцев. «Империя сильна как никогда», – сокрушенно констатировал Леон Гамбетта, один из лидеров республиканской партии[696]. «Отныне можно уже не заниматься политикой», – вторил ему Жюль Фавр, другой республиканский лидер[697].
В закрепление достигнутого успеха Наполеон III 21 мая подписывает сенатус-консульт, провозгласивший новую систему управления. В стране вводился режим парламентской монархии; значительная часть властных полномочий, в частности принятие бюджета, передавалась нижней палате – Законодательному корпусу. За верхней палатой – Сенатом – закреплялись контролирующие исполнение законов функции.
В тот же день в парадном зале Лувра на приеме, где присутствовали все сановники империи, а также иностранный дипломатический корпус Наполеон III в своем выступлении подчеркнул: «Плебисцит не имел целью лишь ратификацию народом конституционной реформы. Он имел более высокий смысл…
Противники наших институтов предлагали сделать выбор между Революцией и Империей. Страна его сделала, высказавшись за систему, гарантирующую порядок и свободу. Отныне Империя утвердилась в своей основе. Она будет проявлять свою силу через свою сдержанность…
Она не свернет с избранного ею либерального курса…
Как никогда прежде, мы можем без страха смотреть в будущее»[698]. Императору вторил глава его кабинета. Выступая 30 июня 1870 г. в Законодательном корпусе, Олливье заверял депутатов: «Никогда прежде сохранение мира в Европе не было обеспечено более надежно, чем сейчас»[699]. Подобные заявления, помимо прочего, свидетельствовали о намерении Наполеона III и его правительства посвятить себя внутренним заботам по переустройству Второй империи, как никогда нуждавшейся во внешней стабильности.
В этом отношении характерно одно высказывание Наполеона, сделанное после неожиданного для всех ухода графа Дарю с поста министра иностранных дел в апреле 1870 г. Когда Олливье, будучи приверженцем миролюбивой внешней политики, высказал намерение лично возглавить дипломатическое ведомство, император, желавший, чтобы глава его кабинета целиком сосредоточился на внутренних делах, сказал ему: «Неважно, кто туда придет, поскольку мы решили ничего не предпринимать»[700]. В результате на Кэ д’Орсэ 15 мая был призван герцог А. де Грамон[701], отозванный из Вены, где долгое время он был послом Франции и где успел проникнуться пруссофобскими настроениями[702].
Независимо от мотивов, по которым Наполеон III сделал этот выбор, назначение Грамона в Министерство иностранных дел в момент, когда над Францией сгущались тучи, было одной из ошибок императора[703].
Тем не менее, после плебисцита 8 мая создавалось впечатление, что влияние «партии войны», действовавшей заодно с противниками «либеральной империи» из среды ортодоксальных (правых) бонапартистов, ослабло. Олливье удалось даже 30 июня провести через Законодательный корпус закон о сокращении численности армии. С одной стороны, эта мера позволяла уменьшить военные расходы, а с другой – демонстрировала Европе миролюбивые намерения Франции.
В действительности же, все было не так просто. Уже с первых шагов своей министерской деятельности Олливье встречал сопротивление противников и непонимание единомышленников и союзников. Для республиканцев он был ренегатом, для либералов из окружения Тьера – пособником Наполеона, а для бонапартистов так и не стал своим. Еще в апреле 1870 г. из команды Олливье ушли Дарю и Бюффе, представлявшие левоцентристские круги. Если бы правым удалось хотя бы временно блокироваться с левыми и левым центром, то правительство было бы обречено. Олливье ощущал нараставшее одиночество. В сущности, он мог опираться только на поддержку императора, пока что благоволившего к нему. Но сколь долго продлится эта поддержка?..
Между тем император, считая главное дело жизни свершенным, все больше сосредоточивался на своем расшатанном здоровье и все меньше уделял времени текущим делам. За последние годы он заметно постарел и утрачивал свойственные ему прежде энергию и живость ума. Он чувствовал себя совершенно одиноким, не встречая понимания ни у императрицы, ни у большинства старых соратников, не одобрявших его либеральных начинаний. Наполеон все больше уходил в себя, погруженный в тягостные мысли о неотвратимом приближении смерти. Его физическое и моральное состояние приобретало особое значение в то время, когда требовалось принимать срочные и продуманные внешнеполитические решения.
Не продвинувшись в создании франко-австро-итальянского блока, Наполеон III мог бы попытаться ослабить угрозу со стороны Пруссии путем сближения с Россией, хотя времени для этого практически уже не оставалось. Александра II и Горчакова можно было заинтересовать только одним – согласованной политикой на Востоке. Но именно в этом вопросе генералу Флери перед отъездом в Петербург было предписано вести себя предельно осмотрительно и не связывать Францию никакими обязательствами и обещаниями.
Между тем Горчаков с согласия Александра II сам инициировал обсуждение с новым французским послом восточных дел. В начале января 1870 г. канцлер пригласил Флери к себе и завел разговор о бедственном положении христиан в Оттоманской империи. Их положение, по убеждению Горчакова, можно было бы существенно улучшить путем согласованной политики России и Франции по отношению к Турции. При этом канцлер предусмотрительно подчеркнул, что у России нет намерений разрушать Турцию, чего так опасались в Париже, Лондоне и Вене.
Горчаков не скрыл от Флери, что его беспокоит антироссийская направленность деятельности посла Франции в Константинополе, часто идущая вразрез с официальными заявлениями своего правительства, а также привлечение в состав французских дипломатических и консульских представительств на Востоке польских эмигрантов. Канцлер не стал скрывать и своей озабоченности активной католической пропагандой среди восточных христиан[704].
Однако попытка Горчакова договориться на какой-то взаимоприемлемой платформе о согласованных действиях на Востоке успеха не имела. В ответ на свой запрос Флери получил от министра иностранных дел четкое указание не входить с Горчаковым в обсуждение восточных дел и тем более не затрагивать вопрос о ревизии Парижского договора 1856 г. «Вы понимаете, как важно не позволить склонить нас на эту почву, – наставлял Дарю посла. – Договор 1856 г. – это один из самых крупных и наиболее счастливых актов французской политики. Он регулирует положение на Востоке в духе, наиболее соответствующем нашим традиционным интересам и общим интересам Европы. Он стоил многих жертв, и без серьезных мотивов нельзя отказываться от достигнутого. Это – политический капитал»[705].
Когда генерал Флери попытался апеллировать в этом вопросе к Наполеону, он получил весьма двусмысленный ответ, поставивший его в тупик. «Все наши усилия, – писал император, – должны ограничиться тем, чтобы достигнуть согласия, скорее обменом мнений, нежели предложением конкретных проектов»[706]. Это означало, что Наполеон III даже перед лицом очевидной прусской угрозы не желал выполнять данное Александру II обещание содействовать в пересмотре Парижского мира.
У Флери могло, наверное, возникнуть ощущение, что император забыл о своем поручении – любой ценой добиться улучшения франкороссийских отношений перед угрозой со стороны Пруссии. Во всяком случае, он не получал от него никаких конкретных указаний способных облегчить выполнение этой задачи. А наставления, поступавшие от сменявших один другого министров[707], не давали послу необходимых полномочий для серьезного диалога с Горчаковым. «Сближение с Россией Наполеон готов был рассматривать лишь как конъюнктурную комбинацию, не связанную с жертвой общим направлением французской политики. Эта позиция официальных французских кругов облегчала бисмарковской дипломатии борьбу за нейтралитет России, – справедливо заметил по этому поводу авторитетный отечественный исследователь.»[708]
Генералу Флери не оставалось ничего другого, как исполнять рутинные посольские функции и изучать страну пребывания. Как и все его предшественники, он удивлялся самобытностью России и особенностями ее политической системы. «Со времени моего приезда в Санкт-Петербург, – писал Флери, – я был поражен тем, насколько глубоко Россия отличается от других государств Европы…».
От внимания французского посла не укрылась и активизация противников существующей власти, разбуженных реформами 60-х годов, что вызывало у Флери «обеспокоенность относительно будущего этой страны»[709]. Он даже поручил первому секретарю посольства маркизу Жозефу де Габриаку подготовить аналитическую записку о внутреннем положении России [710].
Пристальное внимание Флери уделял политическим взглядам наследника престола, великого князя Александра Александровича и настроениям при т. н. «малом дворе». Генерал пришел к выводу, что «великого князя с полным основанием можно отнести к русской партии и, следовательно, – к противникам прусской и всякой иностранной партии». Взгляды цесаревича, продолжал Флери, полностью разделяет его супруга, великая княгиня Мария Федоровна, особенно в неприязни к Пруссии, жертвой которой стала ее родина, Дания[711].
Бисмарк, продолжал Флери, хорошо осведомлен о настроениях «молодого двора» и всячески старается нейтрализовать его негативное для Пруссии влияние, тем более что он готовит визит короля Вильгельма в Петербург[712].
Внимание Флери привлекло и такое политическое явление, как необычайно популярные в России второй половины XIX в. идеи панславизма, к которым в Европе, особенно в Австрии и Турции, всегда относились настороженно. С некоторых пор, отмечал французский посол, панславизм стал вызывать опасения и у Пруссии, т. к. расширение влияния России на славянские и христианские народы Оттоманской империи не соответствует интересам прусской внешней политики. По мнению посла, нет оснований опасаться со стороны России «большого крестового похода» с целью освобождения балканских славян от турецкого господства. Для России, поглощенной внутренними преобразованиями, требующими огромных финансовых затрат, такой поход был бы не по силам, тем более в одиночку, т. к. она не найдет себе в этом союзников в Европе. Но панславистские настроения в сочетании с патриотическими могут представлять потенциальную угрозу не только для Австрии, но и для Пруссии, поэтому они заслуживают самого внимательного изучения[713].
Недвусмысленные советы и намеки Флери не были услышаны в Париже, где утвердились в решении «ничего не предпринимать».
Подчеркнутое миролюбие и безмятежность, возобладавшие в Тюильри с провозглашением либеральной империи, приветствовались Александром II и Горчаковым, которые всегда опасались неожиданных авантюрных предприятий императора французов. Угроза франко-прусского военного конфликта в Европе, обозначившаяся после 1866 г., пугала царя и канцлера, пытавшихся сделать все возможное для его предотвращения. В этом направлении российская дипломатия действовала как в Берлине, так и в Париже. При этом, как уже неоднократно отмечалось, политико-идеологические симпатии Петербурга после восстания 1863 г. в Польше склонялись в сторону Пруссии, демонстрировавшей определенность в отношении России и солидарность с ней, чего Горчаков тщетно добивался от Парижа.
С осторожным интересом встретив либеральные начинания во Второй империи, Александр II и его канцлер не заблуждались относительно их возможных последствий для достижения согласия между Россией и Францией. Во-первых, не было уверенности в успехе этих начинаний, связанных исключительно с личной инициативой Наполеона III. В Петербурге хорошо знали, что оппозиция его режиму не исчезла и даже не ослабла. Более того, к давним противникам императора из республиканских и либеральных кругов добавились новые – реакционноклерикальные. Все это не придавало устойчивости Второй империи, вставшей на путь либерализации, как не давало надежд на улучшение российско-французских отношений. «До тех пор, пока это правительство находится под постоянным двойным давлением – радикализма и клерикализма, которые одинаково враждебны нам, – констатировал Горчаков, – нет оснований рассчитывать на искреннее сотрудничество с его стороны» [714].
Подтверждением опасений официального Петербурга относительно внутренней неустойчивости режима Второй империи стало сообщение
Стакельберга о предотвращенном накануне плебисцита 8 мая 1870 г. покушении на жизнь Наполеона III[715].
Это была последняя депеша, подписанная российским послом в Париже. 11 мая в 4 часа утра граф Стакельберг скончался в результате инсульта. Перед смертью он два дня находился в параличе [716].
Похороны посла прошли в субботу, 14 мая, в присутствии официальных представителей императора Наполеона III и иностранного дипломатического корпуса. По окончании траурной церемонии, проведенной по протестантскому обряду, граф Стакельберг был захоронен в семейном склепе на кладбище Пер-Лашез – там, где двадцатью двумя годами ранее, упокоился его отец. В последний путь генерал-адъютанта Стакельберга провожал батальон пехоты французской императорской армии. А в православном Свято-Александро-Невском храме в тот день был отслужен молебен, хотя усопший и не был православным. 16 мая “Journal officiel” поместила на своих страницах некролог с описанием заслуг покойного и его похорон[717].
Временное руководство российской дипломатической миссией в Париже было возложено на статского советника Григория Николаевича Окунева (1823–1883). После добровольного выхода в отставку в ноябре 1869 г. В.Н. Чичерина он заменил его в должности советника посольства.
Сын генерал-лейтенанта Н.А. Окунева, участника Отечественной войны 1812 г., а впоследствии – временного Варшавского военного губернатора и пожизненного попечителя Варшавского учебного округа, Григорий Окунев по окончании курса в Петербургском университете в 1844 г. был определен в департамент внутренних сношений Министерства иностранных дел[718].
Спустя три года он становится старшим помощником столоначальника в Канцелярии МИД, в 1849-м получает чин титулярного советника и в том же году направляется младшим секретарем миссии в Риме. Там его отметят орденом папы Пия I и российским орденом ев. Анны 3-й степени. С ноября 1855 г. до апреля 1856 г. коллежский асессор Окунев будет исправлять должность временного поверенного при Римском и Тосканском дворах, после приезда посла он станет старшим секретарем миссии.
Когда барон Будберг в 1862 г. отправится послом в Париж, Окунев займет там должность второго секретаря посольства, а в 1867 г. – первого секретаря, получив одновременно чин надворного советника. Скачок в его карьере, как уже говорилось, произошел в конце 1869 г., кода он стал советником посольства, правой рукой графа Стакельберга.
В преемники внезапно скончавшегося Стакельберга в Петербурге избрали 72-летнего барона Ф.И. Бруннова, возглавлявшего в то время посольство в Лондоне. Горчаков успел даже составить для него инструкцию, утвержденную Александром II 18 июня 1870 г.[719], но Бруннов так и не успел выехать в Париж из-за начавшейся вскоре франко-прусской войны.
Волей обстоятельств в канун войны статский советник Григорий Николаевич Окунев останется в Париже главным официальным представителем России, став свидетелем развернувшихся там драматических событий.
Эскалация конфликта
Непосредственным поводом, послужившим отправной точкой в развязывании конфликта между Францией и Пруссией, стал вопрос о наследовании испанского престола, освободившегося после низложения в сентябре 1868 г. в результате революционных событий королевы Изабеллы II, бежавшей в Париж, к своей давней подруге, императрице Евгении.
Не видя способов вернуться к власти, Изабелла 25 июня 1870 г. формально отреклась от трона в пользу своего 12-летнего сына Альфонсо, находившегося при ней, во Франции. Однако права инфанта немедленно были оспорены, причем, с самой неожиданной стороны. 1 июля во всех европейских газетах появилось телеграфное сообщение из Испании о призвании на вакантный престол принца Леопольда Зигмаринген-Гогенцоллерна, родственника прусского короля.
Это сообщение произвело в Тюильри эффект разорвавшейся бомбы. Там немедленно вспомнили о кошмаре, преследовавшем правителей Франции с начала XVI в., когда Габсбурги объединили две короны – германскую и испанскую. Кошмар «габсбургского окружения» продолжался вплоть до окончания войны за Испанское наследство, когда в 1714 г. в Мадриде утвердилась династия Бурбонов.
Теперь история грозила повториться с той лишь разницей, что Франция рисковала оказаться в окружении Гогенцоллернов. Европе поспешили напомнить не только об исторических, но и о династических связях с испанскими Бурбонами и Орлеанами, ссылаясь на то, что сестра отрекшейся Изабеллы находилась в браке с герцогом де Монпансье, сыном короля французов Луи-Филиппа. В конце концов, и сама императрица Евгения по рождению принадлежала к испанской аристократии. Все это, по мнению французских придворно-клерикальных кругов, активно поощряемых императрицей, делало абсолютно неприемлемой кандидатуру Леопольда на испанский престол.
Когда 3 июля принц Леопольд, подталкиваемый Бисмарком, согласился принять предложенную ему корону, это вызвало во Франции широкое возмущение, охватившее и бонапартистов, и легитимистов, и либералов, и даже республиканцев. Все они не без оснований усмотрели в этом недопустимую провокацию со стороны Пруссии, которой должен быть дан решительный отпор.
Во власти этих воинственных настроений оказался и Наполеон III, пребывавший после победного для него майского плебисцита в умиротворенном состоянии. На экстренно созванном 6 июля в императорской резиденции Сен-Клу заседании Совета министров был заслушан доклад военного министра маршала Э. Лебёфа (Ле Бёфа), доложившего о полной боеготовности армии в случае начала войны, что, как вскоре выяснится, не соответствовало действительности. Со своей стороны, император в своем выступлении утверждал, что в военном столкновении с Пруссией Франция получит поддержку Австрии и Италии, хотя никаких формальных соглашений на этот счет с Веной и Флоренцией к середине 1870 г. достигнуто так и не было. Как Франц-Иосиф, так и Виктор-Эммануил на все запросы Наполеона давали лишь самые общие обещания. Для себя оба они давно и твердо решили, что вмешаются в войну только при благоприятном для Франции развитии военных действий.
На заседании правительства было решено выступить с официальным заявлением о неприемлемости кандидатуры Леопольда на занятие испанского престола. В Законодательное собрание в тот же день был отправлен министр иностранных дел герцог де Грамон, который выступил там с воинственной по содержанию и тональности речью. Хотя Пруссия не была им упомянута, всем стало ясно, о происках какой «иностранной державы» в Испании говорит министр. Грамон завершил свое выступление заверением в том, что Франция не допустит возрождения империи Карла V[720], и в случае необходимости «выполнит свой долг без малейших колебаний»[721].
Э. Олливье, глава кабинета, не разделявший воинственных настроений Грамона и большинства своих коллег, попытался как-то смягчить угрожающую тональность заявления министра иностранных дел. Выступая вслед за Грамоном, он заявил, что правительство «страстно желает мира»[722]. Однако его миролюбивая речь не имела успеха у депутатов, охваченных националистическим угаром. Разве что Адольф Тьер и некоторые его сторонники сохраняли еще способность трезво оценивать ситуацию, как и ограниченные возможности Франции. Умиротворяющую позицию Олливье разделял и принц Наполеон, вождь левых бонапартистов, но его мнение никогда не имело весомого значения для императора.
Но даже «пацифист» Олливье не смог пойти против охвативших общество пруссофобских настроений. На встрече с российским временным поверенным в делах глава кабинета выразил Окуневу надежду на то, что «интронизация Гогенцоллерна не состоится». «Если же попытаются ее осуществить, – добавил Олливье, – то Франция воспротивится этому всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Она никогда не согласится на то, чтобы прусский принц обосновался в Мадриде. В этом отношении правительство действует в полном согласии с обществом. Франция, безусловно, желает мира, но ее материальные интересы, как и ее достоинство, не потерпят того, чтобы на троне Испании утвердился член прусской королевской семьи»[723].
Комментируя состоявшийся у него с Олливье разговор, Окунев писал Горчакову: «Создается впечатление, что французское правительство сожгло свои корабли. Ключ от разрешения возникшей ситуации находится теперь не в Париже, а в Берлине и в Мадриде»[724].
В условиях обострявшегося с каждым днем кризиса Наполеону III важно было прояснить позицию Александра II. Он, разумеется, знал о неофициальной встрече царя и Горчакова с Вильгельмом и Бисмарком в курортном городке Эмс 1–4 июня 1870 г., но не имел достоверной информации о содержании состоявшихся там переговоров, а главное – об их итогах[725]. Поэтому генерал Флери получил указание безотлагательно встретиться с Горчаковым и обсудить возникшую ситуацию. Встреча состоялась вечером 6 июля.
Флери повторил канцлеру уже не раз уже высказывавшийся им тезис об обоюдной незаинтересованности Франции и России в продолжающемся расширении территории Пруссии, что содержит прямую угрозу для соседних государств. Горчаков не возражал против такой постановки вопроса, высказав заинтересованность установлении «сердечного согласия» между Петербургом и Парижем, но при этом заметил, что «Франция остается должником России», что она до сих пор не дала никаких доказательств своего желания согласованно действовать с ней в восточных делах. Канцлер не стал скрывать также, что Россия давно перестала надеяться на помощь Франции в пересмотре договора 1856 г. В Петербурге понимают, сказал он, что император Наполеон не может действовать в этом серьезном вопросе в одиночку, без одобрения со стороны Англии[726].
Горчаков, разумеется, не стал посвящать Флери в секреты недавних переговоров в Эмсе, где Александр II заручился обещанием Вильгельма I помочь ему освободиться от ограничений Парижского мира в обмен на нейтральную позицию в противостоянии Пруссии с Францией. Вопрос заключался в том, о каком нейтралитете идет речь – о равноудаленном по отношению в Берлину и Парижу, или о благожелательном к одной из сторон? Впрочем, генералу Флери в Петербурге, как Наполеону III в Париже, нетрудно было догадаться, на чьей стороне окажутся симпатии Александра II в случае войны.
И все же, Россия не была заинтересована в войне, старалась не допустить ее, и пыталась оказывать умиротворяющее воздействие на обе конфликтующие стороны. Когда Горчаков сообщил Флери о том, что император Александр направил в Берлин «энергичные представления с целью отговорить короля Вильгельма от дальнейших шагов» по обострению ситуации[727], он говорил правду. Действительно, царь настойчиво внушал своему дяде, что следует отказаться от поддержки кандидатуры принца Леопольда на испанский престол, что нельзя ради этого ставить под угрозу мир в Европе[728].
Вместе с тем, главную ответственность за разжигание войны в Петербурге возлагали на Наполеона III, занявшего непримиримую, откровенно вызывающую позицию в инциденте с Леопольдом Зигмаринген-Гогенцоллерном, сделавшую невозможным мирное посредничество, с которым пыталась выступить Россия[729].
Подобная убежденность Александра II и канцлера Горчакова в виновности Наполеона была оправданной далеко не в полной мере, если учесть осознанно провокационное поведение Бисмарка, действовавшего в канун войны на собственный страх и риск, без оглядки даже на короля Вильгельма, которого он считал недостаточно твердым в отстаивании интересов Пруссии. В наиболее яркой форме провокационная роль Бисмарка проявилась в известном эпизоде с «Эмсской депешей», что послужило непосредственным поводом к началу франко-прусской войны[730].
7 июля 1870 г. посол Франции в Берлине граф Бенедетти получил указание незамедлительно встретиться с королем Вильгельмом, который в то время проходил курс водолечения на курорте в Эмсе. Посол отправился в Эмс и сумел добиться аудиенции, несмотря на возражения гофмаршала королевского двора, ссылавшегося на плохое самочувствие короля.
9 июля Вильгельм весьма любезно принял Бенедетти, который передал ему требование императора Наполеона о снятии кандидатуры Леопольда Гогенцоллерна. Король ответил, что ни он, ни его правительство не имеют отношения к этому делу, но, как глава династии, он может лишь посоветовать принцу отказаться от притязаний на испанскую корону. Вильгельм I выполнил свое обещание и получил по телеграфу согласие принца, о чем проинформировал французского посла. Все это произошло в отсутствие Бисмарка, который все это время оставался в Берлине.
Казалось бы, инцидент, грозивший войной, был исчерпан. Но Наполеон, подталкиваемый военно-придворной кликой, совершает роковую ошибку. Он настаивает на официальных гарантиях со стороны короля Пруссии полного и окончательного отказа Леопольда от притязаний на испанский престол, как в настоящее время, так и на будущее. Бенедетти было приказано любой ценой получить такого рода письменные гарантии. Утром 13 июля ему удается вновь встретиться с королем, которого, естественно, возмутило новое требование императора французов. Тем не менее, Вильгельм спокойно объяснил послу, что он одобряет отказ Леопольда, но больше ничего сделать не может. На этом аудиенция была завершена.
Вернувшись в посольство, Бенедетти обнаружил у себя на столе только что полученное по телеграфу из Парижа категорическое требование безотлагательно добиться от короля Пруссии требуемых письменных гарантий. Посол тут же попросил о новой аудиенции, в чем ему было отказано по причине подготовки короля к предстоящему отъезду, накануне которого Вильгельм распорядился отправить Бисмарку телеграфную депешу с кратким изложением его бесед с послом Франции.
И все же Бенедетти удалось увидеться с королем, которого он буквально подкараулил на перроне железнодорожного вокзала Эмса перед отправлением поезда. Вильгельм не мог уклониться от разговора, продолжавшегося две-три минуты. Он повторил послу то, что сказал накануне и добавил, что дальнейшие переговоры на эту тему можно будет продолжить в Берлине.
Шифрованная телеграмма из Эмса была получена Бисмарком вечером 13 июля, когда он сидел за обеденным столом с военным министром графом А. фон Рооном и начальником прусского генерального штаба Г. фон Мольтке. Все трое были потрясены тем, что король мог пойти навстречу столь дерзким и оскорбительным требованиям Франции. Министр-президент поинтересовался мнением своих гостей о степени боеготовности прусской армии. Получив от них утвердительные ответы, Бисмарк удалился в соседнюю комнату, где, внимательно изучив депешу, исправил в ней несколько слов, после чего вернулся к гостям и зачитал отредактированный текст. «Посол Франции просил в Эмсе Его Величество разрешить ему телеграфировать в Париж, что Его Величество берет на себя обязательство никогда впредь не поддерживать кандидатуру Гогенцоллерна, – говорилось в переписанном Бисмарком документе. – Его Величество король отказался затем еще раз принять французского посла и приказал дежурному адъютанту передать ему, что он не имеет ничего более сообщить»[731].
Роон и Мольтке были потрясены инициативой Бисмарка, но радостно ее одобрили. Было решено немедленно передать фальсифицированную депешу в прессу и переслать ее во все прусские дипломатические миссии за рубежом. По буквальному ее смыслу отредактированная Бисмарком депеша внешне была правдоподобной, но чисто протокольному отказу занятого отъездом короля в очередной раз принять посла Франции была придана оскорбительная по отношению к Франции тональность. Любой ценой Бисмарк хотел спровоцировать Наполеона III на войну, но ее инициатором и, соответственно, нарушителем спокойствия в Европе должна была предстать Франция. Так оно и произошло.
«Эмсская депеша» была опубликована в утренних немецких газетах уже 14 июля. Ее текст по телеграфу немедленно воспроизвели все европейские информационные агентства. В Тюильри, в правительстве и в Законодательном корпусе телеграфное сообщение вызвало настоящее смятение, сменившееся в течение дня патриотическим угаром, во власти которого оказалась подавляющая часть общества. На улицах стали собираться толпы людей, выкрикивавших: «На Берлин!». Перед зданием посольства Пруссии многотысячная толпа распевала «Марсельезу». Прусский посол фон Вертер 14 июля срочно был отозван Бисмарком в Берлин «для консультаций», что только подлило масла в огонь[732].
Совет министров, Законодательный корпус и Сенат проводили экстренные заседания. Наполеона, готовившегося в это время к операции по удалению камней в почках, осаждала императрица Евгения. Она требовала немедленно объявить Пруссии войну. Император колебался. Его сомнения разделяли принц Наполеон, принцесса Матильда и Эмиль Олливье, не верившие заверениям маршала Лебёфа о готовности армии и резервов к началу военных действий[733]. Но под бешеным напором дворцовых и уличных «патриотов» Наполеон вынужден был отступить. Он санкционировал правительственный запрос в парламент о срочном выделении военных кредитов.
В то время как Сенат единодушно пошел на поводу у двора и общественных настроений, выказав готовность к войне, в Законодательном корпусе такая перспектива вызвала возражения у ряда депутатов из левого центра. С яркой предостерегающей речью выступил А. Тьер, призвавший своих коллег не принимать сгоряча решений, которые могут стать необратимыми. Но его голос утонул в криках большинства. Все ждали, что скажет от имени правительства его глава. Переступив через себя, «пацифист» Олливье произнес фразу, за которую будет оправдываться до конца своих дней. «С этого дня я и мои коллеги, берем на себя очень большую ответственность, и мы возлагаем ее на себя с легким сердцем…» – напыщенно заявил он, обосновывая позицию правительства в пользу войны[734]. В действительности, уже тогда он стал думать об отставке, чтобы переложить эту ответственность на чужие плечи. Такая возможность ему представится очень скоро – 10 августа 1870 г., когда подавляющим большинством голосов Законодательный корпус выразит вотум недоверия кабинету Олливье[735].
В результате 245 депутатов Законодательного корпуса проголосовали за выделение на предстоящую войну затребованных правительством кредитов. Нашлось лишь 10 депутатов, которые осмелились высказаться против мнения подавляющего большинства; 7 человек воздержались при голосовании[736].
До официального объявления войны оставалось еще четыре дня. Все это время, как и в предыдущие дни, предпринимались энергичные, скрытые от посторонних глаз, усилия по дипломатическому урегулированию франко-прусского конфликта. Никто в Европе не был тогда заинтересован в новой войне, и каждая из влиятельных держав пыталась охладить воинственный пыл в Париже и Берлине.
Свои предостережения Парижу высказал британский кабинет, посоветовавший не раздувать конфликт и искать пути его компромиссного разрешения. Ему, как и Берлину, 15 июля было предложено английское посредничество в урегулировании конфликта, однако это посредничество было отклонено Францией и Пруссией. Не имела успеха и миротворческая попытка Австро-Венгрии, опасавшейся втягивания ее в войну, к чему Наполеон III давно склонял Франца-Иосифа.
Не осталась в стороне от поисков спасения мира и Россия, предложившая в разгар кризиса созвать международную конференцию. Когда российский временный поверенный в делах Г.Н. Окунев 14 июля поинтересовался мнением на этот счет герцога де Грамона, министр иностранных дел, хотя и не отверг в принципе возможность ее созыва, тем не менее, выразил скептицизм в отношении успеха конференции. «Пруссия хочет войны, и она ее получит», – подчеркнуто уверенно заявил Грамон. При этом он добавил, что конференция может стать полезной после окончания войны, в исходе которой министр нисколько не сомневался [737].
О попытках России предотвратить сползание к войне сообщал в Париж генерал Флери. В телеграфной депеше, датированной 11 июля, он писал о срочном отъезде в Берлин Горчакова с личным письмом царя к прусскому королю. Горчакову, как сказал Флери сенатор В.И. Вестман, временно замещавший канцлера в Министерстве иностранных дел, император Александр «поручил сделать самые миролюбивые внушения» своему августейшему дяде. При этом, добавил Вестман, в Петербурге очень рассчитывают на «восприимчивость Франции» к миролюбивым усилиям России[738].
12 июля у Флери произошла короткая встреча с самим императором. Александр II заверил французского посла в желании сделать в пределах своих возможностей все для предотвращения войны, которая, по его словам, «стала бы общеевропейским бедствием, выгоду из которого извлекла бы революция»[739].
Миротворческая миссия Горчакова в Берлине не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий из-за громкой истории с «Эмсской депешей» и вызывающей реакции на нее в Париже. «Вы думаете, что у вас одних есть самолюбие», – раздраженно заметил Александр II генералу Флери, когда узнал о голосовании 15 июля в Законодательном корпусе[740]. Это означало, что Россия прекращает любое посредничество между конфликтующими сторонами, считая его бессмысленным.
В отчете МИД за 1870 год Горчаков возложил главную вину за развязывание войны на Наполеона III, последовательно отклонявшего «дружеские советы и предложения», которые давали ему из Петербурга. Это, как подчеркнул канцлер, «не позволило установить между Францией и нами подлинного согласия, которое могло бы сохранить равновесие и мир в Европе»[741].
19 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии, выступив, как о том мечтал Бисмарк, в роли нарушителя европейского мира. Чтобы окончательно скомпрометировать Наполеона III, Бисмарк извлек из сейфа написанный рукой Бенедетти еще в 1867 г. проект франко-прусского оборонительного и наступательного союза, предполагавшего аннексию Францией Люксембурга и большей части Бельгии. Это был тяжелый удар по, уже и без того подмоченной, международной репутации императора французов.
Французский посол в Петербурге пытался и в этих условиях найти здесь возможных союзников, способных склонить Россию хотя бы к благожелательному нейтралитету, как это было в 1859 г., хотя сам Флери сомневался в успехе. За день до объявления войны он направил в Париж шифрованную телеграмму, в которой высказал свое мнение по этому поводу[742]. Флери говорит о существовании двух партий в окружении Александра II – пруссофилов и франкофилов. С сожалением посол констатирует, что сам император, по семейным связям, воспитанию и политическим интересам – несомненный пруссофил. Напротив, цесаревич Александр Александрович и весь «малый двор» не любят Пруссию и симпатизируют Франции. Франкофильские настроения широко распространены и в русской армии. Но все это, по убеждению посла, ровным счетом ничего не значит, так как в России «все решает только царь».
Флери обращает внимание своего правительства на то, как сильно русское общество и пресса привержены идее пересмотра Парижского мира 1856 г., и в интересах Франции поддерживать эту веру, как и надежду на содействие с ее стороны. Между строк этой депеши можно было прочитать сожаление о том, что до сих пор Франция не оправдала этих надежд, что разочаровало Россию и побудило ее пойти на сближение с Пруссией.
Тем не менее, посол считал возможным попытаться оказать влияние на русское общество через прессу, для чего запросил разрешения использовать имеющиеся у него финансовые средства для подкупа петербургских редакторов и журналистов. Уже через день он получил согласие министра иностранных дел, санкционировавшего расходование на эти цели 10 тыс. франков[743].
Одновременно Флери получает указание всеми средствами добиваться от России в той или иной форме поддержки Франции. Посол считает эту миссию невыполнимой, о чем прямо говорит в шифрованной телеграмме в Париж. «То, что вы от меня требуете, – ответил Флери, – чрезвычайно трудно осуществить, так как поставленная задача находится в полном противоречии с политикой петербургского кабинета» [744].
Видимо, убежденность посла вернула министра иностранных дел на почву реальности. В очередной шифровке, датированной 23 июля, Грамон приказывает Флери добиваться «строгого и безусловного нейтралитета» России[745]. Впрочем, это распоряжение опоздало, по меньшей мере, на несколько часов.
22 июля, на четвертый день войны, Россия объявила о своем нейтралитете, не раскрывая, конечно, секретных договоренностей с Пруссией
0 том, что этот нейтралитет будет благожелательным по отношению к Берлину. Впрочем, завеса над тайной висела совсем недолго. Когда пошли разговоры о возможном выступлении Австро-Венгрии на стороне Франции, российский поверенный в делах в Париже Окунев посетил герцога де Грамона и объявил ему, что сохранение нейтралитета России напрямую связано с нейтралитетом Австро-Венгрии. «Если Австрия начнет вооружаться, то Россия сделает то же самое; если же Австрия нападет на Пруссию, то Россия атакует Австрию», – подчеркнул Окунев[746].
Столь редкая в дипломатической практике откровенность не оставляла никаких иллюзий относительно позиции России в начинавшейся войне.
Несколькими днями ранее, в конфиденциальной записке, отправленной в Петербург, Окунев попытался объяснить причины, толкнувшие Наполеона III на войну с Пруссией[747]. Истоки конфликта русский дипломат усматривал, с одной стороны, в династических интересах одолеваемого болезнями Наполеона, озабоченного судьбой своего трона, предназначенного для 14-летнего императорского принца. Еще при жизни император французов хотел обеспечить сыну уверенное царствование, обеспеченное блестящими результатами плебисцита 8 мая 1870 г., установившего во Франции режим парламентской монархии.
С другой стороны, полагал Окунев, победа Пруссии над Австрией в 1866 г., при полном бездействии Франции, создала новую угрозу для Второй империи. Этот «дамоклов меч» повис над ней и в любой момент мог нанести смертельный удар. Осознав ошибку, допущенную в 1866 г., Наполеон стал искать любого повода для ликвидации прусской угрозы, в том числе, военным путем. При этом его мало заботило, что франкопрусская война могла бы дестабилизировать обстановку во всей Европе. Таким образом, заключал свои размышления Окунев, интересы европейского мира были принесены в жертву «личным и династическим интересам» Наполеона III, который «несет главную ответственность за войну». Эту ответственность разделяет с ним его правительство и Законодательный корпус.
Так или иначе, с объявлением войны дипломаты уступили место генералам, которые, как это бывало во все времена, давно рвались в бой. Теперь многое зависело от их талантов, а в еще большей степени – от материальных возможностей Франции и Пруссии, от подготовленности и боеспособности двух армий.
Падение империи
28 июля Наполеон III, сопровождаемый 14-летним императорским принцем, облаченным в мундир младшего лейтенанта пехоты, выехал в Мец, где расположился штаб армии. Император, разумеется, не знал, что ему не суждено вернуться в столицу. Решение взять на себя командование было очередной его ошибкой. Все грядущие поражения будут теперь связаны лично с ним, а его отсутствие в Париже в самый критический момент облегчит и ускорит падение режима, у руля управления которым с отъездом Наполеона окажется императрица Евгения, назначенная регентшей. Именно она будет председательствовать в Совете министров, проявляя безответственность и некомпетентность, что только усугубит ситуацию[748].
Французская Рейнская армия, сосредоточенная вдоль Среднего Рейна между Мецем и Страсбургом, насчитывала 265 тыс. человек, сведенных в восемь корпусов[749]. Поспешная мобилизация и сопутствующая ей неразбериха выявили множество серьезных недостатков в области вооружения, снабжения и дисциплины. Оставлял желать лучшего и высший командный состав армии. Крайне неудачным был выбор маршала Лебёфа на роль начальника штаба армии. Прослуживший всю жизнь в артиллерии, Лебёф не знал тонкостей штабной работы. Некомпетентным оказалось и его ближайшее окружение. И, наконец, Франция поспешно вступила в войну в полном одиночестве, не имея союзников.
Совсем иная картина наблюдалась у пруссаков, заранее заручившихся военной поддержкой со стороны Вюртемберга, Бадена и Саксонии, направивших в армию Пруссии значительные воинские контингенты. Даже в численном отношении прусская армия (450 тыс.) значительно превосходила французскую, не говоря уже о блестящей организации управления, вооружения и снабжения. Во главе ее (в качестве начальника штаба при короле Вильгельме I) стоял выдающийся стратег, генерал Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке, в 1866 г. разгромивший австрийцев.
Первоначальный замысел Наполеона III состоял в стремительном вторжении в Германию, но, изучив на месте реальное положение дел, он понял, что это невозможно. Император принял решение провести ограниченную операцию в районе приграничного города Саарбрюккен. 2 августа войска генерала Ш.О. Фроссара сумели овладеть городом, но не стали развивать успех, остановив продвижение вглубь Саара.
В дальнейшем инициатива полностью перешла к пруссакам. Уже 4 августа под Вейсенбургом они разбили дивизию генерала А. Дуэ, который был смертельно ранен, а 6 августа у Верта нанесли поражение 1-му корпусу маршала М.Э. Мак-Магона и у Шпихерна – 2-му корпусу генерала Фроссара, вынужденного оставить Саарбрюккен. Эти два поражения открыли прусской армии дорогу на Эльзас, создав угрозу для Страсбурга.
Наполеон пребывал в подавленном состоянии, усугублявшимся острыми болями в пояснице, не позволявшими ему ездить в седле. Он начинает подумывать о возвращении в Париж, но почему-то не делает этого. Между ним и Лебёфом возникают разногласия. Император, озабоченный перспективой прусского наступления на Париж, предлагал отступить в Шампань, где в районе Шалона происходило сосредоточение войск, прибывавших из других районов Франции, и создать там мощный барьер на пути в столицу. Лебёф настаивал на немедленном контрнаступлении. Вскоре он оставил пост начальника штаба армии.
А в Париже в это время начинают разгораться политические страсти, подогреваемые сообщениями о неудачах французской армии. У крайне левых из среды республиканцев появляются пораженческие настроения. Теперь они желают победы Пруссии, чтобы воспользоваться ею для свержения Второй империи. Однако в обществе преобладают пока патриотические настроения. Императрица вызывает в Тюильри министров, председателей обеих палат и своих советников. Было принято решение о введении в столице осадного положения, призыве в армию старших возрастных групп и необходимости выделения дополнительных военных кредитов. Эти вопросы 9 августа должны быть поставлены на голосование в парламенте.
Евгения принимает также делегацию депутатов из числа правых бонапартистов. Они требуют немедленной отставки кабинета Олливье. Со своей стороны, глава правительства настаивает на срочном возвращении императора в Париж и аресте лидеров «пораженцев» – Жюля Фавра и Жюля Ферри. Евгения отказывается писать письмо императору, заявив, что его возвращение в столицу может быть расценено как бегство из армии. Олливье стоит на своем. Он пытается доказать, что, находясь в армии, больной император лишь сковывает инициативу военного командования, мешает ему. Но императрица непреклонна. По ее мнению, император может и должен вернуться в столицу только победителем.
9 августа, выступая в Законодательном корпусе, Олливье настойчиво доказывает депутатам, что война не проиграна, что первые неудачи не должны деморализовать нацию, что значительная часть армии даже еще не вводилась в сражения. Он призывает к сплочению и поддержке правительства по организации обороны, но его уже не слушают. Правые, объединившись с центристами, требуют отставки кабинета Олливье и сформирования нового правительства. Подавляющим большинством голосов кабинету отказано в доверии. Формирование нового правительства императрица поручила 75-летнему дивизионному генералу, графу Шарлю де Паликао, получившему также портфель военного министра. Это назначение, помимо прочего, было воспринято в обществе и как отказ от либеральной империи в пользу авторитарной.
Новое правоцентристское правительство начало с принятия ряда срочных мер по созданию оборонительной линии на северо-восточных подступах к Парижу и с выпуска военного займа на 1 млрд, франков. Были жестко подавлены отдельные попытки крайне левых дестабилизировать обстановку в Париже, жители которого в подавляющей массе продолжали сохранять спокойствие.
Тем временем французские войска были реорганизованы в две армии. Первая, расположенная к востоку от г. Шалон-сюр-Марн (отсюда и ее название – Шалонская), была подчинена маршалу Мак-Магону. В расположении этой армии находился и император Наполеон. Во главе второй, Рейнской армии, рассредоточенной в районе между Саарбрюккеном и Страсбургом, 12 августа был поставлен маршал Ф.А. Базен, участник Крымской, Итальянской и Мексиканской кампаний.
В результате двух сражений, состоявшихся 16 и 18 августа при Вьонвиле – у Марс-Ла-Тура и у Сен-Прива – Гравелота – на левом берегу р. Мозель, войска Рейнской армии во главе с Базеном, вынуждены были отступить в Мец, где они были блокированы пруссаками.
Русский дипломатический представитель в Париже Окунев уже 16 августа зафиксировал в столице «первые признаки серьезного обострения ситуации вследствие поражения армии на Рейне»; он отметил при этом возникновение «все более очевидной угрозы для судьбы династии». «В моральном отношении, – подчеркнул Окунев, – можно было бы сказать, что династия уже пала. Она потеряла опору не только в обществе…, но и в армии. Единственно победа могла бы отсрочить падение Наполеона, точно так же как поражение – ускорить его низвержение. Судя по всему, и сам император уже не питает на этот счет никаких иллюзий; говорят, что он теперь ищет смерти на поле боя»[750].
Наполеон колебался – идти ли ему на помощь блокированному в Меце Базену, или двинуть Шалонскую армию для защиты Парижа, куда, как он полагал, устремится Мольтке. Когда император склонился к решению отступить к столице, Евгения, поддержанная генералом Паликао, категорически высказалась против этого намерения, настаивая на прорыве блокады Меца и спасении остатков армии Базена. А обороной столицы, убеждала императрица, займется назначенный ею новый военный губернатор Парижа генерал Л.Ж. Трошю.
Наполеон, морально сломленный преследовавшими его неудачами, согласился последовать совету императрицы и приказал Мак-Магону двинуть армию из Реймса на Мец, но почему-то избрал не прямой, а окольный путь – через г. Седан. Перед выступлением он благоразумно отправил принца «Лулу» к матери, в Париж.
Упреждая действия Наполеона и Мак-Магона, Мольтке, успевший к тому времени сформировать новую, Маасскую, армию, двинул ее во взаимодействии с 3-й армией наперерез французским войскам. В районе Седана, у самой границы с Бельгией, пруссакам удалось взять Шалонскую армию в кольцо окружения. На рассвете 1 сентября прусская армия начала штурм Седанской крепости, за которой укрылись французы. 540 орудий вели непрерывный обстрел, нанося защитникам тяжелые потери. В самом начале обстрела тяжелое ранение получил маршал Мак-Магон. Император Наполеон, словно играя со смертью, появлялся в самых опасных местах. Трудно было понять – хочет ли он своим присутствием подбодрить солдат и офицеров, или ищет смерти. Сопровождавший его адъютант был убит осколками разорвавшегося снаряда. Но сам император оставался невредим.
В 13 часов, желая остановить массовое убийство, он распорядился прекратить сопротивление, однако генералы впервые ослушались императора. Обстрел продолжался еще несколько часов, пока, наконец, на полуразрушенной стене крепости не появился белый флаг.
Двум прусским офицерам, явившимся для ведения предварительных переговоров, Наполеон передал письмо, адресованное королю Пруссии. «Сир, брат мой, – писал император, – лишенный возможности умереть во главе моих войск, я вынужден передать мою шпагу в руки Вашего Величества»[751].
Это письмо повергло Вильгельма I в изумление. Король не знал, что Наполеон находился в осажденной крепости. Что касается Бисмарка и Мольтке, то они не скрывали своей радости по случаю того, что император французов оказался в числе военнопленных, общая численность которых достигала 100 тыс. человек.
2 сентября Наполеона III сопроводили к королю Вильгельму, с которым они обсудили условия капитуляции и судьбу военнопленных. Вечером того же дня император отправил телеграмму императрице, где сообщил о своем пленении. Затем его с почетом сопроводили в замок Вильгельмзёе, в Вестфалии. Там он пробудет до марта 1871 г., когда после подписания прелиминарного мирного договора получит возможность покинуть Германию и отправиться в изгнание в Англию.
Когда императрица Евгения получила от мужа телеграмму, у нее случился нервный срыв. Она плакала и кричала, что все это неправда, что ее обманывают. Между тем новость о катастрофе в Седане стала быстро распространяться по Парижу. Собравшаяся в ночь с 3 на 4 сентября нижняя палата начала бурное обсуждение случившейся в Седане катастрофы. Жюль Фавр от имени 27 депутатов-республиканцев внес проект резолюции о низложении императора. Растерянные депутаты решили продолжить обсуждение во второй половине дня.
А с утра 4 сентября на стенах домов стали появляться типографские листовки с сообщением о Седанской капитуляции. Улицы заполнили многотысячные толпы парижан, призывавших к низложению императора и династии. Отдельные призывы, предостерегавшие от революции, остаются без внимания. Адольф Тьер, старый либерал-орлеанист, инициирует направление к императрице делегации Законодательного корпуса с извещением о том, что отныне управление страной до созыва Учредительного собрания переходит к Правительственной комиссии национальной обороны. Фактически это уже означало отстранение от власти правящей династии, хотя императрица и отвергла предъявленное ей требование.
В 13 часов пополудни началось заседание Законодательного корпуса, где глава кабинета граф Паликао предложил создать Правительственный совет из пяти человек, назначенных палатой. Пока депутаты во время объявленного перерыва изучали в кабинетах предложения по кандидатурам, на площади перед Бурбонским дворцом происходило братание возбужденной толпы с национальными гвардейцами, которые заменяют старую охрану, состоявшую из жандармов и военных. Решетки, преграждающие вход в здание распахнуты, и толпа из 700–800 человек врывается в зал заседаний с криками: «Низложение! Да здравствует, Республика!». Председателя палаты Эжена Шнейдера сгоняют с его места, а поднявшийся на трибуну Леон Мишель Гамбетта объявляет во внезапно возникшей тишине: «Луи-Наполеон Бонапарт и его династия навсегда прекратили править во Франции»[752]. Толпа громко приветствует эти слова, после чего устремляется на Гревскую площадь, к зданию мэрии. В 16 часов депутаты департамента Сена, куда входила столица Франции, формируют Временное правительство во главе с переметнувшимся на сторону республиканцев генералом Трошю, военным губернатором Парижа. «Революция совершилась», – констатирует российский поверенный в делах Окунев[753].
К вечеру толпа с угрожающими криками собирается у Тюильри, намереваясь ворваться туда. Незадолго до этого австрийский посол князь Рихард фон Меттерних и итальянский посланник Константен Нигра настоятельно советуют императрице немедленно покинуть дворец. Евгению тайно выводят из Тюильри и сопровождают на площадь Сен-Жермен-л’Осеруа, с восточной стороны Лувра. Там ее ожидает фиакр. Объехав нескольких своих друзей и не застав их дома, императрица находит убежище у доктора Эванса, американского дантиста, который помогает ей на следующий день добраться до курортного местечка Довиль, на берегу Ла-Манша, откуда на арендованном корабле она отбывает в Англию[754]. Туда же, через Бельгию, но чуть раньше, был благополучно переправлен ее сын Эжен Луи Жан Жозеф (принц «Лулу»).
Молниеносная и самая бескровная в истории Франции революция 4 сентября 1870 года нашла достаточно подробное отражение в телеграммах временного поверенного в делах России в Париже Г.Н. Окунева, предсказавшего, как уже отмечалось, падение Второй империи еще в середине августа. На одной из его телеграмм, где говорилось о беспорядках в Бурбонском дворце и братании парижан с национальными гвардейцами, Александр II сделал короткую пометку по-французски: “je I’ai prevu” (я это предвидел) [755].
5 сентября Окунев сообщил в Петербург о провозглашении Республики и формировании Временного правительства во главе с генералом Трошю. В новый кабинет вошли Жюль Фавр[756] (иностранные дела) Гамбетта (внутренние дела), генерал Лефло (военный министр) Пикар (финансы) и другие депутаты от департамента Сена. Одновременно Окунев сообщил об исчезновении императрицы Евгении («никто не знает, где она находится»)[757]. 7 сентября Окунев сообщает, что, по имеющимся у него сведениям, императрица может находиться в Англии, как и императорский принц, которого уже видели в Дувре[758].
За день до этого русский дипломат передал, что Временное правительство готовит декрет об отзыве генерала Флери из Петербурга. Впрочем, Горчаков уже знал от самого Флери о том, что генерал направил в Париж просьбу об отставке. Эта просьба была удовлетворена 8 сентября. Послу предписывалось передать дела советнику посольства маркизу де Габриаку[759].
9 сентября Окунев встретился с новым главой Кэ д’Орсэ Ж. Фавром, который проинформировал его об основных целях Временного правительства – обеспечить оборону страны в условиях продолжающейся войны и подготовить созыв Учредительного собрания, которое определит форму государственного управления. «Мы передадим власть тому правительству, которое будет избрано всеобщим голосованием; мы подчинимся воле нации, хотя я и мои друзья – откровенные республиканцы», – подчеркнул Фавр[760]. Министр убеждал представителя России в «твердой решимости» нового правительства поддерживать порядок и решительно опроверг возможность проведения им «республиканской пропаганды за пределами Франции» [761].
Комментируя происходящее во французской столице, Окунев отмечает «симптомы распада». «Армия деморализована. Она потрясена военным превосходством Германии», – пишет он, обращая внимание на повсеместное – как в Париже, так и в провинции – распространение оружия среди населения, что «представляет серьезную угрозу для общественной безопасности». «Анархия в сочетании с ужасами возможной осады способны разрушить этот огромный и прекрасный город». «Хотя, судя по всему, генерал Трошю намерен энергично защищать Париж, – продолжает русский дипломат, – нельзя быть уверенным, что он сможет опереться на армию, деморализованную поражениями, и на возбужденное население, привыкшее к удобствам и удовольствиям»[762].
Крушение Второй империи не стало большой неожиданностью для Александра II и канцлера Горчакова, которые никогда не верили в прочность бонапартистского режима, опасно заигрывавшего, по их мнению, с парламентаризмом, либералами, демократами и даже социалистами. Эти опасения только возросли с провозглашением курса на либеральную империю[763].
В Петербурге всегда были убеждены во внутренней слабости империи Наполеона III, но никак не в ее военном бессилии, неожиданно вскрывшимся в августе 1870 г. Не раз, со времени Крымской войны, французская армия демонстрировала высокую степень боеспособности, как в Европе, так и за ее пределами. Поэтому столь быстрое и позорное поражение в войне с Пруссией стало, можно сказать, неприятным сюрпризом для императора Александра и князя Горчакова. Заняв позицию нейтралитета, они рассчитывали, что война продлится достаточно долго и ослабит как Францию, так и Пруссию, соответственно увеличив вес России как ведущей континентальной державы. Произошло же непредвиденное. В результате разгрома Франции и последующей аннексии части ее территории (Эльзаса и Лотарингии)[764] в центре Европы появится мощная Германская империя, амбиции которой стали внушать самые серьезные опасения ее соседям, в том числе и России.
Падение Второй империи немедленно было использовано Александром II и канцлером Горчаковым для реализации их давней и самой заветной мечты – освобождению от ограничений на военное присутствие России в Черноморском бассейне. 19/31 октября 1870 г. циркулярной депешей, адресованной российским дипломатическим представителям в столицах держав, подписавших Парижский мирный договор 1856 г., князь Горчаков поручил им довести до сведения правительств, при которых они аккредитованы, что Россия более не считает себя связанной с теми положениями трактата 1856 г., которые ограничивают ее «верховные права» в Черном море.
Пять месяцев спустя, в марте 1871 г. на Лондонской конференции европейские державы вынуждены будут официально согласиться на отмену дискриминационных в отношении России статей Парижского мира 1856 г.
Император Александр отблагодарил многолетние старания Горчакова в этом важнейшем деле тем, что пожаловал ему с нисходящим потомством титул светлейшего князя. А русский поэт и дипломат Федор Тютчев посвятил Горчакову благодарственное стихотворное послание, в котором есть такие строки [765].
Да, вы сдержали ваше слово: Не двинув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова Родная русская земля. И нам завещанное море Опять свободною волной, О кратком позабыв позоре, Лобзает берег свой родной […]Глава 9 Великие реформы глазами французских дипломатов
Реформы Александра II, на глазах современников менявшие облик России, с большим интересом были восприняты в Европе, где с давних – еще допетровских времен – «Московию», а затем и петербургскую империю, несмотря на общность разделяемых на западе и востоке Старого Света христианских ценностей, не склонны были относить к разряду собственно европейских государств. В общественном сознании европейской элиты, с точки зрения, как бы мы сейчас сказали, культурно-цивилизационной, Россия находилась где-то между Персией и Турцией, с одной стороны, и просвещенной Европой – с другой. С большей или меньшей откровенностью Россию в Европе называли «полуварварским», «деспотическим» государством восточного типа. Это устойчивое убеждение формировалось на протяжении столетий.
Большую роль в возникновении данного стереотипного представления сыграли европейские путешественники, в разные периоды посещавшие Россию и оставившие свои воспоминания, дневники и записки. Их оценки России адресовались, прежде всего, обществу. Другое дело – дипломаты, внимательно и профессионально наблюдавшие за тем, что происходит в стране пребывания. Их донесения, докладные записки, политические и экономические обзоры внутреннего положения России, лишенные публицистичности и литературности, отличавшиеся сдержанностью и взвешенностью оценок, имели другой адресат – правительственные круги своих стран. Информация, получаемая из дипломатических источников (посольских донесений) в значительной степени формировала отношение правящих элит европейских государств к «империи царей».
Сказанное в полной мере относится к французским путешественникам и дипломатам. Так, известная книга маркиза Астольфа де Кюстина о его поездке в Россию в 1839 году[766] произвела огромное впечатление не только на французское, но и на европейское общественное сознание, закрепив в нем негативное отношение к «империи фасадов».
Оценки французских дипломатов, в разные годы работавших в Петербурге, по понятным причинам, редко выходили за пределы министерских кабинетов, но они, безусловно, учитывались при определении политики Франции в отношении России. В этом, как представляется, значение подобных документальных свидетельств. Не менее важно и другое. Информация, направлявшаяся французскими дипломатами из столицы Российской империи, – это еще и показатель непосредственной реакции «европейского сознания» на события, происходившие в России. Одним словом, дипломаты по-своему и, надо сказать, весьма энергично, участвовали в формировании представлений о России в своих странах.
Сопоставление свидетельств дипломатов с аналогичными впечатлениями большинства французских путешественников, посещавших дореформенную Россию, обнаруживает большое сходство в главном. Дипломаты, как и путешественники, делали акцент не на общности, а на различиях между Россией и остальной Европой. Здесь можно привести два свидетельства, относящиеся к разным периодам тридцатилетнего Николаевского царствования.
Первое принадлежит барону Просперу Брюжьеру де Баранту, который в 1835–1841 гг. возглавлял посольство Франции в Санкт-Петербурге. Вот как характеризовал Барант страну своего пребывания в одном из донесений в Министерство иностранных дел: «Система управления и законы, действующие в [Российской империи], не могут сравниваться с законами европейских государств. Их нужно рассматривать только применительно к русскому народу и к территории, на которой они действуют. Все и всегда там было отлично от того, что существует на Западе, и мы рискуем ничего не понять, если будем судить о русских по нашим меркам и представлениям»[767].
А вот мнение другого французского посла, маркиза Жака де Кастельбажака, высказанное спустя пятнадцать лет. «Россия чужда всякой логики, – писал Кастельбажак министру иностранных дел Франции в октябре 1853 г. – В самом деле, нет логики в этой империи – ни в народе, ни в дворянстве, ни в духовенстве, ни в правительстве, ни даже у самого государя; о них [о русских] нельзя судить по нравственным нормам нашей западной цивилизации… <…> У русских, привычных к патриархальному деспотизму и обычаям Востока, все диаметрально противоположно нашим реалиям. <…>…Будущее этого 60-миллионного народа, энергичного и смышленого, невежественного и легкомысленного, приверженного фатализму и суеверию, лишенного моральных принципов, представляется мне пугающим как для него самого, так и для Европы»[768].
Подобные оценки мало чем отличались от взгляда на Россию маркиза де Кюстина.
Между тем, в 1855 г. в России началось новое царствование. На престол взошел молодой император Александр II, который после унизительного для России поражения в Крымской войне взял курс на реформы, имевшие целью структурную модернизацию страны.
Иностранные наблюдатели, и, прежде всего дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге, пристально следили за первыми шагами царя-реформатора, стараясь понять, в каких направлениях и сколь решительно Александр II намерен действовать. Будут ли успешными задуманные им реформы? Выдержит ли огромная, со времен Петра Великого не знавшая серьезных преобразований империя, новое испытание? Устоит ли она? Сумеет ли царь удержать Россию от революционного взрыва, как возможной реакции на проводимую им радикальную перестройку? Каковы могут быть международно-политические последствия реформ – отвлекут ли они внимание царского правительства от внешних дел, или Россия останется активным участником «европейского концерта»? В более широком плане речь шла и о том, удастся ли (и в какой степени) Александру II изменить неприглядный в глазах европейцев образ России, как «империи кнута» и «жандарма Европы»?
Все эти и другие вопросы, как свидетельствует изучение дипломатических архивов, живо интересовали французских дипломатов в столице Российской империи.
Но самым первым вопросом, которым они задавались, заключался в объяснении причин, по которым сын и преемник Николая I встал на путь реформ. Наиболее четкий ответ на него в 1868 г. сформулировал маркиз Жозеф де Габриак, 1-й секретарь посольства Франции в России[769].
Из письменного доклада Габриака в МИД Франции:
<…> «На следующий день после падения Севастополя, т. е. уничтожения всех военных сил России, нужно было признать, что необходимы глубокие реформы в государстве, которое не убереглось от столь ужасной катастрофы ни своими гигантскими просторами, ни пассивным послушанием населения, ни стойкостью солдата, ни численностью и дисциплиной армии. Первой необходимостью стало изучение этой катастрофы, но изучение самого общего характера, посвященное в большей степени вскрытию ее причин, нежели – прямых последствий…, и обращенное исключительно в будущее.
Император Александр это понял… и положил начало реформаторскому движению, которое продолжается до сего времени, хотя в последние годы оно и отклонилось от первоначального замысла.
Его призыв к стране был услышан. Он нашел отклик с разных сторон и даже превзошел ожидания и пожелания власти». <…>[770].
То, что корни Великих реформ следовало искать в унизительном поражении России в Крымской войне, показавшей всю глубину отсталости огромной империи от ведущих государств Европы, считали и другие политические наблюдатели, работавшие в посольстве Франции в Петербурге после 1856 г. и вплоть до конца 1860-х гг.
Отмена крепостного права
Как известно, процесс либеральной модернизации, инициированный Александром II, охватывал три основные сферы жизни российского общества – социально-экономическую, политико-правовую и культурно-образовательную.
Первым и самым важным из преобразований, осуществленных Александром II, стала крестьянская реформа 1861 г., стержнем которой была ликвидация крепостного права[771]. Он приступил к этому делу сразу же после окончания Крымской войны и заключения Парижского мира. Любопытно, что о своих намерениях молодой император впервые публично заявил в тот самый день, когда в Париже происходило подписание мирного договора. Тем самым он давал понять, что теперь у него, наконец, развязаны руки. Выступая 30 марта 1856 г. перед представителями московского дворянства, Александр II заявил: «…Сами вы понимаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно, начнет само собой уничтожаться снизу. Прошу вас, господа, обдумать, как бы привести все это в исполнение. Передайте слова мои дворянству для соображения»[772].
Император надеялся, что дворянство само инициирует «снизу» проведение крестьянской реформы, но он ошибся в своих ожиданиях. Душевладельцы в подавляющем большинстве настороженно, если не сказать враждебно, отнеслись к намерениям государя, и не спешили с составлением соответствующих «адресов» на высочайшее имя[773]. Даже на коронационных торжествах, проходивших в Москве в августе-сентябре 1856 г. губернаторы и губернские предводители дворянства отмолчались, к нескрываемой досаде Александра II. Один лишь Виленский генерал-губернатор В.И. Назимов, друг юности царя, пообещал ему уговорить дворян вверенных его попечению Виленской, Гродненской и Ковенской губерний просить государя об отмене крепостного права.
В ожидании всеподданнейших адресов Александр II 3 января 1857 г. учредил очередной, десятый по счету, Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян», включив в него лиц, по его мнению, «убежденных в необходимости идти к новому порядку»[774].
Обещанный Назимовым всеподданнейший адрес был получен в Зимнем дворце в октябре 1857 г., а уже 20 ноября, после его рассмотрения в Секретном комитете, император подписал и разослал всем губернаторам рескрипт (формально он был адресован В.И. Назимову) с изложением правительственной программы намеченной крестьянской реформы. Одновременно текст рескрипта был опубликован в российской и иностранной печати. Делу, таким образом, была придана широкая гласность. В феврале 1858 г. Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу, отделения которого вскоре появились в 46 губерниях Российской империи. Вслед за Назимовым с составлением всеподданнейших адресов поспешили и другие начальники губерний. Крестьянская реформа вступала, наконец, в рабочую стадию.
За тем, как проходила подготовительная работа в этом направлении, внимательно следили иностранные дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге.
Французское посольство не было здесь исключением, хотя подключилось к «мониторингу» с некоторым опозданием. Дело в том, что с конца марта 1854 г. из-за Крымской войны дипломатические отношения между Россией и Францией были прерваны. Решение об их восстановлении было принято лишь в марте 1856 г. на Парижском мирном конгрессе, положившим конец войне.
Временным официальным представителем Франции в России после восстановления дипломатических отношений, как уже говорилось, стал Шарль Боден. Он прибыл в Петербург в начале июля 1856 г., а его первая депеша из Петербурга датирована 10 июля.
Французский дипломат быстро сориентировался в новой обстановке и, занимаясь подготовкой приезда посла из Парижа, одновременно внимательно следил за развитием ситуации в России.
Прогнозируя снижение активности России в Европе в результате поражения в последней войне, Ш. Боден пришел к выводу, что «во внутренней политике в большей степени, чем это было до сих пор, сосредоточатся на административных и социальных вопросах, а также на улучшении различных ветвей государственного управления с целью поднять русское сельское хозяйство и промышленность… По всей видимости, – предположил французский дипломат, – даже приступят к изучению возможностей и средств отмены крепостного права»[775].
Скорее всего, в июле 1856 г. Боден еще не был в курсе подготовительной работы, инициированной Александром II по «улучшению быта» крепостных крестьян. Чуть позже он в должной мере оценит все значение задуманной молодым императором крестьянской реформы. В архиве МИД Франции сохранилась его записка под названием: «Несколько слов о крепостном праве в России». Она не имеет точной датировки, указан только год ее составления – 1856-й, т. е. написана она еще до учреждения Александром II 10-го Секретного комитета по крестьянскому вопросу и до появления упоминавшегося адреса дворянства северо-западных губерний. Тем не менее, проницательный французский дипломат уже тогда не усомнился в твердом намерении русского императора покончить с крепостным правом, и всячески приветствовал это благородное намерение. «Не будет преувеличением сказать, – подчеркивал автор записки, – что она [отмена крепостного права] составит больше чести государю, который ее осуществит, и будет куда более полезной для его народов, чем любая попытка завоевания берегов Константинополя. <…> Совершенно очевидно: – продолжал французский дипломат, – когда Император Александр II осуществит внутренние реформы в своей империи, особенно такие, которые затрагивают судьбу стольких миллионов людей, он встретит повсюду в Европе самые искренние симпатии…»[776].
Прибывший в Петербург 6 августа 1856 г. чрезвычайный и полномочный посол Франции Шарль Огюст Луи Жозеф, граф де Морни не обнаружил столь пристального интереса к внутренним проблемам России, как его соотечественник Боден. У сводного брата Наполеона III, как мы уже знаем, была более важная миссия – закрепить наметившееся на Парижском мирном конгрессе сближение между Францией и Россией путем заключения двустороннего политического союза и торгового договора. Тем не менее, по приезде в Россию он быстро осознал приоритеты политики молодого императора, ее отличия от курса его покойного отца. «Забота русского правительства о промышленном развитии страны в настоящее время пришла на смену сугубо политическим соображениям, характерным для царствования императора Николая…», – констатировал Морни в мае 1857 г.[777]
Все преемники Морни во главе французского посольства в Петербурге будут едины во мнении, что главная забота Александра II состояла в том, чтобы превратить Россию в современное по тем меркам европейское государство с развитой экономикой и соответствующими государственными институтами.
С отъездом Морни Ш. Боден возобновил исполнение обязанностей временного поверенного в делах при дворе Александра II. Он по-прежнему живо интересовался подготовкой крестьянской реформы, обсуждение которой велось в Секретном комитете. Боден старался получить хоть какую-то информацию о проходивших там обсуждениях, но члены комитета были предупреждены царем о необходимости сохранения строгой конфиденциальности в работе, и потому были предельно сдержанны. Французскому дипломату не оставалось ничего другого, как самостоятельно изучать наболевший крестьянский вопрос, выясняя настроения крестьян – барщинных и оброчных, – а также помещиков в связи с готовящейся реформой. Свои наблюдения и выводы он излагал в секретных депешах, направляемых в Париж
Из донесения Ш. Бодена министру иностранных дел графу А. Валевскому от 2 октября 1857 г.:
<…> «Со времени вступления на престол Императора Александра и особенно после его коронации в России распространились слухи о предстоящем освобождении крестьян. Всеобщая молва приписывает Императору желание и намерение осуществить это важное дело; известно, что [специальная] комиссия изучает средства реализовать без потрясений и с учетом всех интересов преобразование, о котором идет речь. <…>
Здесь царят всеобщие ожидания. Среди крестьян они существует в первую очередь у тех, чьи господа жестоки, требовательны и меньше склонны вверять свои хозяйства управляющим, которые злоупотребляют своей властью; <…>. С другой стороны, гуманные и просвещенные собственники не меньше желают того же, поскольку они рассчитывают извлекать с земель, обрабатываемых свободными тружениками намного больший доход, чем тот, который они получают от фиксированного оброка, выплачиваемого крепостными, или от норм барщины.
Со своей стороны, не все крепостные из тех, кто проживает в деревнях, желают в той же степени свободы…Землю, которую они обрабатывают, они привыкли считать своей собственностью, хотя хорошо знают, что однажды их могут продать вместе с ней. Всякий же, кто выплачивает оброк своему господину, считает, что тот обязан их защищать; они рассчитывают на него, надеются на его помощь в случае каких-то [природных] бедствий или неурожая, в случае болезни или в защите от злоупотреблений представителей местных властей. Можно было бы привести многочисленные примеры, когда крестьяне в массовом порядке отказываются от свободы, которую их хозяева предоставляют им из соображений гуманности или по соображениям, связанным с денежными затруднениями, вынуждающими их продавать свою землю.
К сожалению, наряду с этими примерами, гораздо больше примеров проявления тирании собственников… и жестокости управляющих.
Русский крестьянин терпелив, но доведенный до крайности он начинает сопротивляться и становится ужасным. Его месть тем более ожесточенна, что от безнадежности она осуществляется хладнокровно, и можно представить длинный список собственников и управляющих, убитых в их усадьбах и даже в самом Петербурге взбунтовавшимися крепостными, у которых злоупотребления почти безграничной власти питают стремление к свободе» <…>[778].
В это время у Бодена, судя по его донесениям в Париж, начинают появляться сомнения относительно успешного завершения задуманной императором крестьянской реформы. «…Россия находится в ожидании, писал он в депеше, датированной 5 ноября 1857 г. – Она ощущает себя накануне полной трансформации, которая может способствовать ее развитию и упрочению ее величия, но может и подвергнуть страну на долгие годы самым ужасным испытаниям»[779].
Что имел в виду французский дипломат, говоря о возможности «ужасных испытаний» для России в случае отмены крепостного права?
Судя по всему, сомнения появились у него под влиянием затянувшейся паузы после встречи императора с представителями московского дворянства. Единственным событием за истекшие с той поры семь месяцев стал «адрес» дворянства трех северо-западных губерний. Дворянство остальных губерний продолжало отмалчиваться, в то время как в настроениях крестьянской массы стала ощущаться некоторая напряженность. Какими-то неведомыми путями намерение царя освободить крепостных становилось известно последним, начавшим проявлять нетерпение и беспокойство. В условиях, когда дворянство затаилось, а правительство не предпринимало дальнейших шагов в деле освобождения крепостных, обозначившиеся настроения последних были чреваты бунтом.
Таков был ход мыслей Бодена, недоумевавшего по поводу бездействия, безусловно, добродетельного и человеколюбивого, но, как ему стало казаться, недостаточно волевого и решительного императора. Возникшими у него сомнениями и опасениями дипломат посчитал нужным поделиться со своим парижским начальством.
Из донесения Бодена графу Валевскому от 5 ноября 1857 г.:
<…> «Характер императора Александра II имеет, на мой взгляд, нечто общее с характером короля Людовика XVI – та же доброта, та же порядочность, те же благородные намерения и такой же недостаток энергии. Продолжая данное сравнение, можно безошибочно утверждать, что Россия вступила в свой 1787 год. Пусть же, Господь убережет ее от года 1793-го! (выделено мною. – П.Ч.)[780].
Я знаю здесь людей, которые предвидят именно такую перспективу и которые со страхом вспоминают об ужасных примерах свирепости русского крестьянина, выведенного из состояния присущей ему обычно апатии. Я знаю собственников, которые недавно заложили все свое имущество, поместив вырученные средства за границей. Я сообщаю здесь об этих ужасах не с тем, чтобы их оправдать. Но какова бы ни была приготовляемая [в настоящее время] будущность этой страны, я позволю себе, господин граф, сделать общее заключение из всего вышесказанного и надеюсь на ваше снисхождение»[781] <…>.
Боден укрепляется в своем ранее сделанном выводе о том, что в любом случае «находящаяся на переломном моменте [своей истории] Россия… на долгие годы входит в эру сугубо внутренних, можно сказать, домашних забот, которые поглотят все ее внимание. На протяжении этого кризиса иностранные правительства могут особенно не беспокоиться по поводу активности внешней политики России». Правда, Боден тут же поспешил скорректировать свой же собственный вывод. «Я рискую высказывать это мнение со всеми возможными оговорками, – отметил он в своем донесении. – После всего лишь года с небольшим пребывания в стране довольно трудно быть уверенным в надежности прогнозов относительно того будущего, которое ожидает Россию»[782].
1 декабря 1857 г. в Петербург прибыл новый поверенный в делах Франции маркиз де Шаторенар, которому Боден передал руководство дипломатической миссией и ввел его в курс текущих дел. Шаторенар, со своей стороны, сообщил Бодену, что в Париже принято, наконец, решение о направлении ко двору Александра II постоянного посла – герцога де Монтебелло, который должен приступить к своим обязанностям предстоящей весной. В ожидании его прибытия французские дипломаты продолжали внимательно следить за развитием событий в России. Судя по их содержанию, первые депеши Шаторенара из Петербурга, – по крайней мере, те, где рассматривался ход крестьянской реформы, – были составлены Боденом, который вскоре получил новое назначение и покинул Петербург.
Тем временем с наступлением нового, 1858 года, продвижение реформы несколько оживилось. Стал проясняться и расклад сил – сторонников и противников освобождения крестьян. Вот что писал по этому поводу маркиз Шаторенар в депеше графу Валевскому:
<…> «В этом вопросе отчетливо проявились три партии: партия ретроградов, которая не желает и слышать об отмене крепостного рабства и выступает за сохранение статус кво; партия умеренных, которая выступает за осторожные и спокойные реформы; прогрессивная партия, которая желает все реорганизовать и намерена воспользоваться освобождением крестьян для введения [в стране] конституционного правления.
Кажется, приверженцы партии ретроградов недалеки от того, чтобы принять, то ли от досады, то ли в надежде напугать правительство, программу прогрессивной партии; многие из них говорят довольно открыто, что поскольку правительство встало на путь освобождения [крестьян], то начать оно должно с освобождения самого дворянства, дав ему политические права взамен утраты материальных, которые готовятся отменить.
<…> Этот оппозиционный дух, свойственный как экзальтированным [прогрессистам], так и ретроградам, должен, как меня уверяют, проявиться на собрании, которое будет иметь место по случаю выборов [предводителя петербургского дворянства]. Недовольные разработали проект, резко критикующий нынешнего предводителя [дворянства] Санкт-Петербурга графа Шувалова, упрекая его в том, что он действовал, не советуясь с ними, когда просил императора начать освобождение крепостных с Петербургской губернии; они надеются побудить его подать в отставку… <…>
Те же тенденции, только еще более сильно, проявляются в Москве. Оппозиция тамошнего дворянства до сих пор не давала возможности подготовить императорский рескрипт. Однако правительство, судя по всему, не склонно всерьез считаться с этой оппозицией; оно только что распространило меры по отмене крепостного рабства на Нижегородскую губернию, и, как уверяют, это сделано по просьбе крайне незначительного числа нижегородских дворян…»[783] <…>.
Как уже говорилось, после появления адреса, составленного под нажимом Назимова прибалтийским дворянством, и ответного высочайшего рескрипта [784], дворяне других российских губерний были поставлены перед необходимостью – безотлагательно определиться (разумеется, положительно) в отношении намерений царя. Первым из губернаторов, кто оказал соответствующее прямое давление на дворянство, был петербургский генерал-губернатор граф П.Н. Игнатьев, которого поддержал губернский предводитель дворянства граф П.П. Шувалов.
Вынужденная инициатива губернского начальства вызвала открытое недовольство консервативно настроенной части дворян, которые решили воспользоваться предстоящим съездом по выборам предводителя, для того чтобы сместить графа Шувалова с занимаемого им поста. По мнению недовольных, он не защищал должным образом интересы своего сословия. Именно об этом и писал Шаторенар в донесении в Париж. Забегая вперед, можно отметить, что намерения противников Шувалова не были реализованы. Он не только сохранил за собой пост губернского предводителя дворянства, но и возглавил всю работу по проведению реформы в Петербургской губернии. При этом он проявил себя отнюдь не как прогрессист, а как убежденный консерватор.
Шаторенар правильно оценил в своей депеше от 11 января оппозиционные настроения московского дворянства, которое и в дальнейшем будет досаждать императору. В Москве противники отмены крепостного права имели весьма влиятельного союзника в лице самого генерал-губернатора графа А.А. Закревского, не принимавшего готовившуюся реформу. Плохо скрываемое нежелание способствовать планам императора будет стоить Закревскому его поста. В апреле 1859 г. 75-летний сановник был уволен в отставку и вынужден был выехать за границу, где и умер в 1865 г.
Либерально настроенная часть московского дворянства ориентировалась на губернского предводителя П.П. Воейкова, который настоял на принятии 7 января 1858 г. адреса в поддержку намерений императора осуществить освобождение крестьян. Отправляя 11 января цитированную депешу в Париж, маркиз Шаторенар еще не знал о «московском адресе» на высочайшее имя.
Упоминая в той же депеше о сдержанном отношении к предстоящей реформе нижегородского дворянства, Шаторенар был совершенно прав; принятие адреса нижегородскими помещиками было сделано под сильнейшим давлением военного губернатора А.Н. Муравьева.
По каким-то причинам Шаторенар в донесениях в Париж практически ничего не сообщает о деятельности Главного комитета по крестьянскому делу, образованному в феврале 1858 г. Можно предположить, что у него просто не было никакой, сколь ни будь достоверной информации на эту тему.
18 мая 1858 г. в Петербург прибыл посол Франции герцог де Монтебелло. Его миссия, как уже говорилось, продлится шесть лет, и ему суждено будет стать свидетелем начала Великих реформ Александровского царствования.
Император был главным мотором в подготовке крестьянской реформы, побуждавшим консервативно настроенных членов Главного комитета и власти на местах к активной работе. Именно Александр II заставил их отказаться от первоначального варианта освобождения крестьян без всякого земельного надела, справедливо усматривая в этом реальную угрозу внутренней безопасности империи. Здесь он нашел полное понимание и поддержку со стороны министра внутренних дел С.С. Ланского и генерал-адъютанта Я.И. Ростовцева. Оба его сподвижника играли важную роль в деятельности Главного комитета, где они противостояли консерваторам – А.Ф. Орлову, В.А. Долгорукову, М.Н. Муравьеву, В.Н. Панину и др.
В конечном итоге было признано необходимым освобождать крестьян, оставляя в их собственности дома, в которых они проживают, и приусадебные участки, а также предоставив возможность постепенного выкупа пахотной земли у помещика. Этим, с одной стороны, надеялись удовлетворить давние чаяния крестьян, а с другой – обеспечить материальные права землевладельцев-помещиков с целью не допустить массового разорения поместного дворянства.
В начале августа 1858 г. император решил стимулировать процесс освобождения путем предоставления всех личных и имущественных прав удельным и государственным крестьянам, которым было разрешено свободно переходить из одного сословия в другое. В посольстве Франции по достоинству оценили этот шаг. В депеше, датированной 6 августа 1858 г., герцог Монтебелло сообщал графу Валевскому:
<…> «Санкт-Петербургские ведомости» публикуют сегодня указ императора Александра, который предоставляет свободу удельным крестьянам. Я прилагаю здесь текст этого важного декрета. <…>
В решении вопроса об отмене крепостного рабства сделан решающий шаг, – констатировал посол. – Попытается ли дворянство воспротивиться воле императора и чаяниям крестьян? Станет ли император ради того, чтобы преодолеть это сопротивление, пользоваться своим правом верховного решения и опереться на низший класс, который он хочет поднять? Или император и дворянство будут вынуждены объединить свои усилия, для того чтобы удержать народную массу, бросаемую на новые пути?
В скором времени само развитие событий даст ответы на эти вопросы. Россия могла бы подать уникальный исторический пример, если бы столь великое социальное движение могло бы совершиться в ней без тех раздоров, которые сопровождали все подобного рода кризисы в других странах»[785] <…>.
Сразу же после подписания указа об освобождении удельных и государственных крестьян император отправился в поездку по ряду губерний с целью лично изучить настроения и подтолкнуть местные власти и дворянство к более активному участию в осуществлении реформы. В течение месяца Александр II побывал в Твери, Костроме, Нижнем Новгороде, Владимире, Москве и Смоленске, а затем отправился в северо-западные губернии, первыми поддержавшими его начинание. В ходе поездки император убедился, что без его постоянного и решительного вмешательства реформа может застопориться и, в конечном счете, даже провалиться. Понял он и источник такой опасности – пассивное сопротивление значительной части дворянства ясно выраженной им воле. Особое раздражение вызвало у императора поведение московского дворянства, которое, по существу, саботировало его указания. При посещении Москвы он не посчитал нужным скрывать свое недовольство [786].
Поездка государя по стране и особенно его пребывание в Москве вызвали пристальный интерес в посольстве Франции, где обратили внимание даже на мелкие, но весьма характерные, детали, свидетельствующие об оппозиции московского дворянства и о проявленном в связи с этим высочайшем недовольстве[787].
Из донесения герцога Монтебелло в МИД Франции от 23 сентября 1858 г.:
<…> «Император покинул Москву 2 сентября после недельного там пребывания по случаю годовщины своей коронации. Обратили внимание на то обстоятельство, что Их Императорские Величества, вместо того, чтобы проживать в Кремле, остановились за городской чертой, в загородном доме, предоставленном в их распоряжение графом Шереметевым. В этом выборе усмотрели проявление недовольства императора неодобрительными настроениями московского дворянства по вопросу освобождения [крестьян]. Дворянство, со своей стороны, не оставалось столь уж безучастным на всем протяжении пребывания здесь двора. На балу, который московское дворянство дало в честь Их Императорских Величеств, сами дворяне присутствовали в незначительном числе, а их холодное и сдержанное поведение резко контрастировало с энтузиазмом и приветственными возгласами [московских] торговцев и крепостных.
Подобного рода [неодобрительные] настроения проявляет не только московское дворянство. Они характерны для большинства дворян Империи, и они не боятся проявлять свои настроения всякий раз, когда для этого представляется случай… <…>
Такое положение вещей вызывает определенное брожение среди крепостных; в нескольких селах эмиссары, возможно связанные с русскими демократами-эмигрантами, пытались подстрекать крестьян против их господ и провоцировать беспорядки. Собственники проявляют беспокойство: будущее рисуется им в угрожающих тонах, и они не знают, как его избежать.
Император имел возможность лично оценить реальную ситуацию [в стране]. Говорят, он был поражен, но он не остановится в своем намерении реализовать план освобождения крепостных. Теперь, после того, как император освободил удельных крестьян, он уже не может отступать» [788]. <…>.
О сохранявшейся между царем и консервативной частью дворянства дистанции в подходе к крестьянской реформе французское посольство сообщало и в последующих донесениях в Париж. «Впечатления, которые Император Александр получил от своей последней поездки вглубь Империи, судя по всему, оставили в его душе довольно неприятный осадок из-за позиции, занимаемой дворянством в вопросе освобождения [крестьян], – констатировал маркиз Шаторенар, замещавший уехавшего в отпуск Монтебелло. – Речь, с которой Его Величество выступил перед московским дворянством, имела широкий резонанс в Европе. <…>
Сегодня, когда воля Императора выражена столь громогласно, я не сомневаюсь, – подчеркивал французский дипломат, – что она будет исполнена, особенно если, как представляется вероятным, правительство примет идею предоставления собственникам компенсации за утрату, проистекающую из передачи в распоряжение крестьян [занимаемых ими] домов и дворовых участков»[789].
К концу 1858 г. либеральные сторонники реформы при активной поддержке императора получили преобладающее влияние в Главном комитете. Важную роль здесь сыграл генерал-адъютант Я.И. Ростовцев, подготовивший новый вариант реформы, в котором права крестьян, получавших, помимо личной свободы, земельные наделы, уравновешивались соответствующими гарантиями их бывшим хозяевам, поместным дворянам.
В марте 1859 г. высочайшим решением были учреждены Редакционные комиссии для согласования выявившихся различных подходов и подготовки окончательного варианта реформы. В состав этого нового органа были включены сановники и отдельные общественные деятели (Ю.Ф. Самарин, А.М. Унковский и др.), а руководство Редакционными комиссиями император доверил Я.И. Ростовцеву, ближайшему своему сподвижнику в задуманных им широких реформаторских планах. Ростовцев и его единомышленник Н.А. Милютин, товарищ министра внутренних дел, энергично взялись за дело, и при поддержке царя сумели заставить консерваторов (Ф.И. Паскевича, В.В. Апраксина, Б.Д. Голицына, В.Н. Панина и др.) пойти на значительные уступки. Работа близилась к концу, когда 5 февраля 1860 г. умер ее главный организатор, Я.И. Ростовцев. Говорили, что перед смертью он успел прошептать императору: «Ваше Величество, не дайте запугать себя!» [790].
Смерть Ростовцева накануне завершения работы Редакционных комиссий с тревогой была воспринята в посольстве Франции, где не исключали, что при новом председателе реформа может быть спущена на тормозах, тем более что преемником либерала Ростовцева неожиданно стал один из его главных оппонентов справа, министр юстиции граф В.Н. Панин.
Из депеши герцога Монтебелло графу Валевскому от 28 февраля 1860 г.:
<…> «Генерал Ростовцев, председатель Редакционного комитета по освобождению [крестьян], который придал очень важную роль функциям, которые, казалось бы, не предполагает занимаемая им должность, только что скончался. Нельзя исключить, что его смерть повлечет за собой окончательное оставление задуманных им планов по освобождению [крестьян]. Эти планы встречали сопротивление дворянства, открыто выступившего против них в ходе проводившихся во многих губерниях выборов депутатов и предводителей дворянства.
В выборе преемника генерала Ростовцева император остановил свой выбор на графе Панине, министре юстиции, который известен своим прохладным отношением к нововведениям, но [вместе с тем] является широко мыслящим и просвещенным человеком. Побуждаемый очень искренним, но несколько прямолинейным патриотизмом, граф Панин, быть может, сумеет [благополучно] завершить это столь трудное дело.
Дворянство с удовлетворением восприняло назначение Панина; его известные всем взгляды способны успокоить дворянство и, быть может, склонят его на уступки, необходимость которых покажется ему более понятной через признанную преданность председателя Комитета дворянским интересам»[791]. <…>
Одно из предположений Монтебелло – относительно того, что графу Панину, возможно, придется даже вопреки собственным убеждениям завершить дело его умершего оппонента, – в полной мере оправдалось. Французский посол сумел разгадать скрытый смысл поразившего всех выбора императора. Назначение графа Панина должно было успокоить консерваторов, видевших в министре юстиции своего лидера, не способного, по их мнению, пожертвовать насущными интересами дворянства.
Консерваторы не учли двух обстоятельств. Во-первых, работа Редакционной комиссии была практически завершена, и по основополагающим вопросам уже было достигнуто согласие. Оставалось обсудить второстепенные детали. Во-вторых, граф Панин был верным слугой своего государя и, несмотря на собственные убеждения, считал себя обязанным исполнить его волю, неоднократно, недвусмысленно и, к тому же, публично высказанную.
Так оно и случилось. При Панине Редакционная комиссия пошла лишь на незначительные уступки консерваторам: некоторое уменьшение крестьянских наделов и соответствующее увеличение повинностей.
А французские дипломаты продолжали внимательно наблюдать за деятельностью Панина и руководимой им комиссии.
Из донесения Монтебелло министру иностранных дел Франции Эдуарду Тувенелю [792] от 13 марта 1860 г.:
<…> «Я повторю еще раз, что сделанный выбор получил всеобщее одобрение дворянства, которое видит в новом назначенце одного из самых значительных по знатности и богатству своих представителей, человека, наделенного большим умом и богатым политическим опытом. В течение многих лет граф Панин находится во главе Министерства юстиции, от руководства которым по случаю нового назначения он был только что освобожден, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на выполнении самого важного и сложного на сегодняшний день поручения, доверенного ему императором.
Граф Панин принадлежит к партии, которую здесь называют ретроградной. Тем не менее, его нельзя отнести, как это пытаются представить его враги, к непримиримым противникам реформ, столь необходимых этой стране. Но он из тех, кто желал бы пойти по этому, всегда опасному пути, с меньшим риском. Он убежден, что прежде чем произнести два эти важнейшие слова – освобождение крестьян – и напрямую поставить этот вопрос перед обществом, следует самим оценить все возможные последствия принятия столь серьезного решения. До настоящего времени все развитие событий как будто бы подтверждало правильность такого подхода…
Соглашаясь на новые функции, граф Панин полностью отдавал себе отчет в нынешней ситуации; он знает настроения и направление мыслей императора, и есть все основания быть уверенным в том, что его высокий ум и его патриотизм позволят ему справиться с поставленной задачей и придти к конечной цели, достижение которой на протяжении трех последних лет представлялось, иной раз, проблематичным. <…>
На первом заседании, проходившем под его председательством, граф Панин перевел в практическую плоскость программу, поставленную Императором, и сделал он это в таких выражениях, которые всеми были с воодушевлением одобрены. Таким образом, вопрос освобождения крестьян отныне вступает в новую, решающую стадию и его окончательное разрешение теперь уже не заставит себя долго ждать»[793].
В октябре 1860 г. Редакционные комиссии завершили свою работу и были распущены. Подготовленный в них проект крестьянской реформы был передан на рассмотрение в Главный комитет по крестьянскому делу, председателем которого император назначил своего брата, великого князя Константина Николаевича, считавшегося покровителем либералов. В Главном комитете консерваторы предприняли очередную попытку добиться удовлетворения своих требований, но потерпели неудачу. «Освобождение крепостных, проекты которого столь долго обсуждались, должно вот-вот свершиться, – сообщал 12 декабря в Париж герцог Монтебелло. – <…> Его Величество хотел бы, чтобы первый день 1861 года стал днем разрешения этого вопроса, и здесь надеются на то, что его желание может быть исполнено. <…>
Результаты обсуждения в Комиссии хранятся в строжайшем секрете, и я не рискнул бы предположить, какой вариант решения возобладает в последний момент. Ясно только то, что абсолютная свобода крестьянину не будет предоставлена немедленно; в течение нескольких лет он останется привязанным к земле, чтобы выполнять условия компромисса между ним и его последним господином, который постепенно, шаг за шагом, подведет его к полной самостоятельности. Я буду держать Ваше превосходительство в курсе того, какой резонанс произведет обнародование этого решения, которое, безусловно, станет главным свершением царствования императора Александра и составит эпоху в истории России» [794].
До наступления нового года завершить подготовительную работу не удалось. Согласованный проект реформы был передан в Государственный Совет лишь 28 января 1861 г. В этой высшей инстанции консерваторы составляли большинство, но при энергичной поддержке императора либеральное меньшинство сумело одержать победу
19 февраля 1861 г., в шестую годовщину своего вступления на престол, Александр II подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и Манифест об отмене крепостного права. Однако обнародование этих важнейших документов было отложено до наступления Великого поста, т. е. до 5 марта по старому стилю.
В этот день (17 марта по н. ст.) Монтебелло отправил в Париж шифротелеграмму следующего содержания: «Манифест императора Александра, объявляющий освобождение крепостных рабов, был зачитан во всех церквях Петербурга в обстановке полного спокойствия и тишины. В городе царит абсолютный порядок»[795].
На следующий день в депеше министру посол дал первую оценку исторического события, свидетелем которого ему довелось стать.
Из донесения Монтебелло министру иностранных дел Тувенелю:
<…> «Даже накануне еще не знали, что обнародование этого важного решения произойдет так скоро. Это до некоторой степени объясняет ту удивительную безучастность, с которой оно было воспринято населением, условия жизни которого оно столь глубоко изменило. Такую реакцию можно было бы объяснить особенностями [русского] национального характера, который более вдумчив, нежели расположен к проявлениям энтузиазма, менее чувствителен к слову «свобода» и более озабочен тем, все еще неясным [для него] смыслом, который оно в себе содержит. Одним словом, я увидел перед собой народ непохожий на все другие, невосприимчивый к живым и скоропалительным впечатлениям, наглядный пример чего дают народы Запада; это народ странный и непонятный: он только на первый взгляд кажется равнодушным, за его молчанием – скрытые силы, и однажды мир узнает всю его своеобразную мощь.
Император лично объявил о только что подписанном им манифесте офицерам своей гвардии, собравшимся вокруг него после парада, и напомнил им о тех обязанностях, которые [манифест] накладывает на всех. Уже по выражению его лица можно было понять, что это – великий день. Несомненно, это самый великий день его царствования. Каковы бы ни были трудности, связанные с исполнением манифеста, последующие поколения, безусловно, поставят императора в ряд государей, которые, радея о всеобщем благе, рассматривают славу лишь как второстепенное вознаграждение. Император заслуживает того, чтобы уже его поколение смогло предвосхитить суждение потомков, как и того, чтобы Провидение благословило его правление»[796] <…>.
Эйфория, в которую впала передовая часть русского общества после обнародования манифеста 19 февраля 1861 г., захватила и французских дипломатов в Санкт-Петербурге. Правда, эйфория эта оказалась скоротечной. Уже в первых числах апреля пошли тревожные сообщения о крестьянских волнениях в ряде губерний, где вчерашние крепостные подвергли сомнению подлинность царского манифеста, предоставлявшего им свободу без земли, которая по-прежнему оставалась в помещичьей собственности.
Появившиеся неведомо откуда антиправительственные агитаторы распространяли слухи о подмене чиновниками и дворянами «подлинного» манифеста, отчуждавшего якобы все помещичьи земли в пользу крестьян. Во многих районах крестьяне отказывались подписывать так называемые уставные грамоты на землепользование, выражая тем самым недовольство условиями освобождения и требуя предъявить им «подлинный» манифест, вместо «подложного». В отдельных случаях это недовольство переросло в бунты, сопровождавшиеся захватом помещичьих земель и скота. Правительство вынуждено было прибегнуть к мерам принуждения и подавления беспорядков с использованием армии.
После 19 февраля посольство Франции продолжало внимательно следить за тем, как развивался процесс осуществления крестьянской реформы, какие препятствия встречала она на своем пути, и какие последствия для России имело освобождение 22,5 млн. ревизских душ. Первые восторженные оценки «освобождения крепостных рабов» очень скоро сменились тревожными сообщениями.
Из депеши Монтебелло от 10 мая 1861 г.:
<…> «Обнародование освобождения сопровождалось отдельными беспорядками в Пермской, Пензенской, Саратовской, Казанской и Витебской губерниях. Наиболее серьезный характер они носили в Казанской губернии: войска были вынуждены даже применить оружие, чтобы рассеять банду численностью примерно 7000 человек, при этом 60 были убиты. На место событий был направлен генерал-адъютант Бибиков с чрезвычайными полномочиями. Население этой губернии состоит преимущественно из сектантов (раскольников), и [по этой причине] движение, естественно, должно было приобрести опасный религиозный характер; но такая угроза была устранена арестом лжепророка, который возбуждал несведущие массы; он был повешен тотчас же после того, как его захватили. Он провозглашал, что объявленный манифест был подложным, что дворянство подменило дарованный императором манифест, где не содержалось никаких ограничений освобождению крестьян, и где им предоставлялась полная свобода и полное владение землей»[797]. <…>
Начавшиеся крестьянские волнения французские дипломаты, по каким-то причинам, склонны были приписывать исключительно старообрядцам и другим «сектантам», но не основной массе «законопослушных» православных крестьян. Нельзя исключить того, что подобные оценки были умело подсказаны французам их петербургскими друзьями из высших чиновных сфер. Во всяком случае, и в последующих донесениях посольства относительно крестьянских волнений присутствует «сектантский» мотив.
Из донесения Монтебелло от 25 мая 1861 г.:
<…> «Беспорядки, вызванные освобождением, о которых я [уже] сообщал Вашему превосходительству…, не усилились, однако они не прекратились и [даже] повторились в некоторых других районах. Очаг волнений, судя по всему, находится на востоке – между Москвой и Волгой; в районе же между Москвой и С.-Петербургом, кажется, сохраняется полное спокойствие. Особый характер этим беспорядкам, скорее всего, придает то обстоятельство, что в восточных губерниях проживает большое число сектантов…»[798]. <…>
Наиболее серьезные «беспорядки», о которых сообщало французское посольство, как известно, имели место в Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях. Можно предположить, что упомянутое в депеше Монтебелло от 10 мая восстание раскольников в Казанской губернии, инициированное неким «лжепророком», – это хорошо известное историкам т. н. Бездненское выступление, имевшее место в конце марта в с. Бездна Спасского уезда[799].
Подавление крестьянских выступлений вызвало резкое осуждение в либерально-прогрессивной части русского общества, пребывавшего поначалу в эйфории от освобождения крестьян. С этого момента либералы начали постепенно дистанцироваться от превозносимого ими доселе царя-благодетеля.
Крестьянские волнения выражали общее недовольство крестьян условиями освобождения от крепостной зависимости, сформулированными в Манифесте 19 февраля. Проявления этого недовольства можно было проследить во многих районах Российской империи[800].
Участившиеся повсеместно случаи отказа крестьян исполнять предписанные им на переходный (двухлетний) период обязательные работы на их бывших владельцев побудили Министерство внутренних дел 2 декабря 1861 г. издать по этому поводу специальный циркуляр, четко регламентировавший отношения между крестьянами и помещиками на период до конца февраля 1863 г.
Однако министерский циркуляр, доведенный до сведения заинтересованных сторон, не произвел должного впечатления на крестьян. Это обстоятельство было отмечено в посольстве Франции, где в очередной раз утвердились в убеждении относительно особенностей русского национального сознания, с присущим ему устойчивым стереотипом о добром царе и злодеях-боярах (читай, чиновниках).
Из депеши 1-го секретаря посольства Франции в Петербурге Анри Фурнье министру иностранных дел Эдуарду Тувенелю:
<…> «В России нет никакого доверия ко всему, что исходит от Администрации; здесь абсолютно верят только слову императора. Это предполагает, что император должен был бы говорить со всеми и повсюду. Министерский циркуляр произведет слабое впечатление; [определяемый им] фатальный срок, истекающий в марте 1863 года, будет продолжать оставаться предметом для беспокойства, что признается не только в правительстве; [этим опасениям] дают дополнительную мотивацию многочисленные отказы от работы и случаи частого неповиновения»[801]. <…>
Судя по донесениям французского посольства, относящимся к первой половине 1862 г., у дипломатов возникли тогда серьезные опасения по поводу успешного завершения предпринятой крестьянской реформы. Эти опасения связывались не только с обозначившейся в крестьянской среде и в обществе в целом неудовлетворенностью условиями, при которых произошло освобождение крестьян, но также с явной неподготовленностью правительственного аппарата в центре и на местах к проведению реформы. Более того, французские дипломаты усомнились даже в самом инициаторе отмены крепостного права – императоре Александре II, не обладавшем, как им показалось, качествами, необходимыми подлинному реформатору, и главными из этих качеств – решительностью и последовательностью. По мнению «петербургских французов», царю явно не достает твердости, что не позволяет ему полностью контролировать ситуацию не только в стране в целом, но даже в армии, считающейся одной из главных опор самодержавного строя.
Из донесения А. Фурнье министру иностранных дел Э. Тувенелю:
<…> «Рука, которая управляет, очевидно слаба и нетверда; люди, которых она использует, ни к чему не подготовлены; [им] абсолютно не хватает опыта; [они] удивляются [развитию] событий, в которые оказались вовлечены и которые всерьез ничему [их] не учат, хотя на эти события надо бы смотреть как на предвестники будущего.
Нынешнее положение вещей плачевно и опасно. <…> Нельзя быть уверенным в войсках и, в особенности в императорской гвардии. В данный момент император много ею занимается, без конца проводит полковые смотры, более чем когда-либо любит показываться перед солдатами и заявляет о своем доверии к ним. Остается лишь уповать на то, что это принесет желаемый результат»[802]. <…>
Когда Фурнье говорил о ненадежности императорской гвардии, он, по всей видимости, имел в виду скандал, связанный с двумя гвардейскими офицерами, флигель-адъютантами Александра II. Это были сыновья покойного генерала Я.И. Ростовцева, ближайшего сподвижника Александра II в деле освобождения крестьян – Николай и Михаил. После смерти отца они были обласканы императором, получив графские титулы и флигель-адъютантские аксельбанты.
Скандал разразился на исходе весны 1862 г., когда в Зимнем дворце обнаружились революционные прокламации, что вызвало настоящий переполох среди его обитателей. Вскоре выяснилось, что это сделал младший из братьев Ростовцевых во время своего очередного дежурства в императорской резиденции. Впоследствии стало известно, что братья Ростовцевы занимались революционной пропагандой среди солдат, которых они обучали в одной из столичных воскресных школ. Дальнейшее расследование обнаружило факты проявления неблагонадежности не только в петербургском гарнизоне, но и в других армейских частях, где после этого были приняты надлежащие меры. В Петербурге, например, были закрыты две «неблагонадежные» воскресные школы для солдат, а также Шахматный клуб и Народная читальня, устроенные и руководимые прогрессивно настроенными офицерами. Вот что сообщал в Париж о скандальной истории с братьями Ростовцевыми А. Фурнье:
<…> «Сыновья генерала Ростовцева, – того самого, который посвятил себя подготовке вопроса об освобождении крестьян, умерев прежде, чем это было осуществлено, и заслуги которого император отметил тем, что удостоил его вдову графского титула, а двух его сыновей сделал графами, полковниками и своими флигель-адъютантами, – были отправлены в отставку, или, если следовать точной формулировке приказа, освобождены от службы.
Эти два брата-офицера, старший из которых в настоящий момент находится в Англии и поддерживает отношения с журналистом по имени Герцен, оказались одними из самых пылких приверженцев доктрин, распространявшихся в воскресных школах и народных читальнях.
По чистой случайности обратили внимание на то, что младший [из братьев] находился на службе при императоре во дворце в ту Пасхальную ночь, когда там было обнаружено множество революционных прокламаций. Говорят, что некоторые лица из императорского окружения требуют большей строгости в отношении графов Ростовцевых – их ареста, тщательного расследования и предания суду. Однако император не пожелал идти так далеко, ограничившись тем, что удалил их от себя и освободил от службы.
Здесь существует всеобщее осуждение этих двух виновных, причем даже не за их убеждения и не за то, что они их распространяли, а единственно за то, что эти убеждения не побудили их подать в отставку, чтобы быть свободными в своих взглядах и не быть неблагодарными [по отношению к императору].
В армии проведены аресты, свидетельствующие о распространении зла в С.-Петербурге, Москве и в частях 1-й армии. Говорят о наказаниях, что вполне вероятно, но здесь стараются окутать тайной и молчанием серьезность и масштабы ежедневно возрастающего беспокойства»[803]. <…>
Тогда же, в июне 1862 г., Фурнье впервые говорит о некой антиправительственной организации, угрожающей государственным устоям Российской империи. «…Существует подрывная партия, – с тревогой сообщает он министру иностранных дел, – которая не остановится перед любым преступлением ради того, чтобы заставить поверить в свою мощь, и для которой все средства хороши…». Эта угроза, добавляет французский дипломат, будет возрастать, «если правительство не будет проявлять должной проворности, предусмотрительности и энергии, необходимой для полного искоренения всех подобного рода замыслов»[804].
Фурнье склонен приписать действиям «подрывной партии» даже пожары, случившиеся в Петербурге в начале лета 1862 г., что можно было объяснить как обычными бытовыми причинами, так и следствием грозы, частой в это время года. Он же считает их организованными поджогами. «Недавние пожары, – пишет Фурнье в очередном донесении в Париж, – раскрыв правительству политическое существование активной партии, творящей зло, придали его поведению не свойственную ему прежде поспешность; оно, наконец-то, осознало опасность, которую не сумело предвидеть»[805].
Не способствовала укреплению стабильности в государстве и правая оппозиция проводимым преобразованиям. Разумеется, консервативное дворянство, внутренне не принявшее Манифест 19 февраля, не могло себе позволить открыто выступить против него, но оно не могло и отказать себе в единственно возможном для него удовольствии – дать понять императору, что дворянство недовольно затеянной им крестьянской реформой.
Как и в период подготовки реформы, тон здесь задавало московское дворянство, что проявилось при первом, после подписания февральского Манифеста, посещении Александром II первопрестольной в июне 1861 г. Демонстративное недовольство дворян Московской губернии резко контрастировало с проявлениями народного энтузиазма во время пребывания императора в Москве, что было отмечено в одном из донесений французского посольства в Париж.
Из депеши герцога де Монтебелло от 11 июня 1861 г.:
<…> «Прием, который был оказан императору Александру во второй столице империи, заметно отличался в том, что касается двух, четко обозначенных классов, составляющих русский народ. В то время как крестьяне приветствовали Его Величество с энтузиазмом, который им всегда внушает лицезрение государя, московское дворянство удалилось в свои имения, а те его представители, которые остались [в городе], предпочли укрыться от Двора, демонстрируя [тем самым] очевидную сдержанность…»[806]. <…>
И все же, каково бы ни было недовольство консервативно настроенной части дворянства, и сколь бы не тревожили общество отдельные выступления вчерашних крепостных крестьян, в свою очередь, не удовлетворенных условиями освобождения от крепостной зависимости, механизм крестьянской реформы, запущенный 19 февраля 1861 г. остановить уже было невозможно. Каким бы слабым и нерешительным правителем не казался многим Александр II, именно его направляющей волей и упорством реформа была реализована. Довольно скоро это поняли и в посольстве Франции в Петербурге, где пересмотрели прежний взгляд на Царя-Освободителя, а заодно и на перспективы дальнейшего развития России, которые еще годом ранее виделись в довольно мрачных тонах.
Из донесения Монтебелло в МИД Франции от 9 сентября 1862 г.:
<…> «Когда император Александр принял решение освободить крепостных в своей империи, он [полностью] отдавал себе отчет в том, что столь радикальное изменение в общественном устройстве этой огромной страны повлечет за собой общее преобразование [всей] финансовой, административной и юридической системы России. Он не отступил перед этой огромной работой, и едва лишь были обнародованы положения об освобождении крестьян, как он приступил к изучению главных вопросов, связанных с [реализацией] этой реформы. <…>
В то время как великое дело освобождения приносит свои благотворные плоды, оно постепенно продвигается вперед таким образом, что его окончательный успех отныне может считаться обеспеченным» [807]. <…>
Уже через два года после освобождения крестьян, когда завершился самый трудный, переходный период в реализации реформы, французские дипломаты отметили невиданный скачок в социально-культурной жизни пореформенной русской деревни, наиболее показательным примером чего они считали стремительный рост сельских школ. По приводимым в их донесениях данным, число сельских школ в 27 губерниях России возросло с 1956 накануне 19 февраля 1861 г. до 6666 к весне 1863 г., т. е. оно более чем утроилось.
По случаю исполнявшейся второй годовщины издания Манифеста 19 февраля посол Франции герцог де Монтебелло в донесении новому министру иностранных дел Э. Друэн де Люису[808] подвел предварительный итог реализации крестьянской реформы, которая, по его убеждению, позволила императору Александру приступить к осуществлению других задуманных им широкомасштабных преобразований в своей империи.
Из донесения Монтебелло от 10 марта 1863 г.:
<…> «…Сегодня, господин министр, можно считать свершившимся фактом это великое дело освобождения крепостных, обязанное своим успехом инициативе и настойчивости императора Александра. Одно это составит славу его царствования. Сегодня на всем пространстве империи крестьяне свободны, имеют собственность и управляются избираемыми ими собраниями. Никогда еще столь смелое предприятие не осуществлялось в столь огромных масштабах, и его успех превзошел все ожидания. Сопротивление на местах, на которое наталкивалась благодетельная воля императора, оказалось намного слабее, чем предполагали, и повсеместно эта воля без труда побеждала. Высказывались опасения, что 19 февраля с.г., по случаю второй годовщины обретения крестьянами свободы, могут иметь место какие-то волнения. На сегодняшний день из глубин [империи] не поступало никаких сообщений, которые могли бы подтвердить обоснованность подобных опасений, и это говорит само за себя…
Освобождение крепостных было необходимой отправной точкой масштабных преобразований в устройстве империи. Император Александр не отступил перед решением этой задачи. Были приняты основополагающие принципы нового правового устройства, о чем я сообщал г-ну Тувенелю. Реализация этих принципов осуществляется безостановочно. Проект, относящийся к провинциальным учреждениям, уже подготовлен; одновременно ведется работа по организации нового муниципального устройства (т. е. земства и городского самоуправления. – П.Ч.) на всей территории империи. Готовится крупная реформа финансовой системы. Водочный откуп, начиная с 1 января с. г., был заменен акцизным сбором, и уже полученные результаты дают основание предвидеть возрастание доходов [казны] вместо привычного дефицита, ожидавшегося, по меньшей мере, в этом году.
Таков, господин министр, самый общий итог реформ, предпринятых императором Александром. Они обещают его огромной империи результаты, превосходящие [по значению] последствия всех завоеваний, и будут способствовать возрастанию ее мощи и процветания» [809]. <…>
Спустя некоторое время, Монтебелло подтверждает свое, ранее высказанное мнение, о «непреклонном желании императора Александра следовать по пути либеральных реформ»[810]. Теперь, после благополучно осуществленной крестьянской реформы, Александр II, как полагал посол Франции, безотлагательно приступит е политическим преобразованиям.
Земская реформа
Французский дипломат не ошибся в своем прогнозе. Первым шагом на пути политических реформ станет введение в стране, начиная с 1864 г., новой системы местного самоуправления (земства)[811].
Подготовка земской реформы началась еще в марте 1859 г., когда высочайшим повелением при Министерстве внутренних дел была создана межведомственная, как бы мы сейчас сказали, комиссия для разработки закона «О хозяйственно-распорядительном управлении в уезде». Изначально предполагалось предоставить хозяйственному управлению в уезде больше единства, самостоятельности и доверия, а также определить степень участия каждого сословия в этом хозяйственном управлении. Одновременно подчеркивалось, что задумываемые правительством органы местного управления не должны и не могут выходить за рамки хозяйственных вопросов местного характера. Чуть позднее император дал поручение комиссии при МВД составить на этих же началах проект образования губернского правления.
Руководство комиссией, составленной из представителей министерств юстиции, финансов, военного, государственных имуществ, а также главного управления путей сообщения, было возложено на и. д. товарища министра внутренних дел Николая Алексеевича Милютина.
Французские дипломаты в Петербурге давно присматривались к Н.А. Милютину, считая его одной из самых перспективных фигур в окружении Александра II. Еще в 1858 г. в конфиденциальной записке
0 ближайших сподвижниках молодого императора временный поверенный Шарль Боден следующим образом характеризовал Милютина, тогда еще директора Экономического департамента МВД: «Это человек замечательных способностей, тонкого и широкого ума, выдающийся администратор. Общественное мнение прочит его в министры внутренних дел. Это человек прогресса и будущего»[812].
Комиссия Милютина работала в условиях строжайшей секретности, сумев избежать утечки информации. Видимо, по этой причине в переписке французского посольства не найти никаких сведений о ее работе. В апреле 1860 г. комиссия представила императору проект «Временных правил» местного управления, основанных на принципах выборности и бессословности, что предполагало привлечение к участию в местном самоуправлении всех слоев населения.
Последнее обстоятельство определило резко отрицательное отношение к Милютину консерваторов из состава Редакционных комиссий по подготовке крестьянской реформы, которым давно был не по душе «радикализм» товарища министра внутренних дел. Воспользовавшись смертью 5 февраля 1860 г. руководителя Редакционных комиссий либерально настроенного генерала Я.И. Ростовцева, консерваторы стали энергично добиваться отставки его единомышленника и ближайшего соратника, Милютина. Одновременно они требовали доработки «Временных правил» о местном управлении, настаивая на предоставлении преимуществ дворянам-землевладельцам за счет сокращения представительства крестьян и отстранения от участия в выборах рабочих и ремесленников.
Эти пожелания были учтены Александром II, который в апреле 1861 г., через пять недель после издания Манифеста 19 февраля, отправил в отставку Н.А. Милютина, а заодно и его покровителя, главу МВД графа С.С. Ланского. Этот вынужденный жест в сторону консерваторов император смягчил назначением Милютина в Сенат. А через два года он сделает его статс-секретарем для особых поручений и направит в Польшу для проведения там крестьянской реформы.
Так или иначе, но окончательная доработка закона о местном управлении в России велась уже без участия Милютина. Комиссию возглавил новый министр внутренних дел П.А. Валуев. Он вынужден был пойти на уступки требованиям консерваторов, но сумел отстоять основные принципы, заложенные во «Временных правилах» 1860 г. – выборность и бессословность.
15 марта 1862 г. Валуев представил подготовленный вариант «Положения» о земской реформе в Особое совещание под председательством великого князя Константина Николаевича. Затем, после высочайшего одобрения, доработанное «Положение» в мае 1863 г. поступило на рассмотрение Государственного Совета. На этой стадии французским наблюдателям удалось получить некоторую, правда, скупую, информацию о прохождении законопроекта.
Из депеши герцога Монтебелло от 18 июля 1863 г.:
<…> «Предводители дворянства и губернаторы Петербурга и Москвы приглашены для участия в работе Комитета Государственного Совета империи, возглавляемого князем Гагариным, для того чтобы выработать систему провинциальных учреждений, основы регламента которой уже одобрены императором.
Полномочия, предоставленные этим регламентом провинциальным [уездным и губернским] комитетам [управам], имеют много общего с теми, которыми наделены наши Генеральные советы[813]. Но что особо примечательно и что означает введение в России нового порядка вещей, так это их состав.
Право направлять в комитеты [управы] представителей не будет отныне исключительной привилегией дворянства. Их состав будет формироваться путем бессословных выборов среди горожан-собственников без каких-либо ограничений, а в сельской местности – среди волостных старшин (les syndics de Baillages) и деревенских старост.
Избирательная система будет очень широкой, она будет в определенной степени пропорциональной и основанной на имущественном цензе.
Новый закон, призывающий к участию в политической жизни все население Империи, серьезнейшим образом изменит состав провинциальных собраний в западной части империи, где они уже были созданы исключительно для поляков и католиков.
В чем смысл создания провинциальных советов? Думаю, можно с полной уверенностью утверждать, что, по замыслу Императора Александра, они должны стать фундаментом, на который будет опираться система более широкого участия [населения] страны в решении собственных проблем.
Император намерен одновременно запустить [механизм] свобод, которые он желает даровать своим подданным в России и Польше.
Об этом мне неоднократно, в том числе и совсем недавно, говорил князь Горчаков. Вообще же, в публике широко распространено мнение, что представительный элемент в скором времени будет введен и в Государственном Совете, полномочия которого будут расширены [814].
Следует признать, что это стало бы важным шагом Императора Александра на пути прогресса, по которому он следовал до сих пор, и с которого не намерен сворачивать. Либеральные учреждения, отличающиеся, но не столь сильно, в Российской империи и в Царстве Польском, служили бы поддержкой друг для друга, и являлись бы наилучшей и наиболее прочной гарантией [продолжения взятого курса].
Когда Император осуществит эту последнюю реформу, он, тем самым, мирными средствами, проведет в Российской империи великие юридические, административные, социальные и политические преобразования, которые восславят его царствование в последующих поколениях»[815]. <…>
Между тем обсуждение «Положения» в Государственном Совете затянулось на несколько месяцев, что вызвало недовольство императора.
В ноябре 1863 г. последовал высочайший приказ в любом случае завершить доработку законопроекта до наступления нового, 1864 года. Воля императора была исполнена. 1 января 1864 г. Александр II утвердил представленное ему «Положение о губернских и уездных земских учреждениях».
Действие «Положения» распространялось на 33 (менее половины от общего их числа) великорусские губернии, где преобладало русское дворянство. Остальные великорусские губернии, где не было или почти не было дворянского землевладения, а также национальные окраины, первоначально исключались из сферы действия земского самоуправления.
Согласно принятому закону, в 33 губерниях создавались земские учреждения, состоявшие из распорядительных (уездных и губернских земских собраний) и исполнительных (уездных и губернских земских управ) органов, избираемых на трехлетний срок. Члены земских собраний получили название «гласных», т. е. имеющих право голоса. Количество гласных на уездном уровне колебалось от 10 до 96, а на губернском – от 15 до 100 человек. Уездные и губернские управы состояли из 4–6 членов.
Как определял новый закон, земства, как общественные органы, призваны были ведать хозяйственными делами уездов и губерний на тех же основаниях, что и хозяйства частные, управляемые собственниками. В рамках предоставленных им полномочий земства располагали полной самостоятельностью, но им запрещалось вмешиваться в компетенцию правительственных, сословных и других учреждений. Земских должностных лиц и служащих могли привлечь к судебной ответственности, если они выходили за рамки своей компетенции.
Деятельность земских учреждений ограничивалась исключительно хозяйственными вопросами местного значения: устройство и содержание местных путей сообщения, земской почты, земских школ, больниц, богаделен и приютов, контроль за местной торговлей и промышленностью, ветеринарная служба, страхование, местное продовольственное дело, постройка церквей, содержание местных тюрем и домов для умалишенных. Общий надзор за земскими учреждениями был возложен на территориальные (губернаторы) и центральные (МВД) инстанции.
Наблюдатели из посольства Франции в Петербурге проявили проницательность, еще в начале 1864 г. усмотрев грядущие конфликты земских собраний с государственной властью по вопросу сферы компетенции первых. Вот что писал об этом в феврале 1864 г. в МИД Франции граф де Массиньяк, замещавший находившегося в отпуске герцога де Монтебелло во главе французской дипломатической миссии: «Можно предвидеть, что в некоторых губерниях новые собрания будут стремиться к тому, чтобы выйти за пределы предписываемых им полномочий, однако длительная привычка русского народа к безропотной покорности и послушанию может служить надежной и долгосрочной гарантией того, что правительству не составит большого труда сдерживать эти слабо организованные устремления к независимости»[816].
Несмотря на введенные ограничения в их деятельности земства с самого начала стали играть очень важную роль в социально-экономическом развитии русской провинции. В течение всего лишь полутора десятилетий со времени их создания земства открыли на селе 12 тысяч школ, где обучались крестьянские дети. Земства создали не существовавшую прежде в сельской глубинке сеть медицинских учреждений, что заметно снизило показатели смертности среди крестьян. С введением земства в России появилась земская статистика, сыгравшая важную роль в изучении народного хозяйства в провинции.
Реализация земской реформы началась в середине 1865 г., когда были завершены все необходимые подготовительно-организационные работы. К этому времени герцог де Монтебелло, возглавлявший посольство Франции в Петербурге на протяжении шести с половиной лет, завершил свою миссию и был отозван в Париж, где занял кресло сенатора.
Его преемником, как уже говорилось, стал барон Шарль де Талейран-Перигор, который имел определенное представление о России, где служил в качестве секретаря посольства в эпоху Николая I.
Приезд Талейрана в Петербург совпал с началом осуществления земской и последовавшей за ней судебной реформы. В политических реформах французский дипломат увидел логическое продолжение главного, что к тому времени успел сделать Александр II – отмены крепостного права. Любопытно, что новый посол Франции, по достоинству оценив «Положение» о введении земства, все же усмотрел в принятом законе явное влияние консерваторов, сумевших на последнем этапе его редактирования смягчить излишний либерализм первоначального законопроекта.
Из депеши Талейрана от 5 июня 1865 г.:
«Освобождение крестьян не только разрушило прежние отношения между земельной аристократией и крестьянами, но и глубоко изменило положение этих двух общественных классов по отношению к государству, как по части налогообложения, так и судебной администрации. Согласно весьма распространенному в официальных кругах мнению, – продолжал французский дипломат, – было совершенно необходимо защитить крестьянина действенными установлениями от пагубного влияния дворянина, внезапно освобожденного от тягостных забот о нуждах бедняков и от той ответственности, которая на нем лежала по набору рекрутов и по другим обязательствам, предписываемым государством сельскому населению. Со времен Великой Екатерины и до освобождения [крестьян] все местные сборы (пошлины), государственное призрение и почти вся сельская администрация находились в руках дворянских собраний, которые раз в три года собирались для обсуждения всех этих вопросов в административном центре своей провинции.
Сразу же после освобождения [крестьян] эти собрания, в большинстве своем вдохновляемые искренним духом реформаторства, в ряде случаев выразили желание принять в свой состав любого землевладельца, независимо от сословия, к которому он принадлежит, и имущество которого оценивалось бы выше определенного уровня. Сверх того они были готовы принять в свой состав на аналогичных условиях представителей от городов и, наконец, выразили согласие пересмотреть свой устав на основе справедливого представительства земельной собственности, с целью придти [однажды] к [созданию] центральных и парламентских институтов.
Бюрократическая партия, осознавшая, что все эти разумные либеральные тенденции с их демократическими устремлениями содержат угрозу для аристократии, поспешила отвергнуть подобного рода предложения. Чтобы положить предел подобным тенденциям, эта партия взяла инициативу в свои руки и представила на утверждение Императора указ о провинциальных учреждениях, который был обнародован 1 января 1864 года.
Эти учреждения имеют много общего с существующими во Франции Генеральными советами, и Ваше превосходительство сможет в этом убедиться, прочтя прилагаемый ниже перевод [ «Положения»], который я сегодня же пересылаю, не обнаружив в бумагах Посольства следов того, что данный документ был после его публикации отослан в Департамент [МИД Франции].
Только что объявленное вступление в силу вышеупомянутого Указа даст мне необходимый материал, для того чтобы в самом недалеком времени представить второй доклад по этому вопросу, который затрагивает самые жизненно важные интересы России». <…>[817].
Обещанный Талейраном второй доклад был составлен им в начале сентября 1865 г. Он должен был быть посвящен началу деятельности губернских и уездных земских собраний, но в связи с тем, что к этому времени не завершились даже выборы в эти собрания, то и писать, собственно, было пока не о чем. Именно поэтому доклад Талейрана оказался весьма кратким, хотя и содержал отдельные, еще предварительные, но все же интересные наблюдения.
Информируя министра о том, что земские собрания сформированы пока лишь в 10 из 33 великорусских губерний, обозначенных в «Положении», и что по этой причине рано подводить итоги, Талейран, тем не менее, сообщает о преобладании почти во всех уже избранных губернских и уездных собраниях представителей дворянства. «Этот факт не должен вызывать удивления, если учесть, насколько не подготовлены и неопытны еще по сравнению с дворянством все другие классы [русского общества] в области управления. Без всякого сомнения, их уровень со временем поднимется так же как возрастет и их опытность, но пока именно дворянству, благодаря его просвещенности и образованности, предстоит играть ведущую роль в общественных делах»[818].
Итоговые выборы земских гласных в уездные и губернские собрания полностью подтвердили предварительный вывод барона Талейрана о преобладании дворян в их составе, особенно на губернском уровне. Так, доля гласных от дворянского сословия в уездных земских собраниях первого созыва (1864–1867 гг.) составила 41,64 %; от крестьян – 38,45; от купечества – 10,42; от духовенства – 6,5. Зато в губернских земских собраниях доля дворянства составила уже 74,16 %, а представительство крестьян – лишь в 10,55 % (купечество – 10,95 %, духовенство – 3,8 %)[819].
К началу 1867 г. земская реформа распространилась на 28 губерний Российской империи, а к концу года – еще на две губернии.
Несмотря на законодательные ограничения и строгий правительственный контроль за тем, чтобы земства не выходили за пределы сугубо хозяйственной деятельности на местном уровне, в появившемся земском движении, постепенно приобретавшем либерально-оппозиционный характер, обозначилась тенденция к расширению сферы компетенции земских учреждений, к распространению принципов самоуправления на организацию высшей государственной власти. Именно этого с самого начала так опасались консерваторы, постаравшиеся до предела ограничить полномочия земства, что нашло свое отражение в «Положении» от 1 января 1864 г.
Указанная тенденция впервые проявилась в начале 1867 г., причем возмутителем спокойствия, подавшим пример остальным, выступило Петербургское земское губернское собрание. Конфликт столичного земства с правительством, начавшийся с вопросов выдачи торговых патентов, а также размеров местных налогов, отданных на усмотрение уездных и губернских собраний (центральные власти сочли земские сборы неоправданно завышенными), вскоре приобрел политическую окраску. На ежегодной сессии Петербургского земского губернского собрания (январь 1867 г.) ряд его наиболее либерально настроенных депутатов («гласных») подняли вопрос о расширении полномочий земства за пределы собственно хозяйственной деятельности и даже о распространении начал самоуправления на центральные органы власти.
Центральная власть не замедлила с ответом. На десятый день работы Петербургского губернского собрания последовал высочайший указ о прекращении его деятельности и роспуске. В указе достаточно четко была сформулирована и причина столь жесткого решения: «…Петербургское губернское собрание, с самого открытия своих заседаний, действует несогласно с законами, и вместо того, чтобы, подобно земским собраниям других губерний, пользоваться Высочайше дарованными ему правами для действительного попечения о вверенных ему местных земско-хозяйственных интересах, непрерывно обнаруживает стремление неточным изъяснением дел и неправильным толкованием законов, возбуждать чувства недоверия и неуважения к правительству»[820].
Но правительство этим не ограничилось. Одновременно была распущена губернская и все уездные земские управы Петербургской губернии, где было приостановлено действие Положения о земских учреждениях. Такая же судьба постигла и городскую думу Санкт-Петербурга. Вслед за этим к земцам была впервые применена карательная мера: председатель Петербургской губернской земской управы Н.Ф. Крузе был выслан в Оренбург.
Французский посол, внимательно следивший за ходом земской реформы, счел необходимым информировать Париж о развитии этого конфликта. В одной из депеш он описал открытие 16 января (н. ст.) сессии земского собрания Петербургской губернии под председательством гражданского губернатора графа Н.В. Левашова, который призвал гласных действовать в точном соответствии с предписаниями, содержащимися в регламенте земских собраний. Талейран отметил активную роль председательствовавшего на первом заседании графа Орлова-Давыдова, губернского предводителя дворянства. Характеризуя Орлова-Давыдова, Талейран подчеркнул, что молодые годы графа прошли в Англии и что он охотно афиширует свою симпатию к политическим нравам этой страны, не упуская случая, чтобы «высказать свои парламентские убеждения»[821]. Не упустил он такой возможности и при открытии сессии. Орлов-Давыдов ответил Левашову в том смысле, что земские депутаты – это посредники между властью и населением империи, интересы которого они представляют, и что уже по этой причине они должны иметь более широкие полномочия.
В конфликте, возникшем на сессии Петербургского земского собрания, барон Талейран усмотрел проявление борьбы либералов и консерваторов, великого князя Константина Николаевича и главы МВД П.А. Валуева, с одной стороны, и князя П.П. Гагарина, вице-председателя Государственного Совета, – с другой[822].
На данный момент, как констатировал Талейран, никто не может указать с полной определенностью на ту границу, которую определило для себя императорское правительство в проведении либеральных преобразований. «Мне чрезвычайно трудно… описать то состояние правительственного разлада, в котором в настоящее время находятся все политические группировки в России. Каждый констатирует болезнь, каждый может указать на нее, но когда речь заходит о выборе лекарства и способе его применения, как начинаются бесконечные дискуссии, возникают колебания и т. д.», – писал Талейран министру иностранных дел маркизу де Мустье. Далее он продолжал: «Для России была бы лучше, пусть, даже плохая, но последовательная система, чем это постоянное затягивание, которое не приносит никакой пользы. Здесь творится нечто непонятное: заведомо консервативно настроенные чиновники призваны проводить в жизнь ультрадемократические решения, а политические деятели, известные своими демократическими воззрениями, напротив, должны подписывать реакционные распоряжения. Среди этого хаоса идей редко можно встретить государственных мужей, способных противостоять критике с обеих сторон», – с сожалением констатировал Талейран[823].
К их числу он относил двух человек – министра внутренних дел Петра Александровича Валуева («одна из самых ярких личностей в Империи», по определению Талейрана) и военного министра генерала Дмитрия Алексеевича Милютина[824] («один из лучших военных администраторов в России»). Если первого французский посол называет безусловным «либералом», то второго определяет «скорее как консерватора». И при том, к удивлению Талейрана, оба они – и «либерал» Валуев, и «консерватор» Милютин – подвергаются одинаково острым нападкам справа. «Валуева атакуют за те его решения, которые ущемили интересы вчерашних господ, а генерала Милютина… – обвиняют во враждебности к аристократической фракции в армии и, особенно к императорской гвардии, что проявляется в его намерении внедрить там демократический дух»[825].
Талейран не скрывает своего удивления в связи с тем, как быстро в русском обществе оформились оппозиционные настроения. «Не могу не обратить Вашего внимания, господин маркиз, на то, какую огромную дистанцию прошли умонастроения в России за столь короткий срок существования [земских] собраний, чтобы они так открыто могли оспаривать решения Императора», – писал посол министру в середине февраля 1867 г. в связи роспуском Петербургского губернского земского собрания и столичной думы[826].
В одной из последующих депеш Талейран информирует Париж о демарше саратовского и харьковского земских собраний, которые в специальных обращениях к главе МВД П.А. Валуеву выразили свое беспокойство по поводу прекращения деятельности петербургского земства. Саратовцы и харьковчане поставили вопрос о том, сохраняются ли за ними свободы и прерогативы, определенные законом от 1 января 1867 года?
Рост оппозиционных настроений среди земских кругов, как сообщал Талейран, ослабляет позиции Валуева, против которого начинает интриговать начальник Третьего отделения и шеф жандармов граф П.А. Шувалов, мечтающий получить портфель министра внутренних дел и одновременно сохранить за собой руководство политической полицией. «…Не подлежит сомнению, – писал французский посол, – что Император пошел на принятие суровых мер против земства, в значительной степени уступая давлению графа Шувалова. <…> Об отставке Валуева говорят, как о деле предрешенном»[827].
В той же депеше Талейран сообщает о ставших ему известными разногласиях в Государственном Совете по поводу роспуска петербургского земского собрания. «Князь Горчаков, – писал Талейран, – отказался отдать свой голос в пользу приостановки работы собрания, но никак не мотивировал свое голосование, в то время как военный министр генерал Милютин, проголосовав против этого предложения, заявил, что считает его несвоевременным и опасным для Императора и для династии в целом. Подобного рода предостережения, сделанные человеком такого уровня, как генерал Милютин, не могут не вызывать серьезных размышлений. Впрочем, – резюмировал французский дипломат, – с другой стороны, мне кажется, что Император в глубине души очень озабочен и очень взволнован; при этом он не оказывает полной доверенности ни одному из своих советников, и [сам] не знает, до какой степени на лице Его Императорского Величества отражаются озабоченности, связанные с нынешними внутренними сложностями»[828].
Конфликт петербургского земства с правительством был вскоре урегулирован. Александр II доказал, что не намерен сворачивать с избранного пути. Он ограничился временными, можно сказать, предупредительными мерами. Спустя шесть месяцев после их введения, все санкции в отношении петербургского земства были отменены. 13 июня 1867 г. император подписал закон, расширявший права земских, городских и сословных председателей и возлагавший на них ответственность за соблюдение порядка в заседаниях. Новый закон ограничивал гласность земских совещаний и решений. Это означало, что все постановления собраний, противоречащие закону, не имеют юридической силы.
Вместе с тем, земская реформа продолжалась. Что же касается слухов о скорой отставке Валуева, о которых сообщал в Париж барон Талейран, то они подтвердятся только через год, в марте 1868 г. До этого П.А. Валуев успеет принять участие в разработке и запуске реформы судопроизводства, изменившей былые представления о русском правосудии, как о «шемякином суде».
Судебная реформа
С полным на то основанием Судебная реформа 1864 г. считается наиболее завершенной и наиболее радикальной из всех преобразований Александровского царствования. Впервые в тысячелетней истории России судебная власть была официально отделена от исполнительной, административной и законодательной. Более того, по мнению большинства исследователей, реформа 1864 года сделала систему судопроизводства в России едва ли не самой передовой в Европе 60-х – 70-х гг. XIX века[829].
По каким-то, не вполне ясным причинам, судебная реформа не привлекла к себе столь же пристального внимания французских дипломатов, как крестьянская или земская. Во всяком случае, в переписке посольства Франции в Петербурге со своим Министерством иностранных дел можно найти гораздо меньше информации на эту тему. Тем не менее, французские наблюдатели дали объективную и верную оценку осуществленной императором Александром II революции в области судопроизводства в России.
Как известно, подготовка судебной реформы началась еще в 1861 г. Этим занималась Государственная канцелярия, разработавшая документ под названием «Основные положения преобразования судебной части в России». После обсуждения в Государственном Совете законопроект был разослан для отзывов в судебные учреждения, университеты и даже за границу – авторитетным европейским юристам. Полученные замечания были изучены специальной комиссией, представившей окончательный вариант законопроекта на высочайшее утверждение. 20 ноября 1864 г. Александр подписал закон, который вступил в силу в 1866 г., когда были окончательно сформированы все органы новой судебной власти.
Судебные уставы 1864 г. были основаны на принципах бессословности суда, его независимости от административной власти, несменяемости судей и судебных следователей, состязательности и гласности судебного процесса с участием в нем присяжных заседателей и адвокатов. Главное отличие нового суда от прежнего заключалось в том, что он распространялся на все сословия без исключения. Такого суда не знала прежде ни Московская Русь, ни Российская империя. На вершине судебной системы находился Сенат – единственная в государстве кассационная инстанция, где можно было обжаловать решения нижестоящих судов в случае нарушения ими процедурных правил. Сенат обеспечивал единство судебной практики в масштабах всей империи и следил за соблюдением правил судопроизводства.
Новые судебные уставы основывались преимущественно на принципах европейского права, хотя в них и сохранялись отдельные элементы дореформенного сословного суда. Но в целом это был очевидный прорыв на пути прогресса в области судопроизводства, что ликвидировало один из цивилизационных барьеров, отделявших Россию от остальной Европы.
Французские дипломаты в Петербурге, конечно же, были в курсе подготовки судебной реформы, но они, видимо, были настроены скорее пессимистично относительно ее успеха. Их смущал низкий уровень правовой культуры в России. «Русское законодательство пребывает в хаосе, – писал по этому поводу секретарь посольства Франции Анри Фурнье в июле 1862 г. – Представленное в виде 17 томов[830], оно ежедневно дополняется новыми распоряжениями и новыми указами и, соответственно, улучшается или осложняется, в зависимости от случайной прихоти правительственных инстанций или императорских решений. <…> Законодательный дух, чувства Закона и Права и все печальные последствия, которые вытекают из недостатка индивидуальности и прав личности, полностью отсутствующих у русского народа, составляет одну из самых отличительных и самых азиатских черт его характера»[831].
Когда правительство предало гласности содержание проекта готовящихся судебных уставов, французское посольство дало свою предварительную оценку предстоящей реформе.
Из депеши герцога Монтебелло в МИД Франции от 20 октября 1862 г.:
<…> «Император Александр не мог бы совершить более патриотического деяния; оно поставит его в глазах всего мира и собственной страны выше его отца, который признавал только права короны, не оставляя своему народу возможности улучшить жизнь; оно поставит его и выше Александра I, который лишь мечтал о том, что осуществляется сегодня. Его Величество желает, чтобы новый порядок вещей установился до 15 января [1863 года], и есть все основания надеяться и даже утверждать, что 1863 год завершится введением в действие новой судебной организации.
Нужно знать Россию, чтобы в полной мере оценить те гигантские шаги, которые она может проделать на открывающемся перед ней пути; в ближайшем будущем – это установление преобладающего влияния гражданского порядка над военным, который до сих пор доминировал над нацией, держа ее в обруче жесткой дисциплины… Независимость и активность сознания придут на смену административной косности.
Ни один человек [в России] до сих пор не видел перед собой перспективы независимой карьеры. При общей численности населения 70 миллионов лишь от 200 до 250 тысяч человек живут здесь европейской жизнью, но и они были обречены лишь на то, чтобы выполнять какие-либо функции при Дворе или в армии. Эти обязанности им скорее навязываются, нежели выбираются по доброй воле. Никто не может отличиться иначе, чем через [высочайшую] благосклонность, которая редко награждает истинные заслуги и достоинства…
Я не утверждаю, что сегодня все должно измениться, но все может измениться. Создаются условия, при которых люди могут формировать себя сами, если они имеют к этому способности и устремления. Молодежь, думающая о гражданской карьере, обнаруживает стремление к образованию, которое она считает для этого необходимым. Мечта многих молодых людей из самых знатных и древних фамилий – сделать карьеру на адвокатском поприще.
Предоставляя своему народу слово в области правосудия, Император Александр создает ему основополагающие условия для развития общественного сознания и возвышения людей. Он открывает новое поле деятельности перед славянским сознанием, и только будущее покажет, сумеет ли Россия, которая возвысилась в условиях рабства и деспотизма, в отличие от других, ей подобных, сохранить свою силу в условиях свободы и стать, наконец, полезной миру в той же степени, как она была для него опасной». <…> [832].
Вопреки ожиданиям, принятие новых судебных уставов затянулось до поздней осени 1864 г. В посольстве Франции усматривали в этом затягивании влияние консерваторов в окружении Александра II. Появились слухи, что судебная реформа может начаться с локального эксперимента в одной-двух, скорее всего столичных, губерниях. Временный поверенный в делах Франции в Петербурге граф де Массиньяк в донесении министру писал об этом в феврале 1864 г.: «Меня уверяют, что в довольно скором времени попытаются применить новую реформу в одной или двух губерниях. Высокопоставленные политические деятели в Петербурге, отлично знающие дух страны, и намерения правительства, заверяют меня, что пройдет еще немало лет, прежде чем все эти различные реформы будут распространены на всю территорию Империи»[833].
Прогноз французского дипломата, сделанный на основе имевшейся у него информации, частично оправдался. Первоначально, т. е. в 1866 г., судебная реформа, в порядке эксперимента, начала проводиться лишь в 10 губерниях, включая две столичные – Петербургскую и Московскую. И лишь к 1870 г. она затронула еще 34 губернии, т. е. не всю, а лишь немногим более половины всей территории Российской империи. Реформа не распространялась на Прибалтику, Польшу, Белоруссию, Сибирь и Среднюю Азию, а также на северные и северо-восточные окраины европейской части России. Вместо отведенных на ее реализацию шести лет судебная реформа затянулась на несколько десятилетий. Одной из серьезных причин этого затягивания был острый кадровый дефицит – не хватало профессионально подготовленных судебных чиновников. На это важное обстоятельство французские наблюдатели обратили внимание еще в 1865 году, предвидя неизбежные сложности с введением новых судебных уставов. «…Проведение в жизнь судебной реформы, – сообщал в Париж барон Талейран в марте 1865 г., – встречает трудности, объясняемые неопытностью людей, что тормозит реализацию этого важного дела»[834].
Так или иначе, но судебная реформа в России была запущена. Она стала самым крупным в истории России шагом к правовому государству. Именно так и оценивали ее политические наблюдатели из посольства Франции в Санкт-Петербурге.
Реформа системы народного образования. Ослабление цензуры
Французские дипломаты не обошли вниманием и реформы в области народного образования, осуществленные в первой половине 1860-х гг. Как и на других направлениях, здесь был осуществлен глубокий прорыв по пути прогресса, причем, на всех трех уровнях – начального, среднего и высшего образования.
18 июня 1863 г. принимается новый университетский устав, который вернул университетам былую автономию, дарованную еще в 1804 г. Александром I, и отмененную Николаем I в 1835 г. По уставу 1863 г., все вопросы университетской жизни отныне решались Советом университета, а должности ректора, проректоров, деканов и профессоров становились выборными. К числу уже имевшихся университетов в это время добавился еще один – Новороссийский университет в Одессе. Устав 1863 г. самым благотворным образом сказался на оживлении всей учебной и научной жизни в университетах. Позднее, уже в 1870-е гг., было найдено компромиссное решение болезненного вопроса о высшем образовании для женщин, которых в России не принимали в университеты. Для них откроют Высшие женские курсы профессора В.И. Герье в Москве и Бестужевские (по имени их организатора, профессора К.Н. Бестужева-Рюмина) курсы в Петербурге.
Вслед за высшей школой реформе подверглась система среднего образования. 19 ноября 1864 г. император Александр II утвердил новый устав гимназий, по которому среднее образование стало доступным не только для дворянских отпрысков, но также для детей купцов, мещан и крестьян. Здесь, как и в университетской реформе, Александр II восстановил положение, существовавшее с 1803 г. и отмененное в 1828 г. Правда, в условиях крепостной зависимости крестьянские дети практически не имели возможности получить среднее образование. Теперь же, такая возможность стала действительно реальной, по крайней мере, для мальчиков из зажиточных и среднеобеспеченных семей. По уставу 1864 г., система среднего образования включала в себя два типа учебных заведений – классические гимназии и реальные училища. Выпускники гимназий имели право продолжить образование в университетах, а выпускники реальных училищ пополняли ряды студентов технических высших учебных заведений.
Освобождение крестьян в 1861 г. поставило неотложный вопрос о низшем, начальном образовании в стране. Он нашел свое разрешение в Положении о начальных народных училищах, утвержденном императором 14 июля 1864 г. В этом вопросе правительство заявило о намерении действовать совместно с органами земского и городского самоуправления. С момента возникновения земства устройство начальных школ стало одним из самых важных направлений его деятельности. Сотни тысяч детей крестьянской и городской бедноты получили возможность приобрести хотя бы элементарную грамотность.
Вопросам реформы образовательной системы в России была посвящена специальная записка, составленная послом Франции бароном Ш. де Талейраном для министра иностранных дел Э. Друэн де Люиса в январе 1866 г.[835] Французский дипломат рассмотрел состояние народного образования на всех его уровнях – начальном, среднем и высшем.
Наиболее запущенным он считал положение в начальной школе. Русское правительство, по его мнению, долгое время, и в царствование Александра I, и при Николае I, откровенно пренебрегало начальным образованием, отдавая предпочтение образованию высшему. Столь очевидный перекос Талейран объяснял традиционным, как он полагал, тяготением русских властей к показухе. «Это соответствует общему духу русской политики, которая состоит в том, – писал дипломат, – чтобы заниматься в первую очередь тем, что может поражать иностранцев, скрывая под привлекательной наружностью глубокие пороки, свойственные административному управлению Империи».
Лишь Александр II всерьез занялся начальным образованием, посчитав, что получившие свободу миллионы крестьян должны дать своим детям возможность овладеть элементарной грамотностью. Талейран высоко оценил значение подписанного императором 14 июля 1864 г. Положения о начальных народных училищах, как первого шага в этом направлении. «Реформа низшей школы, – отмечал дипломат, – была самой неотложной из всех преобразований в области народного образования».
Талейран обратил внимание на серьезные проблемы, которые русскому правительству предстоит решить в этой области. «Нехватка хороших учителей в начальных школах всегда была одной из главных причин неудовлетворительного состояния этих учреждений», – отметил французский дипломат. Одновременно он подчеркнул, что правительство активно занимается этим вопросом. «Начиная с 1860 года, – писал Талейран, – Министерство народного образования ищет средства исправить этот недостаток. В 1862 и 1863 годах многие педагоги были направлены в Германию, Швейцарию и Францию для изучения опыта устройства там начальных школ».
Очень важным шагом французский посол считал учреждение в России начального и среднего образования для девочек, а также открытие еврейских школ. «Еврейское население, – писал он, – достигает 1 445 613 человек, проживающих главным образом в западных провинциях, хотя евреев можно встретить также на Кавказе и в Сибири». Многочисленность еврейского населения, по мнению Талейрана, делает совершенно обоснованным решение русского правительства в местах компактного проживания евреев создать школы, призванные дать образование детям-евреям.
Вплоть до последнего времени, продолжал посол, неблагополучным оставалось и положение со средним образованием, что потребовало столь же энергичных мер со стороны правительства.
Из записки барона Талейрана:
«<…> Неудовлетворительное состояние среднего образования пагубным образом сказывалось на высшем образовании. В университеты отправляли людей, мало пригодных для прослушивания лекционных курсов, которые там читаются. Чтобы исправить это зло, министерство не нашло другого средства кроме ужесточения выпускных экзаменов в гимназиях по сравнению с тем, как это было в прошлом.
Надо сказать, что эта мера сократила число учащихся, получивших аттестаты, дающие им право поступления в университет без экзаменов, и можно надеяться, что она окажет благотворное влияние на развитие высшего образования.
Понимая срочную необходимость реформы, министр народного просвещения опубликовал проект закона, приглашая общество принять участие в его обсуждении, путем высказывания соображений и замечаний, которые можно было направлять в министерство. Полученные замечания и предложения были тщательно изучены в Ученом комитете. Таким образом, можно сказать, что новый устав гимназий, утвержденный Императором 19 ноября/10 декабря 1864 года, есть результат совместных усилий многих тысяч человек, заинтересованных в прогрессе среднего образования в своей стране.
Основные положения этого законодательного акта могут быть резюмированы в нескольких словах.
По новому уставу были созданы два типа гимназий, в том числе, – коллежи с классическим обучением, и другие – для профессионального обучения. В учебных заведениях первого типа обучение основано на изучении классических языков, а в школах второго типа – на изучении математики и естественных наук.
Новый устав поднял жалованье учителей гимназий, и это предоставленное преимущество позволило ввести самый строгий отбор при приеме в преподавательский состав. Новый устав улучшил также материальное положение воспитателей, наблюдающих за учениками интернатов. Наконец, гимназии, как классические, так и профессиональные, были разделены на две категории – гимназии 1-й и 2-й ступени.
Реализация всех этих реформ требует ежегодного субсидирования в размере 800 тыс. рублей серебром (т. е. 3 млн. 200 тыс. франков). Финансовое положение Империи не позволяет немедленно выделить столь значительную сумму. Поэтому было решено, что новый устав будет вводиться постепенно, в течение четырех-пяти лет.
Эти важные реформы остались бы неполными, если бы министр народного просвещения не искал бы средств подготовить достаточное количество преподавателей для открываемых гимназий. После закрытия в 1860 году Главного Педагогического института в Петербурге, были созданы педагогические курсы при столичном университете, но опыт показал, что этой меры оказалось недостаточно. В настоящее время разрабатывается новый законопроект, призванный улучшить положение в этой области.
Таково, господин министр, состояние народного образования в России… Небезынтересно отметить и то, с какой стремительностью и с каким пылом министр народного просвещения проводил реформы во всех департаментах доверенного его попечению министерства. Принятые им меры еще совсем свежие, и пока преждевременно судить об их результатах <…>».
Говоря о министре, подготовившем реформу народного образования, барон Талейран имел в виду Александра Васильевича Головнина. Выпускник Александровского лицея, откуда он вышел с золотой медалью, Головнин в 1839 г. начал государственную службу в Собственной Е.И.В. Канцелярии по делам учебных и благотворительных учреждений Ведомства Императрицы Марии Федоровны. В 40-е гг. он продолжил службу в Особенной канцелярии Министерства внутренних дел, где руководил составлением историко-географических трудов. В 1845 г. Головнин был избран секретарем Русского географического общества, а в 1848-м стал чиновником особых поручений при начальнике Главного морского штаба князе А.С. Меншикове. С 1850 г. Головнин был прикомандирован к великому князю Константину Николаевичу, став его ближайшим помощником и советником.
Карьера А.В. Головнина достигла апогея с воцарением Александра II, оценившего выдающиеся способности одного из лидеров т. н. «либеральных бюрократов», готовивших и проводивших в жизнь Великие реформы. На долю Головнина выпало реформирование народного образования в России, находившегося, как уже отмечалось, в весьма плачевном состоянии. В 1859 г. камергер Головнин назначается членом Главного правления училищ при Министерстве народного образования, в 1861-м – управляющим министерством, а в 1862 г. становится министром.
Он начал свою деятельность с того, что освободил Министерство народного просвещения от цензурных функций, которые были переданы в ведение Министерства внутренних дел. При этом Головнин стал главным разработчиком нового цензурного устава.
Эта работа велась с апреля 1862 г. в созданной под его председательством комиссии[837]. Она нашла свое завершение в высочайше утвержденных 6 апреля 1865 г. Временных правилах о печати, по которым была отменена предварительная цензура для книг объемом не менее 10 печатных листов и периодических изданий. Правда, послабления коснулись только Петербурга и Москвы, но эти два города были журнально-литературными и книгоиздательскими столицами читающей России. Предварительная цензура продолжала действовать в провинции, а также применительно к литературе массового спроса. Тем не менее, цензурные ограничения в значительной степени были ослаблены[838]. Во многом это была заслуга А.В. Головнина.
Комментируя утвержденные Александром II Временные правила о печати, барон Талейран писал Э. Друэн де Люису: «Считаю своим долгом сообщить Вам, что статьи 29-я и 30-я [нового цензурного устава], по моему мнению, составлены в либеральном духе. Они гласят, что министр внутренних дел имеет право направлять газетам уведомление о временной приостановке их выпуска на срок, не превышающий шесть месяцев. Но самым недвусмысленным образом здесь же сказано, что если министр внутренних дел сочтет необходимым после третьего предупреждения окончательно закрыть ту или иную газету, он обязан будет предварительно поставить об этом в известность Правительствующий Сенат» [839].
Новый министр подверг полной реорганизации центральный аппарат своего ведомства и учебные округа, действовавшие на территории империи. Ему удалось вдвое увеличить бюджетные расходы на образование. Головнин всемерно содействовал оживлению учебной и научной жизни в университетах, вернувших себе, как уже говорилось, автономию. При нем возобновились научные экспедиции – Археографическая, Этнографическая и Морская. Головнин был главным разработчиком всех законов первой половины 1860-х гг., относящихся к системе образования.
Важнейшей особенностью деятельности Министерства народного просвещения в бытность А.В. Головнина министром стала широкая гласность, привлекавшая образованное общество к обсуждению насущных потребностей развития образования в России.
Как и другие его коллеги из числа «либеральных бюрократов», Головнин вызывал неприязнь в придворных консервативно-реакционных кругах, энергично интриговавших против него. Эти интриги не ускользнули от внимания французского посольства. «Я должен сказать, – писал Талейран в упоминавшейся записке министру иностранных дел Франции, – что Головнин подвергается очень острым нападкам в России. Он принадлежит к формации молодых функционеров, которые воспитались под покровительством великого князя Константина Николаевича и которые получили возможность играть важную роль в делах. Но они, – добавлял Талейран, – не пользуются достаточным влиянием…». Как и в случае с Николаем Милютиным и Петром Валуевым, французский дипломат предвидел неизбежную отставку Александра Головнина, ставшего излюбленной мишенью для консерваторов.
Во главе министерства народного просвещения он продержался менее пяти лет. 14 апреля 1866 г. Александр II отправил Головнина в отставку. Поводом к отставке послужили вскрывшиеся после известного покушения Д. Каракозова на жизнь императора (4 апреля 1866 г.) факты распространения среди учащейся молодежи революционных настроений.
Начало военной реформы
Наиболее затянувшейся, но от того не менее радикальной, стала военная реформа. Она проводилась на протяжении 12 лет – с 1862 по 1874 г. Ее замысел и осуществление были связаны с именем крупного военного деятеля генерала Дмитрия Алексеевича Милютина[840], старшего брата Николая Милютина, бывшего товарища министра внутренних дел, разработавшего проект земской реформы.
Во французском посольстве в Петербурге давно держали генерала в поле зрения. Еще в 1858 г. временный поверенный в делах Франции в России Шарль Боден включил тогдашнего начальника штаба Кавказской армии в список влиятельных и перспективных сподвижников императора Александра II, в чем, как мы увидим, он не ошибся. «…Это широко образованный человек, видный писатель и умелый администратор…», – писал Боден о генерале Милюкове в «Конфиденциальной записке», адресованной министру иностранных дел Франции [841].
Дмитрий Алексеевич Милютин получил образование в Благородном пансионе при Московском университете и в Военной академии, начал службу в артиллерии, продолжил ее в гвардейском Генеральном штабе. Интересуясь военно-научными вопросами, он активно сотрудничал в «Энциклопедическом лексиконе» А.А. Плюшара и «Военном энциклопедическом лексиконе» Л.И. Зедлера. С 1839 г. проходил службу на Кавказе, где принимал непосредственное участие в военных действиях. В 1845 г. становится профессором Военной академии по кафедре военной географии, а затем военной статистики. По его инициативе было начато военно-статистические описание губерний Российской империи.
В 1848–1856 гг. Милютин состоял по особым поручениям при военном министре. По высочайшему повелению он продолжил начатое А.И. Михайловским-Данилевским исследование об Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова. Его пятитомный труд «История войн России с Франциею в царствование императора Павла I в 1799 году» (СПб., 1852–1853), переведенный на немецкий и французский языки, был отмечен Демидовской премией.
В 1853 г. Д.А. Милютин был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук, а в 1856-м – почетным доктором русской истории Петербургского университета. В последние годы царствования императора Николая I младший брат Милютина, Николай вводит его в круг «либеральных бюрократов», собиравшихся в салоне великой княгини Елены Павловны.
В годы Крымской войны Милютин служил под непосредственным началом наследника-цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II), занимаясь вопросами защиты российского побережья Балтийского моря, а также составлением официальных отчетов с театра военных действий. По окончании войны он занимался разработкой реорганизацией военной системы России.
В 1856–1859 гг. начальник штаба Кавказской армии Милютин участвовал в составлении плана военных действий, осуществление которого привело к присоединению Восточного Кавказа к России. Генерал Милютин принимал непосредственное участие в штурме аула Гуниб и пленении имама Шамиля в 1859 г., после чего был отозван в Петербург, получив аксельбанты генерал-адъютанта и должность товарища военного министра. В феврале 1861 г. высочайшим указом Милютин был назначен военным министром. Год спустя, он представил Александру II план преобразования всей военной системы России, предусматривавший создание массовой армии европейского типа, сокращение ее численности в мирное время и одновременное формирование подготовленного резерва на случай войны, а также реорганизации центрального аппарата военного министерства и создания органов военного управления в регионах России (15 военных округов).
План Милютина, утвержденный императором Александром II, осуществлялся под непосредственным руководством его составителя. Это был редкий, если не уникальный, случай, когда министр-реформатор имел возможность исполнить все им задуманное. Завершающим шагом милютинских реформ станет введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности.
С момента возвращения генерала Милютина с Кавказа в 1860 г. французское посольство в Петербурге уже никогда уже не выпускало его из своего поля зрения, следя за его карьерным продвижением. «Нынешний заместитель военного министра, а до этого начальник штаба Кавказской армии генерал Милютин временно назначен исполнять обязанности министра, генерала Сухозанета, – сообщал в конце мая 1861 г. в Париж посол Франции герцог де Монтебелло. – Общественное мнение, – продолжал он, – единодушно приветствует назначение этого, еще молодого офицера, который считается в армии одним из лучших генералов, и выражает надежду на то, что он сохранит за собой доверенный ему портфель»[842].
Когда в ноябре того же года Милютин был утвержден в должности военного министра, посольство Франции также не оставило этот факт без внимания. «Генерал Милютин… только что заменил генерала Сухозанета на его посту, – сообщал в Париж Фурнье, временный поверенный Франции в Петербурге. – Выбор генерала Милютина был самым удачным из всех возможных, – прокомментировал новое назначение французский дипломат. – Армия единодушно признает за ним и его дарования, и порядочность. Генерал Милютин, – напомнил Фурнье, – приходится братом сенатору Милютину, который, будучи заместителем министра внутренних дел, принимал самое деятельное участие в разработке закона об освобождении крестьян, и доводится племянником графу Киселеву, послу России при Его Императорском Величестве»[843].
Когда, в соответствии с планом, разработанным Милютиным, в России развернется реформирование военной системы, посольство Франции в Петербурге получит из Парижа указание собирать всю доступную информацию о проводимых преобразованиях. Дело в том, что в это время во Франции намечалась реорганизация армии, и французское военное министерство интересовалось тем, как идет военная реформа в России.
В переписке посольства с МИД Франции за вторую половину 1860-х годов содержится немало сведений на эту тему, взятых в основном из двух газет, выходивших параллельно на русском и французском языках – «Санкт-Петербургские Ведомости» и «Русский Инвалид». Нередко посольство пересылало в Париж вырезки из этих изданий, в которых освещалась военная тематика. При этом посол неоднократно сетовал на отсутствие в штате посольства военного атташе[844], который мог бы регулярно и со знанием дела отслеживать перемены, происходившие в русской армии.
Так, в одной из депеш в МИД, относящихся к началу 1867 г., барон Талейран говорит, что получаемых из русских газет сведений о реформах в русской армии и на флоте явно недостаточно, причем, трудно проверить их достоверность. «Не имея в составе моего посольства военного атташе, – писал Талейран, – я не имею возможности оценить те сведения, которые мне удается получить» [845].
Тем не менее, посол старался информировать МИД обо всех известных ему преобразованиях в русской армии, прилагая к депешам соответствующие газетные вырезки, а то и целые номера «Русского Инвалида». Высоко оценивая характер и направление военных реформ, барон Талейран констатировал наличие «в окружении Императора серьезной оппозиции нововведениям генерала Милютина»[846], который, тем не менее, вопреки проискам своих недоброжелателей, пользовался неизменной поддержкой Александра II.
Одновременно с собственно военными реформами Милютин впервые со времен принятия при Петре I Воинского устава 1714 г. и Морского устава 1720 г. успешно осуществил Военно-судебную реформу. 15 мая 1867 г. император Александр II утвердил новый Военно-судебный устав, разработанный по инициативе и под руководством Д.А. Милютина. Вместо упраздненных временных военно-судебных органов были созданы постоянные – полковые, военно-окружные суды и Главный военный суд. В полковых судах, формировавшихся по приказу командира полка в составе председателя и двух членов, рассматривались дела нижних чинов и унтер-офицеров. Предварительное следствие в этих судах не проводилось, а защитник не полагался. Приговор суда утверждался командиром полка. Военно-окружные суды рассматривали дела офицеров, а также наиболее серьезные дела рядовых и унтер-офицеров. Председатель и постоянные члены суда назначались военным министром, а временные – командующими войсками военных округов сроком на четыре месяца. На тех же началах действовал Главный военный суд с той лишь разницей, что члены суда назначались лично императором из числа генералов столичного гарнизона. Аналогичная структура была введена и на флоте, где были созданы экипажный суд, военно-морские суды при крупных портах и Главный военно-морской суд.
Все эти суды признавались независимыми от административных органов. Были введены должности военных прокуроров и следователей. Официально отменялись сословные привилегии подсудимых, которым предоставлялось право обжалования приговоров. Тогда же, в 1867 г., была создана Военно-юридическая академия для подготовки кадров военных юристов. Безусловно, военно-судебная реформа 1867 г. имела следствием значительный прогресс в обеспечении законности и судопроизводства в армии и на флоте.
Именно так оценивали ее наблюдатели из посольства Франции в Петербурге. «Новый Военно-судебный устав имеет целью устранить недостатки старой системы, основы которой были заложены Петром I в его Уставе от 30 марта 1716 года», – писал в Париж барон Талейран в августе 1867 г. Прежний петровский устав, по мнению французского посла, безнадежно устарел и давно уже не отвечал современным требованиям. «Правительство давно сознавало недостатки старой военно-судебной системы, и еще в 1837 году пыталось как-то ее изменить, но разработка подлинной реформы началась только с 1856 года…», – заметил Талейран.
Хотя еще трудно в полной мере оценить то, как будет работать новый Военно-судебный устав, тем не менее, совершенно очевидно, – подчеркнул французский дипломат, – что его принятие, уже само по себе, означает «серьезное улучшение состояния военной юстиции в России;…это достойный шаг на том пути реформ и прогресса, по которому идет русское правительство»[847].
Французские наблюдатели интересовались и другими направлениями реформаторской деятельности в Александровское царствование, но в служебной переписке посольства Франции информации по ним значительно меньше.
* * *
Как показывает изучение сообщений, докладов и памятных записок, направлявшихся в Париж посольством Франции в Санкт-Петербурге, французские дипломаты в целом были достаточно хорошо информированы о подготовке и проведении реформ 1860-х годов. Внимательно следя за ними, они однозначно положительно восприняли все реформаторские начинания Александра II, видя в них искреннее желание царя, модернизировать свою страну и сократить вопиющий разрыв между Россией и остальной Европой. По убеждению французских дипломатов, это стремление у царя-реформатора, возникло в результате трезвого осмысления им итогов и уроков Крымской войны, обнаружившей катастрофическое отставание России от передовых стран Европы.
Первое время французские наблюдатели, как и просвещенная часть русского общества, находились в состоянии эйфории под впечатлением от Манифеста 19 февраля. Однако вскоре, под влиянием многочисленных выступлений обманувшихся в своих ожиданиях (т. е. передачи им помещичьих земель) крестьян, первоначальный восторг сменился у французских дипломатов серьезными сомнениями относительно того, что Россия благополучно выйдет из крестьянской реформы. Им даже стало казаться, что Российской империи грозят гибельные социальные потрясения. Успешное в целом завершение в феврале 1863 г. двухлетнего переходного периода в реализации крестьянской реформы вновь придало оценкам французов утраченный, было, оптимизм.
Опасения возродились в середине 60-х годов. На этот раз они были связаны уже не с крестьянскими волнениями, а с активизацией правой и левой оппозиции в так называемом образованном обществе. Наряду с прежней, придворно-аристократической фрондой курсу на продолжение реформ, появляется оппозиция в обществе, представленная «московскими патриотами-националистами», группировавшимися вокруг издателя «Московских Ведомостей» Михаила Каткова.
Французское посольство сообщало в своих донесениях в Париж о «моральной диктатуре, существующей сегодня в Москве и подчиняющей своему влиянию даже правительство»1. Недвусмысленно осуждая правительство за излишний либерализм и поспешность в проведении реформ на западный манер, Катков и его единомышленники обосновывали идею самобытности и самодостаточности России. Их взгляды посол Франции барон Талейран характеризовал, как «узколобый патриотизм» [848]. К началу 70-х годов «патриоты» по существу сомкнулись с аристократической оппозицией, настаивавшей на свертывании реформ.
Выдвинутый «патриотами» тезис о принадлежности России к некой иной, отличной от европейской, цивилизации, вызывал искреннее недоумение у французских дипломатов. «…Афишируемая в настоящее время московской партией претензия найти в самой себе черты иной цивилизации и навязать ее другим… противоречит повседневной практике…», – отмечал в своем докладе в МИД Франции 1-й секретарь французского посольства маркиз де Габриак. Россия, желающая стать современным государством, по убеждению дипломата, просто обречена на то, чтобы заимствовать передовой западный опыт, «идет ли речь об изменении судебных институтов, постройке железных дорог или реформе армии»[849]. В этом смысле французский дипломат предвосхитил появление получившей впоследствии широкое распространение в либеральных кругах концепции т. н. «догоняющего развития» России.
В поиске доказательств европейского призвания России, Габриак зашел столь далеко, что попытался обосновать положение об отсутствии у русских вообще какой-либо цивилизационной самобытности и тем более самостоятельности. «Русский человек, – отмечал французский дипломат, – великолепный подражатель, но он лишен созидательного начала. Он несет в себе пороки прежних цивилизаций, но при этом в нем не найти присущих им достоинств. О нем говорят, что он похож на плод, который сгнил раньше, чем созрел. Это – жесткое определение, но, возможно, оно и справедливо. Покладистый, смышленый, умеющий принимать любые формы, надевать на себя любые маски, русский все время разный и почти никогда не бывает самим собой. За границей он не такой, как у себя в стране. Если же он приобретает западный лоск, то становится подлинной личностью.
Петр Великий и Екатерина II понимали свою страну, распространяя на нее западное влияние. Они чувствовали, что сама Россия не способна выносить в своих недрах идею, которая была бы ее собственной, и лишь путем подражания она может приблизиться и даже сравняться со своими учителями. Эти два великих ума отдавали себе отчет в том, что…, поскольку цивилизация едина, а ее движущие силы идентичны, то и средства ее развития могут быть только подобными» [850].
Данную точку зрения, по убеждению Габриака, разделял и Александр II, стремившийся, по примеру Петра и Екатерины, окончательно ввести свою страну в русло европейского развития.
Не менее серьезной, наряду с правой оппозицией, а в перспективе даже наиболее опасной, французские дипломаты считали возникшую в ходе реформ леворадикальную оппозицию, в которую активно вовлекалась молодежь, прежде всего студенческая. Она несла в себе угрозу революционного взрыва, что показали студенческие волнения, неоднократно возникавшие после 1861 г., а также покушение бывшего студента Дмитрия Каракозова на жизнь Александра II 4 апреля 1866 г.
В середине 60-х гг. радикалы обрели своего идейного вождя в лице находившегося в эмиграции А.И. Герцена. «Наряду с известными придворными течениями и группировками (либералов, консерваторов и «московских националистов» во главе с Катковым. – П.Ч.) в России, – отмечал в докладе в МИД Франции маркиз де Габриак, – существует более радикальное движение, рекрутирующее в свои ряды участников из среды молодежи. Вдохновителем этого движения является господин Герцен…, отвергающий абсолютизм и имперский централизм и проповедующий идеи самостоятельности народов и одновременно мечтающий о Европейской федерации.
Теоретическая ценность его идей применительно к такому государству как Россия, казалось бы, не оставляла ему больших шансов на то, чтобы оказать влияние на умы, но он, тем не менее, сумел этого достичь… В этом смешении противоречивых мнений, высказываемых со всех сторон, самое радикальное и, вследствие этого наиболее легко согласующееся с самим собой, должно было иметь наилучшие шансы быть принятым», – констатировал Габриак[851].
Конечно, левые радикалы, как и московские националисты, представляют собой явное меньшинство в раскладе политических сил, вызванных к жизни реформами 1860-х годов. Но этот факт, как подчеркивал Габриак, не должен вводить в заблуждение и тем более успокаивать. В упоминавшемся уже докладе, адресованном министру иностранных дел Франции, дипломат высказывает поистине провидческую мысль. «В такой стране как Россия, где, как я уже имел честь говорить Вашему превосходительству, очень мало людей способных понимать политические вопросы, подобное меньшинство могло бы в какой-то момент стать большинством».[852]Это предвидение сбудется менее чем через пятьдесят лет.
Все политические наблюдатели, работавшие в 1860-е гг. в посольстве Франции в Петербурге, высказывали единодушное мнение об определяющем влиянии императора Александра II на успешное в целом проведение реформ в России. Без его непреклонного стремления и твердого желания модернизировать свою страну, приблизив ее к европейским стандартам, реформы 1860-х гг. никогда не были бы осуществлены. На пути реформ Александр II, как констатировали французские дипломаты, вынужден был считаться с давлением аристократической и отчасти с «московской» оппозиции. Время от времени он даже приносил ей в жертву наиболее «одиозных» для правых, т. е. наиболее либеральных, из своих министров – С. Ланского, Н. Милютина, П. Валуева и др. Но при этом император никогда не терял из вида общее направление избранного им курса.
В ходе проведения реформ 1860-х гг. в посольстве Франции на берегах Невы нередко задавались вопросом: сумеет ли Россия благополучно пройти между Сциллой реформ и Харибдой революционного взрыва? В разные годы, в зависимости от внутренней ситуации в стране, утвердительный ответ на этот вопрос звучал не всегда уверенно. В момент осуществления крестьянской реформы потенциальная угроза виделась французским дипломатам в крестьянских бунтах. С началом либерализации государственных институтов в середине 60-х годов они уже усматривали ее в зародившемся революционном движении, полагали, что правительство сумеет справиться с возникшими угрозами, а задуманные и осуществляемые Александром II реформы, так или иначе, выведут Россию на новые, перспективные рубежи исторического развития, на путь дальнейшей ее европеизации. Путь этот, по мнению французских политических наблюдателей, может занять долгие годы. Как справедливо заметил однажды посол Франции в России барон де Талейран, «в этой стране все происходит медленно»[853].
Признание глубоких перемен, происшедших в России за десять лет реформ, сочеталось у части французских дипломатов с утверждениями о том, что все эти реформы, сделав более привлекательным и современным «фасад» Российской империи, не изменили сути русской политической системы и государственности, по-прежнему отличных от западных стандартов. Они полагали, что в результате реформ Александра II разрыв между Россией и остальной Европой, конечно же, сократился, но он не был преодолен.
Мнение о том, что и после Великих реформ 1860-х годов Россия сохранила многие отличительные особенности, унаследованные из ее исторического прошлого, так и не став органической частью Европы, в той или иной форме высказывалось французскими политическими наблюдателями и в более поздние времена, вплоть до 1917 года, когда пала Российская империя.
Postscriptum
26 февраля 1871 г. в Версале был подписан прелиминарный мирный договор, положивший конец войне, в результате которой Франция была обложена контрибуцией в размере 5 млрд. фр. и лишилась двух своих провинций – Эльзаса и Восточной Лотарингии[854].
А 1 марта 1871 г. Национальное собрание Франции подтвердило низложение находившегося в плену императора, названного главным виновником постигшей страну катастрофы.
У Вильгельма I и Бисмарка не оставалось более оснований держать у себя низвергнутого императора. Луи-Наполеон был отпущен на свободу, и 20 марта 1871 г. воссоединился с женой и сыном в Англии, где они поселились в собственном имении около городка Числхерст, в графстве Кент, недалеко от Лондона. Вскоре с визитом вежливости там побывали королева Виктория и принц Уэльский.
В Числхерсте прошли последние месяцы жизни Луи-Наполеона. Думал ли свергнутый император о том, чтобы последовать примеру своего дяди, победоносно, пусть и ненадолго, вернувшегося в Париж с острова Эльбы? Если и думал, то у него уже не оставалось сил на такое предприятие. Болезнь окончательно расстроила его здоровье.
В июле 1872 г. Луи-Наполеон вынужден был обратиться к помощи известного врача, сэра Генри Томпсона, который настоятельно посоветовал не откладывать хирургическую операцию по извлечению камней из почек. В первых числах января 1873 г. Луи-Наполеону было сделано подряд три операции. Накануне четвертой ослабленный организм не выдержал. 8 января 1873 г. в 10 часов 45 минут Наполеон III скончался.
Никто и предположить не мог, что на похороны низвергнутого императора соберется так много сочувствующих и скорбящих. Всеобщее внимание привлекла делегация рабочих численностью до тысячи человек, почтивших память «ученика Сен-Симона», каковым всегда считал себя Луи-Наполеон.
Некоторое время спустя, никем не замеченная, у могилы появилась элегантно одетая дама лет тридцати, в трауре, с букетиком цветов. Ее лицо было скрыто вуалью. Она долго стояла в полном одиночестве, что-то шептала и время от времени прикладывала платок к глазам. Это была
последняя возлюбленная императора, в недавнем прошлом – известная всему Парижу актриса, выступавшая под театральным псевдонимом Маргерит Белланже[855]. Луи-Наполеон называл ее «моя Марго». Они случайно встретились еще в 1863 г., а через год Марго родила мальчика. Об их связи стало известно императрице. Она заподозрила актрису в желании стать новой мадам де Ментенон[856] и потребовала удаления Маргерит из Парижа. Император приобрел для Марго и их сына дом в отдаленном квартале Пасси, а также небольшой замок Вильнёв-су-Даммартэн, близ городка Мо, в департаменте Сена и Марна.
Последняя встреча императора с его последней возлюбленной произошла в замке Вильгельмзёе, куда она сумела проникнуть, преодолев множество казавшихся непреодолимыми препятствий.
С крушением Второй империи мадемуазель Белланже выехала в Англию, где вскоре вышла замуж за баронета сэра Уильяма Калбеча, капитана британской армии. Став настоящей леди, Маргерит сохранила светлую память о Луи-Наполеоне, которого при жизни всегда называла «мой дорогой господин».
После смерти своего вождя, бонапартисты в 1874 г. провозгласят его единственного сына, Эжена Луи Жана Жозефа, достигшего совершеннолетия, императором Наполеоном IV. В 1879 г. молодой человек вырвется из тяготившей его опеки матери, и отправится волонтером в Южную Африку, на войну англичан с зулусами. Он погибнет во время одной из рекогносцировок. Императрица Евгения проживет еще долгих сорок лет и в 1920 г. умрет в полном одиночестве, упокоившись в земле приютившей их Англии, в фамильном склепе, рядом с мужем и сыном.
Александр II переживет Наполеона III почти на восемь лет. В отличие от императора французов, потерявшего трон из-за своей авантюристичной внешней политики, Царь-Освободитель станет жертвой собственной внутренней политики. Инициировав либеральные реформы, Александр II разбудил русское общество и обнадежил его. Однако половинчатость и непоследовательность реформ не оправдала первоначальных ожиданий, сменившихся вскоре разочарованием и появлением в обществе леворадикальных настроений, что, в свою очередь, побуждало императора с начала 1870-х гг. постепенно сворачивать реформаторскую активность. Можно предположить, что одним из мотивов для такого поворота в настроениях царя был и провал либерального проекта Наполеона III, завершившегося гибелью Второй империи. Александр II внимательно следил за экспериментом императора французов, считая его столь же интересным, сколь и рискованным.
Так или иначе, но к концу 1860-х гг. Александр II начал сознавать потенциальные риски проводимых им реформ для устоев Российской империи, а осознав, попытался снизить эти риски, отказавшись идти дальше по пути реформирования страны, чем вызвал еще большее недовольство в либеральных и леворадикальных кругах.
Это недовольство нашло свое выражение в серии покушений на жизнь царя, организованных революционными террористами. Одно из них стало роковым. 1 марта 1881 г. Александр II был смертельно ранен в результате подрыва бомбы на Екатерининском канале в Петербурге.
Его наследник и преемник на троне, Александр III с самого начала ясно дал понять, что не намерен продолжать «гибельный» курс либеральных реформ. Постепенно, но последовательно он отменял или пересматривал многие, казавшиеся ему опасными, начинания своего отца[857]. Серьезные изменения реставраторского характера были им проведены в области судопроизводства, местного самоуправления, образования и цензурной политики. В России началась эпоха контрреформ.
Ревизии подверглась и внешняя политика. В 1882 г. в почетную отставку был отправлен престарелый князь А.М. Горчаков, уступивший место исполнительному и послушному Николаю Карловичу Гирсу, никогда не претендовавшему на какую-либо самостоятельную роль.
С восхождением на престол Александра III, которого, как и его датскую супругу Марию Федоровну, в Берлине справедливо считали своими недоброжелателями, было покончено с откровенным пруссофильством прежнего царствования. Возникновение у границ России мощной Германской империи побуждало молодого царя и главу его дипломатии искать противовес становившемуся опасным соседу. В конечном счете, такой противовес был найден на другом конце континента – в лице Франции, у которой имелись серьезные претензии к унизившей и ограбившей ее в 1871 году Германии. Сближение Петербурга с Парижем, оказавшееся при Александре II и Наполеоне III преждевременным, а потому – неустойчивым, в 1880-е годы становилось возможным и даже неизбежным.
Источники и литература
Архивные материалы
Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ, Москва)
Фонд 133 (Канцелярия).
Опись 469.
1853 г. —Д. 111.
1855 г. – Д. 175.
1856 г. —Д. 42, 72, 73,74, 75,76, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154.
1857 г – Д. 65, 66, 67, 68, 69, 142, 143, 144, 145, 146.
1858 г. —Д. 68, 69, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
1859 г. – Д. 69, 70, 71, 139, 140, 141, 142, 143, 144.
1860 г – Д. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76а, 776, 148.
1861 г. —Д. 59, 60,61, 121, 122.
1862 г. —Д. 50, 109, 110, 111, 112, 114.
1863 г. —Д. 58, 59, 118, 119, 120, 121, 122.
1864 г. – Д. 51,52, 114, 115, 158.
1865 г. —Д. 55,56, 57, 139, 141.
1866 г. —Д. 80,81,82, 173, 174.
1867 г. – Д. 61, 62, 63, 132, 133, 143.
1868 г. —Д. 53,55, 113, 114, 115.
1869 г – Д. 45, 124, 125, 126, 127, 127а.
Опись 470.
1870 г. —Д. 24, 49, 50,51,52, 53, 116, 117, 119.
Фонд 137 (Отчеты МИД).
Опись 475.
Отчет за 1856 г. – Д. 40.
Отчет за 1857 г. – Д. 41.
Отчет за 1858 г. – Д. 42.
Отчет за 1859 г. – Д. 43.
Отчет за 1860 г. – Д. 44.
Отчет за 1861 г – Д. 46.
Отчет за 1862 г. – Д. 49.
Отчет за 1863 г. – Д. 51.
Отчет за 1864 г. – Д. 53.
Отчет за 1865 г. – Д. 54.
Отчет за 1866 г. – Д. 55.
Отчет за 1867 г. – Д.56.
Отчет за 1868 г. – Д. 57.
Отчет за 1869 г. – Д. 59.
Отчет за 1870 г. – Д. 61.
Отчет за 1871 г. – Д. 62.
Фонд 187 (Посольство в Париже).
Опись 524.
Д. 335, 437, 448, 493, 539, 540, 791, 837.
Фонд 159 (Департамент личного состава и хозяйственных дел – ДЛСиХД).
Опись 464.
Д. 488, 2469, 2470, 3118, 3609.
Фонд 138 (Секретный архив министра).
Опись 467.
Д. 1,2.
Фонд 155 (Внутренние хозяйственные дела). 1–1.
Опись 259.
Д. 1/10, 24, 196
Опись 261.
Д. 1/4
Фонд СПБ. Главархив 11-3. Опись 77.
Д. 1(1851 г.)
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)
Фонд 109 (Секретный архив).
Оп. 4а.
Д. 198.
Archives des Affaires Etrangeres (ААЁ, Paris)
Correspondance politique. Russie.
1838 —Vol. 193.
1844 —Vol. 199.
1850 —Vol. 205.
1852 —Vol. 207.
1853 —Vol. 209.
1856 —Vol. 212,213.
1857 —Vol. 214. 215.
1858—Vol. 216,217.
1859 —Vol. 218,219.
1860 —Vol. 220, 221,222.
1861—Vol. 223,224, 225.
1862 – Vol. 226, 227, 228, 229.
1863 —Vol. 230, 231,232.
1864 – Vol. 233,234.
1865 —Vol. 235.
1866 —Vol. 236, 237.
1867 —Vol. 238, 239.
1868— Vol. 240, 241.
1869— Vol. 242.
1870 —Vol. 243,244.
Memoires et Documents. Russie.
Vol. 44, 45.
Personnel, 1-re serie
№ 269, 1365, 1625, 1680, 1719, 2962, 3022, 3849, 3931, 4158.
Публикации документов, мемуары, дневники
Батеньков Г С. Сочинения и письма. Т.1. Письма (1813–1856). Иркутск, 1989.
Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. I–III. М., 1940–1941.
Бездненское восстание 1861 г. Сб. док. Казань, 1948.
Герцог де Монтебелло и имам Шамиль. Донесения посла Франции в России о Кавказской войне и пленении Шамиля в 1859 г. Из фондов Архива МИД Франции (публикация, перевод с франц. и комментарии П. П. Черкасова) II Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 7. М., 2006.
«Европа пережила неспокойные времена». Переписка императоров Александра II и Наполеона III. 1856–1867 гг. Публикация и перевод документов Л.А. Пуховой II Исторический архив. 2007. № 6.
Записка канцлера графа К.В. Нессельрода о политических соотношениях России // Русский архив. 1872. № 2.
К истории Парижского мира 1856 г. // Красный архив. 1936. № 2 (75).
К истории франко-русского соглашения 1859 г. [Ф. Ротштейн] II Красный архив. 1938. Т. 33(88).
Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого // Русская старина. 1883. Октябрь.
Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. Иг., 1914.
Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х т. Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. М. 1996.
Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. XV. Трактаты с Франциею. 1822–1906. СПб., 1909.
Материалы по земскому общественному устройству (Положение о земских учреждениях). Т. 1–2. СПб., 1885–1886.
Неизвестная переписка Луи-Наполеона Бонапарта с графом А.Ф. Орловым, начальником Третьего отделения (1847–1848 гг.). Публикация, вступительная статья, перевод с франц. и комментарии П. П. Черкасова И Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М… 2009.
О вооруженном морском нейтралитете. СПб., 1859.
Переписка Императора Александра II и Великого Князя Константина Николаевича 1857–1861 / Захарова Л.Г., Тютюник Л.И. И Русский Архив. Т. II–III. М., 1992.
Au temps de la Guerre de Crimee. Correspondance inedite du comte de Momy et de la princesse de Lieven // La Revue des Deux Mondes. 1966, 1-er fevrier.
Custine, marquis de. La Russie en 1839. P., 1843.
Fleury. La France et la Russie en 1870. P., 1902.
Gramont, Due de. La France et la Prusse avant la guerre. R, 1872.
Montalambert Ch. F. de. Une nation en deuil, la Pologne en 1861.
Moray, Due de. Extrait des Memoires. Une Ambassade en Russie, 1856. P., 1892.
Murat, Joachim-Joseph-André. Le Couronnement de Fempereur Alexandre II. Souvenirs intimes de Fambassade de France. P., 1883.
Oeuvres de Napoléon III. T.l. P., 1869. P. 383.
Pages d’histoire du Second Empire, d’apres les papiers de M. Thouvenel, ancien ministre des Affaires etrangeres (1854–1866). Paris, 1903.
Газетная и журнальная периодика (отдельные номера)
Вестник Европы (1886 г.)
Вестник Московского университета. Серия 8. История. (2008 г.)
Исторический архив (2007 г.)
Исторический вестник (1882 г.)
Новая и новейшая история (2002 г.)
Красный архив (1936 г., 1938 г.)
Родина (2011 г., 2014 г.)
Русская старина (1883 г., 1885 г.)
Русский архив (1872 г, 1905 г.)
La Revue des Deux Mondes (1966)
Le Moniteur (1856)
Le Siecle (1856)
Справочно-энциклопедические издания
Л.Г. Захарова Л.Г., Горланов Л.Р., Топчий А.Т. (сост.). Отмена крепостного права в России. Указатель литературы. (1856–1989). Томск, 1993.
Из истории земства в России. Каталог книжной выставки. М., 1993.
Отечественная история. Энциклопедия. Т. 1–3. М., 1994–2000.
Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. Хроника деятельности Комиссии по крестьянскому делу Н.П. Семенова. Т. 1–3. СПб, 1889–1892.
Отмена крепостного права в России. Указатель литературы. (1856–1989). Томск, 1993.
Русский энциклопедический словарь, в 25 томах / А.А. Половцов. СПб., 18961918. Репр. изд. + 5 доп. томов. М., 1992–1999.
Советская Военная энциклопедия. Т. 1–8. М., 1976–1980.
Annuaire diplomatique de l’Empire Frangais. 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869. P. 1859–1869.
Dictionnaire des Ministres des Affaires etrangeres 1589–2004 / Preface de Michel Barnier. P., 2005.
Dictionnaire du Second Empire / Sous la direction de Jean Tulard. P., 1995.
Интернет-ресурсы
file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/1234 /Польское%20восстание%20(1863)%20 —%20Википедия. mht.
/Émile_Ollivier_(homme_politique).
/Élections_législatives_françaises_de_1869.
Литература
Адамов E.A. Соед. Штаты в эпоху гражданской войны и Россия. – Красный архив. Т. 1 (38). М., 1930.
Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи. Александр Михайлович Горчаков. Документальное жизнеописание. М., 1999.
Антюхина-Московченко В.И. История Франции. 1870–1918. М., 1963.
Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. СПб., 1875.
Баиов А.К. Граф Д.А. Милютин. Биографический сборник. СПб., 1912.
Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874.
Бобрищев-Пушкин А.М. Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных. М., 1896.
Богатырева О.Н. Губернская администрация и земское самоуправление. Вторая половина XIX – начало XX века // Вопросы истории. 2004. № 8.
Борисов Ю.В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. М., 1951.
Булгаков Ф.И. Русский государственный человек минувших трех царствований (Граф П.Д. Киселев) // Исторический вестник. 1882. № 1; 1882. № 3.
Бурдина О.Н. Крестьяне-дарственники в России 1861–1907. М., 1996.
Бушуев С.К. А.М. Горчаков. М., 1961.
Брянцев П. Д. Польский мятеж 1863 г. Вильна, 1892.
Великая реформа. Т. 1–6. М., 1911.
Великие реформы в России. 1856–1874. Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Д. Бушнелла. М., 1992.
Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. Т. 1–4. СПб., 1909–1911.
Виленский Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в России. Саратов, 1963.
Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.
Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен Петра Великого до наших дней. Пер. с нем. СПб., 1909.
Воробейникова Т.У, Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. Киев, 1973.
Воронин В.Е. Деятельность великого князя Константина Николаевича в контексте реформирования социально-политического строя в России (60-70-е гг. XIX в.). Автореф. дисс. М., 2009.
Воронин В.Е. Политические взгляды и замыслы великого князя Константина Николаевича в середине 60-х гг. // Отечественная история. 2007. № 5.
Вульфсон Г.Н. Жажда воли. (К 125-летию Бездненского восстания). Казань, 1986.
Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957.
Гармиза В.В. Земская реформа и земство в исторической литературе // История СССР. 1960. № 5.
Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990.
Герасименко Г.А. История земского самоуправления. Саратов, 2003.
Гросул В.Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия. М., 1966.
Гюго Виктор. Наполеон малый. – Собр. соч. в 15 т. Т. 5. М., 1954.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. От Венского до Берлинского конгресса. Т. II. Пер. с франц. М., 1947.
Джаншиев Г.А Основы судебной реформы. М., 1891.
Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. 10-е изд. СПб., 1907.
Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. 1–2. М.-Л., 1946–1958.
Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. 1861–1880. М., 1978.
Долбилов М.Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории. 1998. № 10.
Еремян В.В., Федоров М.В. История местного самоуправления в России (XII – начало XX в.). М., 1999.
Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. М., 1956.
Жерве Н. Граф Д.А. Милютин. (К 90-летию его рождения). СПб., 1906.
Жомини А. Россия и Европа в эпоху Крымской войны // Вестник Европы. 1886. Кн. 10.
3аблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 1–4. СПб., 1882.
Завьялова Л., Орлов К. Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи. История семьи. М., 2009.
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860-1870-х годов в России. М., 1952.
Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958.
Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. 3-е изд. М., 1968.
Зайончковский П.А. Архив Д.А. Милютина // Вопросы истории. 1946. № 5–6.
Зайончковский П.А. Советская историография реформы 1861 г. // Вопросы истории. 1961. № 2.
Зайончковский П.А. Выдающийся ученый и реформатор русской армии (Д.А. Милютин) // Военно-исторический журнал. 1965. № 12.
Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861. М., 1984.
Захарова Л.Г. Отечественная историография о подготовке крестьянской реформы 1861 г. // История СССР. 1976.
Иванюков И. Падение крепостного права в России. 2-е изд. СПб., 1903.
История внешней политики России. Первая половина XIX века. От войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г. М., 1995.
История внешней политики России. Вторая половина XIX века. От Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза. М., 1997.
История дипломатии. Изд. второе, перераб. и доп. Т. I. М., 1959.
История русской адвокатуры. 1864–1914. Т. 1–2. М., 1914–1916.
Канделоро Дж. История современной Италии. Пер. с итал. Т. 4. М., 1966.
Канцлер А.М. Горчаков: 200 лет со дня рождения. / Примаков Е.М. М., 1998.
Каррер д ’Анкосс Э. Александр II. Весна России. М., 2010.
Кессельбреннер Г.Л. Светлейший князь. М., 1998.
Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб., 1905.
Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1969.
Костюшко И.И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму. Сравнительный очерк. М., 1994.
Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права. Ч. 1–2. М.-Л., 1949.
Кудрявцева Е.П. Любимец императора Николая I. А.Ф. Орлов и его миссия на Ближнем Востоке // Российская дипломатия в портретах. М., 1992.
Кухарский П. Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. Л., 1941.
Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993.
Ларин А.М. Из истории суда присяжных. М., 1995.
Линков Я.И. Очерки истории крестьянского движения в России в 1825–1861 гг. М., 1952.
Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 г. Черноземный центр. 1861–1895. М., 1972.
Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991.
Литвак Б.Г. Советская историография реформы 19 февраля 1861 г. // История СССР. 1960. № 6.
Ляшенко Леонид. Александр II, или История трех одиночеств. 2-е изд. доп. М., 2003.
Ляшенко Л.М. Царь – Освободитель. Жизнь и деяния Александра II. М., 1994.
Манфред А.3. Внешняя политика Франции. 1871–1891. М., 1951.
Манфред А.3. Образование русско-французского союза. М., 1975.
Маринин О.В. Дипломатическая деятельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 года. Дисс… канд. ист. наук. М., 1987.
Маринин Оганес. Маленькое, но ответственное поручение. Поездка великого князя Константина Николаевича во Францию в 1857 году // Родина. 2014. № 4.
Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 7.
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 8.
Маркс К. Гражданская война во Франции. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 17.
Международные отношения на Балканах 1856–1878 гг. М., 1986.
Миронова И.А. Законодательные памятники пореформенного периода (18611900 гг.). М., 1960.
Миско М.В. Польское восстание 1863 года. М., 1962
Модзалевский Б.Л. К биографии канцлера князя А.М. Горчакова. М., 1907.
Мойсинович А.М. Судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины XIX – начала XX вв. Дисс… канд. ист. наук. Ярославль, 2006.
Объединение Италии: 100 лет борьбы за независимость и демократию. М., 1963.
Мосолов А. Н. Виленские очерки 1863–1864 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898.
Найденов М.Е. Классовая борьба в пореформенной деревне (1861–1863 гг.). М., 1955.
Немытина М.В. Суд в России: вторая половина XIX – начало XX вв. Саратов, 1999.
Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное мнение в России. М., 1977.
Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России (1826–1880 гг.). М., 1982.
Орлик О.В. П.Д. Киселев как дипломат. Органические регламенты Дунайских княжеств // Российская дипломатия в портретах. М., 1992.
Орлова О. Граф Камилл Кавур по его письмам и современным запискам // Русская мысль. 1898. №№ 1–3, 7, 9, 11.
Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802–2002 гг. Т. 1, 3. М., 2002.
Павловская А.В. Крестьянская реформа 1861 года в России в освещении английской и американской исторической литературы. Дисс… канд. ист. наук. М.: Истории. фак-т МГУ. 1991.
Перцев О.Н. Италия в XIX веке: Исторический очерк. М., 1917.
Пухова Л.А. Визит Александра II в Париж в 1867 г. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2008. № 6.
Пушкин А.С. Поли. собр. соч. в 10 т. 3-е изд. М., 1962–1966. Т. 1, 2.
Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX в. М., 1997.
Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957.
Россия в Париже. Резиденция посла Российской Федерации во Франции. La Russie a Paris. La residence de l’Ambassadeur de la Federation de Russie en France / Ю.И. Рубинский (Y.I. Roubinski). Париж, 1996; P., 1996.
Реформы Александра II. M., 1998.
Румянцев Р.А. Павел Дмитриевич Киселев // Вопросы истории. 2008. № 12.
Рыжова Р.И. Сближение России и Франции после Крымской войны и русско-французский договор 3 марта 1859 г. // Ученые записки МГПИ им. В.П. Потемкина. Т. XXVIII. Вып. 4.
Сапилов Е.В. Крестьянская реформа в России 1861–1866 гг. (Забытые фрагменты). М., 1998.
Семанов С.Н. А.М. Горчаков – русский дипломат XIX в. М., 1962.
Серова О.В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М., 1997.
Серова О.В. Итальянский вопрос в русско-французских отношениях накануне войны 1859 года // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 1. М., 1995.
Серова О.В. Русско-французские отношения в оценке князя А.М. Горчакова // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 3. М., 2000.
Сидоров А. А. Польское восстание 1863 года. Исторический очерк. СПб., 1903.
Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Т. 1–4. Бонн-на-Рейне, 1862–1868.
Судебная реформа. Т. 1–2. / Под. ред. Н.В. Давыдова, Н.А. Полянского. М., 1915.
Судебные уставы 20 ноября 1864 года, за пятьдесят лет. Т. 1–2. Пг., 1914.
Танъшина Н.П. Политическая борьба во Франции по вопросам внешней политики в годы Июльской монархии. М., 2005.
Танъшина Н.П. Княгиня Ливен. Любовь, политика, дипломатия. М., 2009.
Тарле Е.В. Крымская война. – Соч. в 12 т. М., 1959. Т. VIII–IX. М., 1959.
Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006.
Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России. М., 1881.
Труайя Анри. Александр II. М., 2003.
Тютчев Ф.И. Сочинения в двух томах. М., 1980. Т. 2.
Устюжанин Е.И. Бездненское восстание 1861 г // Ученые записки Казанского государственного педагогического института. Вып. 4. Казань, 1941.
Фейгина Из истории русско-французских отношений (Секретный договор 3 марта 1859 г.) // Века. № 1. Иг., 1924.
Филиппов М.А. Судебная реформа в России. СПб., Т. 1–2. 1871–1875.
Хевролина В.М. Министерство иностранных дел России в 1856–1878 гг // Новая и новейшая история. 2002. № 4.
Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850-середина 1870-х гг. М., 2002.
Хрулев С. Суд присяжных. Очерк деятельности судов и судебных порядков. СПб, 1886.
Черкасов Петр. Александр Невский на французской земле. Полтора века русскому храму в Париже // Родина. 2011. № 10.
Черкасов Петр. «Дело Каракозова» глазами барона Талейрана. По документам архива МИД Франции // Родина. 2014. № 4.
Черкасов Петр. Выстрелы в Булонском лесу // Родина. 2014. № 4.
Черкасов П. П. Николай I и Луи Наполеон Бонапарт (1848–1852 гг.) // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М., 2009.
Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80-е гг. XIX в. М., 1987.
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. М., 1947. Т. XIV.
Чичерин Г.В. Исторический очерк дипломатической деятельности А.М. Горчакова. М., 2009.
Чукарев А.Г. Тайная полиция России 1825–1855. М., 2005.
Шнеерсон Л.М. Франко-германский конфликт из-за Люксембурга в 1867 г. Минск, 1969.
Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия. Из истории русско-прусских и русско-французских отношений в 1867–1871 гг. Минск, 1976.
Экштут С.А. Надин, или Роман великосветской дамы глазами тайной политической полиции: По неизданным материалам Секретного архива III Отделения. М., 2001.
Энгельгардт Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904.
Яковлев А.И. Александр II и его эпоха. М., 1992.
* * *
Amson D. Gambetta ou le reve brise. P, 1994.
Anceau É. Comprendre le Second Empire. P, 1999.
Anceau É. Napoléon III. Un Saint-Simon a cheval. P, 2008.
Attentats et complots contre Napoléon III. P, 1870.
Audoin-Rouzeau S. 1870. La France dans la guerre. P., 1989.
Avenel J. La campagne du Mexique (1862–1867). P., 1996.
BantiA.M. II Risorgimento italiano, Roma-Bari, 2004.
Bazancourt, baron de. La campagne d’ltalie de 1859: Chroniques de la guerre. Vol. 1–2. P., 1860.
Bernardy F. de. Walewski, le fils polonais de Napoléon, P., 1976.
Bordenove G. Napoléon III. P., 1998.
Boulenger M. Le Due de Morny. P., 1930.
Bourgerie R. Magenta et Solferino (1859). Napoléon III et le reve italien. P., 1993.
Broglie G. de. Guizot. P., 1990.
Bruyere-Ostells W. Napoléon III et le second Empire. P., 2004.
Carmona M. Morny, le vice-empereur. P., 2005.
Carrere d’Encausse Helene. Alexandre II. Le printemps de la Russie. P., 2008.
Cars J. des. Eugenie, la demiere Imperatrice. P., 2000.
Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. Guide. P., 2008.
Case L.M. Edouard Thouvenel et la diplomatic du Second Empire. P., 1976.
Castelot A. Napoléon III. L’aube des Temps modemes. P., 1999.
Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon II. 2-eme ed. P., 1913.
Christophe R. Le Due de Momy. P., 1951.
Christophe R. Napoléon III au tribunal de l’histoire. R, 1971.
Cognasso F. Vittorio Emanuele II. Torino, 1942.
Decker M. de. Napoléon III ou Г empire des sens. R, 2008.
Derek Beales D. e Biagini E.F. II Risorgimento e Tunificazione d’ltalia, Bologna, 2005.
Echard W. Napoléon III and the Concert of Europe. Louisiana State University Press, 1983.
Field D. The End of Serfdom. Harward, 1976.
Gasparetto P.F. Vittorio Emanuele II. Milano, 1984.
Girard L. Napoléon III. P., 1996.
Gourdon E. Histoire du Congres de Paris. R, 1857.
Gouttman A. La guerre de Crimee 1853–1856. P., 1995.
Gouttman A. La guerre du Mexique (1862–1867). Le mirage americain de Napoléon III. P., 2008.
Grothe G. Le Due de Momy. P., 1966.
Grunwald C. de. Le Due de Gramont.Gentilhomme et diplomate. P., 1950.
Guerin A. La folle guerre de 1870. P., 1970.
Harcourt В. d’. Les Quatre Ministeres de M. Drouyn de Lhuys. P., 1882.
Hearder H. Cavour. Bari, 2000.
Histoire de la diplomatie frangaise. / Presentation de Dominique de Villepin. P., 2005.
Kraatz A. La compagnie frangaise de Russie: Histoire du commerce franco-msse au XVIIe et XVIIIe siecles. P., 1993.
Kraatz A. Le commerce franco-russe. Concurrence et contrefagons. De Colbert a 1900. P.,2006.
Lahlou R. Napoléon III ou Tobstination couronnée. 3-me éd. P., 2007.
Le Congres de Paris (1856). Un evenement fondateur / Ameil G., Nathan I., Soutou G.-H. (dir.). P., 2009.
Lecaillon J.-F. Napoléon III et le Mexique. Horizons Amerique Latine. P., 1994.
Mack Smith D. Vittorio Emanuele II, Milano, 1995.
Martel R. La Trance et la Pologne. Realites de TEst Europeen. P., 1931.
Matter P. Cavour et l’unite italienne. Vol. 1–3. P., 1922–1927.
Milza P. Napoléon III. P., 2004.
Milza P. L’annee terrible. La guerre franco-prussienne: septembre 1870 – mars 1871. P., 2009.
Miquel P. Le Second Empire. Paris, 1992.
Monicault G. La question d’Orient. Le Traite de Paris et ses suites (1856–1871). R, 1898.
Ollivier Ё. L’Empire liberal. Vol. 1-17. P., 1895–1916.
Pape G., Valeri N., et al. Orientamenti per la storia d’Italia nel Risorgiomento. Bari, 1952.
Philippot R. Les Zemstvos. Societe civile et Etat bureaucratique dans la Russie tsariste. P., 1991.
Pinto P. Vittorio Emanuele II: il re avventuriero. Milano, 1997.
Pierre P Le Due de Momy. P., 1958.
Remond R. La vie politique en France depuis 1789. T. 2 (1848–1879). P., 1969.
Romeo R. Cavour e il suo tempo. Vol. 1–3. Bari, 1984.
Roth E La guerre de 1870. P., 1990.
Rouart J.-M. Morny, un voluptueux au pouvoir. P., 1995.
RoyJ.E. Histoire de la guerre d’ltalie en 1859. P., 1860.
Sagnes J. Napoléon III. Le parcours d’un Saint-Simonien. P., 2008.
Saint Marc P Emile Ollivier (1825–1913). P., 1950.
Scheiber P Die russische Agrarreform von 1861. Ihre Probleme und der Stand ihrer Erforschung. Koln-Wien. 1973.
Sedouy, J.-A. de. Le Concert europeen. Aux origines de l’Europe 1814–1914. P., 2009.
Seguin P Louis Napoléon le Grand. P., 1990.
Smith W. Napoléon III. P., 2007.
Woolf S.J. II risorgimento italiano, Vol. 1–2., Torino, 1981.
Yon J.-C. Le Second Empire. Politique, Societe, Culture. P., 2009.
Zeldin T Emile Ollivier and the liberal empire of Napoléon III. Oxford, 1963.
Resume
Le livre se penche sur l’histoire des relations franco-russes sous le Second Empire en France. La défaite de la Russie dans la guerre de Crimée (1853–1856) ouvre une nouvelle page dans ces relations. L’Europe devient témoin du rapprochement inattendu des deux anciens adversaires – la Russie et la France. A Londres, Berlin, Vienne et Constantinople, nombreux sont ceux qui craignent qu’un tel rapprochement ne débouche sur une alliance politique entre le jeune tsar Alexandre II et l’empereur des Français Napoléon III.
Quels sont les motifs à la base du rapprochement entre les deux récents ennemis? Qui et pourquoi – d’Alexandre ou Napoléon – est à l’origine de ce processus? Comment s’est développée la relation entre la Russie et la France après la fin de la guerre de Crimée? En quoi convergeaient ou divergeaient les positions de Saint-Pétersbourg et de Paris? Existait-il un espoir sérieux de sceller une telle alliance entre les deux pays, et pourquoi celle-ci n’a fi nalement pas eu lieu?
Ces questions et bien d’autres à l’ordre du jour des relations franco-russes dans la période comprise entre la guerre de Crimée et celle entre la France et la Prusse (1870–1871) font l’objet d’une étude approfondie dans ce livre, écrit sur la base des archives diplomatiques de Moscou et Paris (l’auteur a étudié en tout plus de 200 volumes de documents d’archives non publiés).
Piotr Tcherkassov en conclut que le rapprochement entre la Russie et la France après la guerre de Crimée n’avait pas de fondement solide et ne pouvait donc être durable. Cette convergence se fondait largement sur des visées «révisionnistes» non conciliables de Saint-Pétersbourg et Paris. Alexandre II espérait pouvoir compter sur Napoléon III pour la suppression des dispositions discriminatoires à l’encontre de la Russie contenues dans le traité de Paris de 1856, instituant la «neutralisation» de la mer Noire. Pour sa part, l’empereur français recherchait le soutien du tsar dans sa tentative de revoir les traités de 1814–1815 imposés à la France et qui lui faisait réintégrer ses frontières de 1792.
Parallèlement à cela, tant Alexandre II que Napoléon III nourrissaient leurs propres aspirations intimes peu compatibles avec la volonté affi chée de forger une «entente franco-russe». Tout en se lançant en 1856 dans un dialogue avec le tsar, l’empereur des Français, resté fi dèle à l’union avec l’Angleterre, cherché à enfoncer un coin dans l’unité de la Sainte Alliance (Rus sie, Autriche, Prusse) formée en 1815 contre la France. Quant à Alexandre II, en saisissant la main tendue de Napoléon, il espérait détacher Paris de Londres tout en maintenant une relation de confi ance avec Berlin.
Toutes ces tendances divergentes étaient encore aggravées par l’incompatibilité idéologique des deux régimes, qui s’est manifestée de la façon la plus éclatante lors de l’insurrection polonaise de 1863, quand la France a soutenu les Polonais contre la Russie qui les opprimait. L’autocrate russe, au libéralisme tout relatif, s’est toujours méfi é du bonapartisme – système hérité de trois révolutions (1789, 1830, 1848) et de l’empire napoléonien. Le tsar ne croyait pas à la stabilité de ce régime, qui fl irtait dangereusement avec le parlementarisme et le libéralisme, avec les démocrates voire même avec les socialistes.
Alexandre II redoutait la politique étrangère aventuriste de l’empereur des Français, s’exerçant aussi bien en Europe que dans le Nouveau Monde (expédition au Mexique de 1862 à 1864). Le tsar, craignant avant tout de se retrouver dans les entreprises aventureuses de son «allié» français, demeurait extrêmement prudents ce qui a son tour provoquait l’irritation et la déception croissante de Napoléon III envers les résultats de son rapprochement avec la Russie.
Alexandre II, que poursuivait le «cauchemar de l’année 1856» avait lui aussi ses raisons de se montrer mécontent de Napoléon, ce dernier se dérobant sans cesse à sa promesse d’aider la Russie à se débarrasser des limitations imposées par le traité de Paris de 1856. Le tsar ne se libèrera d’ailleurs de ce cauchemar qu’en octobre 1870, peu de temps après la chute de Napoléon III.
Comme lors de toutes les périodes précédentes, la France sous le Second Empire a continué de considérer la Russie comme une puissance européenne inférieure au regard des normes occidentales. La conviction, partagée par la classe dirigeante et la société françaises de la réalité des réformes sociales et administratives engagées par Alexandre II a certainement rendu bien plus attrayante et moderne la «façade» de l’empire russe. Mais ces réformes n’ont pas changé l’essence profondément autoritaire du système politique russe, toujours très éloigné des valeurs libérales européennes.
Finalement les intentions d’Alexandre II et Napoléon III et leur rêve initial d’une alliance entre la Russie et la France ont échoué en raison de la prématurité d’une telle union. Le contexte européen de la seconde moitié des années 1850 et de la première moitié des années 1860 ne rassemblait pas les conditions nécessaires à un tel rapprochement. Une telle union ne sera possible et effectivement mise en oeuvre que vingt et un ans après la chute du Second Empire, dont la perte sera le point de départ pour un nouveau rapprochement entre Saint-Pétersbourg et Paris.
Piotr TCHERKASSOV – historien russe reconnu, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de France et de Russie – dont Lafayette, Le Cardinal de Richelieu, L'Aigle à deux têtes et le lys royal, Élisabeth Petrovna et Louis XV, Catherine II et Louis XVI, Un agent russe en France: Jacques Nikolaïévitch Tolstoy…
Piotr TCHERKASSOV est le chevalier de la Légion d'honneur, le chevalier des Palmes académiques, Medaille d'argent du mérite francophone (Renaissance française), Prix Anatole Leroy-Beaulieu (Ambassade de France en Russie), Médaille d'or Soloviev, Prix Tarlé (Académie des sciences de Russie).
Иллюстрации
Император Александр II
Император Наполеон III
Участники Парижского конгресса 1856 года. В центре – граф А.Ф. Орлов (слева) и граф А. Валевский
Граф Алексей Федорович Орлов, первый уполномоченный России на Парижском конгрессе
Барон Филипп Иванович Бруннов, второй уполномоченный России на Парижском конгрессе
Текст Парижского мирного договора. Первый и последний листы (АВПРИ)
Князь Александр Михайлович Горчаков, министр иностранных дел России
Граф Александр Валевский, министр иностранных дел Франции в 1855–1860 гг.
Эдуард Друэн де Люис, министр иностранных дел Франции в 1848–1849, 1851, 1852–1855, 1862–1866 гг.
Эдуард Тувенель, министр иностранных дел Франции в 1860–1862 гг.
Императрица Мария Александровна
Императрица Евгения
Наполеон III, императрица Евгения и наследный принц Эжен Луи Наполеон
Великие князья Николай и Александр Александрович (будущий император Александр III)
Великий князь Константин Николаевич
Граф де Морни, сводный брат Наполеона III
Графиня де Морни (урожд. княжна Софья Трубецкая)
Принц Наполеон Жером, кузен Наполеона III
Принцесса Матильда, кузина Наполеона III
Княжна Екатерина Михайловна Долгорукова, фаворитка (впоследствии морганатическая супруга) Александра II
Письмо Наполеона III Александру II. 1 мая 1856 г. Фрагменты (АВПРИ)
Граф Павел Дмитриевич Киселев посол России в Париже в 1856–1862 гг.
Барон Андрей Федорович Будберг, посол России в Париже в 1862–1868 гг.
Граф Эрнест Густавович Стакельберг, посол России в Париже в 1868–1870 гг.
Герцог Луи Наполеон Огюст де Монтебелло, посол Франции в Петербурге в 1858–1864 гг.
Генерал Эмиль Феликс Флёри, посол Франции в Петербурге в 1869–1871 гг.
Публикация в парижской газете «Монитёр» о вручении верительных грамот графом Киселевым
Барон Шарль Анжелик де Талейран-Перигор, посол Франции в Петербурге в 1864–1869 гг.
Телеграмма Киселева от 12 ноября 1856 г. о вручении им верительных грамот Наполеону III (АВПРИ)
Фрагменты депеши Киселева о неофициальной аудиенции у Наполеона III. Ноябрь 1856 (АВПРИ)
Прием в честь великого князя Константина Николаевича у морского министра Франции. «Монд иллюстре», 9 мая 1857 г.
Текст выступления Наполеона III на открытии сессии Законодательного корпуса 18 января 1858 г. Фрагмент
Русский проект секретного договора с Францией. 1859 год (АВПРИ)
Письмо императрицы Евгении вдовствующей императрице Александре Федоровне. 24 июня 1857 г. (АВПРИ)
Личное письмо Наполеона III Александру II от 28 марта 1860 г.
Фрагмент (АВПРИ)
Депеша герцога де Монтебелло от 3 ноября 1860 г. Фрагмент (Архив МИД Франции)
Александр II. Фото 1860-х гг.
Наполеон III. Фото начала 1860-х гг.
Храм св. Александра Невского в Париже. Литография начала 1860-х гг.
Прошение графа П.Д. Киселева на высочайшее имя об отставке. 15 мая 1862 г. (АВПРИ)
Фрагмент записки секретаря французского посольства графа де Куроннеля о внутреннем положении России. 1 августа 1864 г. (Архив МИД Франции)
Телеграфная депеша барона Талейрана от 16 апреля 1866 г. о покушении Д. Каракозова на жизнь Александра II (Архив МИД Франции)
Александр II, Наполеон III и король Пруссии Вильгельм на конной прогулке в окрестностях Парижа. 1867 г.
Капитуляция Наполеона III под Седаном. 1 сентября 1870 г.
Покушение А. Березовского на жизнь Александра II в Булонском лесу. 1867 г. Французский лубок
Титульный лист одного из томов дипломатической переписки барона Талейрана за январь – май 1867 г. (Архив МИД Франции)
Депеша графа Э.Г. Стакельберга канцлеру А.М. Горчакову. 12 января 1870 г. (АВПРИ)
Провозглашение Республики перед Бурбонским дворцом в Париже.
4 сентября 1870 г.
Опера – архитектурный символ Второй империи. Литография 1870-х гг.
Примечания
1
Биография Александра II достаточно полно исследована в исторической литературе. См.: Лягиенко Леонид. Александр II, или История трех одиночеств. 2-е изд. доп. М., 2003; Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006; Яковлев А.И. Александр II и его эпоха. М., 1992; Carrere d’Encausse Helene. Alexandre II. Le printemps de la Russie. R, 2008. (Русское издание – Каррер д’Анкосс Э. Александр II. Весна России. М., 2010). См. также: Родина. Специальный выпуск. Александр II и реформы. 2014. № 4.
(обратно)2
Узнав о рождении внука, Фридрих-Вильгельм III пожаловал ему орден Черного орла, знаки которого были доставлены в Москву ко дню крещения Александра, а в начале июня 1818 г. прусский король лично явился туда в сопровождении двух сыновей – кронпринца Вильгельма и принца Карла.
(обратно)3
«Дневник Мердера» был опубликован в журнале «Русская старина», 1885. Кн. 46, 47, 48.
(обратно)4
Князь Ливен умер в конце декабря 1838 г., когда они с наследником-цесаревичем находились в Риме.
(обратно)5
Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. Vol. 205. Fol. 251 (донесение от 1 декабря 1850 г.).
(обратно)6
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Russie. Vol. 209. Fol. 231 verso. Рейзе – Друэн де Люису, 2 июля 1853 г.
(обратно)7
Ibid. Vol. 207. Fol. 132–132 verso, 134 verso, 136 verso-137.
(обратно)8
Ibid. Vol. 209. Fol. 230 verso-231 verso. Рейзе – Друэн де Люису, 2 июля 1853 г.
(обратно)9
Каррер д ’Анкосс Э. Указ соч. С. 46.
(обратно)10
Речь идет о Луи-Наполеоне Бонапарте, занимавшем в то время пост президента Французской республики. – П.Ч.
(обратно)11
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 207. Fol. 132–132 verso. Райневаль – Друэн деЛюису, 18 сентября 1852 г.
(обратно)12
Наполеону III посвящена обширная литература. Среди новейших работ можно назвать: Anceau E. Napoléon III. Un Saint-Simon á cheval. P., 2008; Bordenove G. Napoléon III. P., 1998; Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. Guide. P., 2008; Cristophe R. Napoléon III au tribunal de l’histoire. P., 1971; Decker M. de. Napoléon III ou l’empire des sens. P., 2008; Girard L. Napoléon III. P., 1996; Lahlou R. Napoléon III ou l’obstination couronnée. 3-me éd. P., 2007; Milza P. Napoléon III. P., 2004; Sagnes J. Napoléon III. Le parcours d’un Saint-Simonién. P., 2008; Séguin P. Louis Napoléon le Grand. P., 1990; Smith W. Napoléon III. P., 2007.
(обратно)13
Oeuvres de Napoléon III. T. 1. P., 1869. P. 383.
(обратно)14
Цит. по: Anceau É. Comprendre le Second Empire. R, 1999. R 29–30.
(обратно)15
Как известно, Первая империя, основанная Наполеоном I в 1804 г. просуществовала до 1814 г., а окончательно прекратила свое существование после повторного отречения Наполеона 22 июня 1815 г.
(обратно)16
Цит. по: Cars J. des. Eugénie, la dernière Impératrice. P., 2000. R 165.
(обратно)17
Цит. по: Булгаков Ф.И. Русский государственный человек // Исторический вестник. 1882. № 3. С. 677.
(обратно)18
Dictionnaire du Second Empire / Sous la dir. de Jean Tulard. P., 1995. R 894.
(обратно)19
Первым, кто обратил внимание на эту особенность бонапартизма, был К. Маркс. См. его работу – Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 8. С. 207, 214–215.
(обратно)20
Attentats et complots contre Napoléon III. R, 1870.
(обратно)21
Oeuvres de Napoléon III. T. 1. P. 172.
(обратно)22
Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. P., 2008. P. 36.
(обратно)23
Относительная стабильность не означала, конечно, исчезновение социальных конфликтов. Рабочие неоднократно выражали недовольство своим положением, организуя забастовки – в марте и июне 1862 г., в феврале 1867 г., в июне и октябре 1869 г., в январе и мае 1870 г. Некоторые из них сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. Однако вооруженных выступлений с кровопролитием отмечено не было.
(обратно)24
Broglie G. de. Guizot. Р., 1990. P. 334. В действительности никто из биографов Ф. Гизо так и не смог найти документального подтверждения приписываемых ему слов, однако легенда оказалась живучей.
(обратно)25
Carteret A. Op. cit. Р. 197.
(обратно)26
Lahlou R. Napoléon III ou l’obstination couronnée. 3-me éd. P., 2007. P. 73–74.
(обратно)27
Маркс К. и Энгельс Ф. Указ соч. Т. 17. С. 341.
(обратно)28
См.: «Дело по просьбе Луи Бонапарта о разрешении ему прибыть в Россию. 24 апреля 1847 г. – 19 ноября 1848 г.» // Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 4а. Д. 78. См. также публикацию: Неизвестная переписка Луи-Наполеона Бонапарта с графом А.Ф. Орловым, начальником Третьего отделения (1847–1848 гг.). Публикация, вступительная статья, перевод с франц. и комментарии П. П. Черкасова // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М… 2009. С. 166–189.
(обратно)29
См. об этом: Кухарский П.Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. Л., 1941; Черкасов П. П. Николай I и Луи Наполеон Бонапарт (1848–1852 гг.) // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М., 2009. С. 124–165.
(обратно)30
Основные потери союзнический экспедиционный корпус в Крыму нес от инфекционных болезней – дизентерии, холеры и тифа. Ежедневная смертность в рядах союзников составляла в среднем 250 человек.
(обратно)31
Castelot A. Napoléon III. L’aube des Temps modernes. P., 1999. R 250–265.
(обратно)32
Жомини А. Россия и Европа в эпоху Крымской войны // Вестник Европы. 1886. Кн. 10. С. 562.
(обратно)33
Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 133 (Канцелярия). Оп. 469. 1855 г. Д. 175. Л. 40–42.
(обратно)34
Тарле Е.В. Соч. в 12 т. М., 1959. Т. IX. С. 481.
(обратно)35
Собственно боевые потери французов в Крыму за период военных действий составили 20 тыс. человек. Остальные 75 тыс. умерли от эпидемических заболеваний. См. Gouttman A. La guerre de Crimee 1853–1856. P., 1995. P. 479.
(обратно)36
Вестник Европы. 1886. Кн. 10. С. 586.
(обратно)37
Моту, Due de. Extrait des Memories. Une ambassade en Russie, 1856. P., 1892. P. 10–11.
(обратно)38
Речь идет о т. н. «четырех пунктах» Наполеона III, сформулированных 18 июля 1854 г.: совместный протекторат Франции, Англии, Австрии, России и Пруссии над Дунайскими княжествами, временно оккупированными австрийскими войсками; равное покровительство пяти упомянутых держав над всеми христианами Оттоманской империи; коллективный пятисторонний надзор и контроль над устьями Дуная; пересмотр договора 1841 г. европейских держав с Турцией о проходе судов через Босфор и Дарданеллы.
(обратно)39
Моту, Due de. Op. cit. P. 19–22.
(обратно)40
Ibid. Р. 22–23.
(обратно)41
Ibid. Р. 26–27.
(обратно)42
История дипломатии. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 1. М., 1959. С. 664.
(обратно)43
К истории Парижского мира 1856 г. // Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 58–59.
(обратно)44
История внешней политики России. Первая половина XIX века. От войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г. М., 1995. С. 412.
(обратно)45
См. Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 146–150.
(обратно)46
Вестник Европы. 1886. Кн. 10. С. 601.
(обратно)47
Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 12.
(обратно)48
См. о нем: Петров АЛ. Орлов Алексей Федорович // Русский биографический словарь. Т. Обезьянинов – Очкин. М., 1905. Репр. воспроизв. М., 1997. С. 330–341; Кудрявцева Е.П. Любимец императора Николая I. А.Ф. Орлов и его миссия на Ближнем Востоке // Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 165–180; Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России (1826–1880 гг.). М., 1982. С. 31–35; Чукарев А.Г. Тайная полиция России 1825–1855. М., 2005. С. 173–188.
(обратно)49
Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. Vol. 199. Fol. 318 verso. Райневаль – Гизо, 29 сентября 1844 г.
(обратно)50
См. ААЕ. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 89 recto – verso, 90 recto. Свидетельство Ш. Бодена относится к 1858 г., когда в окружении Александра II и в обществе началось обсуждение вопроса освобождения крестьян. А.Ф. Орлов занимал здесь весьма консервативные позиции, что, по-видимому, и снискало ему в глазах либерально мыслящего французского дипломата репутацию законченного ретрограда.
(обратно)51
Батеньков Г.С. Сочинения и письма. Т. L Письма (1813–1856). Иркутск, 1989. С. 245.
(обратно)52
Чу кар ев А. Г. Тайная полиция России. 1825–1855 гг. М., 2005. С. 180.
(обратно)53
См. об этом: Неизвестная переписка Луи Наполеона Бонапарта с графом А.Ф. Орловым, начальником Третьего отделения (1847–1848 гг.). Из фондов ГА РФ (публикация, перевод с франц. и предисловие П.П. Черкасова) // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М., 2009. С. 166–189.
(обратно)54
Речь идет о трех документах, датированных 11 февраля: общей инструкции и «доверительных записках» на имя А.Ф. Орлова. См.: Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 13–18.
(обратно)55
Там же. С. 27.
(обратно)56
«Англия есть и будет нашим действительным и неумолимым врагом». Из инструкции от 11 февраля 1856 г. // Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 14.
(обратно)57
Из доверительной записки Нессельроде от 11 февраля, адресованной Орлову // Там же. С. 18.
(обратно)58
Там же. С. 14–15.
(обратно)59
Освещение работы Парижского мирного конгресса и оценка его результатов выходят за рамки данного исследования, посвященного закулисному взаимодействию русской и французской дипломатий на конгрессе. О Парижском конгрессе и мире см.: ЖоминиА. Указ соч. С. 606–619; К истории Парижского мира 1856 г. // Красный архив. 1936, № 2 (75); Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. XV. Трактаты с Франциею. 1822–1906. СПб., 1909. С. 281–294, 307–328; Маринин О.В. Дипломатическая деятельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 года. Дис… канд. ист. наук. М., 1987; Тарле Е.В. Крымская война // Соч. в 12 т. М., 1959. Т. 8. Глава XXII; Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon II. 2-eme ed. P., 1913. P. 81–108; Le Congres de Paris (1856). Un evenement fondateur / Ameil G., Nathan I., Soutou G.-H. (dir.). P., 2009; Echard W. Napoléon III and the Concert of Europe. Louisiana State University Press, 1983; Gourdon E. Histoire du Congres de Paris. P., 1857; Gouttman A. Op. cit.; Monicault G. La question d’Orient. Le Traite de Paris et ses suites (1856–1871). P., 1898; Sedouy J.-A. de. Le Concert europeen. Aux origines de l’Europe 1814–1914. P., 2009. Chapitre XII.
(обратно)60
О нем см.: Bernardy F. de. Walewski, le fils polonais de Napoléon, P., 1976. В Архиве МИД Франции имеется его служебное досье: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 4158.
(обратно)61
Мария Валевская была на пятьдесят лет моложе супруга, с которым давно поддерживала лишь формальные отношения. Тем не менее, 74-летний граф Валевский великодушно признал своего «сына».
(обратно)62
Первоначально участие Пруссии в конгрессе не предусматривалось. Этот вопрос встал, когда началось обсуждение проблемы проливов и нейтрализации Черного моря. По общему согласию, было решено пригласить на конгресс представителей Пруссии на том основании, что Пруссия участвовала в Лондонской конференции 1841 г. о проливах, решения которой теперь должны быть пересмотрены с ее участием.
(обратно)63
В данном случае нас интересует лишь оценка Брунновым позиции Франции. – П.Ч.
(обратно)64
Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 18–19.
(обратно)65
Приезд в Париж графа Орлова произвел там сенсацию. Газеты откликнулись на это серией публикаций о его жизни, об участии в войне против Наполеона, о пребывании в Париже весной 1814 г. в составе русской армии, о дружбе с покойным императором Николаем. Журналисты не преминули напомнить читателям, что граф Орлов более десяти лет возглавляет тайную полицию Российской империи и является одним из самых доверенных лиц молодого царя Александра. Литографированные портреты и цветные лубочные изображения генерала Орлова выставлялись в витринах книжных лавок и газетных киосков. Одним словом, он стал парижской знаменитостью. Ни один из участников мирного конгресса не удостоился такого внимания прессы, как генерал Орлов.
(обратно)66
Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 27–30.
(обратно)67
Орлов четко изложил Наполеону три основные позиции России: устье Дуная должно остаться свободным и открытым для торговли всех государств, для чего Россия и Турция договорятся о разрушении имеющихся в этом районе своих укреплений; Черное море будет объявлено нейтральным; пограничная линия между Молдавией и Бессарабией будет установлена лишь после детального обсуждения и с общего согласия.
(обратно)68
Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 37–38.
(обратно)69
Как известно, британская дипломатия в ходе войны предпринимала настойчивые попытки наладить взаимодействие отрядов Шамиля на Северном Кавказе с турецкой армией.
(обратно)70
В связи с вскрывшимися на конгрессе острыми противоречиями по вопросу о Дунайских княжествах было решено образовать специальную комиссию для определения общих принципов будущего устройства этих княжеств. В 1858 г. в Париже будет созвана конференция, посвященная этому вопросу.
(обратно)71
«Граф Буоль, лишившись роли, которую он играл, будучи председателем венских конференций, не мог скрыть огорчения, которое ему причинило это падение его политического влияния, – писал Орлов 11 марта Нессельроде. – Более того, его видимо раздражают те отличия и тот прием, которые оказываются нам, а также те чувства симпатии, которые проявляются, как это он мог видеть, по отношению к представителю нашего императора при дворе, в свете и в армии. Это его беспокоит и создает неуверенность за будущее. Ему кажется, что это является предзнаменованием более интимного сближения между Россией и Францией. Он знает, что Австрия ничего от этого не выиграет. Это предчувствие – вполне заслуженное наказание для этого государственного деятеля за содеянные им ошибки». // Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 38–39.
(обратно)72
Основные принципы международного морского права были сформулированы Екатериной II в декларации от 9 марта (27 февраля) 1780 г. Текст декларации опубликован в работе: О вооруженном морском нейтралитете. СПб., 1859. С. 64–66.
(обратно)73
См. об этом: Мартенс Ф. Указ. соч. Т. XV. С. 288–291.
(обратно)74
Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 43.
(обратно)75
Из телеграфной депеши Орлова от 29 марта 1856 г., адресованной Нессельроде // АВПРИ. Ф. 133. Он. 469. 1856 г. Д. 148. Л. 70–70 об.
(обратно)76
Charles-Roux К Op. cit. Р. 90–96. За несколько дней до открытия конгресса султан Абдул-Меджид под давлением Англии и Франции издал манифест (хатти-шериф), провозгласивший свободу всех христианских вероисповеданий на территории Оттоманской Порты. Это позволило Кларендону и Валевскому настоять на включении упоминания об этом манифесте в специальную статью Парижского мирного договора.
(обратно)77
Текст договора см.: Мартенс Ф. Указ соч. Т. XV. С. 307–328.
(обратно)78
Histoire de la diplomatic franchise. / Presentation de Dominique de Villepin. P, 2005. P. 590.
(обратно)79
Sedouy J.-A. de. Op. cit. P. 321.
(обратно)80
Красный архив. 1936. № 2 (75). С. 52.
(обратно)81
Там же.
(обратно)82
Там же. С. 56.
(обратно)83
Мартенс Ф. Указ. соч. Т. XV. С. 293.
(обратно)84
Там же.
(обратно)85
Там же. С. 294.
(обратно)86
См. депешу Орлова от 19 апреля 1856 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 148. Л. 257–259. ’
(обратно)87
Цит. по: Татищев С.С. Указ соч. С. 162.
(обратно)88
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 148. Л. 475.
(обратно)89
Записка канцлера графа К.В. Нессельрода о политических соотношениях России // Русский архив. 1872. № 2. С. 338–344.
(обратно)90
Там же. С. 341.
(обратно)91
Там же.
(обратно)92
Там же. С. 344.
(обратно)93
Там же.
(обратно)94
Там же. С. 343.
(обратно)95
Там же. С. 343–344.
(обратно)96
Там же. С. 342.
(обратно)97
Там же. С. 344.
(обратно)98
Жизни и деятельности А.М. Горчакова посвящена обширная литература. Из работ обобщающего характера см.: Андреев А.Р. Последний канцлер Российской империи. Александр Михайлович Горчаков. Документальное жизнеописание. М., 1999; Бушуев С.К. А.М. Горчаков. М., 1961; Горчаков Александр Михайлович / Очерки истории Министерства иностранных дел России. М., 2002. Т. 3. Биографии министров иностранных дел 1802–2002 гг. С. 115–133; Канцлер А.М. Горчаков: 200 лет со дня рождения / Примаков Е.М. М., 1998; Кессельбреннер Г.Л. Светлейший князь. М., 1998; Модзалевский Б.Л. К биографии канцлера князя А.М. Горчакова. М., 1907; Семанов С.Н. А.М. Горчаков – русский дипломат XIX в. М., 1962; Чичерин Г.В. Исторический очерк дипломатической деятельности А.М. Горчакова. М., 2009.
(обратно)99
Цит. по: Бушуев С.К. Указ. соч. С. 15–16.
(обратно)100
Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 10 т. 3-е изд. М., 1962–1966. Т. 1. С. 56.
(обратно)101
Там же. С. 259.
(обратно)102
Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого // Русская старина. 1883. Октябрь. С. 161.
(обратно)103
Пушкин А. С. Указ соч. Т. 1. С. 378–379.
(обратно)104
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 2. С. 275.
(обратно)105
Русская старина. 1883. Октябрь. С. 168.
(обратно)106
В этом отношении Горчаков вполне оправдал юношеское напутствие Пушкина: «Дай бог, любви, чтоб ты свой век / Питомцем нежным Эпикура / Провел меж Вакха и Амура!» // Пушкин А.С. Указ соч. Т. 1. С. 57.
(обратно)107
Вторая, еще более страстная любовь, настигнет князя Горчакова в возрасте 65 лет, когда он без памяти влюбится в свою 24-летнюю внучатую племянницу Надежду Сергеевну Акинфову, имевшую мужа и двоих детей. Министр поселит ее в своем доме, где она будет принимать гостей на правах хозяйки. Муж Акинфовой все это время тихо проживал в городе Покрове Владимирской губернии, где был предводителем дворянства и исполнял скромную должность смотрителя местного училища. За безропотное поведение князь Горчаков исхлопотал законному супругу своей возлюбленной придворное звание камер-юнкера. Роман Горчакова с Акинфовой продлится четыре года, пока канцлер не узнает о ее неверности. Оказалось, что одновременно у Надин была связь с Его Высочеством князем Николаем Максимилиановичем Романовским, герцогом Лейхтенбергским, членом Императорской фамилии. После долгих мытарств с разводом, когда законный муж Акинфовой оговорил себя, признавшись в прелюбодеянии, Надежда Сергеевна, наконец, получила возможность соединиться с молодым любовником, от которого родила еще двоих детей. Любопытно, что жестоко обманутый Горчаков нашел в себе силы смириться с ударом судьбы. Он даже великодушно содействовал своей неверной любовнице в осуществлении ее замыслов замужества с герцогом Лейхтенбергским. См. об этом: Экштут С.А. Надин, или Роман великосветской дамы глазами тайной политической полиции: По неизданным материалам Секретного архива III Отделения. М., 2001.
(обратно)108
Русская старина. 1883. Октябрь. С. 168.
(обратно)109
Русский архив. 1905. Кн. 7. С. 482.
(обратно)110
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 42. Л. 201–210.
(обратно)111
33-летний Ш. Боден был ближайшим сотрудником графа Валевского в бытность последнего послом в Англии. Ему-то Валевский, став министром, и доверил миссию по возобновлению дипломатических отношений с Россией в ожидании приезда посла. Служебное досье Бодена см.: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 269.
(обратно)112
Впервые они встретились за несколько дней до этого в Берлине, где оба оказались проездом. Их знакомство устроил французский посол при прусском дворе маркиз Л. де Мустье.
(обратно)113
Из первой депеши Бодена, адресованной графу Валевскому, 10 июля 1856 г. // ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 22–23.
(обратно)114
Ibid. Fol. 24 recto verso.
(обратно)115
Деятельность Шарля Бодена на его посту в Петербурге будет высоко оценена в Париже. В декабре 1857 г. он получит назначение полномочным министром в г. Кассель (Гессен).
(обратно)116
Серова О.В. Русско-французские отношения в оценке князя А.М. Горчакова // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 3. М., 2000. С. 134.
(обратно)117
АВПРИ. Ф. 137 (Отчеты МИД). Он. 475. Отчет за 1856 г. Д. 40. Л. 244–245.
(обратно)118
Там же. Л. 246.
(обратно)119
Там же. Л. 246–246 об.
(обратно)120
Там же. Л. 247–247 об.
(обратно)121
Там же. Л. 248–249.
(обратно)122
К тому времени Александр II царствовал уже более года, но из-за состояния войны между Россией и Францией «уведомительное письмо» о вступлении на престол из Петербурга в Париж не посылалось. Это стало возможным только после заключения (18/30 марта 1856 г.) Парижского мирного договора, формально положившего конец Крымской войне.
(обратно)123
Письмо датировано 3 апреля 1856 г. // Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 133 (Канцелярия). Оп. 469. 1856 г. Д. 72. Л. 17 об.
(обратно)124
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 148. Л. 329 об. По окончании аудиенции граф Валевский, провожая Алексея Федоровича, сообщил ему, что декретом императора Наполеона граф Орлов удостоен Большой ленты ордена Почетного легиона.
(обратно)125
Декрет о назначении Морни послом в России Наполеон III подписал еще 8 мая 1856 г. // Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Personnel. 1-re serie. № 3022.
(обратно)126
О нем см.: Boulenger М. Le Due de Morny. P., 1930; Christophe R. Le Due de Morny. R, 1951; Grothe G. Le Due de Morny. R, 1966; Pierre P. Le Due de Morny. R, 1958; Rouart J.-M. Morny, un voluptueux au pouvoir. P., 1995.
(обратно)127
Происхождение самой Аделаиды де Флао не лишено романтического флёра. Ее мать, Мари Катрин Ирен Луиз дю Бюиссон де Лонгпре, была одной из любовниц Людовика XV, от которого родила старшую дочь, впоследствии выданную замуж за брата мадам Помпадур, маркиза де Мариньи. По всей видимости, Аделаида и себя считала королевской внучкой.
(обратно)128
См. об этом: Кухарский П.Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. Л., 1941; Тарле Е.В. Крымская война // Сочинения: В 12 т. М., 1959, т. VIII; Черкасов П. П. Николай I и Луи Наполеон Бонапарт (1848–1852) // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М., 2009. С. 124–165.
(обратно)129
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1853 г. Д. 111. Л. 20 об.-21. Киселев – Нессельроде, 29 декабря 1852 г./10 января 1853 г.
(обратно)130
См.: Carmona М. Morny, le vice-empereur. R, 2005. Р. 256. Есть другая, более литературная, редакция этой фразы Наполеона III. «Бог дает нам братьев, – будто бы сказал император французов Киселеву, – друзей же мы выбираем сами». Цит. по: История внешней политики России. Первая половина XIX века (от войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.). М., 1995. С. 361.
(обратно)131
Моту, Due de. Extrait des Memories. Une Ambassade en Russie, 1856. P., 1892. P. 4.
(обратно)132
Письмо датировано 12/25 января 1853 г. // Ibid. Р. 1–3.
(обратно)133
Ibid. Р. 5–7.
(обратно)134
См. о ней: Таныиина Н.П. Княгиня Ливен. Любовь, политика, дипломатия. М., 2009.
(обратно)135
Au temps de la Guerre de Crimee. Correspondance inedite du comte de Morny et de la princesse de Lieven // La Revue des Deux Mondes. 1966, 1-er fevrier. P.P. 229, 331.
(обратно)136
Ibid. P. 330.
(обратно)137
В конце марта 1854 г., уже после разрыва дипломатических отношений между Петербургом и Парижем, граф де Морни, навестит свою приятельницу в Брюсселе, подчеркнув тем самым, что, вопреки обстоятельствам, остается ее верным другом.
(обратно)138
Au temps de la Guerre de Crimee. Correspondance inedite du comte de Morny et de la princesse de Lieven // La Revue des Deux Mondes. 1966, 1-er fevrier. P. 344. Морни имел в виду получить у императора разрешение для княгини Ливен вернуться в Париж, чего она страстно желала и о чем неоднократно его просила. Настойчивые ходатайства Морни в конечном счете увенчаются успехом, несмотря на активное противодействие главы британского кабинета лорда Пальмерстона, считавшего, видимо, Дарью Христофоровну шпионкой Николая I. 1 января 1855 г. княгиня Ливен вернется в Париж. См. об этом: Танъшина Н.П. Указ. соч. С. 271–276.
(обратно)139
Au temps de la Guerre de Crimee. Correspondance inedite du comte de Morny et de la princesse de Lieven // La Revue des Deux Mondes. 1966, 1-er fevrier. P. 228.
(обратно)140
Ibid. P. 344.
(обратно)141
Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. 2-me ed. P., 1913. p. 110–111.
(обратно)142
Полный состав посольства Морни см.: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 3022.
(обратно)143
Моту, Due de. Op. cit. P. 64, 65.
(обратно)144
Ibid. P. 65–66.
(обратно)145
Murat, Joachim-Joseph-André. Le Couronnement de l’empereur Alexandre II. Souvenirs intimes de l’ambassade de France. P., 1883. R 36.
(обратно)146
Депеша Морни графу Валевскому от 8 августа 1856 г. // ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 77–85 verso. См. также: Morny, Due de. Op. cit. P. 63–80.
(обратно)147
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 81 recto verso; Morny, Due de. Op. cit. P. 73.
(обратно)148
Князь Горчаков встречался с Гортензией Бонапарт в Италии, где он, будучи молодым дипломатом, служил в российских посольствах в Риме и Флоренции. – П.Ч.
(обратно)149
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 78 recto verso; Morny, Due de. Op. cit. P. 66.
(обратно)150
Как уже отмечалось в Петербурге уже находился посол Австрии князь Эстергази, но к тому времени он еще не получил аудиенции и не вручил верительные грамоты, что не давало ему официального статуса. По этой причине Эстергази не мог претендовать на звание дуайена, хотя фактически прибыл в Россию гораздо раньше Мории.
(обратно)151
Он временно замещал заболевшего князя А.М. Горчакова.
(обратно)152
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 123–125.
(обратно)153
Murat, Joachim-Joseph-André. Op. cit. P. 81–82.
(обратно)154
Из депеши Морни от 7 сентября 1856 г. // ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 205 recto verso.
(обратно)155
Ibid. Fol. 207.
(обратно)156
Полный текст письма см.: Моту, Due de. Op. cit. P. 90–98.
(обратно)157
См.: ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 89–97.
(обратно)158
Речь идет о военной интервенции 1849 г. Венгрии, предпринятой Николаем I по настоятельной просьбе Франца-Иосифа I. Венгерская революция против австрийского господства была тогда подавлена с помощью русских штыков, что спасло Габсбургскую империю от распада. – П.Ч.
(обратно)159
Татищев С. С. Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2005. С. 186.
(обратно)160
Моту, Due de. Op. cit. P. 106–107.
(обратно)161
См. об этом: Международные отношения на Балканах 1856–1878 гг. М., 1986. С. 113–115.
(обратно)162
Ibid. Р. 132–133. Во исполнение достигнутой Морни в Петербурге договоренности, на заседании международной комиссии по делимитации новой русско-турецкой границы французский военный эксперт полковник Бессон предложил обменять уступку туркам Болграда на территорию общей площадью 329 кв. верст к западу от Одессы, переходящую к России. – П.Ч.
(обратно)163
Моту, Due de. Op. cit. P. 133–134.
(обратно)164
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 74. Л. 78–78 об. Валевский – Морни, 29 ноября 1856 г.
(обратно)165
Там же. Л. 79 об -80.
(обратно)166
Еще в конце октября 1856 г. Морни сообщал Валевскому о «вызывающем поведении британской дипломатии в отношении России», крайне раздраженной неоднократным появлением английских военных кораблей у берегов Одессы и Керчи. А продолжающаяся австрийская оккупация Дунайских княжеств, по мнению посла, дает основания России, со своей стороны, не спешить с исполнением предписаний Парижского мира. Все это, «как мне кажется, служит для нее убедительным оправданием», добавил Морни. // ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 213. Fol. 70 recto verso. Морни – Валевскому, 25 октября 1856 г.
(обратно)167
Депеша от 25 ноября 1856 г. // Моту, Due de. Op. cit. P. 150–151.
(обратно)168
Ibid. P. 152.
(обратно)169
Ibid. P. 155.
(обратно)170
Carmona М. Op. cit. Р. 307.
(обратно)171
Моту, Due de. Op. cit., P. 137–139.
(обратно)172
Барон Ф.И. Бруннов временно возглавлял российскую дипломатическую миссию в Париже в ожидании приезда графа П.Д. Киселева, назначенного послом во Франции. – П.Ч.
(обратно)173
Из письма графа Морни императору Наполеону от 9 декабря 1856 г. // Моту, Due de. Op. cit. P. 173–174.
(обратно)174
Ibid. Р. 174–175.
(обратно)175
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 213. Fol. 70 recto verso. Морни – Валевскому, 9 декабря 1856 г.
(обратно)176
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 74. Л. 38.
(обратно)177
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 213. Fol. 71.
(обратно)178
АВПРИ. Ф. 137 (Отчеты МИД). On. 475. Отчет за 1856 г. Д. 40. Л. 8, 18 об.
(обратно)179
Там же. Л. 20 об.
(обратно)180
Там же. Л. 19 об.-20.
(обратно)181
Kraatz A. La compagnie fransaise de Russie: Histoire du commerce franco-russe au XVIIe et XVIIIe siecles. P., 1993. P. 175, 180.
(обратно)182
См. об этом: П. П. Черкасов. Русско-французский торговый договор 1787 года // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 4. М., 2001. С. 26–59.
(обратно)183
Текст «трактата о торговле и навигации», подписанного в Париже 16 сентября 1846 г. между Россией и Францией см.: Мартенс Ф. Собрание Трактатов и Конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. XV. Трактаты с Францией). 1822–1906. СПб., 1909. С. 205–219.
(обратно)184
Таныиина Н.П. Политическая борьба во Франции по вопросам внешней политики в годы Июльской монархии. М., 2005. С. 179.
(обратно)185
Донесение Я.Н. Толстого от 6/18 марта 1847 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 4а. Д. 198. Л. 172–173.
(обратно)186
Документ был передан графом де Морни министру иностранных дел России А.М. Горчакову//АВПРИ. Ф. 133. Он. 469. 1857 г. Д. 68. Л. 136–137.
(обратно)187
Егор Францевич (Георг Людвиг) Канкрин, граф, генерал от инфантерии, бессменный министр финансов на протяжении двух десятилетий, основатель Санкт-Петербургского Технологического института. Канкрин руководил Министерством финансов до 1844 г.
(обратно)188
Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен Петра Великого до наших дней. Пер. с нем. СПб., 1909. С. 67–68.
(обратно)189
Пошлина, взимаемая с иностранных кораблей за вход и выход из порта, по числу ластов товара. Ласт – старинная мера корабельного груза, равная 2 регистровым тоннам (5,66 куб. м., или 120 пудам).
(обратно)190
Витчевский В. Указ. соч. С. 74.
(обратно)191
Там же. С. 101.
(обратно)192
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1857 г. Д. 41. Л. 237 об.
(обратно)193
Там же. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 68. Л. 382–409.
(обратно)194
В письме к Горчакову Морни отметил, что Франция уже подписала такого рода конвенции с Англией, Бельгией, Сардинией, Испанией и рядом германских государств.
(обратно)195
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 68. Л. 390–391.
(обратно)196
Проблема поддельных французских вин возникала и прежде. Так, в июле 1851 г. тогдашний посланник Франции в Петербурге маркиз де Кастельбажак направил ноту МИД России, в которой потребовал принятия мер по пресечению обращения на русском рынке поддельного французского шампанского, которое, по мнению дипломата, ввозилось из других стран, а также изготавливалось в самой России. Тогда этот вопрос стал предметом обсуждения в Совете (на коллегии) Министерства финансов. Одно из принятых решений предполагало введение четкого разграничения между шампанскими (т. е. только и собственно французскими) и шипучими (производимыми и в других странах) винами. Это различие должно было в обязательном порядке отражаться на винных этикетках. Другое решение предусматривало, что отныне шампанское должно было поставляться в Россию только в оригинальных бутылках, а не в бочках, как прежде. Наконец, французской стороне было предложено обеспечивать у себя строгий таможенный контроль при отправке шампанских (и других) вин в Россию. См.: АВПРИ. Ф. СПб. Главархив. П-З. Оп. 77. 1851 г. Д. 1.
(обратно)197
Morny, Due de. Op. cit. P. 198–200.
(обратно)198
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 214. Fol. 219.
(обратно)199
Рабочие документы переговоров см. в папке: «Traite de commerce et de navigation avec la France», датированной 2/14 июня 1857 г. // АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1857 г. Д. 68. Л. 134–256 об.
(обратно)200
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 214. Fol. 231 recto verso.
(обратно)201
Ibid. Fol. 231 verso.
(обратно)202
Эта очевидная несправедливость будет устранена при пересмотре торгового договора в 1874 г., когда Россия добьется равноправия в этом вопросе.
(обратно)203
Витчевский В. Указ. соч. С. 107–108.
(обратно)204
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1857 г. Д. 41. Л. 238 об.
(обратно)205
Моту, Due de. Op. cit. P. 197–198.
(обратно)206
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1857 г. Д. 41. Л. 239–240.
(обратно)207
Полный текст договора см.: Мартенс Ф. Указ. соч. Т. XV. С. 337–356.
(обратно)208
Такая конвенция будет подписана князем А.М. Горчаковым и послом Франции в Петербурге герцогом де Монтебелло 6 апреля 1861 г. Текст конвенции см.: Мартенс Ф. Указ соч. Т. XV. С. 388–397.
(обратно)209
Этот показатель выглядел более чем скромно в сравнении с другими торговыми партнерами Франции. Тогда же, в 1857 г., в Бордо побывали 366 английских торговых судов, 84 – норвежских, 63 – североамериканских, 42 – испанских, 19 – шведских. При этом следует, конечно, учитывать, что это был первый мирный год, последовавший за Крымской войной, когда все торговые контакты России и Франции были полностью прерваны. // АВПРИ. Ф. 155. Внутренние хозяйственные дела. 1–1. Оп. 259. 1858 г. Д. 1/10. Л. 7.
(обратно)210
По данным, сообщенным 6/18 февраля 1860 г. российским консулом в Гавре и Руане товарищу министра иностранных дел И.М. Толстому. // Там же. Оп. 261. 1860 г. Д. 1/4. Л. 11 об.
(обратно)211
По докладу в Департамент внутренних сношений МИД генерального консула России во французских средиземноморских портах от 19/31 января 1860 г. // Там же. Л. 4.
(обратно)212
Там же. Оп. 259. 1858 г. Д. 24.
(обратно)213
Там же. Д. 196. Л. 2–2 об.
(обратно)214
Это означало, что французские (и иные иностранные) торговцы-евреи могли заниматься предпринимательской деятельностью в России только в границах т. н. «черты оседлости», установленной при Екатерине II. – П.Ч.
(обратно)215
АВПРИ. Ф. 155. Внутренние хозяйственные дела. 1–1. Оп. 259. 1858 г. Д. 196. Л. 2–2 об.
(обратно)216
Еще в 1825 г. иностранцы получили право записываться в купцы 2-й и 3-й гильдий на территории Новороссии и Бессарабии «для способствования их заселению», при условии перехода в русское подданство. В 1857 г. подобные льготы были подтверждены. В целях скорейшего восстановления городов, пострадавших во время Крымской войны, а именно – Севастополя, Керчи, Евпатории и Балаклавы – властям этих городов было предоставлено право допускать иностранцев к вступлению во 2-ю и 3-ю гильдии без принятия ими русского подданства, но лишь на временной основе – сроком до одного года. В результате неверной трактовки правительственных распоряжений были зарегистрированы многочисленные нарушения установленных для иностранцев правил. Правительство вынуждено было дать соответствующее разъяснение, а заодно объявить все «неправильно предоставленные льготы» недействительными с 1 января 1859 г.
(обратно)217
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1858 г. Д. 42. Л. 231 об.
(обратно)218
Там же. Л. 232.
(обратно)219
Там же. Л. 232 об.
(обратно)220
Kraatz A. Le commerce franco-russe. Concurrence et contrefasons. De Colbert a 1900. P., 2006. P. 267.
(обратно)221
Моту, Due de. Op. cit. P. 182–183.
(обратно)222
Ibid. Р. 183–184. По представлению Морни, Наполеон III в марте 1857 г. наградил Горчакова Большим крестом Почетного легиона. Со своей стороны, Александр II тогда же отметил заслуги графа Валевского в нормализации франко-русских отношений орденом ев. Андрея Первозванного. См.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 68. Л. 420; Д. 69. Л. 4–4 об.
(обратно)223
Из письма Морни к Наполеону III от 9 декабря 1856 г. // Моту, Due de. Op. cit. P. 176–177.
(обратно)224
Морни получит титул герцога в 1862 г.
(обратно)225
Ровно через год у них родится первенец-дочь, в 1859 г. – сын, в 1861 г. – второй сын, а в 1863 г. – вторая дочь.
(обратно)226
Из депеши графа де Морни министру иностранных дел графу Валевскому от 8 августа 1856 г. // Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 77–85 verso. См. также: Morny, Due de. Extrait des Memories. Une Ambassade en Russie, 1856. P., 1892. P. 63–80.
(обратно)227
О П.Д. Киселеве и его государственной деятельности см.: Акульшин П.В. Киселев Павел Дмитриевич // Отечественная история. Энциклопедия. Т. 2. М., 1996. С. 582–583; Булгаков Ф.И. Русский государственный человек минувших трех царствований (Граф П.Д. Киселев) // Исторический вестник. 1882. № 1. С. 128–155; № 3. С. 661–682; Гросул В.Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия. М., 1966; Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. 1–2. М.-Л., 1946–1958; Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 1–4. СПб., 1882; Киселев Павел Дмитриевич // Русский биографический словарь.
Т. Ибак-Ключарев. СПб., 1897. Репр. воспроизв. М., 1994. С. 702–717; Орлик О.В. П.Д. Киселев как дипломат. Органические регламенты Дунайских княжеств // Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 151–166; Румянцев Р.А. Павел Дмитриевич Киселев // Вопросы истории. 2008. № 12. С. 50–60.
(обратно)228
Цит. по: Исторический вестник. 1882. № 3. С. 667.
(обратно)229
ААЕ. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 101 verso – 102 verso.
(обратно)230
Цит. по: Заблоцкий-Десятовский А.П. Указ соч. Т. 3. С. 7, 9.
(обратно)231
Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 133 (Канцелярия). Оп. 469. 1856 г. Д. 153. Л. 86.
(обратно)232
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1856. Vol. 212. Fol. 31 recto verso. Боден – Валевскому, 10 июля 1856 г.
(обратно)233
Ibid. Fol. 42–44. Депеша Бодена от 15 июля 1856 г. На коронационных торжествах Александр II лично представит Киселева прибывшему из Парижа в качестве чрезвычайного и полномочного посла графу Огюсту де Мории. – П.Ч.
(обратно)234
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 149. Л. 266.
(обратно)235
Письмо от 29 сентября 1856 г. // «Европа пережила неспокойные времена». Переписка императоров Александра II и Наполеона III. 1856–1867 гг. Публикация и перевод документов Л.А. Пуховой // Исторический архив. 2007. № 6. С. 156.
(обратно)236
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 154. Л. 450.
(обратно)237
Полный текст инструкции см.: Там же. Д. 153. Л. 117–136 об.
(обратно)238
Мартенс Ф. Собрание Трактатов и Конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. XV. Трактаты с Франциею. 1822–1906. СПб., 1909. С. 298.
(обратно)239
Полный текст этой инструкции см.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 153. Л. 187–198 об.
(обратно)240
Там же. Д. 151. Л. 96-102 об.
(обратно)241
Параллельно этот вопрос Горчаков обсуждал в Петербурге с послом Франции графом де Морни.
(обратно)242
«Дело Невшателя» – эпизод затяжного прусско-швейцарского конфликта, возникшего в результате восстания в марте 1848 г., свергнувшего власть короля Пруссии в кантоне Невшатель, где была провозглашена республика. Местные монархисты, поощряемые Пруссией, с этим не согласились, и в сентябре 1856 г. подняли мятеж, который был подавлен. Пруссия под угрозой объявления войны предъявила ультиматум республиканским властям, требуя освободить арестованных мятежников. Франция рассчитывала на то, что Россия, находившаяся в близких отношениях с берлинским двором, поможет остудить воинственный пыл Фридриха-Вильгельма и предотвратить прусскую интервенцию. Этот расчет оправдался, и войны удалось избежать после достижения компромисса, предложенного Наполеоном III. Союзный сейм Швейцарии освободил арестованных мятежников, а Фридрих-Вильгельм, по настоятельному совету Александра II, вынужден был в мае 1857 г. согласиться с независимостью Невшателя. Созванная позднее международная конференция признает Невшатель неотъемлемой частью Швейцарской конфедерации. См.: Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. 2-me ed. P., 1913. P. 206–207.
(обратно)243
АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1856 г. Д. 151. JI. 98 об. И это было правдой. Переговоры по «делу Невшателя» велись в Петербурге между Горчаковым и Морни, и именно там была достигнута взаимная договоренность о недопущении войны в Швейцарии – П.Ч.
(обратно)244
Там же. Л. 99.
(обратно)245
Там же. Л. 99 об-100.
(обратно)246
Там же. Л. 101.
(обратно)247
Имеется в виду вопрос об Ионических островах, переданных под британское управление еще Венским конгрессом в 1815 г. Греция, поддерживаемая Россией, постоянно выдвигала требование о возвращении этих островов под свою юрисдикцию. Англо-греческий спор по этому вопросу затянется до 1864 г., когда Ионические острова, наконец, будут присоединены к Греции.
(обратно)248
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 102–102 об.
(обратно)249
Отчет Киселева о первой аудиенции у Наполеона см.: Там же. Л. 130–135 об.
(обратно)250
Дело в том, что именно Бруннов представлял Россию на Парижской конференции по разграничению в Дунайских княжествах. Тем не менее, уточнение, сделанное Киселевым, свидетельствовало о его недовольстве двойным представительством России в Париже. В дальнейшем, как мы увидим, это недовольство будет только нарастать. – П.Ч.
(обратно)251
Эти слова в тексте донесения Киселева были подчеркнуты, по-видимому, рукой Горчакова. – П.Ч.
(обратно)252
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 130.
(обратно)253
См. Мартенс Ф. Указ. соч. Т. XV. С. 301–303.
(обратно)254
Там же. С. 303.
(обратно)255
Подробное описание церемонии вручения верительных грамот содержится в депеше графа Киселева от 13 ноября 1856 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 138–141.
(обратно)256
“Le Moniteur”, 12 novembre 1856. См. приложение к депеше Киселева от 13 ноября. // Там же. Л. 142.
(обратно)257
Последние годы жизни прославленный мореплаватель и дипломат проведет в Париже, где умрет в 1883 г.
(обратно)258
“Le Siecle”, 14 novembre 1856.
(обратно)259
АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 554.
(обратно)260
Там же. Л. 156.
(обратно)261
Исторический вестник. 1882. № 3. С. 672.
(обратно)262
См. отчет Киселева об этой встрече // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л.164–169.
(обратно)263
Последняя фраза из донесения Киселева от 15 ноября 1856 г. была подчеркнута в тексте рукой Горчакова. См.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 150 об.
(обратно)264
Там же. Л. 151 об.
(обратно)265
Там же. Л. 152–152 об.
(обратно)266
Там же. Л. 326–332.
(обратно)267
Там же. 1857 г. Д. 145. Л. 438 об. – 440 об.
(обратно)268
О Парижской конференции см.: Международные отношения на Балканах 18561878 гг. М., 1986. С. 109–115.
(обратно)269
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 154. Л. 442 об. – 443. Горчаков – Бруннову, 16 ноября 1856 г.
(обратно)270
См. Там же. 1856 г. Д. 151. Л. 589–598.
(обратно)271
Текст письма Горчакова см.: Там же. 1856 г. Д. 154. Л. А15-А19 об.
(обратно)272
Договор вступил в силу в 1858 г. после того, как был ратифицирован всеми участниками конференции.
(обратно)273
См. о нем: Воронин В.Е. Деятельность великого князя Константина Николаевича в контексте реформирования социально-политического строя в России (60-70-е гг. XIX в.). Автореф. дисс. М., 2009; он же. Политические взгляды и замыслы великого князя Константина Николаевича в середине 60-х гг. // Отечественная история. 2007. № 5. С. 61–72; Завьялова Л., Орлов К. Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи. История семьи. М., 2009; Константин Николаевич // Русский биографический словарь. Т. Кнаппе-Кюхельбекер. СПб., 1903. Репр. воспроизв. М., 1995. С. 120–155; Переписка Императора Александра II и Великого Князя Константина Николаевича 1857–1861 / Захарова Л.Г., Тютюник Л.И. // Русский Архив. Т. II–III. М., 1992.
(обратно)274
Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. Т. XIV. М., 1947. С. 309.
(обратно)275
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 370–370 об. Киселев – Горчакову, 24 декабря 1856 г.
(обратно)276
Там же. 1857 г. Д. 142. Л. 412. Киселев – Горчакову по телеграфу, 21 апреля 1857 г.
(обратно)277
Программа пребывания великого князя во Франции, расписанная по дням, изложена в депеше Киселева от 21 апреля. // Там же. Л. 433–437 об.
(обратно)278
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1857. Vol. 214. Fol. 208. Морни – Валевскому, 21 апреля 1857 г.
(обратно)279
Татищев С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 186.
(обратно)280
АВПРИ. Ф. 187 (Посольство в Париже). Оп. 524. 1857 г. Д. 335.
(обратно)281
Там же. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 142. Л. 481 об.
(обратно)282
Там же. Д. 145. Л. 542 об. – 543. Горчаков – Киселеву, 24 мая 1857 г.
(обратно)283
Морни показал оригинал этого письма Горчакову и оставил ему копию // Там же. Д. 68. Л. 108.
(обратно)284
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1857. Vol. 214. Fol. 232 verso – 233 verso.
(обратно)285
Письмо Александра II от 21 мая. См.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 65. Л. 8–8 об.; Ответное письмо Наполеона III от 17 июня. См.: Там же. Л. 2–3.
(обратно)286
См. публикацию Л.А. Пуховой: // Исторический архив. 2007. № 6. С. 155–181. Л.А. Пуховой опубликованы 23 письма. В действительности их значительно больше. В оригиналах и копиях они хранятся как в Национальном архиве Франции в Париже, так и в Архиве внешней политики Российской империи в Москве. – П.Ч.
(обратно)287
Письмо от 24 июня 1857 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 66. Л. 2.
(обратно)288
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 146. Л. 390 об. – 391. Горчаков – Киселеву, 25 октября (cm. cm.) 1857 г.
(обратно)289
Там же. Л. 391.
(обратно)290
Там же. Д. 144. Л. 79–80. Балабин – Горчакову, 19 августа 1857 г.
(обратно)291
Там же. Д. 146. Л. 90. Горчаков – Балабину по телеграфу, 5 августа (cm. cm.) 1857 г.
(обратно)292
Там же. 1858 г. Д. 115. Л. 294. Киселев – Горчакову, 24 февраля 1858 г.
(обратно)293
Служебное досье Монтебелло см.: ААЕ. Personnel. 1-re Serie. № 2962. Об этом выборе Валевский 13 февраля 1858 г. проинформировал Киселева, одновременно попросив выяснить в Петербурге, будет ли это назначение принято там благожелательно. Положительный ответ не заставил себя ждать. Кандидатура герцога де Монтебелло была сразу же одобрена Александром II.
(обратно)294
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 115. Л. 294–295. Киселев – Горчакову, 24 февраля 1858 г. В приложении к этой депеше Киселев дал биографическую справку и развернутую характеристику герцогу де Монтебелло. См. Там же. Л. 299–304 об.
(обратно)295
Там же. Л. 299–300 об.
(обратно)296
Там же. Л. 300 об. – 301.
(обратно)297
Там же. Л. 304 об.
(обратно)298
ААЕ. Correspondence politique. Russie. 1858. Vol. 216. Fol. 283–284 verso. Монтебелло – Валевскому, 21 мая 1858 г.
(обратно)299
Полный текст депеши Монтебелло от 27 мая 1858 г с описанием его первой встречи с Александром II см.: Ibid. Fol. 294–301.
(обратно)300
В ходе личных переговоров в Штутгарте 13–15 сентября 1857 г., о чем еще будет сказано, Александр II и Наполеон III обменялись оценками политической ситуации в Европе. Царь пообещал не противиться притязаниям Наполеона на Савойю и Ниццу, а император французов подтвердил желание помочь России освободиться от ограничений Парижского мира.
(обратно)301
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 216. Ibid. Fol. 299.
(обратно)302
Ibid. Fol. 299 verso.
(обратно)303
Ibid. Fol. 300.
(обратно)304
Ibid. Fol. 300 verso – 301.
(обратно)305
АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1858 г. Д. 116. Л. 240–241. Киселев – Горчакову, 8 июня 1858 г.
(обратно)306
Заключительный документ конференции, определившей автономию княжеств, был подписан ее участниками 19 августа 1858 г. См. об этом: Международные отношения на Балканах 1856–1878 гг. С. 115.
(обратно)307
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 217. Fol. 71. Ратификация заключительных протоколов состоялась в начале октября 1858 г.
(обратно)308
Ibid. Fol. 30. Монтебелло – Валевскому, 2 июля 1858 г. Под «греческой» Монтебелло имел в виду Православную церковь. – П.Ч.
(обратно)309
Ibid. Fol. 70–78. Монтебелло – Валевскому, 5 августа 1858 г.
(обратно)310
Ibid. 1859. Vol. 218. Fol. 255 verso. Шаторенар – Валевскому 6 апреля 1859 г. по телеграфу.
(обратно)311
Подробно об этом см.: Герцог де Монтебелло и имам Шамиль. Донесения посла Франции в России о Кавказской войне и пленении Шамиля в 1859 г. Из фондов Архива МИД Франции (публикация, перевод с франц. и комментарии П. П. Черкасов) II Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 7. М., 2006. С. 278–292.
(обратно)312
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1859. Vol. 219. F. 206 recto verso.
(обратно)313
Ibid. Fol. 281–286.
(обратно)314
Имеется в виду главнокомандующий Кавказской армией генерал-адъютант князь А. И. Барятинский (1815–1879 гг.). За пленение Шамиля и покорение Северного Кавказа в 1859 г. он был произведен в генерал-фельдмаршалы. – П.Ч.
(обратно)315
С 1922 г. – город Буйнакск в восточной части Дагестана. – П.Ч.
(обратно)316
При слиянии Аварского и Андийского Койсу берет начало река Сулак, впадающая в Каспийское море. – П.Ч.
(обратно)317
«Мюрид» буквально означает – «ищущий путь к спасению» через участие в священной войне с неверными. Мюрид обязан беспрекословно повиноваться своему духовному наставнику, жертвуя всем – и своим имуществом, и семьей, и самой жизнью. – П.Ч.
(обратно)318
Имеется в виду первый имам Чечни и Горного Дагестана Гази-Магомед (1794–1832), призвавший горцев в 1828 г. к «газавату» (священной войне против неверных, т. е. русских). Он погиб (был заколот штыками) 17 октября 1832 г. при штурме русскими войсками его родного аула Гимры, в Горном Дагестане. – П.Ч.
(обратно)319
Французский посол, по всей видимости, имеет в виду имама Шамиля. В действительности преемником Гази-Магомеда и вторым имамом Чечни и Горного Дагестана в 1832 г. стал Гамзат-бек (1789–1834), один из сподвижников Гази-Магомеда с 1829 г. Он был убит своими кровниками в 1834 г. Преемником Гамзат-бека и третьим по счету имамом стал Шамиль. – П.Ч.
(обратно)320
Суфизм – мистическое течение в исламе, окончательно оформившееся в XII в. Для него характерно сочетание метафизики с аскетической практикой, учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию Бога (в интуитивных экстатических озарениях) и слиянию с ним. – П.Ч.
(обратно)321
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1859. Vol. 219. Fol. 288–290.
(обратно)322
В данном случае французский посол ошибся. Чеченский язык отличен от языков других горских народов Северного Кавказа. – П.Ч.
(обратно)323
Имеется в виду Наполеон III. – П.Ч.
(обратно)324
Абд-эль-Кадер (Абд Аль-Кадир) (1808–1883 гг.) – вождь национально-освободительной вооруженной борьбы («священной войны») алжирских племен против французских завоевателей, продолжавшейся полтора десятилетия – с 1832 по 1847 г., создатель независимого государства (эмирата) на территории Западного Алжира. Отряды Абд-эль-Кадера неоднократно одерживали победы над французскими войсками. В результате подавления восстания в 1847 г. взят в плен и отправлен во Францию, где содержался до 1852 г., когда был отпущен на свободу. Получив от правительства Наполеона III пожизненную пенсию, остаток жизни Абд-эль-Кадер провел на Ближнем Востоке, проживая по большей части в Дамаске. – П.Ч.
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1859. Vol. 219. F. 290–292.
(обратно)325
Ibid. К 400–401.
(обратно)326
Рисорджименто (итал. Risorgimento, букв. – возрождение). Национально-освободительное движение в Италии (конец XVIII в. – 1870 г.) против иностранного господства, за объединение страны, завершившееся созданием Итальянского королевства. См. об этом: Объединение Италии: 100 лет борьбы за независимость и демократию. М., 1963; Перцев О.Н. Италия в XIX веке: Исторический очерк. М., 1917; Серова О.В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М., 1997; Banti AM. II Risorgimento italiano, Roma-Bari, 2004; Derek Beales D. e Biagini E.F. II Risorgimento e Punificazione d’ltalia, Bologna, 2005; Pape G., Valeri N., et al. Orientamenti per la storia d’ltalia nel Risorgiomento. Bari, 1952; Woolf S.J. II risorgimento italiano, Vol. 1–2. Torino, 1981.
(обратно)327
Впоследствии он подарил королевство своему малолетнему сыну, получившему титул короля Римского.
(обратно)328
Цит. по: Bourgerie R. Magenta et Solferino (1859). Napoléon III et le reve italien. P., 1993. P. 1.
(обратно)329
Castelot A. Napoléon III. L’aube des Temps modernes. P., 1999. R 319.
(обратно)330
Когда в феврале 1849 г. была провозглашена Римская республика, а папа Пий IX, осудивший начавшуюся революцию и борьбу за объединение Италии, бежал из своей резиденции, тогдашний президент Французской республики принц Луи-Наполеон отправил в Рим экспедиционный корпус под командованием генерала Виктора Удино для наведения порядка в Вечном городе. Римская республика была разгромлена, а Пий IX в июле 1849 г. вернулся к власти на французских штыках. С этого момента Луи-Наполеон, вчерашний сподвижник Чиро Менотти, превратился для карбонариев в злейшего врага независимости Италии и в мишень для покушений на его жизнь.
(обратно)331
Histoire de la diplomatic fransaise / Presentation de Dominique de Villepin. P., 2005. P. 593.
(обратно)332
См. о нем: Cognasso F. Vittorio Emanuele II. Torino, 1942; Gasparetto P.F. Vittorio Emanuele II. Milano, 1984; Mack Smith D. Vittorio Emanuele II, Milano, 1995; Pinto P. Vittorio Emanuele II: il re awenturiero. Milano, 1997.
(обратно)333
См. о нем: Орлова О. Граф Камилл Кавур по его письмам и современным запискам // Русская мысль. 1898. №№ 1–3, 7, 9, 11; Hearder Н. Cavour. Bari, 2000; Matter Р Cavour et Punite italienne. Vol. 1–3. P., 1922–1927; Romeo R. Cavour e il suo tempo. Vol. 1–3. Bari, 1984.
(обратно)334
Речь идет о Пьемонте. – П.Ч.
(обратно)335
Цит. по: Серова О.В. Указ соч. С. 16.
(обратно)336
Castelot A. Op. cit. Р. 319.
(обратно)337
Histoire de la diplomatic fran9aise. P. 592.
(обратно)338
Anceau É. Napoléon III. Un Saint-Simon a cheval. P., 2008. R 303.
(обратно)339
Цит. no: Lahlou R. Napoléon III ou l’obstination couronnee. R, 2004. R 95.
(обратно)340
Как уже отмечалось, граф Валевский был внебрачным сыном Марии Валевской от Наполеона I.
Histoire de la diplomatie fransaise. P. 593.
(обратно)341
Castelot A. Op. cit. Р. 321–323.
(обратно)342
Во Франции Наполеона-Жерома чаще называли принцем Наполеоном, опуская вторую часть имени, указывавшую на его отца, брата Наполеона I. А свое прозвище («Плонплон») еще в детстве он получил от матери, урожденной принцессы Вюртембергской.
(обратно)343
Апсеаи Е. Comprendre le Second Empire. Р., 1999. Р. 63. Имелось в виду, что договор был подготовлен в водолечебнице. – П.Ч.
(обратно)344
Граф Валевский будет отправлен в отставку в январе 1860 г. Его кабинет на Кэ д’Орсэ займет Эдуард Тувенель, принадлежавший к «итальянской партии» в окружении Наполеона III.
(обратно)345
Серова О.В. Итальянский вопрос в русско-французских отношениях накануне войны 1859 года // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 1. М., 1995. С. 119.
(обратно)346
Архив внешней политики России (далее – АВПРИ). Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 143. Л. 453–454. Киселев – Горчакову, 18(6) сентября 1857 г.
(обратно)347
Там же. Л. 457.
(обратно)348
Цит. по: Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 192.
(обратно)349
См.: Серова О.В. Итальянский вопрос в русско-французских отношениях накануне войны 1859 года // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 1. М., 1995. С. 101–102.
(обратно)350
Там же. С. 102.
(обратно)351
Татищев С.С. Указ. соч. С. 194. Некоторые сведения о Штутгартской встрече можно найти в дневниковых записях П.Д. Киселева, воспроизведенных его биографом. См.: Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 3. СПб., 1882. С. 38–40.
(обратно)352
Заблоцкий-Десято вский А.П. Указ соч. С. 38.
(обратно)353
Татищев С. С. Указ соч. С. 195.
(обратно)354
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 143. Л. 421–422. Киселев – Горчакову, 14 октября 1857 г.
(обратно)355
Недатированная записка Киселева // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1857 г. Д. 143. Л. 398 об.-399 об.
(обратно)356
Там же. Л. 411. Киселев – Горчакову, 29 октября 1857 г.
(обратно)357
Там же. Л. 453 об. – 459 об. Киселев – Горчакову, 18 сентября 1857 г.
(обратно)358
Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. 1857. Vol. 215. Fol. 85–86. Боден – Валевскому, 2 октября 1857 г.
(обратно)359
Ibid. Fol. 106–112. Боден – Валевскому, 16 октября 1857 г.
(обратно)360
Новогоднее поздравление Наполеона от 2 января 1858 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 68. Л. 3–4. Весьма примечательно, что, высказав в письме надежду на упрочение двусторонних связей с Россией, Наполеон вместе с тем добавил, что это «не должно поссорить меня с Англией». Последняя фраза была подчеркнута Александром II, который поставил на левом поле напротив восклицательный знак. Новогоднее поздравление Александра см.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 68. Л. 9-10. См. также: «Европа пережила неспокойные времена». Переписка императоров Александра II и Наполеона III. 1856–1867 гг. Публикация и перевод документов Л.А. Пуховой // Исторический архив. 2007. № 6. С. 160.
(обратно)361
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1857 год. Д. 41. Л. 15.
(обратно)362
Там же. Л. 16 об.
(обратно)363
Там же. Л. 17–17 об.
(обратно)364
Там же. Л. 18.
(обратно)365
Там же. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 115. Л. 385–386.
(обратно)366
Цит. по: Серова О.В. Итальянский вопрос в русско-французских отношениях… С. 106.
(обратно)367
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 217. Fol. 151.
(обратно)368
АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1858 г. Д. 115. Л. 6–6 об.
(обратно)369
Там же. Д. 119. Л. 5.
(обратно)370
Письмо Александра II от 4(16) января 1858 г. см.: Там же. Д. 68. Л. 13.
(обратно)371
Там же. Д. 119. Л. 119. Горчаков – Киселеву по телеграфу, 19 января 1858 г.
(обратно)372
Письмо Александра II от 7(19) января 1858 г. // Там же. Д. 68. Л. 15–15 об. См. также: Исторический архив. 2007. № 6. С. 159.
(обратно)373
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 216. Fol. 47 recto verso. Шаторенар – Валевскому, 25 января 1858 г.
(обратно)374
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 115. Л. 60–61. Киселев – Горчакову, 28 января 1858 г.
(обратно)375
Там же. Л. 86–87 об. Киселев – Горчакову, 8 февраля 1858 г.
(обратно)376
В письме, датированном 5 февраля, Наполеон повторил те же слова благодарности и заверения в дружбе, которые он высказал на первой аудиенции, данной Паскевичу // Там же. Д. 68. Л. 15–15 об.
(обратно)377
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1858 г. Д. 42. Л. 8.
(обратно)378
Шифрованная телеграмма Монтебелло от 26 сентября 1858 г. // ААЕ. Correspon-dance politique. Russie. 1858. Vol. 217. Fol. 152.
(обратно)379
Шифрованная телеграмма принца Наполеона от 28 сентября // Ibid. Fol. 153 recto verso.
(обратно)380
Ibid. Fol. 154. Принц Наполеон – императору Наполеону III, 30 сентября 1858 г.
(обратно)381
Письмо Наполеона III от 24 сентября 1856 г. // Исторический архив. 2007. № 6. С. 161.
(обратно)382
Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakov et Napoléon III. 2-eme ed. P., 1913. R 243.
(обратно)383
Письмо от 18(30) сентября 1858 г. // Исторический архив. 2007. № 6. С. 160–161.
(обратно)384
Сен-Клу – одна из загородных резиденций Наполеона III. – П.Ч.
(обратно)385
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 118. Л. 476–477. Киселев – Горчакову, 6 октября 1858 г.
(обратно)386
Там же.
(обратно)387
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1858. Vol. 217. Fol. 155 verso – 156. Монтебелло – Валевскому, 30 сентября 1858 г.
(обратно)388
Ibid. Fol. 164–165. Монтебелло – Валевскому; 6 октября 1858 г.
(обратно)389
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1858 г. Д. 121. Л. 390–391. На письме имеется одобрительная пометка императора. – П.Ч.
(обратно)390
История заключения, как и содержание этого договора, исследованы отечественными историками. См.: Рыжова Р.И. Сближение России и Франции после Крымской войны и русско-французский договор 3 марта 1859 г. // Ученые записки МГПИ им. В.П. Потемкина. Т. XXVIII. Вып. 4; О.В. Серова. Итальянский вопрос в русско-французских отношениях… С. 98–119; Фейгына. Из истории русско-французских отношений (Секретный договор 3 марта 1859 г.) // Века. № 1. Иг., 1924. С. 133–164. Советский историк Ф.А. Ротштейн еще в 1938 г. подготовил обширную подборку архивных документов на эту тему: К истории франко-русского соглашения 1859 г. [Ф. Ротштейн] //Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 182–253.
(обратно)391
В ходе переговоров капитану де Ла Ронсьеру Ле Нури в середине декабря 1858 г. пришлось взять паузу и на короткое время вернуться в Париж для согласования с Наполеоном III предложений, сформулированных Горчаковым. В архиве МИД Франции сохранились лишь три документа, относящиеся ко второй миссии Ла Ронсьера (конец декабря 1858 г. – начало января 1859 г.), о чем еще будет сказано. // ААЕ. Memoires et Documents. Vol. 45. Fol. 181–186 verso; 216–217 verso.
(обратно)392
Записка министра иностранных дел князя Горчакова о секретных переговорах за 1859 г. // Красный архив. 1938. Т. 33 (88). С. 188–193.
(обратно)393
Там же. С. 191. В данном случае речь идет об обязательстве Франции, подписавшей Парижский договор 1856 г., гарантировать выполнение всех его статей, включая ст. XI, ограничившую право России иметь военный флот в Черном море. – П.Ч.
(обратно)394
В данном вопросе Александр II полностью отошел от позиции Николая I, армия которого в 1849 г. участвовала в подавлении восстания в Венгрии, чем спасла тогда целостность Габсбургской империи. – П.Ч.
(обратно)395
Красный архив. 1938. Т.ЗЗ (88). С. 192.
(обратно)396
Полный текст письма см.: АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1858 г. Д. 1. Л. 25–28. См. также: Красный архив. 1938. Т.ЗЗ (88). С. 197–199.
(обратно)397
Mission secrete de l’Amiral de La Ronciere 1858–1859 // AAE. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 217 verso. См. также: АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1858 г. Д. 1. Л. 29–30; Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 199.
(обратно)398
Письмо от 22 декабря 1859 г. // Исторический архив. 2007. № 6. С. 162.
(обратно)399
Там же.
(обратно)400
Там же.
(обратно)401
АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1858 г. Д. 1. Л. 33–33 об.
(обратно)402
Там же. Л. 36–39 об. См. также: Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 200–202.
(обратно)403
Письмо де Ла Ронсьера Ле Нури от 9 января 1859 г. // ААЕ. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 181–184. 5 февраля 1859 г. ему будет направлен ответ за подписью барона А.Г. Жомини, ближайшего советника князя Горчакова. // ААЕ. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 185–186 verso. К тому времени капитан де Ла Ронсьер уже будет выведен из переговорного процесса, который возглавит лично граф А. Валевский. – П.Ч.
(обратно)404
Текст письма см.: АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1858 г. Д. 1. Л. 47–48 об.
(обратно)405
Письмо от 13 февраля 1859 г. // Там же. Д. 2. 1859 г. Л. 59–70 об. См. также: Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 212.
(обратно)406
АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1859 г. Д. 2. Л. 59.
(обратно)407
Текст договора см.: Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 215–216.
(обратно)408
Yon J.-C. Le Second Empire. Politique, Societe, Culture. P., 2009. P. 84.
(обратно)409
Sedouy J.-A. Le concert europeen. Aux origines de l’Europe (1814–1914). P, 2009. P. 338.
(обратно)410
Описание хода австро-итало-французской войны 1859 г. выходит за рамки данной работы. См. об этом: Канделоро Дж. История современной Италии. Пер. с итал. Т. 4. М., 1966. С. 303–378; Bazancourt, baron de. La campagne dTtalie de 1859: Chroniques de la guerre. Vol. 1–2. P., 1860; Bourgerie R. Op. cit.; Roy J.E. Histoire de la guerre dTtalie en 1859. R, 1860.
(обратно)411
Граф Кавур немедленно подал в отставку, узнав о заключенном Францией сепаратном перемирии с Австрией.
(обратно)412
История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. С. 58–59.
(обратно)413
На германской границе летом 1859 г. Франция располагала всего лишь пятью дивизиями, что было явно недостаточно для отражения возможного широкого наступления с востока. // Anceau É. Comprendre le Second Empire. Р. 65.
(обратно)414
Совокупные потери французской армии в войне 1859 г. составили 20 800 человек убитыми, ранеными, умершими от инфекционных заболеваний и пропавшими без вести. // Bourgerie R. Op. cit. Р. 125.
(обратно)415
Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 232.
(обратно)416
Там же. С. 234.
(обратно)417
АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1859 г. Д. 2. Л. 219–221. Горчаков – Киселеву, 22 июля 1859 г.
(обратно)418
Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 237.
(обратно)419
На полях в этом месте Александр II сделал помету: «Этот корпус прибыл из Богемии». В дальнейшем это подтвердилось. Корпус генерала К. Галаса действительно был переброшен по железной дороге из Богемии, а не из Галиции. – П. Ч.
(обратно)420
Там же. С. 239.
(обратно)421
АВПРИ. Ф. 138. Секретный архив министра. Оп. 467. 1859 г. Д. 2. Л. 212–214 об. Горчаков – Киселеву, 22 июля 1859 г.
(обратно)422
Красный архив. 1938. Т. 33(88). С. 241.
(обратно)423
Там же. С. 243.
(обратно)424
Там же. С. 244.
(обратно)425
Письмо от 19 августа 1859 г. // Там же. С. 245.
(обратно)426
Там же. С. 246.
(обратно)427
Там же.
(обратно)428
Там же. С. 247.
(обратно)429
Эдуард Антуан Тувенель (1818–1866) – кадровый дипломат (с 1841 г.), служил в посольствах Франции в Бельгии и Греции, возглавлял французскую дипломатическую миссию в Баварии. После бонапартистского переворота 1851 г – директор Политического департамента МИД Франции. С 1855 до 1860 г. – посол в Турции. Считался лучшим знатоком восточных дел. В 1856 г. был введен в Сенат. Кавалер Большого креста Почетного легиона (1858 г.). Был сторонником активной политики в Италии, что и определило назначение его в январе 1860 г. министром иностранных дел. См. его служебное досье: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 3931. О нем см.: Case L.M. Edouard Thouvenel et la diplomatic du Second Empire. P., 1976; Dictionnaire des Ministres des Affaires etrangeres 1589–2004 / Preface de Michel Barnier. P., 2005; Pages d’histoire du Second Empire, d’apres les papiers de M. Thouvenel, ancien ministre des Affaires etrangeres (1854–1866). Paris, 1903.
(обратно)430
Christophe R. Napoléon III au tribunal de Thistoire. P., 1971. P. 322; Castelot A. Op. cit. P. 354–355; Yon J.-C. Le Second empire… P. 86.
(обратно)431
Castelot A. Op. cit. P. 355.
(обратно)432
Англия предпочитала передать Савойю Швейцарии, давно претендовавшей на наследственное владение Виктора-Эммануила. Тем не менее, сент-джеймский кабинет не стал настаивать на этом и, в конечном счете, согласился признать уступку Савойи (и Ниццы) Франции.
(обратно)433
Личное письмо Наполеона III от 28 мая 1860 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1860 г. Д. 72. Л. 2–3 об.
(обратно)434
Текст Конвенции от 5 сентября 1860 г. см.: Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. XV. Трактаты с Франциею. 1822–1906. СПб., 1909. С. 383–386.
(обратно)435
Там же. С. 386–388. От имени России эту конвенцию, как и предыдущую, подписал граф Киселев.
(обратно)436
Татищев С.С. Император Александр. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 210.
(обратно)437
Там же. С. 211.
(обратно)438
Моту, Due de. Extrait des Memories. Une Ambassade en Russie, 1856. R, 1892. P.213
(обратно)439
Ibid. P.219.
(обратно)440
Горчаков имел в виду санкционированный Виктором-Эммануилом II поход Гарибальди на Неаполь, завершившийся в октябре 1860 г. присоединением Южной Италии к Сардинскому королевству. – П.Ч.
(обратно)441
Моту, Due de. Op. cit. P. 220–227. См. также: Татищев С.С. Указ соч. С. 212.
(обратно)442
Письмо Горчакова от 22 октября/2 ноября 1860 г. // Моту, Due de. Op. cit. P. 227–232.
(обратно)443
Carrere d’Encausse Н. Alexandre II. Le printemps de la Russie. P., 2008. R 216. Cm. также русское издание: Каррер д’Анкосс Элен. Александр II. Весна России. М., 2010. С. 160–161.
(обратно)444
Вопросами, связанными с наблюдением за польской (и русской) эмиграцией во Франции, с середины 30-х гг. до 1866 г. в парижском посольстве занимался действительный статский советник Я.Н. Толстой, а после него – статский советник В.Н. Чичерин.
(обратно)445
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 110. Л. 48–49. Киселев – Горчакову, 12 августа 1862 г.
(обратно)446
Там же.
(обратно)447
См. его депешу с двумя приложениями («мемуарами») на имя Горчакова от 2 декабря 1856 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 151. Л. 305–324.
(обратно)448
Там же. 1857 г. Д. 143. Л. 527–528. Киселев – Горчакову, 9 июля 1857 г.
(обратно)449
Подробно см. об этом: Черкасов Петр. Александр Невский на французской земле. Полтора века русскому храму в Париже // Родина. № 10, 2011.
(обратно)450
Так, например, 14 декабря 1862 г. Киселев перечислил в приходскую кассу 1 тыс. франков // АВПРИ. Ф. 187 (Посольство в Париже). Оп. 524. 1862 г. Д. 539. Л. 23.
(обратно)451
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1861 г. Д. 122. Л. 332.
(обратно)452
Татищев С.С. Указ соч. С. 324. Эту оценку разделяет современный исследователь истории российской дипломатии. «На посольском посту Киселев хотел играть самостоятельную роль. Его назначение было хорошо воспринято в Париже, и вскоре он сделался горячим сторонником сближения с Францией. При его активном участии в 1859 г. был заключен русско-французский договор, согласно которому Россия обязывалась соблюдать нейтралитет в готовившейся Наполеоном III войне против Австрии, а последний в довольно неопределенной форме обещал содействовать изменениям в существовавших договорах в интересах обоих государств – России и Франции. Однако Киселев слишком доверял императору французов. Вскоре Александру II и Горчакову стало ясно, что обещания Наполеона III ничего не значат, и он лишь пытается использовать Россию для укрепления своего режима и династии. Отношения Киселева с Горчаковым осложнились, и посол в 1862 г. был вынужден подать в отставку» Хевролина В.М. Министерство иностранных дел России в 18561878 гг. // Новая и новейшая история. 2002. № 4. С. 18.
(обратно)453
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 114. Л. 151–153.
(обратно)454
Прошение, написанное по-русски, приводится в орфографии оригинала // Там же. 1862 г. Д. 110. Л. 423–423 об.
(обратно)455
Там же. Л. 423.
(обратно)456
Там же. Л. 424^126. Киселев – Горчакову, 6 июня 1862 г.
(обратно)457
Письмо написано по-французски // Там же. Л. 430.
(обратно)458
Там же. Л. 128–134. Киселев – Горчакову, 8 июня 1862 г.
(обратно)459
Там же. Л. 177–178. Киселев – Горчакову, 8 июля 1862 г.
(обратно)460
Там же. 1862 г. Д. 111. Л. 105–106. Киселев – Горчакову, 17 октября 1862 г.
(обратно)461
Письмо написано по-русски // Там же. Л. 107–108. Киселев – Александру II, 17 октября 1862 г.
(обратно)462
Там же. Л. 105–106. Киселев – Горчакову, 17 октября 1862 г.
(обратно)463
В их числе: советник посольства П.П. Убри, первый секретарь В.Н. Чичерин, секретари посольства – Паскевич и Обресков, генеральный консул в Париже Ф.Е. Фолькерзам (Фалькерзам), вице-консул А.К. Мейснер, генеральный консул в Марселе Н.И. Бухарин, консул в Бордо П. Ленц и консул в Гавре X. Таль // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 111. Л. 110–111. Киселев – Горчакову, 17 октября 1862 г.
(обратно)464
Цит. по: Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 3. СПб., 1882. С. 395.
(обратно)465
Там же. С. 395–396, 417–418.
(обратно)466
Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. 1859. Vol. 218. Fol. 255 verso. Шаторенар – Валевскому 6 апреля 1859 г. по телеграфу.
(обратно)467
Ibid. 1859. Vol. 219. Fol. 71 verso. Монтебелло – Валевскому, 17 июня 1859 г.
(обратно)468
Ibid. Fol. 113–120. Монтебелло – Валевскому, 25 июня 1859 г.
(обратно)469
Ibid. Fol. 171 verso. Монтебелло – Валевскому, 14 июля 1859 г.
(обратно)470
Ibid. Fol. 172 recto verso.
(обратно)471
Ibid. Fol. 182 recto verso. Монтебелло – Валевскому, 22 июля 1859 г.
(обратно)472
Ibid. Fol. 257–267. Монтебелло – Валевскому, 28 сентября 1859 г.
(обратно)473
Ibid. Fol. 265 recto – 266 verso.
(обратно)474
Ibid. Fol. 257 verso – 258 recto.
(обратно)475
Полный текст конвенции на русском и французском языках см.: Мартенс Ф. Указ. соч. Т. XV. С. 388–397.
(обратно)476
АВПРИ.Ф. 133. Оп. 469. 1861 г. Д. 122. Л. 350 об. – 351. Киселев – Горчакову, 14 декабря 1861 г.
(обратно)477
Ibid. 1863. Vol. 232. Fol. 102.
(обратно)478
Ibid. Fol. 103.
(обратно)479
См. депешу Монтебелло от 21 сентября 1863 г. // Ibid. Fol. 133–137.
(обратно)480
Биография А.Ф. Будберга изложена в издании: Русский биографический словарь. Т. Бетанкур-Бякстер. СПб., 1908. Репр. воспроизв. М., 1995. С. 435–438.
(обратно)481
См. Формулярный список А.Ф. Будберга: Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. Департамент личного состава и хозяйственных дел (ДЛСиХД). Оп. 464. 1817–1881. Д. 488. Л. 1–1 об.
(обратно)482
Цит. по: Русский биографический словарь. Т. Бетанкур-Бякстер. С. 436.
(обратно)483
Международные отношения на Балканах 1856–1878 гг. М., 1986. С. 165.
(обратно)484
АВПРИ. Ф. 133. Он. 469. 1862 г. Д. 114. Л. 158.
(обратно)485
Там же. Л. 170–170 об.
(обратно)486
В 1860 г. Александр II отозвал своего посла из Турина после того как Виктор-Эммануил II двинул армию на помощь отрядам Дж. Гарибальди, действовавшим на юге Италии, в результате чего пал режим неаполитанских Бурбонов, а Королевство Обеих Сицилий прекратило свое существование. Другой реакцией Петербурга на события в Италии стала встреча трех императоров в Варшаве в октябре 1860 г., крайне болезненно воспринятая Наполеоном III. В результате переговоров в Париже графа Киселева и барона Будберга с Наполеоном III и Тувенелем в августе 1862 г. Александр II согласился восстановить дипломатические отношения с Турином и признать Итальянское королевство. См. об этом: Серова О.В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М., 1997. С. 289–339.
(обратно)487
Международные отношения на Балканах 1856–1878 гг. С. 167.
(обратно)488
Полный текст инструкции от 7 ноября 1862 г. см.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1862 г. Д. 112. Л. 196–208.
(обратно)489
В октябре 1862 г. министр иностранных дел Франции Э. Тувенель был отправлен в отставку, пробыв на своем посту менее трех лет. Он был пятым по счету главой французского внешнеполитического ведомства с момента учреждения Второй империи. – П.Ч.
(обратно)490
Николай Максимилианович, герцог Лейхтенбергский, князь Романовский (1843–1891) – внук Николая I и правнук императрицы Жозефины от первого брака. – П.Ч.
(обратно)491
См.: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 120. Л. 37–39 об. Будберг – Горчакову, 9 февраля 1863 г.; Россия в Париже. Резиденция посла Российской Федерации во Франции. La Russie a Paris. La residence de l’Ambassadeur de la Federation de Russie en France / 70.77. Рубинский (Y.I. Roubinski). Париж, 1996; P., 1996. C. 38.
(обратно)492
В результате общая стоимость приобретенного здания возросла до 1 млн. 900 тыс. франков, которые выплачивались постепенно, вплоть до 1905 г., когда здание и прилегающий земельный участок окончательно перешли в собственность России. // Россия в Париже… С. 38–39.
(обратно)493
АВПРИ. Ф. 137. Он. 475. Отчет МИД за 1862 г. Д. 49. Л. 137 об. – 138 об. Именно в этом ключе Горчаков рассматривал и замену в 1862 г. на посту руководителя французской дипломатии Э. Тувенеля, принадлежавшего к «итальянской партии» в окружении французского императора, на консерватора Эдуарда Друэн де Люиса. // Там же. Л. 113–113 об.
(обратно)494
Там же. Л. 150.
(обратно)495
Martel R. La France et la Pologne. Realites de l’Est Europeen. R, 1931. R 3, 6. Французский историк имеет в виду хроническую анархию, царившую в Польше вследствие непрекращавшейся борьбы между магнатско-шляхетскими кланами, нередко инициировавшими иностранные вмешательства. «Нужно ли после этого удивляться, – резюмировал Р. Мартель, – что Польша была средством, а не целью, объектом сделок, разменной монетой даже для Франции». Ibid. Р. 4.
(обратно)496
Ibid. Р. 33.
(обратно)497
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1861. Д. 121. Л. 159 об. Киселев – Горчакову, 14 марта 1861 г.
(обратно)498
Личное письмо Наполеона III от 30 апреля 1861 г. // Там же. 1861 г. Д. 60. Л. 3–4 об. В ответном письме от 11 мая (н. ст.) Александр II обратил внимание императора французов на то, что антирусские настроения в связи с волнениями в Польше разжигаются не только во французской печати, но и в ближайшем окружении Наполеона, что вносит «элемент разлада между нами», чего никак нельзя допустить. // Там же. Л. 7 об. – 9 об.
(обратно)499
В 1862 г. Наполеон III, подталкиваемый клерикалами, ввязался в пятилетнее авантюрное предприятие в Мексике, направив туда 40-тысячный экспедиционный корпус для поддержки эрцгерцога Максимилиана Габсбургского, провозгласившего себя императором, защитником католицизма против безбожников-республиканцев. В более широком плане речь шла о намерении Наполеона III, воспользовавшись Гражданской войной в США, распространить французское влияние не только на Мексику, но и на всю Южную Америку. См. об этом: Avenel J. La campagne du Mexique (1862–1867). P., 1996; Gouttman A. La guerre du Mexique (1862–1867). Le mirage americain de Napoléon III. R, 2008; Lecaillon J.-R Napoléon III et le Mexique. Horizons Amerique Latine. R, 1994.
(обратно)500
Montalambert Ch. F. de. Une nation en deuil, la Pologne en 1861. R, 1862.
(обратно)501
Исторический вестник. 1882. № 3. С. 680. «Я ответил, что понимаю ее заключительную мысль, – писал Киселев об этом разговоре с императрицей Евгенией. – Все выиграют, кроме России, которая не может отказаться от царства [Польского] ни в интересах поляков, ни в интересах западных держав. Чтобы это уяснить, надо рассмотреть общее положение дел. Поляки и русские, две ветви одного славянского племени, борются в течение шести веков; поляки имели успехи; они господствовали в Москве, как теперь русские господствуют в Варшаве; жалобы папы отчасти справедливы по причине строгих, иногда произвольных, мер в предпрошедшее царствование; но не надо терять из виду, что все эти строгости были последствием духа пропаганды католического духовенства, которое считало православных за язычников и старалось их обратить в лоно истинной, по их мнению, церкви; от этого произошли преследования, на которые жалуется ев. отец. Пусть оставят прозелитизм, и они избегнут мер предупредительных, к которым нас заставляют прибегать». // Там же. С. 680–681.
(обратно)502
АВПРИ. Ф. 133. Ор. 469. 1862 г. Д. 111. Л. 89.
(обратно)503
Там же. 1863 г. Д. 118. Будберг – Горчакову, 11 января 1863 г.
(обратно)504
Там же. 1862 г. Д. 11. Л. 456. Убри – Горчакову, 28 октября 1862 г. Полученную от поверенного в делах в Париже П.П. Убри секретную депешу Александр II немедленно распорядился передать главному начальнику Третьего отделения, шефу жандармов кн. В.А. Долгорукову.
(обратно)505
Там же. Л. 284–285. Убри – Горчакову, 6 декабря 1862 г.
(обратно)506
Там же. Л. 350–351. Убри – Горчакову 24 декабря 1862 г.; Д. 109. Л. 531–536 об. Будберг – Тегубскому, 2 января 1863 г. К последней депеше была приложена копия отчета префектуры парижской полиции от 23 декабря 1862 г., адресованная, по всей видимости, Министерству внутренних дел Франции.
(обратно)507
В восстании, охватившем помимо собственно Польши, отдельные районы ЮгоЗападного (Украина) и Северо-Западного (Литва и Белоруссия) краев Российской империи, приняли участие около 80 тыс. человек. Численность русских войск, привлеченных к подавлению восстания, превысила 160 тыс. солдат и офицеров. Восстание 1863 г. в Польше является самостоятельной темой, раскрытие которой не входит в задачу автора, которого интересует лишь влияние этого восстания на русско-французские отношения. См.: Брянцев 77. Д. Польский мятеж 1863 г. Вильна, 1892; Миско М.В. Польское восстание 1863 года. М., 1962; Мосолов А.Н. Виленские очерки 1863–1864 гг. (Муравьевское время). СПб., 1898; Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957; Сидоров А.А. Польское восстание 1863 года. Исторический очерк. СПб., 1903.
(обратно)508
Грозным предвестником вооруженного взрыва в Польше стало неудачное покушение на жизнь великого князя Константина Николаевича (4 июля 1862 г.) и две попытки убийства маркиза Велепольского (26 июля и 3 августа 1862 г.).
(обратно)509
Эдуард Друэн де Люис (1805–1881) – дипломат и политический деятель, взгляды которого претерпели эволюцию от леволиберальных до консервативных. В годы Июльской монархии и Второй республики избирался в парламент, четыре раза занимал пост министра иностранных дел (1848–1849, 1851, 1852–1855 и 1862–1866). На заключительном этапе Крымской войны высказывался против выдвижения чрезмерных требований к России – таких, в частности, как «нейтрализация» Черного моря. В середине 60-х гг. выступал за тесное взаимодействие с Австрией против попыток объединить Германию под главенством Пруссии. Будучи несогласным с позицией Наполеона III, не разглядевшего тогда потенциальной угрозы со стороны Пруссии, в августе 1866 г. вынужден был выйти в отставку. В Архиве МИД Франции есть служебное досье Э. Друэн де Люиса: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 1365. См. о нем: Harcourt В. d\ Les Quatre Ministeres de M. Drouyn de Lhuys. P., 1882; Dictionnaire des Mi-nistres des Affaires etrangeres 1589–2004. Preface de Michel Barnier. P. 2005. P. 334–339.
(обратно)510
Полный текст депеши см.: Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Cor-respondance politique. Russie. 1863. Vol. 230. Fol. 77–81 verso. Монтебелло – Друэн де Люису, 30 января 1863 г.
(обратно)511
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 120. Л. 34 об., 36. Будберг – Горчакову, 29 января 1863 г.
(обратно)512
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. От Венского до Берлинского конгресса. Т. II. Пер. с франц. М., 1947. С. 235.
(обратно)513
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 120. Л. 42–43. Будберг – Горчакову, 9 февраля 1863 г.
(обратно)514
Там же. Д. 118. Л. 207–208 об. Будберг – Горчакову, 25 февраля 1863 г.
(обратно)515
Там же. Д. 121. Л. 88. Шифрованная телеграмма Горчакова от 14 февраля (cm. cm.) 1863 г.
(обратно)516
Там же. Л. 88 об., 119, 157–157 об. Шифрованные телеграммы Горчакова от 14, 24 февраля и 22 марта (cm. cm.) 1863 г.
(обратно)517
Там же. Д. 122. Л. 18 об. – 19. Личное письмо Горчакова – Будбергу, 14 февраля (cm. cm.) 1863 г. В оценке польской ситуации Горчаков был прав в том отношении, что главной силой восстания были шляхта, студенчество и городские разночинцы. «В 1863 г., как и в 1830 г., движение не охватило всю нацию, – отмечал французский историк Р. Мартель, – В своей массе польский народ, крестьянство остались к нему равнодушными» И Martel R. Op. cit. Р. 39–40.
(обратно)518
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 122. Л. 21 об.
(обратно)519
В 1862 г. Наполеон III возвел графа де Мории в герцогское достоинство.
(обратно)520
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 120. Л. 75. Будберг – Горчакову, 27 февраля 1863 г.
(обратно)521
Отто фон Бисмарк, глава прусского кабинета, который давно вынашивал план объединения Германии, предвидел сопротивление этим намерениям со стороны других европейских держав, прежде всего Австрии и Франции. В своей дипломатической игре он сделал ставку на императора Александра II, ловко используя его пруссофильские настроения. Протянув России руку помощи в трудный для нее момент, Бисмарк надеялся также расстроить русско-французское согласие, опасное для успешной реализации его амбициозных планов. Бисмарк ни минуты не сомневался, что Франция неизбежно выступит на стороне восставших поляков, и он не ошибся в своем прогнозе.
(обратно)522
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 118. Л. 160–161. Будберг – Горчакову, 21 февраля 1863 г.
(обратно)523
Содержание состоявшегося между ними разговора посол изложил в отчете Горчакову. // Там же. Л. 255 об. – 266. Будберг – Горчакову, 11 марта 1863 г.
(обратно)524
Либеральный кабинет Пальмерстона предложил европейским правительствам совместно выступить с осуждением действий России в Польше, обвинив ее в нарушении Венского договора 1815 г. – П.Ч.
(обратно)525
На полях депеши Александр II сделал в этом месте помету: “tres bien” (очень хорошо).
(обратно)526
«Но кто ему придал этот европейский характер, как не он сам!», – написал на полях депеши о Наполеоне Александр II.
(обратно)527
“Certes” (Безусловно) – написал на полях в этом месте депеши Александр II.
(обратно)528
Горчаков имел в виду распространенное в Европе мнение о сохраняющемся русско-французском согласии. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 122. Л. 97 об. Горчаков – Будбергу, 23 марта 1863 г.
(обратно)529
Там же. Д. 120. Л. 110–112 об. Будберг – Горчакову, 27 марта 1863 г.
(обратно)530
Дебидур А. Указ соч. Т. II. С. 241.
(обратно)531
Там же. С. 241.
(обратно)532
Sedouy J.-A. de. Le concert europeen. Aux origines de l’Europe (1814–1914). P., 2009. P. 345.
(обратно)533
АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1863 г. Д. 120. Л. 141. Будберг – Горчакову, 8 апреля 1863 г.
(обратно)534
Французская и британская ноты были вручены Горчакову 17 апреля, австрийская – 19 апреля. Об этом см. Ревуненков В.Г. Указ соч. С. 122, 129–134, 143–144, 237.
(обратно)535
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 59. Л. 62–65. Друэн де Люис – Монтебелло, 10 апреля 1863 г.
(обратно)536
Там же. Д. 122. Л. 169.
(обратно)537
Там же. Л. 173.
(обратно)538
Там же. Д. 121. Л. 202–203. Горчаков – Будбергу, 14 апреля 1863 г.
(обратно)539
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1863. Vol. 231. Fol. 85–86. Монтебелло – Друэн де Люису, 18 мая 1863 г.
(обратно)540
Bruyere-Ostells W. Napoléon III et le second Empire. P., 2004. P. 166.
(обратно)541
На выборах, состоявшихся 31 мая – 1 июня 1863 г., бонапартисты, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 160 тыс. голосов избирателей, тем не менее, обеспечили себе 251 место в Законодательном корпусе. Оппозиция, утроив свое представительство, получила 32 депутатских мандата. – Yon J.-C. Le Second Empire. Politique, Societe, Culture. P., 2004. P. 60.
(обратно)542
АВПРИ. Ф. 133. On. 469. 1863 г. Д. 118. JI. 632–634. Будберг – Горчакову, 15 июня 1863 г.
(обратно)543
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1863. Vol. 231. Fol. 64 recto verso – 65, 70 recto – 71. Монтебелло – Друэн де Люису, 18 мая 1863 г.
(обратно)544
История дипломатии. Т. 1. М., 1959. С. 706.
(обратно)545
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 122. Л. 113 об. Горчаков – Будбергу, 29 апреля 1863 г.
(обратно)546
Там же. Л. 129. Горчаков – Будбергу, 3 мая 1863 г.
(обратно)547
Там же. Д. 59. Л. 73–74. Друэн де Люис – Горчакову, 17 июня 1863 г.
(обратно)548
См. Адамов Е.А. Соед. Штаты в эпоху гражданской войны и Россия. – Красный архив. Т. 1 (38). М., 1930. С. 151.
(обратно)549
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 119. Л. 11–12 об. Будберг – Горчакову, 25 июля 1863 г.
(обратно)550
Там же. Л. 13–13 об.
(обратно)551
Там же. Л. 13 об.
(обратно)552
Там же. Л. 124 об. Будберг – Горчакову, 17 августа 1863 г.
(обратно)553
Там же. Л. 125 об. – 126.
(обратно)554
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1863. Vol. 232. Fol. 145–146 verso.
(обратно)555
См. депешу Монтебелло министру иностранных дел от 18 июля 1863 г. // Ibid. Vol. 231. Fol. 191–202.
(обратно)556
Ibid. Vol. 232. Fol. 98-101. Монтебелло – Друэн де Люису, 4 сентября 1863 г. Официально великий князь Константин Николаевич был освобожден от обязанностей Наместника в Царстве Польском 19 октября 1863 г. – П.Ч.
(обратно)557
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 120. Л. 326. Будберг – Горчакову, 10 сентября 1863 г.
(обратно)558
Полный текст депеши Будберга см. Там же. Д. 119. Л. 270–276 об. Будберг – Горчакову, 14 октября 1863 г.
(обратно)559
Цит. по: Sedouy J.-A. Op. cit. Р. 347.
(обратно)560
На предложение Франции сразу же откликнулись Бельгия, Греция, Дания, Италия, Испания, Португалия, Турция, Швейцария и Швеция.
(обратно)561
Россия одной из последних согласилась участвовать в конгрессе. В личном письме император Александр обратил внимание Наполеона III на необходимость участия в конгрессе всех европейских держав. «…Я полагаю необходимым, – добавил царь, – чтобы ваше величество благоволили точно указать вопросы, которые, по вашему мнению, должны бы послужить предметом соглашения и основанием, на котором это соглашение могло бы установиться. Во всяком случае, я могу удостоверить вас, что цель, к которой вы стремитесь – без потрясений достигнуть умиротворения Европы, встретит во мне живейшее сочувствие». Цит. по: Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 390.
(обратно)562
Цит. по: Sedouy J.-A. Op. cit. Р. 347.
(обратно)563
Из записки барона Будберга от 3 декабря 1863 г. с пометой: «совершенно секретно» //АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 119. Л. 444 об.
(обратно)564
Восстание окончательно было подавлено к маю 1864 г. По официальным данным, повстанцы потеряли примерно 30 тыс. убитыми, ранеными и захваченными в плен; потери русских войск составили чуть более 3300 человек // file://localhost/С:/ Documents%20and%20Settings/1234 /Польское%20восстание%20(1863)%20 —%20 Википедия. mht.
(обратно)565
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1863 г. Д. 119. Л. 445 об.
(обратно)566
Там же. 1864 г. Д. 114. Л. 566. Чичерин – Горчакову, 17 сентября 1864 г.
(обратно)567
Там же. 1863 г. Д. 120. Чичерин – Вестману, 8 декабря 1868 г.
(обратно)568
Там же. 1864 г. Д. 115. Л. 266–267. Будберг – Горчакову, 28 ноября 1864 г. На полях депеши Александр по этому поводу написал по-французски: «В общем, это скорее хороший симптом».
(обратно)569
Там же. Л. 267 об. – 268.
(обратно)570
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1865. Vol. 234. Fol. 122–125. Талейран – Друэн деЛюису, 18 апреля 1865 г.
(обратно)571
В том же, 1865 г., Александр II приобрел в собственность виллу Бермон, где была устроена часовня в память цесаревича Николая Александровича.
(обратно)572
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1865. Vol. 234. Fol. 126 recto verso. Талейран – Друэн de Люису, 26 апреля 1865 г.
(обратно)573
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1865 г. Д. 139. Л. 161.
(обратно)574
Там же. Л. 179–179 об.
(обратно)575
См.: АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1863 г. Д. 51. Л. 15 и далее.
(обратно)576
Там же. Л. 143 об.
(обратно)577
В 1835–1841 гг. граф П.П. Пален был послом России во Франции.
(обратно)578
По другим сведениям, речь шла о титуле князя Монмартрского.
(обратно)579
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1864. Vol. 233. Fol. 114–124.
(обратно)580
В 1856 г. аналогичная проблема стояла перед Наполеоном III, который украсил карту Парижа названиями в честь побед французских войск в Крымской войне – Севастопольский бульвар, Крымская улица, мост Альма и др. Тогда же император вознамерился дать титул герцога Севастопольского маршалу Ж.-Ж. Пелисье за успешное взятие города-крепости в августе 1855 г. Однако верх взяли политические соображения, вытекавшие из начинавшегося тогда сближения Франции с Россией. В результате Наполеон III ограничился дарованием маршалу Пелисье титула герцога Малаховского (due de Malakoff). См. АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1856 г. Д. 150. Л. 81–82. Бруннов – Горчакову, 17 августа 1856 г.; Л. 134–135. Бруннов – Горчакову, 27 августа, 1856 г.
(обратно)581
Вскоре после парада, которым он командовал, граф П.П. Пален скончался в Петербурге на 86-м году жизни.
(обратно)582
Определенные свидетельства такого понимания можно обнаружить в отчете МИД за 1863 г., который Горчаков в марте 1864 г. представил Александру II // АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1863 г. Д. 51. Л. 54 об. – 55.
(обратно)583
Там же. Л. 56 об. – 57.
(обратно)584
Там же. Л. 143–143 об.
(обратно)585
Послужной список барона де Талейрана см.: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 3849.
(обратно)586
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1864. Vol. 233. Fol. 281–283. Талейран – Друэн де Люису, 14 ноября 1864 г.
(обратно)587
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1864 г. Д. 52. Л. 52. Массиньяк – Горчакову, 31 декабря 1864 г.
(обратно)588
Официально Талейран приступил к своим обязанностям в Петербурге в январе 1865 г..
(обратно)589
Цит. по: Charles-Roux F. Alexandre II, Gortchakoff et Napoléon III. 2-eme ed. P., 1913. P. 368.
(обратно)590
AAE. Correspondance politique. Russie. 1864. Vol. 233. Fol. 79–84. Массинъяк – Друэн de Люису, 14 марта 1864 г.
(обратно)591
Этот конфликт разгорелся после смерти в октябре 1863 г. датского короля Фридриха VII, считавшегося суверенным правителем Шлезвига и Гольштейна. Намерения нового короля Христиана IX подтвердить свои права на две эти земли были оспорены Пруссией, давно вынашивавшей план поглощения Шлезвига и Гольштейна под видом их вхождения в «семью германских народов». В конфликт вмешалась Австрия, не желавшая отдавать дело объединения Германии в руки Бисмарка. В результате сложных комбинаций Берлин и Вена в январе 1864 г. выступили единым фронтом против Дании и начали с ней войну, продолжавшуюся четыре месяца. После нескольких тяжелых поражений Христиан IX в мае 1864 г. пошел на перемирие, а 30 октября того же года по условиям мирного договора герцогства Шлезвиг и Гольштейна достались победителям на условиях совместного владения, что посеяло новые семена раздора в историческом противоборстве Пруссии и Австрии за доминирующее положение в Германии.
(обратно)592
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 236. Fol. 335–336 verso. Талейран – Друэн de Люису, 3 мая 1866 г.
(обратно)593
Ibid. Vol. 237. Fol. 58. Талейран – Друэн деЛюису, 1 июля 1866 г.
(обратно)594
Ibid. Fol. 59.
(обратно)595
Оценки Талейраном политических реформ в России второй половины 1860-х гг. даются в завершающей главе книги.
(обратно)596
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1864. Vol. 233. Fol. 372. Массинъяк – Друэн деЛюису, 25 декабря 1864 г.
(обратно)597
В мае 1866 г. Талейран составил и отправил в Париж подробную записку о состоянии русской армии // ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 236. Fol. 367–370 verso.
(обратно)598
Ibid. Fol. 108–110. Талейран – Друэн деЛюису, 25 февраля 1866 г.
(обратно)599
Ibid. Fol. 110 verso.
(обратно)600
Ibid. Fol. 115 verso – 118. Талейран – Друэн де Люису, 27 февраля 1866 г.
(обратно)601
Ibid. Fol. 199 recto-verso.
(обратно)602
Об этом см. подробно: Черкасов Петр. «Дело Каракозова» глазами барона Талейрана. По документам архива МИД Франции // Родина. 2014. № 4. С. 66–70.
(обратно)603
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 236. Fol. 272. Талейран – Друэн де Люису, 14 апреля 1866 г.
(обратно)604
Ibid. Fol. 278–281 verso. Талейран – Друэн де Люису, 18 апреля 1866 г.
(обратно)605
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1866 г. Д. 82. Л. 109–114. Талейран – Горчакову, 26 апреля 1866 г.
(обратно)606
Из приложения к депеше А.Ф. Будберга от 2 мая 1866 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1866 г. Д. 173. Л. 60. На полях стихотворного обращения имеется лапидарная помета императора, сделанная по-французски: “Remercier” (Поблагодарить).
(обратно)607
Пер. с фр. Н. Александровой.
(обратно)608
«Европа пережила неспокойные времена». Переписка императоров Александра II и Наполеона III. 1856–1867 гг. Публикация и перевод документов Л.А. Пуховой II Исторический архив. 2007. № 6. С. 172.
(обратно)609
Там же. Письмо Александра II от 12/24 апреля 1866 г.
(обратно)610
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1866. Vol. 237. Fol. 95 recto-verso. Талейран – Друэн де Люису, 24 июля 1866 г.
(обратно)611
Пухова Л.А. Визит Александра II в Париж в 1867 г. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2008. № 6. С. 65.
(обратно)612
Там же. С. 65–66.
(обратно)613
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1867 г. Д. 132. Л. 377.
(обратно)614
Там же. Д. 61. Л. 6–6 об.; См. также: Исторический архив. 2007. № 6. С. 174–175.
(обратно)615
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 238. Fol. 358 recto-verso. Талейран – Мустье, 23 мая 1867 г.
(обратно)616
Ibid.
(обратно)617
Ibid. Vol. 239. Fol. 9. Талейран – Мустье, 2 июня 1867 г.
(обратно)618
Ibid. Fol. 9 recto-verso. Талейран – Мустье, 2 августа 1867 г.
(обратно)619
Петр Александрович Валуев (1815–1890), министр внутренних дел России в 1861–1868 гг.
(обратно)620
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 238. Fol. 207.
(обратно)621
См.: Пухова Л.А. Указ. соч. С. 67–68.
(обратно)622
Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. P., 2008. P. 200.
(обратно)623
Каррер д ’Анкосс Элен. Александр II. Весна России. М., 2008. С. 205.
(обратно)624
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 239. Fol. 25. Габриак – Мустъе, 8 июня 1867 г.
(обратно)625
Ibid. Fol. 27. Шифрованная телеграмма Габриака в Париж, 10 июня 1867 г.
(обратно)626
Цит. по: Труайя Анри. Александр II. М., 2003. С. 173–174.
(обратно)627
ААЕ. Correspondance politique. Fol. 34 verso – 35. Талейран – Мустъе, 2 июля 1867 г.
(обратно)628
АВПРИ. Ф. 187 (Посольство в Париже). Оп. 524. Д. 791, 837.
(обратно)629
Труайя Анри. Указ соч. С. 174.
(обратно)630
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1867. Vol. 239. Fol. 85. Талейран – Мустье, 22 июля 1867 г.
(обратно)631
Ibid. Fol. 86.
(обратно)632
Ibid. Fol. 103 verso.
(обратно)633
Charles-Roux F. Op. cit. P. 439.
(обратно)634
Отчет МИД за 1867 г. // Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ.) Ф. 137. Оп. 475. Д. 56. Л. 4 об.
(обратно)635
Там же. Л. 6 об. – 7.
(обратно)636
Там же. Л. 187 об.
(обратно)637
Из обзора (216 листов) положения Франции при Наполеоне III, направленного А.Ф. Будбергом в Петербург в мае 1864 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. Д. 158. Л. 153–153 об.
(обратно)638
См. депешу Будберга от 2 ноября 1866 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. Д. 172. Л. 235–237.
(обратно)639
Письмо Будберга Горчакову от 8 марта 1867 г. // Там же. 1867 г. Д. 132. Л. 81–87.
(обратно)640
Записка Горчакова Александру II // Там же. 1866 г. Д. 66. Л. 21.
(обратно)641
См.: Письмо Горчакова Будбергу от 28 ноября 1866 г., а также докладную записку Горчакова Александру II от 27 ноября 1866 г. // Там же. 1866 г. Д. 66. Л. 496–504.
(обратно)642
Там же. Л. 496.
(обратно)643
Цит. по: Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия. Из истории русско-прусских и русско-французских отношений в 1867–1871 гг. Минск, 1976. С. 26.
(обратно)644
Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. 1868. Vol. 240. Fol. 71 verso. Мустье – Талейрану, 15 февраля 1868 г.
(обратно)645
Ibid. Fol. 71. Франция, как и Англия, в конечном счете, отказались поддержать население Крита в его стремлении войти в состав Греции. Лишенное внешней поддержки, восстание критян в 1869 г. было жестоко подавлено турецкими войсками. – П.Ч.
(обратно)646
О своем производстве Будберг был извещен телеграммой Горчакова от 10 июня 1867 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. Д. 134. Л. 285.
(обратно)647
Там же. С. 32.
(обратно)648
Конфликт имел свою предысторию. В январе 1868 г. А.Ф. Будберг получил официальное представление префекта парижской полиции о недостойном поведении русского подданного барона Мейендорфа, неоднократно замеченного в драках и других насильственных действиях. Префект высказал предположение относительно ненормальности Мейендорфа. Барон Будберг, не будучи уверен в психическом заболевании соотечественника, направил ему письмо, в котором указал на недопустимость его поведения, роняющего честь дворянина и офицера. Мейендорф счел себя оскорбленным и задался целью отомстить послу, которого он выследил по дороге из Петербурга в Париж.
(обратно)649
Цит. по: Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 3. СПб., 1882. С. 410–411.
(обратно)650
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. Д. 113. Л. 153, 155. Горчаков – Будбергу, 6 и 13 апреля 1868 г.
(обратно)651
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1868. Vol. 240. Fol. 153 verso. Талейран – Мустье, 24 апреля 1868 г.
(обратно)652
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1868 г. Д. 57. Л. 7.
(обратно)653
Anceau É. Comprendre le Second Empire. R, 1999. Р. 98.
(обратно)654
Официальное открытие Суэцкого канала состоялось в ноябре 1869 г. в присутствии императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
(обратно)655
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. II. От Венского до Берлинского конгресса (1814–1878). Пер. с франц. М., 1947. С. 346.
(обратно)656
См. об этом: История дипломатии. Т. I. М., 1959. С. 728–731.
(обратно)657
См. подробно: Шнеерсон Л.М. Франко-германский конфликт из-за Люксембурга в 1867 г. Минск, 1969.
(обратно)658
Histoire de la diplomatic fransaise / Presentation de Dominique de Villepin. P., 2005. P. 609–610.
(обратно)659
30 апреля 1868 г. Будберг вручил Наполеону III свои отзывные грамоты, после чего покинул Париж, передав обязанности временного главы дипломатической миссии действительному статскому советнику В.Н. Чичерину, советнику посольства // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1868 г. Д. 113. Л. 121.
(обратно)660
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1868. Vol. 240. Fol. 144.
(обратно)661
Ibid. Fol. 145.
(обратно)662
25 апреля император Александр подписал верительные грамоты Э.Г. Стакельберга//АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1868 г. Д. 113. Л. 151–155.
(обратно)663
В исторической и справочной литературе нередко встречается другое написание его фамилии – Штакельберг. – П.Ч. О нем см.: Русский биографический словарь. Т. Шебанов – Шютц. СПб., 1911. Репр. воспроизв. М., 1999. С. 396–397. См. также: Послужной список полковника Э.Г. Стакельберга (1849 г.): АВПРИ. Ф. 159. Департамент личного состава и хозяйственных дел (далее – ДЛС и ХД). Оп. 464. Д. 3118.
(обратно)664
Когда 23-летняя Мари Дюплесси сгорала от скоротечной чахотки, оставленная всеми поклонниками, восьмидесятилетний граф Стакельберг постоянно находился при ней, наряду с ее мужем, графом Эдуардом де Перрего. Вместе они похоронили ее на кладбище Монмартра в феврале 1847 г. Спустя три года, там же, в Париже, завершил свои дни и граф ЕО. Стакельберг, упокоившийся на кладбище Пер-Лашез, где была устроена фамильная усыпальница Стакельбергов.
(обратно)665
Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т. I. 1860–1917 г. М., 2002. С. 414.
(обратно)666
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1868 г. Д. 57. Л. 159–159 об.
(обратно)667
Там же. Ф. 133. Оп. 469. 1868 г. Д. 115. Л. 204–204 об. Горчаков – Стакельбергу, 6 октября 1868 г.
(обратно)668
Там же. Д. 113. Л. 381–381 об. Стакельберг – Горчакову, 21 декабря 1868 г.
(обратно)669
Там же. Л. 382.
(обратно)670
См. о нем: Dictionnaire du Second Empire / Sous la direction de Jean Tulard. P., 1995. P. 714.
(обратно)671
Барон Шарль Анжелик де Талейран-Перигор в октябре 1869 г. был введен в Сенат, где заседал до падения Второй империи.
(обратно)672
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1869 г. Д. 126. Л. 117 об. Стакельберг-Вестману, 27 сентября 1869 г. Владимир Ильич Вестман – директор Канцелярии Министерства иностранных дел, замещавший отсутствовавшего в то время князя Горчакова. – П.Ч.
(обратно)673
Там же. Л. 118.
(обратно)674
Там же. Л. 126. Стакельберг – Вестману, 8 октября 1869 г.
(обратно)675
Dictionnaire du Second Empire. P. 529.
(обратно)676
Карьере Флери, как и его сложным отношениям с императрицей, граф Стакельберг посвятил специальную записку, датированную 28 сентября 1869 г. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1869 г. Д. 127а. Л. 198–199 об.
(обратно)677
Князь Анри де Ла Тур д’Овернь (1823–1871) – эфемерный министр иностранных дел Франции, дважды занимавший этот пост в течение нескольких месяцев (с 17 июля 1869 г. до 2 января 1870 г. и с 10 августа до 4 сентября 1870 г.). До назначения министром он возглавлял посольства Франции в Пруссии, при Святом престоле и в Англии. По политическим взглядам принадлежал к консервативно-клерикальным кругам, близким к императрице Евгении // Dictionnaire des Ministres des Affaires etrangeres. 1589–2004. P., 2005. R
(обратно)678
AAE. Personnel, l-ere serie. № 1625.
(обратно)679
Ibid.
(обратно)680
«Должен отдать ему справедливость: в нем нет даже признаков бахвальства, – описывал Стакельберг свои впечатления о встрече с Флери в депеше, отправленной в Петербург; – я его нашел скромным, крайне озабоченным возложенной на него ответственностью и необходимостью обеспечить себе должное положение в Санкт-Петербурге» // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1869 г. Д. 126. Л. 141 об. – 142. Стакельберг – Вестману, 8 октября 1869 г.
(обратно)681
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 242. 1869. Fol. 278–280 verso. Флери – де Ла Тур д ’Oeepwo, 13 ноября 1869 г.
(обратно)682
Ibid. Fol. 281.
(обратно)683
Наличие такого рода расчетов генерал Флери признал в воспоминаниях о его посольской миссии в России. См.: Fleury. La France et la Russie en 1870. R, 1902. P. 4–6,102.
(обратно)684
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 119. Л. 162.
(обратно)685
ААЕ. Correspondance politique. Ruissie. 1869. Vol. 242. Fol. 357 verso. Флери – Ла Тур д ’Оверню, 29 декабря 1869 г.
(обратно)686
Ibid. 1870. Vol. 243. Fol. 29 recto-verso. Флери – Дарю, 23 января 1870 г.
(обратно)687
Ibid.
(обратно)688
Необходимое абсолютное большинство составляло 145 депутатских голосов. Левые (либеральные) бонапартисты получили на выборах 41,52 % от числа голосовавших, и провели в парламент 120 своих депутатов; республиканцы (10,38 %) получили 30 депутатских мест; бонапартисты-консерваторы заручились поддержкой 33,91 % голосовавших избирателей – 98 мандатов; орлеанисты – 14,19 % (41 депутатский мандат) // de_1869.
(обратно)689
«На родине Вольтера расцветает слепое и упрямое ультрамонтанство, с которым власть имущие вынуждены считаться», – свидетельствовал из Парижа российский посол. // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 469. 1869 г. Д. 125. Л. 30. Стакельберг – Горчакову, 15 апреля 1869 г.
(обратно)690
О нем см: Saint Marc Р. Emile Ollivier (1825–1913). R, 1950; Dictionnaire du Second Empire. R 936–938; http://fr. wikipedia. org/wiki/Emile_011ivier_(homme_ politique).
(обратно)691
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 116. Л. 10 об. Стакельберг – Горчакову, 12 января 1870 г.
(обратно)692
Там же. Л. 3 об. – 4 об.
(обратно)693
Именно так Э. Олливье назовет написанный им впоследствии для оправдания своей политики 17-томный труд, ставший самым детальным, хотя и тенденциозным, исследованием истории Второй империи от начала 1860-х гг. до начала франкопрусской войны. См.: Ollivier Ё. L’Empire liberal. Vol. 1-17. R, 1895–1916. См. также: Zeldin Т. Emile Ollivier and the liberal empire of Napoléon III. Oxford, 1963.
(обратно)694
RemondR. La vie politique en France depuis 1789. T. 2 (1848–1879). P., 1969. R 223.
(обратно)695
AnceauE. Op. cit. R 142.
(обратно)696
Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. P., 2008. R 201.
(обратно)697
Milza P Napoléon III. R, 2006. R 689.
(обратно)698
Seguin P Louis Napoléon le Grand. R, 1990. R 372.
(обратно)699
Yon J.-C. Lе Second Empire. Politique, Societe, Culture. P., 2009. P. 99.
(обратно)700
Histoire de la diplomatic frangaise. P. 611.
(обратно)701
Аженор де Грамон (1819–1880) принадлежал к одному из самых древних родов французского дворянства. Выпускник престижной Политехнической школы, он отказался от военной карьеры, избрав дипломатическую службу. Поддержав в 1851 г. бонапартистский переворот, Грамон получил назначение полномочным министром в Гессен-Кассель, потом в Вюртемберг. В начале Крымской войны Наполеон отправил его в Турин для того, чтобы склонить Виктора-Эммануила к совместному с Францией и Англией выступлению на стороне Турции против России. В 1857 г. он назначается послом при Святом престоле, но его симпатии к Пьемонту и делу объединения Италии, вызывавшие недовольство папы, побудили Наполеона III в 1861 г. отозвать Грамона из Рима и отправить послом в Вену. См. о нем: Grunwald С. de. Ге Due de Gramont. Gentilhomme et diplomate. P., 1950; Dictionnaire des Ministres des Affaires Etrangeres. P. 359–361; Dictionnaire du Second Empire. P. 585.
(обратно)702
После падения Второй империи, оставшийся не у дел герцог де Грамон, написал книгу, в которой попытался оправдать свои действия накануне франко-прусской войны. См. Gramont Due de. La France et la Prusse avant la guerre. P., 1872.
(обратно)703
«Выбор де Грамона в качестве министра иностранных дел…, – отмечал Горчаков, – был пагубным для сохранения мира решением» // АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1870 г. Д. 61. Л. 16.
(обратно)704
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 119. Л. 106–112. Горчаков – Стакельбергу, 13 января 1870 г.
(обратно)705
Цит. по: Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия… С. 77–78.
(обратно)706
Fleury. Op. cit. Р. 53.
(обратно)707
Менее чем за год посольской миссии Флери на Кэ д’Орсэ сменилось пять министров. – П.Ч.
(обратно)708
Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия… С. 81.
(обратно)709
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 243. Fol. 60 recto verso. Флери – Дарю, 5 февраля 1870 г.
(обратно)710
Ibid. Fol. 61–72. Записка Габриака вызвала, по словам Дарю, «чрезвычайный интерес» в Париже, и министр иностранных дел просил генерала Флери выразить ее автору благодарность // Ibid. Personnel. 1-re serie. № 1719.
(обратно)711
Ibid. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 243. Fol. 112 recto-verso. Флери – Дарю, 10 марта 1870 г.
(обратно)712
Ibid. Fol. 114–115. Этот визит тогда не состоялся, но в мае 1870 г. Александр II в ходе зарубежной поездки все же встретился с прусским королем. – П.Ч.
(обратно)713
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 243. Fol. 233–242. Флери – Грамону, 31 мая 1870 г.
(обратно)714
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1870 г. Д. 61. Л. 9.
(обратно)715
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 116. Л. 296–297. Стакельберг – Горчакову, 3 мая 1870 г. Посол сообщал об аресте террориста, нелегально прибывшего в Париж из Лондона. При нем был найдено оружие, денежная сумма и рекомендательное письмо от революционера-бланкиста Гюстава Флуранса, бежавшего в Англию после подавления беспорядков в Париже в феврале 1870 г., адресованное его единомышленникам.
(обратно)716
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 117. Л. 476–476 об. Окунев – Горчакову, 13 мая 1870 г.
(обратно)717
Там же. Л. 480–483.
(обратно)718
См. Формулярный список Г.Н. Окунева: АВПРИ. Ф. 159. ДЛС и ХД. Оп. 464. Д. 2470. Л. 5–9.
(обратно)719
Текст инструкции см.: Там же. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 119. Д. 20–27.
(обратно)720
Карл V Габсбург (1500–1558) – император Священной Римской империи (с 1520), король Испании под именем Карл I (с 1516), объединивший австрийскую, германскую (римскую) и испанскую короны. – П.Ч.
(обратно)721
Castelot A. Napoléon III. L’aube des Temps modernes. P., 1999. P. 486. «Заявление Грамона в Законодательном корпусе, на заседании которого я присутствовал, – свидетельствовал временный поверенный в делах России во Франции Г.Н. Окунев, – было встречено почти единодушными аплодисментами депутатов всех партий» // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 117. Д. 69. Окунев – Горчакову, 7 июля 1870 г.
(обратно)722
Anceau É. Op. cit. Р. 147.
(обратно)723
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 117. Д. 68–68 об. Окунев – Горчакову, 7 июля 1870 г.
(обратно)724
Там же. Л. 69.
(обратно)725
О состоянии русско-прусских отношений накануне войны 1870–1871 гг. и встрече в Эмсе см.: Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия. С. 66–74, 87–92.
(обратно)726
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 244. Fol. 94–95. Шифрованная телеграмма генерала Флери герцогу де Грамону, 7 июля 1870 г.
(обратно)727
Ibid. Fol. 95.
(обратно)728
Подобные внушения делались, в частности, через прусского посла в Петербурге графа фон Рейса, отправившегося в Берлин в начале июля 1870 г. См.: АВПРИ. Ф. 137. Он. 475. Отчет МИД за 1870 г. Д. 61. Л. 21.
(обратно)729
Там же. Л. 20 об.
(обратно)730
Подробно об этом см.: Дебидур А. Указ соч. Т. II. С. 365–372; История дипломатии. Т. I. С. 737–740.
(обратно)731
Цит. по: Anceau É. Comprendre le Second empire. Р. 149.
(обратно)732
В свою очередь, и Бенедетти 14 июля был отозван в Париж.
(обратно)733
Лебёф хвастливо заявлял, что «путь от Парижа до Берлина будет прогулкой с тростью в руке» // Bruyere-Ostells. W. Napoléon III et le second Empire. P., 2004. P. 257.
(обратно)734
Цит. по: Anceau É. Comprendre le Second empire. P. 150; Miquel P. Le Second Empire. Paris, 1992. P. 520.
(обратно)735
Сам Э. Олливье вынужден будет покинуть Францию, куда вернется уже после окончания франко-прусской войны.
(обратно)736
Anceau É. Napoléon III. Un Saint-Simon a cheval. P., 2008. P. 506.
(обратно)737
АВПРИ.Ф. 133. On. 470.1870 г. Д. 117. Л. 112–113. Окунев – Горчакову, 17 июля 1870 г.
(обратно)738
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 244. Fol. 102 recto-verso. Флери – Грамону, 11 июля 1870 г. В шифрованной телеграфной инструкции Горчаков поручил Окуневу довести через Грамона до сведения Наполеона III, что государь «очень рассчитывает на сдержанность императора французов» // АВПРИ. Ф. 133. Он. 470. 1870 г. Д. 119. Л. 42–43 об.
(обратно)739
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 244. Foil07 recto verso. Флери – Грамону, 12 июля 1870 г. См. также: Fleury. Op. cit. R 131.
(обратно)740
История дипломатии. Т. I. С. 740.
(обратно)741
АВПРИ. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1870 г. Д. 61. Л. 6.
(обратно)742
Текст депеши см.: ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 244. Fol. 121–122. Флери – Грамону, 18 июля 1870 г.
(обратно)743
Шифрованная телеграмма Грамона от 20 июля // Ibid. Fol. 125–126.
(обратно)744
Шифрованная телеграмма Флери от 21 июля // Ibid. Fol. 134.
(обратно)745
Шифрованная телеграмма Грамона от 23 июля // Ibid. Fol. 137–139.
(обратно)746
АВПРИ. Ф. 133. Д. 470. 1870 г. Д. 117. Л. 171–173. Окунев – В гетману, 5 августа 1870 г.; Fleury. Op. cit. Р. 481.
(обратно)747
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 117. Л. 133–135. Окунев – В гетману, 26 июля 1870 г.
(обратно)748
Cars des J. Eugenie, la derniere imperatrice ou les larmes de la gloire. P., 2000. P. 501–536.
(обратно)749
Общая численность армии по всей территории страны составляла около 500 тыс. Описание и анализ военных действий в период франко-прусской войны не входит в задачу автора. См. об этом: Audoin-Rouzeau S. 1870. La France dans la guerre. P., 1989; Guerin A. La folle guerre de 1870. P., 1970; Milza P. L’annee terrible. La guerre franco-prussienne: septembre 1870 – mars 1871. P., 2009; Roth F. La guerre de 1870. P., 1990.
(обратно)750
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 117 Л. 221–226. Окунев – Горчакову, 16 августа 1870 г.
(обратно)751
Castelot A. Op. Cit. Р. 515.
(обратно)752
Amson D. Gambetta ou le reve brise. P., 1994. P. 178.
(обратно)753
АВПРИ. Ф. 133. On. 470. 1870 г. Д. 117. Л. 293. Окунев – Горчакову, 6 сентября 1870 г.
(обратно)754
Cars des J. Op. cit. P. 520–541.
(обратно)755
АВПРИ. Ф. 133. On. 470. 1870 г. Д. 117. Л. 436.
(обратно)756
7 сентября Ж. Фавр направил главам иностранных дипломатических миссий в Париже циркуляр, официально извещавший о сформировании Временного правительства национальной обороны и о том, что отныне ему поручено руководство Министерством иностранных дел. Текст циркуляра приложен к депеше Г.Н. Окунева // АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 117. Л. 302–302 об.
(обратно)757
Там же. Л. 438.
(обратно)758
Там же. Л. 441.
(обратно)759
ААЕ. Correspondance politique. Russie. 1870. Vol. 244. Fol. 259.
(обратно)760
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470. 1870 г. Д. 118. Л. 15об. – 16 об. Окунев – Горчакову, 9 сентября 1870 г.
(обратно)761
Там же. Л. 16 об.
(обратно)762
Там же. Л. 17 об. – 18 об.
(обратно)763
См.: Там же. Ф. 137. Оп. 475. Отчет МИД за 1870 г. Д. 61. Л. 7–8.
(обратно)764
Освещение истории франко-прусской войны, как и российско-французских отношений, после падения Второй империи выходит за рамки настоящей работы. См. об этом: Антюхина-Московченко В.И. История Франции. 1870–1918. М., 1963; Борисов Ю.В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. М., 1951; Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. М., 1956; Манфред А.З. Внешняя политика Франции. 1871–1891. М., 1951; он же. Образование русско-французского союза. М., 1975; Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное мнение в России. М., 1977; Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия… Минск, 1976.
(обратно)765
Тютчев Ф.И. Сочинения в двух томах. М., 1980. Т. 2. С. 214.
(обратно)766
Custine, marquis de. La Russie en 1839. P., 1843. Имеется полное русское издание: Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х т. Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. М. 1996.
(обратно)767
Archives des Affaires Etrangeres (далее – AAE). Correspondance politique. Russie. Vol. 193. Fol. 276 recto verso. Барант – Моле, 22 февраля 1838 г.
(обратно)768
Ibid. Vol. 210. Fol. 119 verso – 122 verso. Кастельбажак – Друэн де Люису, 18 октября 1853 г.
(обратно)769
См. о нем служебное досье: ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 1719.
(обратно)770
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 241. Fol. 36 verso – 37 verso Габриак – Мустъе, 15 июля 1868 г.
(обратно)771
Эта тема достаточно хорошо изучена в российской и зарубежной историографии. См.: Зайончковский П.А.. Советская историография реформы 1861 г. // Вопросы истории, 1961, № 2; Захарова Л.Г. Отечественная историография о подготовке крестьянской реформы 1861 г. // История СССР, 1976, № 4; Л.Г. Захарова Л.Г., Горланов Л.Р., Топчий А.Т. (сост.). Отмена крепостного права в России. Указатель литературы. (1856–1989). Томск, 1993; Литвак Б.Г. Советская историография реформы 19 февраля 1861 г. // История СССР, 1960, № 6; Павловская А.В. Крестьянская реформа 1861 года в России в освещении английской и американской исторической литературы. Диссерт. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М.: Истории, фак-т МГУ. 1991.
См. также: Бурдина О.Н. Крестьяне-дарственники в России 1861–1907. М., 1996; Великая реформа. Т. 1–6. М., 1911; Великие реформы в России. 1856–1874. Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Д. Буьинелла. М., 1992; Джантиев Г.А. Эпоха великих реформ. 10-е изд. СПб., 1907; Долбилов М.Д. Александр II и отмена крепостного права // Вопросы истории, 1998, № 10; Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. 1861–1880. М., 1978; Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958; Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–1861. М., 1984; Иванюков И. Падение крепостного права в России. 2-е изд. СПб., 1903; Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб., 1905; Костюшко И.И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму. Сравнительный очерк. М., 1994; Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 г. Черноземный центр. 1861–1895. М., 1972; его же. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991; Освобождение крестьян в царствование императора Александра II. Хроника деятельности Комиссии по крестьянскому делу Н.П. Семенова. Т. 1–3. СПб, 1889–1892; Сапилов Е.В. Крестьянская реформа в России 1861–1866 гг. (Забытые фрагменты). М., 1998; Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Т. 1–4. Бонн-на-Рейне, 1862–1868; Field D. The End of Serfdom. Harward, 1976; Scheiber P. Die russische Agrarreform von 1861. Ihre Probleme und der Stand ihrer Erfor-schung. Кб In-Wien. 1973.
(обратно)772
Цит. по: Татищев C.C. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006. С. 238.
(обратно)773
Об отношении консервативно настроенной части дворянства к подготовке крестьянской реформы см. подробно: Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 2002. Гл. I.
(обратно)774
См. Ляшенко Л.М. Царь-Освободитель. Жизнь и деяния Александра II. М., 1994. С. 62–63.
(обратно)775
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 212. Fol. 24 recto verso. Боден – Валевскому, 10 июля 1856 г.
(обратно)776
“Quelques mots sur le Servage en Russie” // AAE. Memories et Documents. Russie. Vol. 44. Fol. 304 recto verso, 318 verso – 319 recto.
(обратно)777
AAE. Correspondance politique. Russie. Vol. 214. Fol. 229 verso – 230. Морни – Baлеескому, 23 мая 1857 г.
(обратно)778
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 215. Fol. 89 verso – 93 verso.
(обратно)779
Ibid. Fol. 161 verso – 162 recto.
(обратно)780
Ш. Боден говорит о предреволюционном кризисе во Франции и попытке разрешить его путем созыва в 1787 г. Ассамблеи нотаблей, представительного органа трех сословий. Как известно, кризис не был преодолен и в 1789 г. перерос в революцию. Когда Боден вспоминает 1793 год, он имеет в виду установление во Франции якобинской диктатуры и сопутствовавшего ей массового террора. – П.Ч.
(обратно)781
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 215. Fol. 162 recto – verso.
(обратно)782
ibid. Fol. 163 recto – recto.
(обратно)783
Ibid. Vol. 216. Fol. 8 verso – 10 verso. Шаторенар – Валевскому, 11 января 1858 г.
(обратно)784
В ноябре 1857 г. аналогичный рескрипт был направлен на имя петербургского генерал-губернатора графа П.Н. Игнатьева.
(обратно)785
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 217. Fol. 80–82.
(обратно)786
Выступая перед депутацией московского дворянского собрания, Александр II заявил: «Мне, господа, приятно, когда я имею возможность благодарить дворянство, но против совести говорить не в моем характере. Я всегда говорю правду и, к сожалению, благодарить вас теперь не могу. Вы помните, когда я, два года тому назад, в этой самой комнате говорил вам о том, что рано или поздно надобно приступить к изменению крепостного права и что надобно, чтобы оно началось лучше сверху, нежели снизу Мои слова были перетолкованы. После того, я об этом долго думал и, помолясь Богу, решился приступить к делу Когда, вследствие вызова петербургской и литовских губерний, даны мной рескрипты, я, признаюсь, ожидал, что московское дворянство первое отзовется, но отозвалось нижегородское, а Московская губерния – не первая, не вторая, даже не третья. Это мне было прискорбно, потому что я горжусь тем, что я родился в Москве, всегда ее любил, когда был наследником, люблю ее теперь, как родную. Я дал вам начала и от них никак не отступлю…» // Цит. по: Татищев С.С. Указ. соч. С. 265.
(обратно)787
Детали, сообщаемые в донесении Монтебелло, представляют дополнительный интерес в связи с тем, что приезд Александра II в Москву был приурочен ко второй годовщине его коронации в Успенском соборе Кремля.
(обратно)788
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 217. Fol. 141 recto – 143 verso.
(обратно)789
Ibid. Fol. 228 recto – 229 verso. Шаторенар – Валевскому, 22 октября 1858 г.
(обратно)790
По другой версии, Ростовцев сказал присутствовавшему при его кончине Александру II: «Государь! Не бойтесь». —Ляшенко Л.М. Указ соч. С.88.; Татищев С.С. Указ. соч. С. 288. И в том и в другом варианте предсмертных слов умиравший Я.И. Ростовцев завещал императору довести до конца начатое ими дело, невзирая на сопротивление консерваторов.
(обратно)791
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 220. Fol. 130 recto verso – 131 recto.
(обратно)792
Эдуард Тувенель сменил Александра Валевского на министерском посту в начале января 1860 г. До назначения министром Тувенель несколько лет возглавлял Политический департамент МИД Франции, а затем был послом в Турции.
(обратно)793
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 220. Fol. 160 recto – 163 recto.
(обратно)794
Ibid. Vol. 222. Fol. 291–292.
(обратно)795
Ibid. Vol. 223. Fol. 159. Монтебелло – Тувенелю, 12 часов 25 минут, 17 марта 1861 г.
(обратно)796
Ibid. Fol. 161–162. Монтебелло – Тувенелю, 18 марта 1861 г.
(обратно)797
Ibid. Vol. 224. Fol. 34 recto verso.
(обратно)798
Ibid. Fol. 79.
(обратно)799
См. подробно: Бездненское восстание 1861 г. Сб. док. Казань, 1948; Вульфсон Г.Н. Жажда воли. (К 125-летию Бездненского восстания). Казань, 1986; Линков Я.И. Очерки истории крестьянского движения в России в 1825–1861 гг. М., 1952. С. 212–231; Устюжанин Е.И. Бездненское восстание 1861 г. // Ученые записки Казанского государственного педагогического института. Вып. 4. Казань, 1941.
(обратно)800
См. по этому вопросу: Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. 3-е изд. М., 1968; Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права. Ч. 1–2. М.-Л., 1949; Найденов М.Е. Классовая борьба в пореформенной деревне (1861–1863 гг.). М., 1955.
(обратно)801
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 225. Fol. 252 recto – verso. Фурнье – Тувенелю 23 декабря 1861 г. Анри Фурнье занимал должность 1-го секретаря в посольстве Франции в России с декабря 1859 г. На периоды отъезда посла (Монтебелло) в отпуск он исполнял обязанности временного поверенного. На своем посту в Петербурге Фурнье пробудет до октября 1862 г., когда получит назначение посланником в Стокгольм //ААЕ. Personnel. 1-re serie. № 1680.
(обратно)802
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 227. Fol. 252 recto verso. Фурнье – Ty-венелю, 13 июня 1862 г.
(обратно)803
Ibid. Vol. 227. Fol. 240 recto verso – 241 verso. Фурнье – Тувенелю, 24 июня 1862 г.
(обратно)804
Ibid. Fol. 180 recto verso. Фурнье – Тувенелю, 13 июня 1862 г.
(обратно)805
Ibid. Fol. 239. Фурнье – Тувенелю, 24 июня 1862 г.
(обратно)806
Ibid. Vol. 224. Fol. 124 recto verso.
(обратно)807
Ibid. Vol. 228. Fol. 246–249 verso.
(обратно)808
Эдуард Друэн де Люис сменил Э. Тувенеля в должности министра иностранных дел в октябре 1862 г.
(обратно)809
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 230. Fol. 180 verso – 182 recto.
(обратно)810
Ibid. Vol. 231. Fol. 6 verso – 7. Монтебелло – Друэн де Люису, 1 мая 1863 г.
(обратно)811
О земской реформе 1864 г. существует обширная литература. См.: Богатырева О.Н. Губернская администрация и земское самоуправление. Вторая половина XIX – начало XX века // Вопросы истории. 2004. № 8; Веселовский. История земства за 40 лет. Т. 1–4. СПб., 1909–1911; Материалы по земскому общественному устройству (Положение о земских учреждениях). Т. 1–2. СПб., 1885–1886; Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874; Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957; его же. Земская реформа и земство в исторической литературе // История СССР. 1960. № 5; Герасименко Г. А. Земское самоуправление в России. М., 1990; его же. История земского самоуправления. Саратов, 2003; Еремян В.В., Федоров М.В. История местного самоуправления в России (XII – начало XX в.). М., 1999; Из истории земства в России. Каталог книжной выставки. М., 1993; Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993; Петров Ф.А. Органы самоуправления в системе самодержавной России: земство в 1864–1879 гг. // Сб. Великие реформы в России. 1856–1879. М., 1992; Реформы Александра II. М., 1998; Philippot R. Les Zemstvos. Societe civile et Etat bureaucratique dans la Russie tsariste. P., 1991.
(обратно)812
ААЕ. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 115 bis.
(обратно)813
Генеральный совет – коллегиальный совещательный орган, издавна существующий в каждом из департаментов Франции. Он формируется на выборной основе и занимается решением местных административно-хозяйственных вопросов. – П.Ч.
(обратно)814
По-видимому, посол Франции имел в виду предложение министра внутренних дел П.А. Валуева, сделанное им еще весной 1862 г., о преобразовании Государственного Совета в представительное дворянское учреждение. Александр II долго размышлял над этим предложением, но, в конечном счете, отклонил его. – П.Ч.
(обратно)815
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 231. Fol. 192–195.
(обратно)816
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 233. Fol. 30 recto verso. Массинъяк – Друэн деЛюису, 8 февраля 1864 г.
(обратно)817
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 234. Fol. 165–167 verso. Французский перевод извлечений из «Положения», приложенный к депеше, см.: Ibid. Fol. 168–185.
(обратно)818
Ibid. Fol. 295 recto verso. Талейран – Друэн деЛюису, 8 сентября 1865 г.
(обратно)819
См. Веселовский Б.Б. История земства за 40 лет. СПб., 1910. Т. 3. С. 49.
(обратно)820
Цит. по: Татищев С.С. Указ. соч. С. 436.
(обратно)821
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 238. Fol. 57. Талейран – Мустъе, 22 января 1867.
(обратно)822
Ibid. Fol. 59.
(обратно)823
Ibid. Fol. 62–63.
(обратно)824
Старший брат Н.А. Милютина, бывшего товарища министра внутренних дел.
(обратно)825
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 238. Fol. 63 verso. Талейран – Мустье, 22 января 1867 г.
(обратно)826
Ibid. Fol. 134 verso. Талейран – Мустье, 14 февраля 1867 г.
(обратно)827
Ibid. Fol. 141–142 verso. Талейран – Мустье, 22 февраля 1867 г.
(обратно)828
Ibid. Fol. 143 verso – 144.
(обратно)829
См.: Арсеньев КК. Заметки о русской адвокатуре. СПб., 1875; Бобрищев-Пушкин А.М. Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных. М., 1896; Виленский Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в России. Саратов, 1963; его же. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969; Воробейникова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. Киев, 1973; Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т. 1. Адвокатура, общество и государство (1864–1914). М., 1997; Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы. М., 1891; История русской адвокатуры. 1864–1914. М., 1914–1916. Т. 1–2; Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. Пг., 1914; Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1969; Ларин А.М. Из истории суда присяжных. М., 1995; Миронова И.А. Законодательные памятники пореформенного периода (1861–1900 гг.). М., 1960; Мойсинович А.М. Судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины XIX – начала XX вв. Дисс… канд. ист. наук. Ярославль, 2006; Немытина М.В. Суд в России: вторая половина XIX – начало XX вв. Саратов, 1999; Развитие русского права во второй половине XIX – начале XX в. М., 1997; Судебная реформа / Под. ред. Н.В. Давыдова, Н.А. Полянского. М., 1915. Т. 1–2; Судебные уставы 20 ноября 1864 года, за пятьдесят лет. Пг., 1914. Т. 1–2; Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России. М., 1881; Филиппов М.А. Судебная реформа в России. СПб., 1871–1875. Т. 1–2; Хрулев С. Суд присяжных. Очерк деятельности судов и судебных порядков. СПб, 1886; Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России. 60-80-е гг. XIX в. М., 1987.
(обратно)830
Речь идет о Полном Собрании Законов Российской империи, начавшем издаваться по инициативе императора Николая I с 1830 г. К середине 1862 г. вышло в свет семнадцать его томов. – П.Ч.
(обратно)831
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 228. Fol. 153, 154 verso. Фурнье – Тувенелю, 28 июля 1862 г.
(обратно)832
Ibid. Vol. 229. Fol. 52 verso – 54.
(обратно)833
Ibid. Vol. 233. Fol. 32 recto verso. Массиньяк – Друэн de Люису, 8 февраля 1864 г.
(обратно)834
Ibid. Vol. 234. Fol. 96. Талейран – Друэн ду Люису, 19 марта 1865 г.
(обратно)835
Полный текст записки см.: Ibid. Vol. 236. Fol. 25–60. Талейран – Друэн ду Люису, 11 января 1866 г.
(обратно)837
О подготовке нового цензурного устава, как важнейшего события в культурной жизни России, французский временный поверенный счел необходимым сообщить в Париж. Принятие готовящегося нового цензурного устава, писал Анри Фурнье министру иностранных дел, «станет огромным прогрессом для здешней прессы, которая будет следовать заранее известным ей точным правилам; до сих пор принципы и правила, по которым действует цензура, были совершенно неизвестны, или, если сказать точнее, цензура всецело подчинялась административному произволу». // ААЕ. Correspondance politique. Vol. 227. Fol. 5 recto verso. Фурнье – Тувенелю, 15 апреля 1862 г.
(обратно)838
См.: Энгельгардт Н. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904.
(обратно)839
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 234. Fol. 130 recto verso. Талейран – Друэн де Люису, 29 апреля 1865 г.
(обратно)840
См. о нем: Баиов А.К. Граф Д.А. Милютин. Биографический сборник. СПб., 1912; Жерве Н. Граф Д.А. Милютин. (К 90-летию его рождения). СПб., 1906; Зайончковский П.А. Архив Д.А. Милютина // Вопросы истории. 1946. № 5–6; он же. Военные реформы 1860-1870-х годов в России. М., 1952; он же. Выдающийся ученый и реформатор русской армии (Д.А. Милютин) // Военно-исторический журнал. 1965. № 12.
(обратно)841
ААЕ. Memories et Documents. Russie. Vol. 45. Fol. 115–115 bis.
(обратно)842
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 224. Fol. 96. Монтебелло – Тувенелю, 28 мая 1861 г.
(обратно)843
Ibid. Vol. 225. Fol. 193 verso. Фурнье – Тувенелю, 25 ноября 1861 г. Фурнье говорит о графе Павле Дмитриевиче Киселеве, который в 1856–1862 гг. возглавлял посольство России при дворе Наполеона III. Д.А. Милютин действительно был племянником П.Д. Киселева по материнской линии. – П.Ч.
(обратно)844
Договоренность между Россией и Францией об аккредитации при посольствах двух стран постоянных военных атташе (военных агентов) была достигнута в 1856 г., когда были возобновлены русско-французские дипломатические отношения, разорванные в 1854 г. В 1860 г. в Петербург прибыл военный атташе Франции Кольсон, которого в 1865 г. сменил де Мирибель. По всей видимости, французские военные атташе работали в России лишь наездами, надолго отлучаясь во Францию, что вызывало недовольство у посла.
(обратно)845
ААЕ. Correspondance politique. Russie. Vol. 238. Fol. 105 verso. Талейран – Myстье, 7 февраля 1867 г.
(обратно)846
Ibid. Fol. 111.
Ibid. Vol. 239. Fol. 114 verso – 131 verso. Талейран – Мустье, 10 августа 1867 г.
(обратно)847
Ibid. Vol. 234. Fol. 66. Талейран – Друэн де Люису, 13 февраля 1865 г.
(обратно)848
Ibid.
(обратно)849
Ibid. Vol. 241. Fol. 49 verso. Габриак-Мустъе, 15 июля 1868 г.
(обратно)850
Ibid. Vol. 241. Fol. 48–49 verso. Габриак – Мустъе, 15 июля 1868 г.
(обратно)851
Ibid. Fol. 39–40.
(обратно)852
Ibid. Fol. 45 recto verso.
(обратно)853
Ibid. Vol. 236. Fol. 24 verso. Талейран – Друэн деЛюису, 10 января 1866 г.
(обратно)854
Условия Версальского прелиминарного мира были подтверждены Франкфуртским мирным договором, заключенным 10 мая 1871 г.
(обратно)855
Ее настоящее имя – Жюли Лебёф. Она родилась в бедной семье. До поступления на театральную сцену работала белошвейкой, затем акробаткой и наездницей в цирке, где обратила на себя внимание изяществом и редкой красоты сложением. Получив известность, стала любимой моделью для художников (в частности, Э. Мане) и скульпторов. Один из ее бюстов работы А.-Э. Каррье-Беллёза можно и сейчас увидеть в парижском музее Карнавале. Жюли Лебёф послужила Эмилю Золя прообразом одной из героинь в романе «Нана».
(обратно)856
Фаворитка Людовика XIV, ставшая морганатической супругой короля.
(обратно)857
Прежде всего Александр III поспешил избавиться от морганатической супруги своего покойного отца, светлейшей княгини Екатерины Михайловны Юрьевской (Долгоруковой), с которой Александр II тайно обвенчался через месяц с небольшим после кончины 22 мая 1880 г. императрицы Марии Александровны. Вместе с тремя детьми, рожденными от Александра II, Юрьевская вынуждена была навсегда покинуть Россию и уехать за границу.
(обратно)

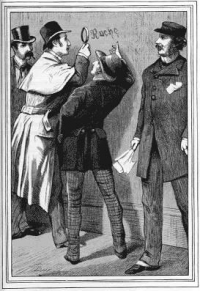

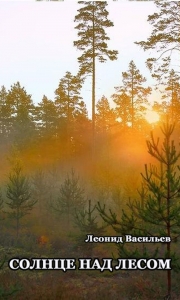




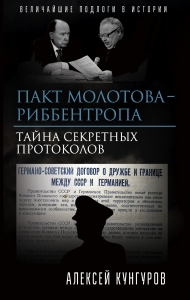
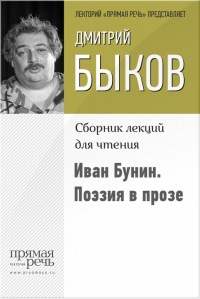
Комментарии к книге «Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870)», Петр Петрович Черкасов
Всего 0 комментариев