Дэвид Леви, Джоэл Килпатрик
Молитва нейрохирурга
David Levy and Joel Kilpatrick
GRAY MATTER
Перевод с английского Владимира Измайлова
© Originally published in English in the U.S.A. under the title: Gray Matter, by David Levy and Joel Kilpatrick Copyright
© 2011 by David Levy and Joel Kilpatrick Published with permission of Tyndale House Publishers, Inc. All rights reserved.
© Измайлов B.A., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019От автора
От всего сердца благодарю тех, кто вместе со мной создавал эту книгу. Это Джоэл Килпатрик – талантливый литератор, воплотивший мою мечту в жизнь; Кэрол Трэвер – выпускающий редактор Tyndale House, чьи советы и опыт помогали нам с самого начала; редактор Кара Петерсон – ее проницательность и мастерство оказались бесценны; и Грег Джонсон – мой агент, которому тоже досталась немалая роль.
А еще я искренне признателен всем, кто подавал ценные идеи или поддерживал меня во время работы над рукописью: Дональд Адема, доктор остеопатии; Су Ху Чой, доктор медицины; Дэвид и Анна Клифф; Роберто Куэва, доктор медицины, член американской коллегии хирургов; Диана де Пол; Дебби Формен; Джим Формен, лицензированный терапевт в сфере брака и семейных отношений; Клем Хоффман, доктор медицины; Сандра Лэнгли; Катерина Леви; Вера Леви; Дорин Хан Мар, доктор медицины; Меррил Нанигьян; Мэри Энн Нгуен-Куок; Уильям Рэмбо, доктор медицины; Скотт Рикеттс; Нгуен-Ти Робинсон, доктор медицины; Натали Родригес, доктор медицины; Марк Сломка; Джейми Уилсон; Джордан Зиглер, доктор медицины.
Все истории, приведенные в книге, произошли на самом деле. В целях конфиденциальности имена пациентов и некоторые подробности изменены; описание событий максимально приближено к тому, как они происходили в действительности.Факторы риска
С Марией мы встречались впервые.
Церебральная аневризма. Большая и хуже того, нетипичная. Мозговая артерия ослабла и распухла, будто удав, заглотивший курицу. Принимать меры нужно было, как говорится, вчера. Чем дольше мы ждали, тем выше был риск разрыва. А это почти верная смерть.
Мария была воплощением высшего управленца: классический черный костюм, туфли на каблуках и атташе-кейс. Кейс лежал рядом, на стуле – бумаги, папки, презентации… Мне почему-то казалось, что она забежала на перерыв и сейчас скажет:
«Доктор, а быстрее нельзя? У меня только десять минут! Клиенты ждать не будут!»
Нет, не сказала. И я видел: она беспокоилась. Диагноз оказался совершенно нежданным, а церебральная аневризма… попробуй такое запланируй.
Ее ко мне направил невролог. Аневризму «поймал» он, причем совершенно нежданно: не иначе фортуна в тот день решила улыбнуться Марии и, возможно, спасти ей жизнь. Часто смертельно опасные угрозы, скрытые в глубинах мозга, совершенно никак себя не проявляют, покуда не грянет гром. Те же аневризмы с их печальной славой таятся до последней минуты, когда давление крови рвет слабые стенки артерий, а потом – чувство, будто рвануло в голове, дикая боль, потеря сознания, и если помощь не поспеет, – то все, финал. Порой, если сойдутся звезды, аневризма упирается в нерв или в мозговую структуру и вызывает некие подозрительные симптомы – и дай бог, если их странность насторожит кого-нибудь еще до трагедии. Мария о таком даже не подозревала. На магнитно-резонансную томографию (МРТ) она пришла по совершенно другой, пустяковой причине, и сканирование выявило в ее голове скрытую угрозу – словно камера, случайно выхватившая серийного убийцу из толпы.
Я должен был все исправить, пока эта угроза не нанесла вреда.
Вероятность того, что церебральная аневризма размером с горошину начнет кровоточить, довольно мала. Таких случаев за год – примерно два на каждую сотню. Иными словами, девяносто восемь человек из ста живут себе и радуются – и можно подумать, будто риск невелик. Но вот если рванет… Вероятность смерти – один к трем. Людей даже не успевают доставить в госпиталь – их убивает кровь, что хлещет прямо в голову и не находит выхода. У трети из тех, кому все же повезет попасть в больницу, проявляются тяжелые когнитивные нарушения – немота, паралич, утрата памяти… Иногда больные даже не узнают родных. О прежней жизни остается только мечтать.
Вот об этом мне и приходится рассказывать всем, у кого обнаружат такую угрозу, когда мы вместе решаем, делать операцию или нет. А еще я должен оценить риск разрыва аневризмы или иного дефекта, и если этот риск велик, то именно мне предстоит вернуть все в норму, – и прежде, чем случится непоправимое.
У Марии выбора не оставалось. Мешотчатая аневризма диаметром с вишню и кучей «дочек» – кто знал, как она себя поведет? Лечить, только лечить.
Мы сидели в моей смотровой. Типичная медицинская каморка: площадь три на три, умывальник, застекленный шкаф и окно с видом на парковку. На парковке – деревья. Уюта и близко нет. Самая обычная смотровая, как в любой другой больнице, разве что стену украшают фотопейзажи, но это уже я постарался. Вдоль другой стены – стулья для больных и их родственников; сейчас они пустовали. Рядом, под рукой – компьютерная стойка: в нее я вбиваю все данные и на ней же просматриваю снимки. Вот и теперь я развернул монитор к Марии, и на дисплее завертелась трехмерная реконструкция КТ-ангиограммы. Аневризма, пакостный пупырчатый шар, маячила над гладкой артерией, словно призрак над водостоком.
– Мы с ней справимся, – уверил я. – Давайте расскажу, как именно.
На белой настенной доске я условно нарисовал ее аневризму – и начал долгий рассказ о том, что будет после наркоза. Потом, не вставая с кресла, я без резких движений развернулся и взглянул ей в глаза. Момент был очень важен. Мария умела держаться – сказывались годы выбранной профессии, – но ее выдавали и скованность, и руки, нервно прижатые к груди, и стиснутые пальцы, и застывший взгляд. Порой она невольно подергивала головой и отбивала пальцами какой-то странный ритм, и если пыталась скрыть тревогу, то это ей не особенно удавалось. Да и не стоило оно того: страх должен был выйти. Видимо, ее терзала мысль, не подошли ли к концу все радужные мечты и надежды. А что еще остается думать, если ваш автобус, резво мчавший по дороге жизни, вдруг с диким скрежетом тормозов свернул в переулок Нейрохирургов?
Если ваш автобус, резво мчавший по дороге жизни, вдруг свернул в переулок Нейрохирургов, невольно приходит мысль о конце всех радужных мечтаний и надежд.
А если впереди тупик?
Я донес до нее непростую истину – и теперь мне предстоял ряд столь же непростых задач. Первая – успокоить ее насчет операции и заверить в успешном исходе, то есть в том, что вмешательство не причинит вреда. Вторая – честно рассказать о рисках. Риски могли быть разными – слепота, кома, паралич, смерть… Молчать я не имел права. Она должна была знать, чего ожидать и к чему готовить родных. Мало ли. Чувствительность мозга невероятна. При вторжении, каким бы оно ни было, все всегда может пойти не так. И я был обязан преподнести все это спокойно, честно и без утайки – женщине, которая и слышать о таком не хотела.
Умение поставить верный диагноз – лишь часть работы врача. Он должен следить за тем, как себя ведет; за тем, как преподносит факты; за тем, какое впечатление производят его слова; за тем, как он держится и как относится к больным. Что прочтут люди в ваших глазах? Уверенность или страх? Смотрите ли вы им в глаза? Или поверх плеча? Или ваш взгляд бесцельно скользит по комнате? Что они подумают о прогнозе, который вы еще не озвучили? Что увидят в языке вашего тела, в движении рук, в почти неуловимой мимике, в манере общения – расслабленной или, напротив, напряженной; в вашей готовности видеть в них людей, а не медицинские случаи? Беседа с тем, кому предстоит операция – это танец. Вам нужно довести его до совершенства, вам нельзя чувствовать ни малейшей скованности, вам позволено делать лишь верные па, – и тогда и вам, и вашим пациентам будет хорошо. К счастью, мои спокойные манеры, как кажется, внушают людям покой. Но требуется огромный опыт, чтобы врачебный такт казался совершенно естественным, и именно к этому и нужно стремиться: даже если диагноз плох, вы можете передать больному чувство уверенности.
Я объяснил риски операции – и риски отказа от нее. Объяснил выгоды того и другого. Мария слушала и иногда кивала. В ее взгляде я читал немую просьбу: скажите, что есть чудо-таблетка! Скажите, что все решится быстро и легко! Больные почти всегда верят, что врач всесилен, – или, по крайней мере, надеются на это. Мы, нейрохирурги – верховные жрецы современной медицины, и к нам взывают, словно к божествам: вылечи! исцели! Да, именно так нас воспринимают люди. Мы, собственно, и не против. И я даже походил на жреца в своем белом халате и светло-синей медицинской форме, в этом устрашающем облачении, символе отделенности от людей – и, наверное, превосходства над ними. Но я решил оставить эту роль. Почему я так решил? Потому что я – мастер, я владею искусством медицины… но исцеляю людей вовсе не я. И не мне занимать место Бога в их сердце. Причем, как кажется, у многих оно уже занято.
Я снова проглядел снимки, прекрасно зная, что у нее только один путь.
– Мария, вам не обойтись без операции, – сказал я. – Видите аневризму? Вот она, круглая и словно на стебельке. Мы называем такие «ягодками». Только вот у «ягодок» гладкие стенки, а у вашей масса мешков, и чем их больше, тем выше риск разрыва.
Она затаила дыхание. А где хорошая новость? Ведь все будет хорошо, правда? Она ждала этих слов. Она была в самом расцвете жизни, она построила прекрасную карьеру… Но я не мог такого обещать. И уже в который раз меня поразила мысль: у людей, совершенно здоровых на первый взгляд, в голове, может быть, тикает бомба.
Я ощутил волну сострадания, и пришел покой. Я мог помочь ей, пусть даже это было нелегко. Я владел всеми навыками, я не избегал любимого дела, и у нас была цель – устранить источник опасности. Я хотел только одного: чтобы травма Марии навеки осталась в прошлом. В идеале ей не пришлось бы видеть больничных стен еще несколько месяцев – до времени контрольного сканирования. Союзы «хирург-пациент», в отличие от прочих, лучше заключать на время: мы встречаемся, решаем проблему и идем дальше разными дорогами.
– Это может подождать? – наконец спросила она.
По статистике, могло: аневризма росла довольно долго. Но те, кто давно работает в нашей сфере, на своем веку часто видели, как люди истекали кровью, еще не успев попасть на хирургический стол.
– Будь ваша аневризма идеально гладкой или чуть поменьше – тогда без проблем, – ответил я. – Подождали бы и месяц. Но ее форма и размер меня очень тревожат.
Мария едва заметно кивнула.
– Видимо, придется, – тихо сказала она. – Наверное, у меня еще будут вопросы, когда я все осмыслю. И семье нужно сказать.
Мы замолчали. Она думала, я не торопил. А когда прошла минута, я решил сделать то, что уже стало для меня привычным – и то, чего я никогда не видел в практике других врачей: в мгновение ока я разрушил свой облик «кумира».
– Знаю, на такое непросто решиться. И вам есть о чем подумать, – сказал я. – Хотите, помолимся вместе?
Я спросил так, чтобы при желании она могла отказать. Ее родители были католиками – я прочел об этом в истории болезни, – но она не посещала церковь.
Мария чуть наклонила голову к плечу и взглянула на меня, будто на странный финансовый отчет, а потом слегка вздохнула и кивнула.
– Хорошо, – ответила она, слегка смутившись. – Давайте.
Не вставая с кресла, я подъехал поближе и подал ей руку. Она удивилась, но невольно схватилась за нее, словно утопающий – за брошенную веревку, и я склонил голову, чтобы не смущать ее взглядом.
– Господи, благодарю Тебя за Марию, – сказал я. – И за то, что позволил нам найти эту аневризму. Мы не знали о ней ничего – но Ты знаешь все, и именно Ты показал ее нам. Молю, пусть эта аневризма не причинит вреда, пока мы ее не излечим. Не оставляй Марию, дай ей почувствовать, что Ты рядом, подари ей мир и покой. Во имя Иисуса, аминь.
Я открыл глаза. Мария, склонив голову, тихо плакала. Слезы капали прямо на юбку, оставляя следы, но она не обращала на них внимания. Казалось, ее окутала безмятежность. Она была спокойна и внимательна, будто в церкви. Нервные спазмы, рожденные страхом, исчезли. Она глубоко дышала, и с каждым вдохом тяжесть, окутавшая ее, уходила прочь. Эта внезапная перемена могла бы меня поразить, если бы я не видел ее прежде – много раз.
Прошло несколько минут, и Мария взглянула на меня. У нее потекла тушь; по щекам тянулись серые струйки. Она кивнула, будто соглашаясь со словами молитвы, и я подал ей платок из коробки на стойке.
Простая молитва дала то, чего нельзя получить ни в страховых компаниях, ни в клиниках, ни у хирургов, ни от лекарств.
– Благодарю вас, доктор Леви, – сказала она. Ее сияющий взгляд излучал спокойствие и надежду. – Никогда раньше не молилась вместе с врачом.
Я улыбнулся. Сколько раз я это слышал! Простая молитва дала ей то, чего не мог дать ни один разговор, ни один сеанс психоанализа, ни целая груда медицинских фактов. Того, что ей удалось обрести, она не получила бы ни в страховых компаниях, ни в клиниках, ни у хирургов, ни от лекарств. Молитва позволила ей почувствовать уверенность и покой – и даже, как мне показалось, прикосновение Бога.
Операция шла безупречно почти до самого конца.
А потом аневризма рванула, и кровь, ринувшись в мозг, стала заливать его с каждым ударом сердца.
Неужели мы ее не спасем?
Я велел помощникам готовить инструменты: нужно было закрыть разрыв. Все шло словно в замедленной съемке. В душе нарастали разочарование и злость. Больше всего хирурги ненавидят неожиданности, особенно те, что способны лишить семью любящей жены и матери.
По сонной артерии я завел инструменты прямо под кровящую аневризму. Предстояло остановить кровотечение из разорванной стенки, иначе рана грозила смертью. Пять минут дикого стресса – и я ввел контраст: посмотреть, что получилось.
Сердце рухнуло в пропасть. Контраст стекал с верхушки купола. Аневризма по-прежнему кровила. Пять минут она истекала кровью. Прямо в мозг.
Выживет ли Мария? И если да, что с ней станет?
На ювелирную работу ушло еще несколько минут, пронизанных болью неизвестности. Наконец кровить перестало. Еще час потребовался на то, чтобы понять: Мария останется в живых, обширного инсульта не случилось, она могла двигаться и говорить. Когда Марию увезли в интенсивную терапию – и в следующие несколько дней, пока ее состояние неизменно улучшалось, – я благодарил Бога за отклик на нашу молитву. Верю, для Марии она изменила многое, – как и для меня.
В нейрохирургии случается и не такое.
* * *
Понятия не имею, волнует ли медсестер, врачей, хирургов – или даже нейрохирургов – духовная жизнь больных. Не знаю, молится ли кто-либо из врачей вместе с больными, как это делаю я. О таком не говорят ни на медицинских конференциях, ни с коллегами в лифте, ни в больничном кафетерии. В таких материях очень легко оскорбить больного или его веру, а за такое могут выгнать из медицинского сообщества, или, что еще хуже – преступником сочтут. Роль молитвы в медицине – тайна не менее великая, чем серое вещество.
Но мне кажется, и врачи, и больные признают, что в больничном уходе отсутствует некий очень важный элемент. И вот что странно. Доктора почти не говорят о духовности и не предпринимают в ее отношении никаких действий, но подавляющее большинство – три четверти из опрошенной тысячи, – тем не менее согласны, что религия и духовность играют важную роль, помогая больным исцелиться и обрести позитивный настрой1.
Больные тоже высоко ценят религию и духовность – особенно на пике болезни. Вот данные одного такого исследования, проведенного в офтальмологической клинике университета Джона Хопкинса: из ста двадцати четырех пациентов, принявших участие в последовательном опросе, 82 % подтвердили, что молитва важна для их здоровья и благополучия2.
Роль молитвы в медицине – тайна не менее великая, чем серое вещество.
Когда я обратился к духовному миру больных – и когда частью наших бесед стала молитва, – отклик был поразителен. Люди исцелялись на моих глазах – и духом, и телом. Прежде они не знали такого счастья. Так мне открылись две очень важных истины. Первая – есть предел тому, что я могу сделать как мастер-нейрохирург. И вторая: тому, как Бог волен преобразить наши души, предела нет.
Моя цель – применить свои навыки и знания на благо людей и помочь им не просто продлить жизнь, но и сделать ее ярче. Чувства и здоровье связаны воедино. Эмоции могут вылечить болезнь или усугубить ее, – а на них, в свою очередь, влияет то, в каком состоянии находится наш дух. Смех и радость исцеляют, это известно; а обида, злость и горечь – прямая дорога к заболеваниям. Прощение способно излечить, это ясно отражено во многих исследованиях, а наше представление о Боге может вызвать непрерывное счастье – или непрестанный страх. И в отношении к здоровью эти проблемы играют не второстепенную роль, а главную3.
А врач в ответе за то, чтобы больные увидели путь к исцелению, – равно как и за то, чтобы они выбрали этот путь.
* * *
Сложных случаев в моей практике много. Нейрохирург – последнее звено в цепочке, которая обычно начинается с работников скорой помощи, неважно, первичной или экстренной. В кабинет нейрохирурга – в итоге – могут привести даже пустяки: то голова болит, то кружится, то колет не пойми где… Вы приходите к врачам неотложной помощи или вызываете помощь на дом; вас иногда отправляют к неврологу; он назначает МРТ…
Кстати, неврологи операций не делают. Это дело нейрохирургов. Невролог – это наш Энсел Адамс4, только предмет его интереса – не Америка. Неврологи на своих аппаратах сканируют мозг и нервную систему, делают электроэнцефалограммы, электро-миограммы, магнитно-резонансную томографию – и ищут проблему. Главная сложность их работы вот в чем: те симптомы, которые им видны, только они и могут истолковать. Симптомов этих великое множество. Неврологи связывают их в цельную картину и навешивают бирку с диагнозом. И как без них понять, на что указывает снимок? На болезнь Паркинсона? На рассеянный склероз? На иное неврологическое расстройство с особым характером проявлений? Или это случайный набор, который вообще ни о чем не говорит? Часто симптомы вызваны напряжением и страхом. Открою секрет: чаще всего никто и понятия не имеет, почему именно у вас колет в руке, или почему именно у вас все время болит голова, или почему именно вас преследуют «странные ощущения» в какой-нибудь части тела. Неврологам то и дело приходится говорить: «Я не могу найти ничего, что объяснило бы ваши симптомы». Впрочем, важно другое: головные боли, головокружение или покалывание – это далеко не всегда свидетельства аневризмы. Вот неврологи и пытаются выяснить, кто на самом деле болен. У них сложная работа.
А назначаемые ими MPT-сканирования бесценны. На них можно увидеть аневризму или иной дефект, никак не связанный с симптомами, – угрозу, о которой никто и не подозревает. Мы называем такие случаи «счастливой находкой», и это одна из причин, по которой больных направляют ко мне. Обычно на снимках видны маленькие, абсолютно безвредные шишечки на сосудах, но иногда встречаются и другие дефекты – смертельно опасные, как аневризма Марии.
Мое дело – операции на мозге. Если требуется вмешательство хирурга – для устранения опухоли, аневризмы, сгустка деформированных сосудов, – проникнуть в голову можно по-разному. Открытая хирургия предпочитает «традиционный подход»: в черепе сверлят отверстие, и открывается доступ к серому веществу. Оно не больше дыни – но в нем хранится вся наша память, привычки, знания, личность и все то, что наделяет смыслом нашу жизнь. Аневризмы чаще всего располагаются в основании мозга, между долями – и чтобы добраться до сосудов, эти доли нужно развести в стороны. В открытой хирургии так и поступают. Хирург проводит операцию, глядя в большой подвесной микроскоп, установленный над больным. Микроскоп оснащен прозрачным стерильным покрытием – и потому может спокойно находиться рядом с раскрытым мозгом. Меня всегда приводило в трепет то мгновение, когда твердая мозговая оболочка – по-латыни dura mater, «крепкая основа» – отходит в сторону, открывая взгляду блестящую поверхность мозга. Такое чувство, будто ты в первый раз надел подводную маску и нырнул рядом с коралловым рифом. Вокруг расцветает дивный новый мир, и ты уходишь в него, забывая себя. Сквозь линзы микроскопа мозг предстает во всем своем совершенстве; подсветка проясняет картину; фокусировка проявляет детали, и перед глазами простирается заснеженное поле, по которому, как по холмистой долине – сквозь борозды и извилины бугристой коры, – алой лозой вьются артерии и артериолы.
Меня часто спрашивают, каково это – смотреть на мозг, прикасаться к нему, лечить его… Я отвечаю так: это невероятно сложно – но это восхитительно. Ритмичная пульсация артерий и вен приковывает взгляд. Мозг и сердечно-сосудистая система, питающая его кровью и кислородом, устроены невероятно сложно, – намного сложнее, нежели любой космический корабль, суперкомпьютер или иное творение человеческих рук. Мозг – это командный центр тела. Вся наша жизнь – от самых базовых функций до вершин искусства, музыки, поэзии, науки и любви – заключена в этой изящной и миниатюрной упаковке. Проводить операции на мозговых сосудах, восстанавливать приток крови к командному центру – это поразительно. Дело, связанное с чем-то столь жизненно важным, воодушевляет и придает сил. Мозг – наш самый ценный недвижимый актив, и право работать с ним – одна из моих высших привилегий.
Как и другие нейрохирурги, я начинал с открытого вмешательства: высверливал часть черепа, брал инструменты, заводил их внутрь, исправлял проблему и возвращал обратно высверленную часть. Позже я решил обратиться к эндоваскулярной хирургии. За ней будущее, и я это понимал. Большая часть проблем в мозге связана с артериями и венами. Технологии все чаще помогают нам решать эти проблемы, не вскрывая череп. Мы вводим инструменты в ногу, в бедренную артерию, и проводим их к мозгу: метр с небольшим «на север». Эта отрасль хирургии не столь инвазивна, мы не разрезаем кости и не раскраиваем голову, и многим это нравится.
Но и неважно, какой подход выбирать: в проникновении в мозг нет и не может быть ничего рутинного. Эндоваскулярная нейрохирургия все еще трудна и опасна. По правде, это одна из самых опасных отраслей хирургии. Каждый раз, когда приходится иметь дело с поврежденным сосудом – а при аневризме сосуд всегда поврежден, – вы знаете: стенка уже ослаблена, риск ее разрыва намного выше и любое прикосновение, любая манипуляция могут привести к тому, что мозг зальет кровью.
Все родители знают, как сильно кровоточат ссадины на голове: небольшая царапина сперва кажется огромной кровавой раной. То же самое можно сказать и о ранах внутри головы. Мозг жаден до крови. На него приходится лишь два процента от общей массы тела – и пятнадцать процентов от всей потребляемой крови. Да, он настолько важен.
Из-за высоких требований к потреблению крови и кислорода – а равно так же из-за малых запасов энергии, – мозг неимоверно чувствителен к нарушениям кровотока. Если при открытом хирургическом вмешательстве рвется аневризма, кровь хлещет так, что операционное поле мигом превращается в кровавое месиво: вы просто не видите, что вам делать, и словно латаете трубу среди болота. Справиться с таким очень непросто.
При операциях на других органах можно без особых последствий клипировать сосуды, остановить приток крови и расчистить операционное поле. Но с мозгом приходится обращаться куда более осторожно. Это элитный район. Здесь хранится информация о всей нашей жизни – и нет системы резервного копирования. Когда хлещет кровь, нельзя слепо ставить клипсы на все вокруг: вы рискуете повредить сосуд или нерв, который позволяет человеку петь, танцевать, глотать, читать, говорить или узнавать внуков. Мозг – это минное поле. Продвигаться по нему вы должны шаг за шагом. Внезапное кровоизлияние способно закрыть обзор, и в гневе вы, возможно, начнете спешить, желая устранить проблему как можно скорее, – но лучше не делайте так, иначе ваше плохое положение станет критическим. Мельчайшие движения пальцев и инструментов могут повлечь необратимые последствия. Нейрохирурги должны довести свое мастерство до совершенства, – а еще обязаны знать, где выше риск кровотечений и как их остановить.
Понимание сложности устройства мозга – одна из главных причин, приведших меня к молитве.
Мне повезло: я учился у лучших нейрохирургов мира и успешно практикую уже больше пятнадцати лет. Но мне до сих пор сложно хранить спокойствие, когда во время сложной операции в кровь хлещет адреналин. Если дело касается жизни и смерти, волей-неволей научишься справляться с собственной паникой. Слова «что-то не так» в нейрохирургии означают риск огромных потерь. И уверяю вас, нейрохирург все это чувствует и понимает. Вся моя команда после рабочего дня может пойти домой и отоспаться, а я часто лежу и гадаю, что сделал неправильно и где следовало поступить иначе. В каком-то смысле нейрохирурги совершенно одиноки.
Сложность мозга и тот вызов, который нам приходится принять, сражаясь с его болезнями, вносит свой вклад – по крайней мере для меня, – в то огромное чувство радости, с которым я отношусь к своей работе. Но это чувство сопряжено с огромным стрессом, а временами – с разочарованием и бессильной злостью. Даже при технически идеальной операции все может закончиться очень плохо: загубленная жизнь, умственное расстройство, исчезнувшая память… Случаются самые неожиданные вещи. Операция на мозге – это хождение по канату. Чаще всего без страховочной сетки.
Понимание того, насколько это сложно – одна из главных причин, приведших меня к молитве. Я молюсь не потому, будто мне не хватает уверенности. Я просто понимаю, на что способен я, – и что волен совершить Бог. Хирургия способна справиться с конкретной проблемой, но излечение тела – это лишь часть, а исцеление – это нечто гораздо большее. Исходы операций никогда не предсказать на сто процентов. Одни, технически безупречные, оборачиваются инсультами или смертью больного. А бывают просто катастрофы, море крови… и ничего. Хирурги склонны приписывать это судьбе, случайности или удаче, как в поговорке: «Умеешь, не умеешь, молись, чтоб повезло». Мы не можем этого объяснить, но я уверен: здесь задействовано гораздо больше, нежели просто «случайность». А сам я верю, что Бог желает принять участие в наших делах, – и, если мы попросим, Он придет к нам на помощь.
Духовность – это главный элемент, от которого зависит наше благополучие, наша цельность и развитие нашей личности.
Из других глав вы узнаете, как я, нейрохирург-практик, признал, что наше здоровье зависит от состояния духа и чувств, и как начал молиться вместе с теми, кому предстояла операция. Мой путь к слиянию медицины и веры начинался нелегко. Сперва выходило топорно, уверенности особой не было, да и людям порой было как-то неловко. Часто я вспоминал древнюю мудрость: хочешь чему-то научиться – знай, сперва получаться не будет. Я шел без дорожной карты. Никто не учил меня тому, как молиться о больных. Такого не преподавали ни в медицинской школе, ни в резидентуре. Но все равно со временем молитва вошла в мою жизнь и стала совершенно естественной. С ней мир стал лучше. И я даже верю, что она порой меняла исходы операций.
Стало ли лучше всем, за кого я молился? Нет. И да, это разочаровывает и злит. Я все еще хочу волшебную палочку, которую, как принято считать, каждый врач обретает вместе с лицензией на практику. Но я был свидетелем многих благ, даруемых молитвой, и убежден, что они – за пределами любой физики или психологии. Исцелялся не только мозг. Многие освобождались от горечи, гнева и злобы, а именно эти чувства способны стать причиной серьезных физических проблем. Мне открылось, что Бог видит всего человека, а не только частную проблему, поразившую голову. Да и сами люди обычно очень признательны, когда в них видят не просто медицинскую задачу.
Я уже много лет в нейрохирургии и прекрасно знаком со всеми новшествами в нашей сфере – это и техники, и методы, и устройства, и лекарства, выпускаемые на рынок. Многие из них довольно оригинальны, я и сам их не раз применял. Еще я дал ряд консультаций представителям многих компаний, целью которых была разработка более совершенных устройств, и немало постранствовал по миру, когда обучал других работать с новыми аппаратами. Я восхищен технологиями современной медицины и благодарен им. Но несмотря на то, что технология может продлить дни человека или уменьшить боль, она не всегда способна сделать жизнь лучше.
Со временем молитва вошла в мою жизнь и стала совершенно естественной. С ней мир стал лучше. И я даже верю, что она порой меняла исходы операций.
Опыт убедил меня: духовность – это главный элемент, от которого зависит наше благополучие, наша цельность и развитие нашей личности; более того, если мы допустим в свою жизнь Бога, Он может совершить в ней невероятные чудеса. Именно поэтому я пригласил Бога стать частью моих бесед и операций. Многих удивит, что нейрохирург – воплощение науки, логики и человеческого прогресса, – способен столь искренне веровать в Бога и в божественное вмешательство. И тем не менее – это так.
И да, мой опыт феноменален.
Первые молитвы
Пришло время решений.
Я поднялся по служебной лестнице в предоперационную. Для больных, которым предстоит операция, эта просторная комната – непременная остановка. Сердце колотилось как бешеное. Предоперационная, как и всегда, напоминала портовый район мегаполиса. Медсестры, анестезиологи, врачи – все носились кто с историей болезни, кто с пакетом для внутривенных вливаний, кто с тележками, шприцами, флаконами, таблетками… Писк машин смешивался с десятками семейных разговоров и болтовней телевизора, и везде, куда ни посмотри, стояли каталки с больными. Обычно эта картина внушает мне уверенность и придает сил. Я редко волнуюсь перед операцией, обычно с меня хоть портрет пиши – эталон спокойного и уверенного нейрохирурга. Даже больничные запахи – протирочный спирт, латекс, простерилизованная сталь и пластик – рождают во мне спокойствие и ясность мысли еще до встречи с пациентом. Это моя арена, моя игровая площадка.
Но сегодня я был в ужасе.
Я впервые решил помолиться вместе с больным. Я не просто никогда не делал этого прежде – я даже не видел, чтобы это делал хоть один медработник. Наша сфера, как правило, нерелигиозна. Духовные материи остаются вне ее границ. Вера, чувства – с этим, по мнению врачей, должны разбираться священники, медсестры или родные больного. Иными словами, врачи расценивают это как неприятный или раздражающий побочный эффект или даже слабость характера. Вроде как считается, что те из нас, кому платят за исцеление тела – за воздействие на материю и возвращение людей к жизни, – выше таких явлений, как духовность. Мы – хирурги и ученые, люди фактов и мастерства, наша уверенность порой граничит с надменностью, а то и становится ее частью, – и многим из нас, поверьте, от этого ни холодно ни жарко. Но я больше не мог противиться велению души, которое воспринимал как глас Божий, даже пусть это и казалось немыслимым. Одним решением я рисковал поставить на кон всю свою репутацию, все профессиональные отношения и даже всю будущую карьеру.
Вера, чувства – с этим, по мнению врачей, должны разбираться священники, медсестры или родные больного.
Как и многие врачи – наверное, даже большинство, – перед операцией я всегда беседую с больными. Это вошло у меня в привычку. Кстати, такая практика
имеет свои резоны, и вот почему. Во-первых, вы можете проверить, что перед вами действительно тот, кого вы собирались оперировать, а не какой-нибудь парень из коридора. А то люди любят травить байки о том, как врачи удалили не тот орган или отрезали не ту руку. Да, такое случается, но крайне редко. И когда я встречаюсь с больным и его родными лицом к лицу, я не даю почвы для таких историй и не рискую погубить или усложнить чью-либо жизнь, проведя неверную операцию. Во-вторых, этот шаг подтверждает, что все мы – хирург, пациент, семья, – согласны с тем, что делаем, с вовлеченными рисками и с желаемым исходом. Например, если кто-нибудь из родных до сих пор не сумел осознать риски, то теперь самое время их прояснить. В-третьих, это дает больному и его родным уверенность во мне как в хирурге. Если доктор уверен в себе, это передается и другим и благотворно влияет на моральное состояние, – а может, и на исход операции. Это приводит нас к последней причине – говорят о ней не столь часто, – по которой многие врачи, и в том числе я, часто довольны встречами в предоперационной: это дает нам чувство собственного совершенства. Это мы, в своих белых халатах, стоим у постели больного, готовые проникнуть в мозг беспомощного человека своими крошечными дорогими инструментами. Нам вверены человеческие жизни. И потому мы занимаем достойное место в обществе и получаем такие деньги. Это вершина всех наших стремлений.
Но тот день, когда я зашел к миссис Джонс, был для меня совершенно иным. Предоперационная, как и всегда, полнилась людьми. Больная уже лежала на каталке, на которой ее должны отвезти на операцию. Я шагнул через порог, и сестра-сиделка вскинула голову и посмотрела на меня. Если вам когда-нибудь делали операцию или вы навещали кого-то, кому она предстояла, то вы, возможно, знаете, что в предоперационном отделении нет комнат как таковых. Там есть отсеки, они разделены тонкими шторками, и эти занавески висят на потолочных направляющих, как в душевых. Вам слышно все, что творится в соседнем отсеке, – и гул телевизора, привешенного к потолку, и все разговоры, кроме разве что шепота. Приватность минимальна – и по большей части воображаема.
– Доброе утро! Как вы, миссис Джонс? – спросил я, встав у кушетки.
– Наверное, слегка волнуюсь, – она через силу улыбнулась. Две девушки, ее дочери, молча стояли рядом, скрестив руки на груди, и мерили меня взглядом. Одна из них отреагировала едва заметной улыбкой.
Как и всегда, я начал с краткой презентации – заболевание, желаемый исход операции, ее вероятные исходы… Но сердце билось так сильно, что его стук – по крайней мере для меня – перекрывал и гомон, царивший в предоперационной, и звук моего собственного голоса. Здесь, в отсеке, рядом с больной, мысль о сочетании медицины и духовных материй казалась неестественной и даже опасной. Кто знает, как поведет себя миссис Джонс? Как это воспримут ее дочери? Я изо всех сил пытался скрыть чувства, пока шла «официальная часть» нашей беседы. Миссис Джонс кивала в такт моим словам. К счастью, она не видела, насколько я взволнован. А может, мне так казалось.
Это странно: я учитываю каждую мелочь и ненавижу помарки, но совершенно не подумал о том, как и когда добавлю молитву к будничным делам. То ли я счел, что все получится само собой, то ли решил, будто на меня найдет вдохновение… не знаю, но в тот момент непродуманность этого шага поразила меня, словно огромная ошибка, – я словно вышел на сцену, ни разу не заглянув в сценарий. Прежде, просматривая ее анкету, я заметил в графе «религия» запись «протестант». Это давало мне небольшую страховку, на случай, если я все же решусь прыгнуть с этой скалы. По крайней мере молитва была ей знакома. Если бы там стоял прочерк, я, возможно, счел бы свои планы слишком рискованными для первого раза – и отменил бы их одним махом. И еще меня волновало то, что медсестра, которая до сих пор готовила миссис Джонс к капельнице, не собиралась уходить. Я твердо решил не молиться в присутствии посторонних. Если честно, я боялся, что в больнице обо всем узнают. Я хотел дождаться, пока останусь наедине с миссис Джонс и ее дочерьми – тогда мне, может быть, хватит смелости попросить…
– О рисках мы с вами уже говорили, – продолжал тем временем я. – Теперь о самой операции. Когда все будет готово, мы сделаем в вашей артерии небольшой прокол. Я проведу инструменты в мозг и разберусь с аневризмой…
Я тянул время и строил пространные фразы – в надежде, что медсестра уйдет и я смогу исполнить свой замысел. Но та, как назло, никуда не спешила. Она делала все по списку: мерила больной давление и температуру, подсоединяла ее к монитору с датчиками жизненных показателей, вносила в базу прописанные лекарства… У сестер всегда есть список заданий. Он может быть длиннее или короче; может включать разные пункты в зависимости от того, какая предстоит операция, какой хирург ее проводит и какую анестезию будут давать, – но он есть всегда. Обычно сестры делают опись личных вещей пациента; проверяют, нет ли у больного, уже почти готового к операции, искусственных зубов, очков или драгоценностей; спрашивают, не беременна ли больная, не перенес ли больной недавно грипп, нет ли у него аллергии на лекарства… Они могут даже взять кровь на анализ или снять ЭКГ, чтобы проверить, нет ли проблем с сердцем, прежде чем мы приступим к напряженному и рискованному делу. И в тот день медсестра медленно – очень медленно – переходила от одного задания к другому, и не было ни единого намека на то, что она хоть когда-нибудь закончит. Я то и дело посматривал на нее, ожидая, пока она со всем разделается, – но мне уже начинало казаться, будто она работает против меня.
Я умолк. Миссис Джонс снова кивнула. Я не сказал ничего нового ни для нее, ни для себя, и пытался придумать хоть что-нибудь, лишь бы продолжить разговор, но смог выдавить только обычную концовку: – Еще вопросы?
Я с надеждой посмотрел на ее дочерей. Так-то врачи ненавидят, когда им в такие моменты задают вопросы, но на этот раз я их едва ли не вымаливал.
– Как долго это продлится? – спросила одна.
О, счастливый миг!
– Хороший вопрос… – протянул я, готовясь ответить во всех подробностях, и снова бросил взгляд в сторону медсестры. Та, словно в забытьи, долдонила по клавиатуре и пополняла хроники миссис Джонс все новыми и новыми потоками битов. Мы словно состязались в том, кто кого перетерпит.
Когда я закончил объяснение, сумев растянуть на несколько минут туманное перечисление различных факторов, не позволявших мне дать четкий ответ на вопрос о точной продолжительности операции, – медсестра все еще не закончила. Вдобавок ко всему меня мучила совесть. Я не смог выполнить свой замысел и вознести молитву. Но теперь у меня уже не было причин находиться в отсеке, иначе миссис Джонс и ее дочери могли бы подумать, будто что-то идет не так.
– Ну, если вопросов больше нет, – я улыбнулся, ставя крест на планах, и оттого улыбка вышла невеселой, – тогда увидимся после операции.
– Спасибо, доктор, – ответила миссис Джонс. Я обернулся, чтобы уйти, и бегло взглянул на медсестру. Та медленно растирала руку больной спиртом, готовясь поставить капельницу. На мгновение я едва не велел ей выйти из комнаты – все-таки я был старшим медицинским работником, и мне даже не пришлось бы давать никаких объяснений. Впрочем, такой поступок выходил из ряда вон, и он привлек бы слишком много внимания к тому, что я собирался сделать. Я признал поражение, вышел, отодвинув занавеску, и с камнем на сердце отступил в главное отделение предоперационной.
Меня искушала мысль просто махнуть на все рукой, как я делал уже много раз. Но я решил не сдаваться. Стремясь выиграть время, я медленно побрел к гулкому сердцу предоперационной – на главный пост медсестер. Я оглядывал компьютеры, кипы бумаг, тележки, длинные столы, шкафы с историями болезни, хозинвентарь… Медсестры приходили и уходили. Я чувствовал себя неловко от того, что шатался там бесцельно, но я принял решение: этот день не пройдет просто так. Хоть спрошу миссис Джонс, могу ли за нее помолиться. И одолею свой страх. Каким-то образом, несмотря на все тревоги и преграды, я собирался воплотить это намерение в жизнь.
* * *
Мысль о молитве за больных преследовала меня годами. Я даже не уверен, когда она впервые пришла, но со временем легкая зыбь превратилась в цунами. Я молился и сам – на сложных операциях, шепотом, как и многие другие врачи. Я даже молился тайком за некоторых больных, которым назначали операцию. Но молиться вслух, когда больной рядом, – о, это было нечто иное. На что я мог опереться? Я даже не мог вообразить, как будет выглядеть молитва в медицинской практике. В какой момент мне подводить больных к духовному путешествию? Где это делать? На что это похоже? Как начать? Что сказать? Четкий маршрут никак не хотел выстраиваться. В учебниках о таком не говорилось. Никто из моих знакомых таким не занимался. Для меня это была совершенно неразмеченная территория.
Хирурги, как правило, нерелигиозны – не позволяет характер, а порой и забота о репутации.
За все время обучения и практики я никогда не видел, чтобы врач молился за пациента или призывал Бога, – если, конечно, не считать тихого бормотания: «О господи!», когда на операции вдруг, не пойми откуда, начинала хлестать кровь и ее нельзя было быстро остановить. Хирурги, как правило, нерелигиозны – не позволяет характер, а порой и забота о репутации. И даже если оставить в стороне вопрос об их духовности или ее нехватке, хирурги гордятся собой за то, что ими верховодит наука, а не эти «телячьи нежности». Такое впечатление, словно медицинские школы формируют нас по одним и тем же лекалам, а вместе с лицензией мы, по всем стандартам нашего племени, обретаем еще и новую личность.
Девиз хирургов – «лечи сталью». Бог, религия – в больнице такие разговоры напрягают уже в самом начале, не говоря уже о том, чтобы связывать их с исходами операций. Хирурги не любят мистики. Я чувствовал, что беседы на эти темы с больными показались бы моим коллегам столь же странными, как если бы я перед операцией достал хрустальный шар и предложил больному погадать.
То, что совместная молитва с больными поставила бы меня в опасное положение – это мягко сказано. Меня бы просто выкинули с борта!
* * *
Медицинская школа, резидентура, специализация, практика… за все эти долгие годы я заметил, что многие из моих коллег расценивали верующих как дурачков. Что до меня, я был пленен могуществом хирургии. В сравнении с этой властью вера казалась в лучшем случае причудливой и странной, необходимой лишь тогда, когда иных вариантов просто не оставалось. Когда нам приходилось откладывать операцию и дожидаться священника или раввина, нам было не по себе. А когда религиозные убеждения ограничивали наши варианты – как, например, отказ от переливания крови во имя предписаний веры, – мы видели в этом всего лишь глупый и опасный предрассудок.
В медицинской школе мы мало говорили об «искусстве врачевания». Оно, это искусство, требовало от врача неких творческих проявлений – составить надлежащую историю болезни; задать правильные и проницательные вопросы; проявить дотошное внимание к мелочам, и только потом, благодаря этому, назначить должные исследования и прийти к постановке верного диагноза. Такой метод диагностики, обычно граничивший со сферами духовности и чувств, намного чаще использовали раньше, до появления компьютерных и магнитно-резонансных томограмм. Я всегда относился к этой области «исследований» с сомнением и считал, что духовность и медицина были очень слабо связаны и все можно было объяснить эффектом плацебо: если люди думают, что вера поможет им, улучшение может наступить просто потому, что они в это верят. Здесь действовала та же сила, которая, как я считал, проявлялась во многих видах альтернативной медицины, – сила позитивного мышления.
Когда я начал лечить людей – а не гипотетических больных на семинарах, – то начал замечать, что даже совершенные навыки хирурга не всегда ведут к желаемым исходам. Я верил в хирургию и много лет посвятил тому, чтобы овладеть мастерством и делать самые сложные операции. Безупречные действия – идеальный исход.
Так мне казалось, и я был неправ.
Именно из-за разочарования, вызванного плохими исходами – любыми плохими исходами, – я обратил внимание на то, как связаны наше духовное состояние и здоровье. Я все больше узнавал о Боге и проявлял все больше внимания к собственному духовному миру. Да, я по-прежнему настаивал на том, что в больнице такому не место, – но постепенно изменил свое мнение. Граница двух сфер стерлась; мои основания для их разделения начали рушиться.
Эмпирические данные подтверждают эту связь. Исследования показали: каждый пятый больной (если точно, то 19 %) хочет, чтобы врачи молились вместе с ним на приеме5; 29–48 % больных, попавших в клиники, хотят услышать, как врачи молятся за них6; 40 % пациентов благожелательно относятся к тому, что врачи вместе с ними исследуют духовные вопросы, и только 7 % не верят в силу молитвы7. Статья в одном медицинском журнале утверждает: «Большая часть опубликованных эмпирических данных позволяет предположить, что религиозная приверженность может сыграть благотворную роль в предотвращении психических и физических расстройств, в улучшении способности больных справиться с психическими и физическими заболеваниями и в улучшении восстановления от болезни»8. В другой журнальной статье автор заключает: «Свыше тридцати пяти систематических проверок позволяют сделать вывод, что у подавляющего большинства больных явные выгоды свойственных им религиозных верований и практик перевешивают риски»9.
Вот так. Я мог предложить больным не просто физическую заботу, а гораздо большее – и уже не мог игнорировать этот душевный порыв.
Потом настал поворотный момент. Была суббота. Я сидел в стоматологическом кресле и готовился к замене пломбы. Мой друг-дантист, решивший прийти в клинику в свой выходной только ради моей операции, держал в руке новокаиновый шприц с длинной иглой. Как и большинство хирургов, я ненавижу, когда игла или скальпель направлены на меня. Я не против орудовать ими, но «острия» избегаю всеми силами. Друг почувствовал эти опасения, коснулся моего плеча и вознес краткую молитву: просил Бога дать крепость его рукам. Меня окутали мир и покой, и я расслабился. Игла почти не причинила боли, которой я так боялся, и я пошел домой не просто «починенным», но и вдохновленным.
Обратиться за помощью к высшей силе – значит признать, что ты слаб, некомпетентен и не можешь держать все под контролем.
Это событие придало силы чувству, нараставшему в моей душе. Бог хотел, чтобы я молился с больными перед операцией и передавал им этот покой. Тем не менее я оставался скептиком и противился идее такой молитвы, и пока ехал домой, снова и снова прокручивал в голове резоны того, почему она плоха.
Обратиться за помощью к высшей силе – значит признать, что ты слаб, некомпетентен и не можешь держать все под контролем. Молитву воспримут как признание в неуверенности, в страхе или в отсутствии навыков, необходимых для операции. А вовсе не такое чувство врач хочет передать любому другому, будь то больной, медсестра или коллега. Так я рисковал взволновать больного в критический момент – а что, если он усомнится в моих способностях?
Кроме того, больные могут обидеться. Сколь многие решат, будто я пытаюсь обратить их в веру? Или извожу своей религией? Уместно ли это? Казалось, это нарушает профессионализм, свойственный хорошей медицине. Я не хотел никого обижать – и никаких жалоб тоже не хотел.
А если я помолюсь и все пойдет не так? Не рухнет ли вера больного? Я рос как христианин, но при этом мне ясно показали, сколь велика пропасть между медициной и религией. Доктора – люди науки. Священники и те, кто практикует альтернативную медицину – нет, и потому могут вольно применять случайные и недоказанные методы. Кроме того, их и уважают меньше, ведь требования к ним не столь высоки. И только для них молитва – это «критерий заботы».
И что будет со мной? Я потеряю репутацию. Коллеги ни за что не примут и не будут уважать того, кто введет духовные материи – пресловутые «предрассудки» – в медицинскую практику. Бог мой, да они проявят больше сочувствия к алкоголику, психу или неудавшемуся самоубийце! Молитва, обращенная к Богу, будет них сродни шаманству или заговариванию амулетов. Стоит мне вознести молитву – и довериться чему-либо еще, кроме науки, – и я признаю, что у науки нет ответов на все вопросы, а значит, потеряю свое высокое положение в научном сообществе!
Я хотел, чтобы меня ценили за успехи. Нас так учили: успех хирурга – итог его прикладных знаний и мастерства. Я верил, что умение исцелять – это проницательность, дающая верный диагноз, и безупречная техника. Я прилежно трудился в стремлении обрести этот опыт и применить его. Мысль о том, что одних только знаний и навыков для исцеления не хватало, была вызовом не только моему чувству собственного достоинства, но и самим основам нашей медицины.
Я вводил лишнюю переменную. Хирургические операции – это контроль переменных. Это сведение к минимуму бесчисленных рисков. Чем меньше неизвестных факторов, чем лучше. Молитва внесла бы лишний такой фактор в задачу и без того напряженную и трудную. Она создала бы условия, в которых я не знал бы, что может случиться, и не расстроит ли это пациента или его семью.
Кроме этих причин, меня невероятно смущала и другая. Молитва изменила бы типичные отношения врача и пациента. В них хирург обычно занимает позицию превосходства. Операция – это его спектакль. Больной на ней – просто пассивный участник. Врача воспринимают как того, у кого есть все ответы. А молитва бы нас уравняла. Мне пришлось бы просить на нее разрешения, а это чувство было мне незнакомым. Это они должны были искать моих услуг. А теперь мне придется выпрашивать у них позволения на молитву? Да и захотят ли они? Это хоть прилично? А если я потеряю уважение? Или еще хуже?
По правде, отношения врачей и пациентов строятся не только на иерархии. Их связывает страх. Врачи боятся, что их засудят; пациенты – что операция кончится плохо. Это важнейшая движущая сила отношений, особенно когда предстоящая операция рискованна. А к таким относится каждая операция на мозге. И из-за боязни суда врачи очень тщательно следят за тем, чтобы их гуманность не превратилась в уязвимость. В дальнем уголке их сознания – а то и на самом виду – всегда звучит вопрос: что может пойти не так? Что может обратить эту прекрасную картинку в судебную тяжбу? Больные думают о другом: доктор, кажется, неплохой, но вот хватит ли ему умений? А если что-то пойдет не так? Что будет со мной?
Угроза судебных исков – это одна из немногих вероятностей, которые могут заставить доктора чувствовать себя уязвимым. Это худший вариант для медработника – знак того, что некто прорвался сквозь защитный барьер вашей жизни и несет угрозу вашему спокойствию и карьере. Больной сомневается в ваших умениях, в самой сути вашего идеального «я». Он обвиняет вас в том, что произошло независимо от ваших намерений и, возможно, даже не по вашей вине. Если вы хоть раз пройдете через такое, боль останется надолго, и потом, чтобы защитить себя, вы начинаете беспокоиться только о том, чтобы расставить все точки над «i». Вас уже не особо волнуют ни здоровье больного, ни его благо: вы прежде всего хотите пройти все с лучшим результатом и без иска. Да, больные тоже к этому стремятся. Но многими врачами движет самосохранение: они хотят избежать личной или профессиональной уязвимости перед пациентом.
Легко понять, насколько ранимы больные. Они всей душой хотят услышать хорошие новости, и я чувствую это, как только вхожу в кабинет. Врачи, как правило, пытаются проявить радость и участие. Они обладают потрясающей силой передавать чувства – уверенность или тревогу, покой или волнение… Как часто я хочу улыбнуться и сказать: «Все будет хорошо!» – ведь именно это хотят услышать больные, чтобы хоть немного расслабиться. Но у этой способности есть и другая сторона: хирурги тоже могут подпадать под воздействие пациентов, а страх порой очень сильно влияет на исход операций.
Когда страх больных или семьи чрезмерен, это может отразиться на настроении хирурга. Хирурги не могут признаться в страхе неудачи. Это унижение их профессионализма, и если они его признают, это может повлиять на успешный исход операции. Они могут расценить страх пациента как вызов – мол, а вы правда можете сделать все безупречно? Хирурги вечно стремятся к идеалу, и это неизменно повышает их тревогу во время операции. Этот дополнительный стресс никак не улучшает исход. Да и вообще, когда больной хочет, чтобы с него пылинки сдували, вероятность непредвиденных случаев возрастает. Мне жаль, но это так.
Первое, что приходит на ум, когда операция идет не так: больной может умереть или остаться инвалидом, и ответственность – на хирурге. Как это воспримет его семья? Я знаю, каково это – пытаться остановить внезапное кровотечение и в то же время судорожно соображать, как объяснить семье, что все плохо и что их мать, отец, сын, дочь или друг никогда уже не будут прежними. Это адские муки.
Я занимался одной из самых сложных и высокооплачиваемых работ в мире, но уже понимал, что есть нечто большее.
Молитва переопределила бы привычные для меня отношения врача и пациента. Она бы разрушила мой облик полубога. Она бы сделала меня настолько уязвимым перед больными, как никогда прежде, – конечно, с больным, спящим под наркозом на операции, не сравнить, но мне пришлось бы открыться, показать, какой я человек, отказаться от ореола отчужденности и тайны, сознательно спуститься с пьедестала и признать, что мне не чуждо ничто человеческое. А в медицине, как и в жизни, уязвимость опасна.
И все же, несмотря на все эти опасения, я уже не мог фальшивить. Я должен был сделать молитву частью моих бесед с больными. Я чувствовал, что мне чего-то недостает. Я занимался одной из самых сложных и высокооплачиваемых работ в мире, но уже понимал, что есть нечто большее. До этого времени я делал лишь то, чему меня обучали: продлевал людям жизнь и облегчал боль, беспокойство или неудобства. Что, если бы я сумел улучшить качество их жизни, помог им обрести радость и любовь и проявить доброту? Мог ли я, нейрохирург, помочь им изменить образ жизни, увидеть себя и исправиться, и сделать все так, чтобы никого не обидеть? Или я мог только продлить их дни, но не изменить их путь?
Сквозь все тревоги и сомнения я словно услышал внутренний голос: «Боишься, что тебя не поймут? Могу уверить: тебя не поймут. И Иисуса не поняли. Но все равно ты должен поступить правильно».
Прошло уже семь лет с тех пор, как я пришел в нейрохирургию. Я знал, что молитва за больных – это правильно. И я решил попросить об этом следующего пациента. Независимо ни от чего.
* * *
Не прошло и недели, а возможность уже представилась – миссис Джонс. Я шел в предоперационную с явным намерением вознести молитву. Но эта властная и пугающая медсестра заставила меня отступить, и теперь мне предстояло искать другие подходы.
Мной все еще руководил страх. Может, помолиться за нее тайком? А может, вообще не в этот раз?
Я прислонился к столу у поста медсестер. Было как-то неловко. Я стоял и листал бумаги в планшет-блокноте, как будто те были неимоверно важны. Мимо сновали медсестры и больные с родственниками. Я склонил голову и иногда украдкой посматривал на каталку миссис Джонс, ожидая, что сестра уйдет. В соседних отсеках тоже были медсестры. Да что им там, медом намазано? Прямо процессия какая-то! Я волновался все сильнее, как никогда прежде. Да что такое? Ведь операции – это моя стихия! Почему же меня словно вышвыривает прочь? Я, самый умелый сотрудник в этом здании, боялся войти в предоперационную!
Почему там столько сестер? Это же простая операция! Чего они там застряли?
Я отвернулся и притворился, будто просматриваю историю болезни. Вот так и буду притворяться, пока не кончится этот фарс! Читать там было почти нечего: я писал ее сам на той неделе, и единственное, что там появилось нового – это анализы крови миссис Джонс. Но я прочел все, от корки до корки, включая текст, набранный мелким шрифтом внизу страницы, потом прошел к телефону на стойке и сделал несколько звонков. Проверил голосовую почту. Проверил рабочую. Попытался придумать, кому еще позвонить – хоть старым друзьям, да хоть кому-нибудь, – но никто из них не проснулся бы так рано. Потом я притворился, что звонят уже мне, – но вскоре гудок незанятой линии начал бесить, и трубку пришлось повесить. Медсестры все еще суетились в отсеке: складывали вещи миссис Джонс под койкой и колдовали у компьютера. Может, учат новенькую? А, ладно! Если сейчас ничего не сделать, бригада увезет миссис Джонс в операционную! В предоперационной больные проводят не так долго – где-то часа полтора: главное все равно происходит не здесь, так чего людей томить?
Я был близок к тому, чтобы упустить свой шанс.
Потом вдруг медсестра ушла. Я встал, медленно направился туда, где лежала миссис Джонс, и осмотрел занавешенные соседние отсеки. Если там сестры, молиться не буду. Что, правда никого? Да, миссис Джонс была одна, с ней остались только дочери, и в соседних отсеках были лишь пациенты. Идеально! Я двинулся к ней, ощутив прилив сил.
Но я еще не успел дойти до отсека, как вошли анестезиолог с помощницей. Я улыбнулся им, встал как вкопанный, – и пошел обратно к посту медсестер. Молиться при анестезиологе? Да ни в жизнь! Я прошел к раковине и помыл руки – то ли в третий, то ли в четвертый раз. Да где же тут найти укромный уголок? Может, сестры уже гадают, что я забыл на их вотчине!
Вот же, подумал я. Будто грех какой замышляю.
Время тянулось до боли долго. Анестезиолог с помощницей наконец ушли. Транспортной бригады я пока что не видел. Медсестры ушли в другие отсеки. Это была последняя возможность. Я устремился вперед, слово пытаясь занять территорию прежде остальных. Я мельком взглянул на больных по обе стороны отсека. Досадно, ведь могут услышать! Впрочем, может, и не услышат, у них там телевизоры голосят. Хотя шторы, конечно, такие тонкие…
Миссис Джонс сидела на каталке с внутривенным катетером в руке. Она казалась спокойной – настолько, насколько это вообще возможно перед серьезной операцией. Дочери сидели у кровати, мертвенно бледные в свете потолочных флуоресцентных ламп. Увидев меня, они встали, готовые выслушать любые вести.
И только тогда меня как молнией ударило: я же не знаю, как мне молиться! Да что там молиться! С чего мне хоть разговор начать? И почему я решил, что все будет просто? Не хотел лишний раз напрягаться? Подумал, раз дело касается духовных материй, так зачем тут что-то планировать? А теперь в горло словно натолкали песка, а сердце гнало кровь, как будто мне вогнали кубик адреналина. Благожелательная уверенность, на которую я всегда мог рассчитывать, исчезла без следа. Развеялся ореол превосходства, за которым я прежде прятался, как за щитом. Я только что обрек себя на то, для чего не было стандартов. Я помнил только ту недавнюю молитву друга-дантиста – так ведь тогда был выходной, и рядом с нами вообще никого не было!
И в такой вот легкой панике я стоял на цирковом манеже под названием «предоперационная».
Миссис Джонс встревоженно посмотрела на меня, словно желая сказать: «Что-то насчет операции? Мне волноваться?» Как любой больной, она чутко реагировала на слова и действия врача – и вглядывалась в мое лицо, пытаясь прочесть любые указания на ее состояние. Ее дочери не сводили с меня глаз, ожидая, что я скажу что-то важное, но я не мог собраться с духом. Я словно собирался съехать с магистрали на бездорожье. Куда меня приведет этот путь? Как говорить о таких вещах? А если они решат, что я спятил, и откажутся от операции? Мой взгляд метнулся на стену – там была красная тревожная кнопка. Нажми – и явится сестра. А если одна из дочерей, услышав о молитве, украдкой подойдет к кнопке и нажмет ее, не сводя с меня настороженного взгляда?
В конце концов я уже не выдержал и выпалил:
– Могу я с вами помолиться?
Миссис Джонс выглядела удивленной, как будто со времени нашей последней встречи с ней случилось нечто плохое. Потом она обдумала мои слова, ее черты стали мягче, и она ответила:
– Да, хорошо.
Да, мне было неловко – но словно камень с души упал. Держалась она скованно. Видимо, мои слова ее смутили – и она просто смирилась, решив дать мне то, чего я хотел. Еще мне казалось, что она растерялась. Наверное, такого она совершенно не ожидала, – как если бы пастор, священник или раввин предложил удалить ей родинку. Но у меня не было выбора – я мог только идти вперед с мизерной уверенностью.
Нейрохирурги не против прикосновений. Просто мы предпочитаем, чтобы больных сперва вымыли стерильным раствором, накрыли синей тканью и ввели им анестетик. Потом мы прикасаемся к ним очень острым скальпелем. Впрочем, вспомнив друга-дантиста, я тихонько коснулся плеча миссис Джонс. Дочери подошли ближе и склонили головы. И что теперь? Мой разум был чист, как белая доска в смотровой.
Я заставил себя начать.
– Господи, мы благодарны Тебе за миссис Джонс…
Господи, да как же неуклюже! И как-то мелко! Точно детский утренник в День благодарения… Я же совсем на другое рассчитывал!
Я замолчал – и вдруг подумал не о том, где мы, а о Том, с Кем мы говорим. Меня как будто подтолкнул легкий ветер, и молитва потекла сама собой, словно река по склону холма.
– Господи, Ты знаешь миссис Джонс. С того самого дня, как она появилась на свет, Ты был с ней рядом. Ты знаешь все о ее сосудах, и я верю, Ты поможешь мне их вылечить. Прошу, дай мне ясность мысли и чуткость рук, и пусть эта операция закончится удачно. Во имя Иисуса, аминь.
Я поднял голову, не зная, чего ожидать. Миссис Джонс и ее дочери плакали, их лица озаряли улыбки. Я растерялся. Неужели столь краткая молитва вызвала такой яркий и искренний отклик? Пару мгновений тому назад, когда я прикрыл глаза, со мной рядом находились три откровенных скептика; когда открыл их вновь – всех, кто был со мной рядом, словно охватило пламя сильнейших чувств. Ученый в моей душе был поражен.
Кроме того, я немного волновался. Я не продумал возможные отклики и явно не предвидел слез. Что это значило? Я не имел понятия, как реагировать на такое проявление эмоций, а потому быстро вернулся к отстраненной профессиональной манере и поступил так, как сделал бы на моем месте любой уязвленный врач: спихнул все на медсестру.
Когда я закрыл глаза перед молитвой, рядом со мной стояли скептики, когда открыл – воспламененные сильнейшими чувствами люди.
Я похлопал миссис Джонс по руке и быстро отвернулся. Как раз когда я отдергивал штору, вернулась сестра. Вовремя, подумал я. Она окинула всех быстрым взглядом и дала женщинам упаковку с платочками, а я тем временем улизнул, нажал автоматическую кнопку, открывающую двери, и вышел из предоперационной, думая: «Что это было?» Мое сердце все еще колотилось, но мир и покой, от которых расплакалась миссис Джонс, коснулись и меня. Да, все прошло не слишком гладко, но я это сделал! Мир продолжал вращаться. Пространство и время не сдвинулись. В коридоре я обернулся, но не увидел за спиной никакой инквизиции, готовой скрутить мне руки, растянуть на дыбе и навсегда лишить права на медицинскую практику.
Вместо этого случилось нечто прекрасное. Покой развеял страх; теперь мной двигало нечто иное. Я не мог сказать, что именно, – но это было прекрасное чувство, и я совершенно не знал его прежде.
Операция прошла успешно. Я разобрался с аневризмой и заметил, что на операции меня сопровождала необычайная радость, – обычно я ничего подобного не испытываю. Нет, я, конечно, радовался, когда мы заканчивали трудную работу. Но это техникам, докторам и сестрам позволено отпускать шуточки, даже циничные или скабрезные, судачить о новостях и обмениваться репликами о недавнем матче. Мне же, как только начнется операция, нельзя расслабляться ни на мгновение: в любую минуту все может пойти не так, всегда может случиться инсульт. Но в тот день я словно летал, и мне уже не грозил дамоклов меч вечного страха.
Когда операция завершилась и миссис Джонс проснулась, я прошел в приемную. Там я обычно встречаюсь после операции с родственниками больных – нам никто не мешает, и мы можем поговорить спокойно. Сейчас меня ждали дочери миссис Джонс.
– Все хорошо, – успокоил их я. Они словно сбросили огромную тяжесть, и улыбки озарили их лица, прежде скованные холодом. – Завтра вашу маму уже выпишут.
Я рассказал им о том, что делать в те несколько дней, пока длится восстановительный период, и поинтересовался, нет ли больше вопросов. Они переглянулись, словно молча спрашивая друг друга, и старшая обернулась ко мне.
– Знаете, – сказала она, – ваша молитва очень много значила для мамы. И для нас. Она и правда подарила нам покой.
Теперь настал мой черед улыбнуться.
– Это хорошо, – ответил я.
Я был невероятно рад и счастлив, но хотел скрыть это за маской профессионала.
– Мы вам так благодарны, – она слегка смутилась. Сестра кивнула. – Можно мы вас обнимем?
– Конечно, – согласился я.
Мы обнялись, и я направился в комнату отдыха, а они потянулись в сумочки за платками.
Их признательность придала мне сил. Я понял, что поступил верно. В тот день мне предстояла еще одна операция, я молился вместе с другим больным, и он тоже был мне благодарен. Когда я наконец добрался домой и смог все осмыслить, то понял, что дал своим больным нечто важное и необычное. По сути, я сказал: «Может быть, вы хотите узнать у меня, как пройдет операция, – ведь я владею искусством, я уверен в себе и меня, надеюсь, рекомендуют коллеги. Но откровенно признаюсь: я не Бог. Я мастер своего дела, но вовсе не я властен над исходом. Хотим мы признать это или нет, но сколь бы простым или сложным ни был случай, одного мастерства и знаний недостаточно. Нам нужна помощь Господа, и мне не стыдно попросить Его об этом».
Когда люди переживают духовный опыт, они чувствуют, что Бог с ними рядом. Но и без этого ощущения присутствия молитва избавляет от страха и дарит покой и надежду.
Это требовало смирения и честности – и чувства, которые я испытал, были невероятно прекрасны.
Кроме того, я понял, что в операционной проявилась иная сфера наших чувств: духовный мир. Когда люди переживают духовный опыт, в идеале они чувствуют, что Бог с ними рядом. Но если этого и не произойдет, молитва все равно избавляет от страха и дает место для покоя и надежды в трудные времена.
* * *
С того дня я предлагал молитву перед операцией почти всем, кого ко мне направляли, и она стала благом для многих, пытавшихся справиться с болью и страхом.
Я начал наслаждаться хирургией – еще сильнее, чем прежде. Попытка контролировать исход операций и, следовательно, то, что обо мне думали люди, забирала у меня всю радость от жизни и работы. Я много лет оттачивал навыки – этого требовали мой перфекционизм, мое стремление к совершенству, мой страх неудачи. Адреналин был необходимой и желанной частью моего дела; я жил ради азарта и драмы сложных операций. Мне нравилось верить, что мой собственный разум и мое мастерство спасли кого-то из объятий смерти. Но когда я забирал себе все заслуги, я забирал и всю тяжесть: непрестанный стресс, недостаток сна, необходимость быть безупречным и вечный страх ошибки или иска. И никто не идеален. Разум и мастерство мне даровал Бог – и без Него я бы их не обрел. Когда я воздал Богу должное и доверил Ему свою надежду на исход операций, я вдруг понял, что не могу вспомнить, когда в прошлый раз с такой радостью приступал к каждой из них. Открыто признав, что я не Бог, но работаю для Него и с Ним вместе, я смог сбросить это бремя со своих плеч.
Вскоре после того, как я начал молиться вместе с больными, меня вдруг поразило: мы много раз просили Бога об удачном исходе операции, но ни разу не благодарили за него. И тогда я стал молиться вместе с больными и после операций. Когда они отходили от анестезии, я склонялся и шептал молитву им на ухо: в ней я благодарил Бога за то, что Он ответил на нашу молитву, и просил Его по-прежнему направлять и исцелять нас. Если проблема оставалась, я молился о ее разрешении.
Когда мы с больными встречаемся в первый раз, я обычно задаю два вопроса о «духовной истории»: «В какой религии вас воспитывали?» и «Следуете ли вы ее предписаниям сейчас?» Это позволяет мне представить их духовный мир и помогает никого не обидеть. Я хочу, чтобы больные понимали и чувствовали, что меня волнует их всестороннее благополучие, а не только та проблема, с которой они ко мне обратились. Я хочу, чтобы они наслаждались здоровьем – и телесным, и эмоциональным, и духовным, как бы они его ни рассматривали. И я хочу подвигнуть их на духовное странствие, какой бы ни была их вера, – а не подавлять их своей. Это не мое дело – настаивать на том, чтобы они посвящали духовным вопросам все свое внимание. Пусть просто следуют моим советам – это и так благотворно отразится на здоровье.
Я предлагаю совместную молитву всем, кому предстоит операция, и почти каждому, кто приходит на прием. Почти – потому что молитвенной «формулы» у меня, естественно, нет, и если мне не кажется, что молитва станет благом, то я о ней и не говорю. Кроме того, если я замечаю нерешительность, когда спрашиваю о духовном мире и чувствах, то прежде всего уверяю больных, что вовсе не намерен их стеснять и что все, чего я желаю – это заботиться об их здоровье в целом. А потом я перевожу разговор на другие темы. Настаивать здесь нельзя, это ничего не даст. Мое дело – дать людям шанс совершить благой для них выбор во всех областях, имеющих отношение к здоровью, а они вольны принять мое предложение – или отвергнуть его.
В том, как я провожу операции, не изменилось ничего. Я по-прежнему стараюсь быть лучшим и с радостью иду навстречу сложным случаям, которые требуют высочайшей техники, опыта и мастерства. Но мое отношение к больным изменилось навсегда – и я даже не мог представить, чем это обернется.
Забота о духовном
Как-то днем ко мне заглянула секретарь – озадаченная и немного растерянная.
– К вам там женщина, – сказала она. – У нее не назначено, но говорит, вы оперировали ее год назад.
Это было необычно – люди редко заглядывают на огонек к нейрохирургу. Но я мог уделить ей пару свободных минут.
– Хорошо, пусть зайдет, – разрешил я. Кем была эта странная гостья? И что такого срочного могло заставить ее прийти без договоренности?
Спустя несколько мгновений бывшая пациентка вошла в мой кабинет. Я тут же узнал уверенную в себе женщину и вспомнил ее случай. Ее звали Джоан. Она была изящной, закрашивала седину, явно умела за собой ухаживать и выглядела значительно моложе своих почтенных лет. Весь ее облик словно говорил, как хорошо она умеет владеть своими чувствами. Ко мне она пришла, когда у нее нашли опасную аневризму. Вместо мячика с круглыми боками мы обнаружили пупырчатый мешок с широкой горловиной. Лечить такие образования труднее и рискованней, и нельзя сказать, получится ли провести операцию, не перекрыв главный кровеносный сосуд. Мы долго обсуждали все «за» и «против» – в свете ее возраста и способности перенести операцию и восстановиться. Ей было под восемьдесят, и при проникновении инструментов в сосуды у нее запросто мог случиться инсульт.
Аневризма выглядела паршиво. Она могла прорваться в любое мгновение, и я чувствовал, что лучше с ней разделаться. Но возраст… Я не мог предложить какой-либо явно выгодный вариант. Я мог только привести статистику, а там пусть решает. С ней были родные, они немного подумали и решили: операция. В то время она довольно ясно дала мне понять, что в Бога не верит, но против молитвы не возражает.
Операция прошла хорошо, осмотр не выявил никаких длительных осложнений, и причины для визита у нее не было. И тем не менее сейчас, через год, она снова переступила порог моего кабинета. Я видел, что она слегка смущалась, но прежнее самообладание ей не изменило.
– Я не по записи, – сказала она. – Мне просто нужно было встретиться с вами. Видите, я даже не накрасилась.
Я не мог понять, как расценивать эту настойчивость, поэтому просто поступил как большинство умных докторов: оперся о стол, чуть склонил голову к плечу и приготовился слушать.
– Помните, на нашей последней встрече я задала вам вопрос? Я спросила, почему образованные люди не верят в Бога, а вы ответили, что от высокомерия.
Я кивнул и улыбнулся. Вряд ли я сказал именно так – хотя да, ее вопрос был провокационным. Значит, вот как она истолковала мои слова?
– Не могу выкинуть из головы то, что вы сказали! – раздраженно воскликнула она.
Я не совсем понимал, как отвечать, и решил пойти по безопасной дорожке и получить хоть немного общих сведений.
– У вас все нормально?
– Не очень, – вздохнула она. – Недавно у мужа был инсульт. Теперь у нас проблемы. Он восстанавливается не так, как мы надеялись. Кажется, в жизни началась черная полоса. Мы не знаем, где найти ответы. – Она ненадолго умолкла и смутилась. – Мне нужно хоть с кем-то поговорить о вере.
Занятно. Я не видел ее целый год и не ожидал увидеть снова, да еще и без косметики. Но в час беды она доверилась мне – своему нейрохирургу.
– А вы сами во что верите? – спросил я, позволив ей открыто говорить о своих тревогах.
– Явно не в Библию, – сразу ответила она. – Не понимаю, как смогу поверить в Иисуса. Столько людей, и умных, думают, что это всего лишь миф…
Понимая, что разговор затянется не на пять минут, я понял, что придется его отложить, – меня уже ждал больной, пришедший по записи.
– Джоан, я должен принять другого пациента, – сказал я. – Это займет примерно полчаса, потом у меня перерыв на обед. А вы тем временем возьмите бумагу, сядьте в приемной и напишите все причины, по которым не верите в Бога. Пишите все, что стоит между вами и Богом: имена людей, причинивших вам боль; имена тех, кто, по-вашему, должен был представлять Бога и не справился; все ваши молитвы без ответа; весь ваш болезненный опыт; все, в чем вы себя вините…
Мне вдруг пришла интересная мысль. А может, она не верит, поскольку слишком высоко ценит мнение образованных людей, для которых вера – это сказочка для дурачков? Я знал: такие люди в ее семье были.
– И попрошу вас еще об одном, – добавил я. – Спросите себя: если бы история Христа была правдой, хотели бы вы в нее поверить? Возможно, вы найдете множество причин, по которым не верили бы, даже окажись она истинной. Может, вы не хотите казаться «дурочкой». Может, не хотите терять уважение близких. Может, вы против религиозных или политических стереотипов. А может, думаете, будто вера в то, что Бог сошел на землю, – это как расписка в слабоумии. Что, если вам не так важно, правда это или нет? Что, если вы просто не хотите верить?
Джоан удивленно посмотрела на меня, как будто этот вопрос никогда не приходил ей в голову. Казалось, я включил свет в одной из комнат ее дома – в той, где она никогда не была. Я также ощутил ее страх – она боялась, что если придет к вере, то окажется единственной верующей в своем браке, в своей семье, в своем кругу общения. Она разумно рассчитала затраты, и те показались непомерными.
Она взяла листки и вышла. Интересно, подумал я, увидимся ли мы снова?
Когда я закончил консультацию и вышел в приемную, Джоан уже исписала весь листок и подала его мне. Вверху страницы немного пафосно значилось: «Мой перечень». Мы вернулись в кабинет, и я начал читать. Первыми в списке препятствий стояли родители, особенно суровая с самого детства мать. Потом – лицемерие в церкви, где все, кто дома вел себя гадко и мерзко, в том числе и ее родители, надевали благостные маски. В четырнадцать она решила, что родители «не так» представляют Бога, начала духовные искания, сменила несколько церквей, а чуть позже встретила мальчика, равнодушного к церкви, и прекратила поиск. Она чувствовала, что зря потратила столько сил. Да и мальчик казался лучшим вариантом.
Вскоре он стал ее мужем. Уже в пятнадцать они вступили в близкую связь. Она оправдывала себя тем, что восстает против родителей и их лицемерной морали, ведь никакого Бога она так и не нашла. Но все равно в глубине души она чувствовала стыд и вину, что еще сильнее отдалило ее от Бога. Это было шестьдесят пять лет тому назад. Больше она никогда не искала Бога – до этого времени.
Еще в списке значился по меньшей мере один любовный роман, с ее семейным доктором, который сказал ей, что секс поможет справиться с депрессией. Сперва это работало – пока доктор не застрелился.
Моим словам о чувстве вины она противилась неистово. Как хирург, я знал: при сопротивлении давить нельзя.
По какой-то причине я почувствовал, что могу говорить с Джоан открыто. В конце концов, она пришла ко мне не как к врачу, а как к духовному советнику.
– Вы чувствовали себя виноватой? – спросил я.
Она явно вспомнила, с чего началась ее жизнь без Бога, и быстро ответила:
– Да, и это было ужасно. Стоило мне встретить мать на кухне, и я чувствовала себя настолько виноватой, что хотелось умереть.
– Часто мы чувствуем вину, потому что виновны, – сказал я, не зная, как она отреагирует. Возможно, она в бешенстве покинула бы мой кабинет. – Виновны в том, что идем против истины, даже когда знаем ее. И в том, что оправдываем себя – ведь так все говорят, и все так делают, так неужто мы хуже? Это Бог и называет грехом. Но есть и хорошие новости: вину и грех можно исцелить. Нужно только признать вину и попросить прощения.
– Нет, – она резко мотнула головой. – Я так на грех не смотрю.
Она противилась неистово. Как хирург, я знал: при сопротивлении давить нельзя. Нужно понять, с каким препятствием вы столкнулись. При операции на мозге лишнее давление способно разорвать кровеносный сосуд и убить больного. И я верю, что в делах духовных все точно так же: если вам противятся, то давление принесет больше вреда, чем пользы.
Я припомнил весь наш разговор. Странно: как же она хотела держать все под контролем! Многие позавидовали бы ей, если бы встретили на публике или в рабочей обстановке. Прекрасные манеры, спокойная уверенность… Никто и не представлял, какие бури бушуют у нее в душе.
– Думаю, вы здесь еще по одной причине, – ответил я после недолгого молчания. – До этого времени вы контролировали свою жизнь. Мир вертелся вокруг вас, и вы не пускали к себе Бога, ведь с вашим здоровьем все было прекрасно и у вас был крепкий хороший брак. Даже вашу аневризму мы вылечили без проблем. Все работало на вас. Но теперь фасад рушится. Ваш муж стал инвалидом, и вы спрашиваете, есть ли в жизни нечто большее. Думаю, вы пришли ко мне, потому что спрашивали себя, когда в последний раз встречали человека, который хоть на что-то надеется.
Она молча согласилась и спустя пару мгновений сказала:
– Знаю, моя жизнь была не идеальна.
Я много раз слышал эту фразу. По сути, грех – это просто промах или несовершенство. Но люди предпочитают думать о нем как о досадной ошибке – и не вспоминать, что выбрали его сами. Часто они не могут стерпеть слова «грех», ведь оно подразумевает, что некто судит их действия. Вместо этого они используют мягкие, более приятные замены. Джоан не была исключением.
– Чтобы избавиться от чувства вины, я прошу вас забыть обо всем, во что вы верили раньше, – продолжил я. – Вы перестали искать Бога. Вы не хотите, чтобы Он был.
Казалось, я рассказывал историю ее жизни, и она не перебивала.
– И что мне делать? – наконец спросила она.
– Я бы хотел помочь вам с вашим грехом, но не могу, потому что у меня есть мои собственные, – откровенно ответил я. – Вам нужен кто-то безгрешный, кто-то, кто прожил идеальную жизнь. Только Он сможет искупить ваш грех, потому что не имеет своих. Именно для этого Иисус пришел на землю, безгрешно прожил и умер, – чтобы избавить вас от любых грехов и вины, стоящих на вашем пути к Богу. Он желает снять ваш грех и освободить вас от стыда. Вина появляется сама собой, когда мы грешим, и вы можете попытаться искупить грех сами, через стыд, или позволить Иисусу искупить его – и обрести Его прощение. Верю, Он действительно хочет вас простить, но для этого вы должны признать, что виноваты.
Она на мгновение задумалась, сомневаясь, но потом, видимо, решила не уходить, не совершив попытки. В конце концов, ко мне ее привело именно отчаяние.
– Я должна это сделать?
– Нет, вовсе нет, – ответил я. – Но я не знаю, как еще избавиться от чувства вины. Я могу найти оправдания для вашего поступка и немного вас утешить, но я не в силах даровать вам прощение. Вы столько лет оправдывали свои дела, уверяли себя в том, что Бога нет и что вы невиновны. Но вот вы здесь – и вас, как и прежде, мучит чувство вины.
– А что насчет других религий?
– Пожалуйста, изучайте, – я не хотел толкать ее насильно. – Сколько угодно. Думаю, вам нужно ответить на вопросы: «Как мне получить прощение?» и «Как мне понять, что я прощена?»
– Хорошо. Я с вами, – мягко сказала она.
– Вы хотите, чтобы Иисус искупил ваш грех?
– Да, – ответила она.
– Может, вам нужно время?
– Нет, – она едва заметно качнула головой.
– Помочь вам обратиться к Богу?
– Да.
Я начал молиться от ее имени. Джоан, глубоко задумавшись, смотрела в окно.
– Господи, Ты знаешь все о Джоан, – молился я. – И плохое, и хорошее. Только Ты в силах забрать нашу вину и простить нас. Джоан хотела бы попросить Тебя об этом. Джоан, подумайте, о чем я говорю, и если вы согласны, скажите: «Господи, я согрешила».
Спустя мгновение она сказала:
– Господи, я согрешила. Я знала, что поступаю плохо, но все равно я это сделала.
Она ненадолго замолчала – и продолжила уже более уверенно:
– Я знала, что так нельзя, но я пошла на грех. Прости, что противилась Тебе.
Мы пошли дальше – я предлагал идеи, Джоан выражала их своими словами, а завершила так:
– Иисус, спасибо Тебе, что искупил мои грехи и спас меня от вины. Спасибо, что простил меня, как обещал. Аминь.
Она по-прежнему смотрела в окно и выглядела точно так же, как прежде. Никаких чувств она не показывала. Не было даже намека на слезы. Она оставалась жесткой, строгой, невозмутимой. И все же я восхищался этой умной женщиной, некогда оставившей Бога ради юноши, равнодушного к Нему. Теперь она снова искала Бога – и была готова дать вере еще один шанс.
– Мне легче, – наконец сказала она. – У меня внутри словно облако.
Она замерла, переживая эйфорию покоя – и как будто пыталась понять ее и наслаждалась ею.
– Это часть той радости, которую чувствует Бог теперь, когда вы снова можете общаться, – с улыбкой сказал я. – Бог не хочет говорить о грехе и иметь с ним дело. Он должен устранить грех, избавить вас от вины и уверить, что больше ничего не мешает вашим отношениям. И Он хочет услышать о том, что важно для вас. Именно в этом и состоит молитва.
– И с чего мне начать?
– С благодарности. Это помогает настроиться и не думать о плохом. Просто скажите Ему, за что вы благодарны.
– Хорошо, – она устроилась в кресле чуть удобней. – Господи… спасибо за то, что большую часть жизни я была здорова. И за то, что мою аневризму вылечили.
– Прекрасное начало, – поддержал я. – Мы слишком многое принимаем как должное. А еще? Если мне ничего не приходит на ум, я тут же вспоминаю, что наделен зрением. А вот слепые, например, видеть не могут.
– Да, конечно! – сказала она. – Господи, благодарю Тебя за то, что я вижу, слышу и могу ходить!
– И не забудьте о рассудке, – добавил я. – Мало кому удается сохранить острый ум в вашем возрасте.
Она продолжала благодарить несколько минут и обретала все большую радость, когда понимала, сколько всего принимала как должное.
– Моя внучка, мой свет в окошке – спасибо за нее…
– Знаете, – сказал я, – Бог думает о вас так же, как вы о внучке. Он вас обожает.
– Правда? Никогда не думала.
– И ему хотелось бы услышать обо всем, что вас заботит, – напомнил я. – Например, о болезни вашего мужа.
Она уже сама, без моей помощи, обратилась к Богу и долго рассказывала о том, как волнуется за супруга. Наконец я сказал:
– Любые хорошие отношения подразумевают не только разговор, но и умение слушать. Думаю, вы уже знаете, как прислушиваться к Богу.
– Разве? – привстала она.
– А с чего бы еще вы примчались к нейрохирургу поговорить о вере? – улыбнулся я. – Не по записи и без косметики? Как думаете, кто подал вам эту идею?
Джоан выгнула брови от удивления. И правда, это было на нее не похоже.
Я чувствовал глубочайшую благодарность. Я стал свидетелем чего-то бесценного, и мой день совершил неожиданный и чудесный поворот. Джоан подошла ко мне и обняла – слегка официально. Я проводил ее до двери. Ее чувства трудно было прочесть, но я видел: она отличалась от себя прежней – той, что ворвалась в мой кабинет чуть раньше. Рядом с ней словно веял ветерок. Ее лицо просветлело. Мне нечасто удается стать свидетелем того, к чему приводят мои беседы, но только что я видел, как женщина двинулась навстречу тому Единственному, кто из своей великой любви мог простить любой грех и избавить ее от тяжести вины и стыда. Это был лучший обеденный перерыв в моей жизни. Ведь что могло быть лучше, чем помочь другому поговорить с Богом? Такая беседа способна исцелить нас и совершить то, на что не способен ни один врач.
Да, и я тоже10.
* * *
Когда я начал молиться вместе с больными, то вскоре понял, что не увижу, как изменится их жизнь, – наши беседы длились очень недолго. Да и разве я мог следить за ними? Даже по медицинским резонам – и то вряд ли. Мне редко доводится видеть всю панораму их странствий по дорогам веры. Я причастен лишь к короткой встрече, к снимку в альбоме жизни, сделанному во время чрезвычайных обстоятельств. Я мог лишь дать им некое подобие покоя – в дни страха и боли – и отдать все силы на то, чтобы успешно провести операцию; дальше они уходили своими дорогами. Вряд ли кто-то посмел бы винить их за желание держаться вдалеке от больниц – после всего, через что они прошли. Если наши беседы и повлияли на них, узнать об этом я не мог – разве что иногда, спустя несколько месяцев после операции, они присылали мне письмо или открытку. Многие благодарили; их было достаточно, чтобы я продолжал идти той же дорогой, – но я думал, что не так уж и сильно менял их повседневную жизнь. Я утешался тем, что дал им все возможное и их жизнь стала чуть лучше – даже если кому-то мог показаться странным возносивший молитвы врач.
Время от времени больные приходили в госпиталь и делились своими историями. Глория, милая женщина, разменявшая шестой десяток, однажды заглянула ко мне – спросить о снимке, который она сделала в ходе врачебного наблюдения после выписки. В последний раз мы виделись полгода назад – у нее в затылочной области нашли доброкачественный пучок чуждых сосудов, а также несколько небольших аневризм. Снимок показал, что аневризмы остались без изменений, и мы решили не проводить операцию.
– Помните подругу, с которой я приходила в прошлый раз? – спросила Глория, когда мы обсудили снимок.
– Вроде, но не очень, – признал я.
– Ее звали Гейл. Не помните? Вы еще за нас молились.
– Да, видимо, – согласился я, так ничего особо и не вспомнив.
– Так вот, вы за нас помолились, мы потом вышли из вашего кабинета, прошли в коридор и просто обнимали друг друга и плакали. Мы не могли понять, почему плачем. Это было так необычно! Мы просто хотели плакать от счастья.
Это меня заинтересовало. Я и не представлял, что таким может быть отклик на простую молитву о здоровье.
– Примерно через неделю, – продолжила Глория, – она сказала мне, что снова хочет принять Бога, и попросила моей помощи. Я отвела ее в церковь. Гейл хотела поговорить с пастором и исповедаться.
– Чудесно, – удивился я.
– Через несколько недель у нее нашли рак. Месяца не прошло, как она умерла, и я ее схоронила. Это было через три месяца после визита к вам.
Я пораженно молчал.
– Я просто хотела поблагодарить вас, доктор Леви, – сказала она. – За то, что не побоялись завести разговор о молитве. Мир моей подруги стал совершенно другим.
Мне часто приходила мысль о том, что ничего особенного мои молитвы не дают. Но оказалось, я очень многого не видел.
Она порывисто обняла меня, когда мы выходили из кабинета. В тот день мной владело странное чувство: я понял, что даже самые мелкие решения могут оказать огромное влияние на чью-то жизнь, – и на жизнь тех, с кем я беседую, и на жизнь их близких, даже если я этого не замечаю. Мне часто приходила мысль о том, что ничего особенного мои молитвы не дают. Но оказалось, я очень многого не видел.
И вряд ли увижу когда-нибудь.
* * *
Пока что почти все больные, с которыми я молился, были доброжелательны и благодарны. Казалось, их приятно удивляло, что нейрохирург – воплощение безликой и холодной науки – говорит с ними о том, как связаны здоровье, вера и чувства. Они явно не ожидали, что мы вместе будем просить Бога о помощи. И в том, что мы с ними оказывались наравне, проявлялось некое смирение, не свойственное врачам.
Даже когда я просто касался их плеча или держал за руку, это казалось странным, словно я входил в их личное пространство. Среди машин и скальпелей, на пограничной земле между жизнью и смертью они вдруг встречали простое человеческое участие. Мое прикосновение было из таких, какие не вписать в историю болезни. Иными словами – не то случайное касание, каких немало при проверке пульса или при наложении повязки, чисто «клиническое», от которого больной чувствует себя микробом в чашке Петри, – но такое, которое в верный момент соединяло наши жизни и обращалось к душе. Коснуться плеча, соединить руки, не давя, не нарушая границ медицинского этикета, – эти действия уравнивали нас, делали опыт глубоко личным и словно говорили: «Мы все – братья и сестры, мы вместе, и каждый вершит свое дело».
Понимаю: некоторые молятся вместе со мной лишь потому, что вскоре я загляну к ним в голову. Я прекрасно осознаю, насколько уязвимы больные, когда лежат на каталках в больничной одежде, увитые капельницами, и ждут, пока их куда-то увезут и кто-то, проведя трубку сквозь половину их тела, ворвется к ним в мозг. Для больного это не будни. И когда хирург подходит к вам в предоперационной и предлагает за вас помолиться, что вы ответите? «Да, конечно, док». Мне часто так отвечали. Иногда больные смотрели с недоверием, но смирялись и говорили: «Да на здоровье». Впрочем, многих молитва успокаивает – даже тех, кто уверяет, будто не верит в Бога. Люди часто плакали, и я чувствовал, как менялось настроение в комнате, и на месте тревоги воцарялся покой.
В какой-то момент я даже начал полагаться на эту перемену и уже предвидел, как молитва избавит нас от волнений. Мы даже могли забыть, что находимся в загруженной предоперационной или в смотровой. Мы отдавали себя в руки Божии – и я, и больные. Эти переживания стали такой же частью моих будней, как и сами операции. Я наслаждался молитвой наравне с другими делами: она дарила покой и позволяла по-иному взглянуть и на больного, и на его родных, и на себя самого. Лучшее, что мы могли предложить людям для устранения тревог с чисто медицинской точки зрения – это седативные препараты.
Но обратиться к страху на уровне духа и чувств – вместо химии – это казалось совершенно естественным и прекрасным. Более того, все это было настоящим и давало то, чего так не хватало науке – лекарство для души.
Да, я заботился и о своей душе: ведь теперь я открыто признал, кем был и во что верил. Я всегда стремился к идеалу – впрочем, этого и стоит ожидать от нейрохирурга, – и мне была прекрасно знакома темная сторона этого чувства. Я остался нейрохирургом, я все так же хотел совершенства, – но я обрел свободу и счастье. Я чувствовал, что стал сильнее и могу совладать с самыми неожиданными проблемами, все время возникающими в ходе операций. Я явно стал лучше находить общий язык с разгневанными родственниками больных. Мне даже казалось, что духовная забота, которую я оказывал, сделала меня лучшим врачом, чем я был.
Иногда мой новый путь словно поощрял меня, хотя сперва все казалось далеко не радужным. Вспоминаю одну старушку, Розу. У нее была аневризма и постоянные головные боли. Аневризму я вылечил, а вот боли продолжались. Так бывает, и довольно часто – просто аневризма ни при чем. Да, временами голова болит именно из-за нее, но далеко не всегда. У большинства людей, страдающих от головной боли, никаких аневризм нет. Я встречался с Розой несколько раз, и мы все время делали снимки: проверить, что лечение помогло. Она была уверена, что боли прекратятся, если операция пройдет успешно, – а значит, раз голова болит, то все прошло не так.
Я пытался объяснить, что это неверный подход, что с аневризмой мы расправились и я уже ничего не могу для нее сделать.
– Ну а с чего тогда голова болит? – все твердила она.
В конце концов, отчасти от раздражения, я предложил помолиться ради того, чтобы головные боли ее оставили, – как молился за нее до и после операции. Роза согласилась. Я накрыл ее лоб ладонью и попросил Бога убрать боль. Молитва была очень краткой, и когда я умолк, она сказала: «Спасибо, доктор, мне лучше», – и вышла из кабинета.
Мы встретились спустя полгода. Я этого совершенно не ожидал и был удивлен, когда увидел ее имя в своем расписании.
– Зачем вы назначили ей консультацию? – спросил я у секретаря. – Мне нечего ей сказать.
– Она очень настаивала, – ответила та.
Помню, я вздохнул. Мне и так нужно было как-то распределить и без того забитый график, чтобы внести другого пациента. Но Роза уже сидела в моей смотровой.
У порога я нацепил улыбку и решил: была не была. Проявлю уважение – бог с ним, с графиком, и пусть даже консультация будет напрасной потерей времени. Роза приветствовала меня широкой улыбкой.
– Чем могу помочь? – спросил я, усевшись в кресло. Я тоже любезно улыбался – как будто располагал всем временем мира.
– У меня болит голова, – сказала она.
Я скрежетнул зубами. Так, надо быть добрее.
– Я же говорил, медицина в вашем случае бессильна. Мы вместе смотрели ангиограммы. Ваша аневризма вылечена, причина боли не в ней. Больше я ничего не могу сделать, – я развел руками и, словно в утешение, добавил: – Но если хотите, я буду рад за вас помолиться.
Она посмотрела на меня, как будто это я чего-то не понимал.
– Так я за тем и пришла, доктор, – сказала она. – Мне не нужны ни операция, ни таблетки. Вы тогда помолились, и все прошло. А месяц назад голова опять разболелась, и вот я здесь.
Она улыбнулась и устроилась поудобнее, готовая принять благословение. Испытывая муки совести – и некую странную легкость, – я подошел к ней, положил ладонь на лоб и попросил Бога, чтобы ее боли ушли. Услышав «аминь», она улыбнулась и сказала: «Спасибо», словно говоря: «И что, я много просила?» Она получила именно то, что искала. Прощаясь, ее близкие сверкали улыбками, жали мне руку и осыпали благодарностями. Больше я никогда ее не видел.
Слезы на наших беседах и после них стали обычным явлением, и я быстро научился из-за них не тревожиться. Я даже стал расценивать их как хороший знак, как искренний отклик на страх или заботу. Люди чувствовали, что в моем кабинете проявлять чувства безопаснее, нежели дома или при друзьях. Я уже привык к слезам и просто раздавал платочки. Много раз люди выходили из моего кабинета, забирая их с собой и промокая глаза после приема и молитвы.
Я понял, насколько привык к ним, когда встретился с Дарлой, стройной блондинкой. Ей было где-то под пятьдесят. У нее нашли аневризму на сонной артерии, в области шеи, и то была наша первая встреча.
Я протянул руку и представился.
– Вы же не будете доводить меня до слез, правда? – тут же спросила она.
Я ничего не ответил, но был сбит с толку. Никто и никогда не задавал мне такого вопроса. Моя растерянность, должно быть, отразилась на лице.
– Я тушь не нанесла, – объяснила она, – а мне на работу потом.
Я был настолько ошарашен, что даже не спросил, почему она решила, будто я заставлю ее плакать, – но уверил ее, что не сделаю этого. Мы обсудили ее случай, и только позже, размышляя об этом, я подумал: наверное, она видела, как другие выходят в приемную в слезах, и боялась того же.
Но хотя хорошие отклики – обычное дело, далеко не все хотят слышать, как врач обращается к Богу или поминает Его. Бывает, люди злятся, противятся, а порой проявляют явную враждебность. И тому, как иметь с ними дело и при этом проявлять к ним столько же душевности, приходилось учиться.
Скептики
Да, большая часть моих пациентов относится к духовной заботе с одобрением. Но некоторые не хотят иметь с ней ничего общего.
Вот, например, Диана. Бизнес-леди сорока трех лет. Букет заболеваний. Помимо нарушений в мозге – диабет, проблемы с почками, проблемы с кожей, депрессия и ряд иных осложнений. Для нормального самочувствия ей требовались целая когорта докторов и масса процедур. На нашей встрече она упомянула, что в прошлом люди плохо с ней обращались. Было ясно, что она считала себя жертвой, и было легко ее пожалеть. Я рекомендовал ей записаться на прием к профессиональному консультанту и в конце встречи предложил помолиться вместе с ней. Она согласилась.
В следующий раз я увидел ее через год – на контрольном осмотре. Аневризма, как и прежде, осталась маленькой. Диана рассказала, что все-таки пошла на консультирование, стала намного сильнее и прекратила принимать антидепрессанты. Я порадовался за нее и перед тем, как встреча завершилась, сказал: – Буду рад за вас помолиться.
– Нет, – резко ответила она. Ее голос внезапно похолодел. – Я учусь разбираться в том, чего хочу и чего не хочу. И мне не нужна молитва.
– Хорошо, – не стал спорить я. – Ценю, что вы так открыто говорите о своих желаниях.
Я проводил ее в приемную, коснулся ее плеча и улыбнулся.
– Вы прошли долгий путь, – сказал я на прощание.
– Спасибо, – она улыбнулась в ответ. Новая уверенность окрыляла ее, и я ничуть не обиделся.
Если болезней нет, тогда люди молитву в штыки и встречают. А те, у кого проблемы с мозгом, почти всегда воспринимают ее доброжелательно.
Или еще одна семейная пара. Приверженцы какого-то из течений «Нью-Эйдж»: я так и не понял, во что они верили. Жена наотрез отказалась от молитвы. Муж все время молчал и грустно смотрел в пол. Интересно, что болел именно он. Уже который раз я замечал: если болезней нет, тогда люди молитву в штыки и встречают. А больные почти всегда относятся к ней доброжелательно – или по крайней мере смиренно.
Был еще один эпизод, один из самых печальных. Семья ярых атеистов. Салли, старушка-мать, никогда в жизни не верила в Бога и внушила детям, что Бог – это сказка для дурачков. Теперь она страдала от дегенеративного заболевания мозга и ей не могли помочь ни лекарства, ни хирургия. Она слабела и явно доживала последние дни. Когда беседа подошла к концу, я предложил помолиться за нее. Сын и дочь едва ли не ворвались между нами.
– Нет, нет, мы в это не верим! – выкрикнул мужчина.
Они закрыли мать, словно верная стража. Но я видел ее страдания. Салли не отказалась. Ее взгляд был полон немой мольбы, и на меня нахлынула огромная печаль.
– Я спрашиваю ее, – спокойно сказал я, пытаясь избежать столкновений. Мы все посмотрели на Салли. Она молчала.
– Она в это не верит, – повторил сын. Он словно вбивал в нее эти слова.
– Она не верит, – эхом присоединилась к беседе дочь, отстраняя меня.
Салли просто молчала. Она ни на что не решалась, казалась невыносимо печальной и явно желала обрести надежду, которую почувствовала в моем предложении. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. На мгновение я подумал, не попросить ли детей Салли выйти, – но это стало бы слишком грубым.
Наконец стало слишком поздно что-либо делать или говорить.
– Хорошо, прошу к администратору, – сказал я. Старушка так ничего и не сказала. Дети помогли ей встать и собрать вещи. Я проводил их в молчании, но мое сердце словно сковал лед. Она убедила детей в том, что Бога нет. Теперь, когда настали ее последние дни, они пришли вместе с ней: вернуть долг и убедиться, что она не предаст семейную веру, гласившую, что ей не поможет ничто, кроме нашей науки.
* * *
Однажды именно после молитвы больной осознал, насколько серьезная ему предстоит операция, – даже несмотря на то, что молился я вовсе не с этой целью.
Дэниел, англичанин, разменявший шестой десяток, носил густые усы с завитыми кисточками и был весельчак и балагур: что ни реплика, то шутка. Казалось, он не воспринимал серьезно ни свою болезнь, ни свое лечение, ни саму свою жизнь. Кроме того, он был заядлый курильщик. На каждой нашей встрече с ним была Нелли, его жена. В браке они были давно, и казалось, они очень близки и глубоко любят друг друга.
У Дэниела была аневризма на конце базилярной артерии – одна из самых сложных. Она напоминала колокольчик с широкой шейкой. Базилярная артерия проходит перед стволом мозга и расходится буквой «Т». Аневризма на ее верхушке формируется, когда стенка сосуда слаба, – тогда кровь, доходя до верхнего перекрестка этой «Т», не просто расходится в стороны, а еще и продавливает верхнюю стенку, и на той вырастает пузырь.
Чтобы расправиться с аневризмой, проникнув к мозгу по сосудам, мы заполняем ее мягкими платиновыми катушками, – словно яму асфальтом. Катушки закупоривают ее и не дают расти. Они вводятся прямо в катетер и потом, когда войдут в сосуд, принимают форму сферы. Размеры этих хитроумных маленьких приспособлений варьируются от полутора миллиметров до дюйма. Аневризму-шар, с тонкой шейкой и широкой нижней частью, закупорить ими проще простого: шейка может удержать катушки внутри. А вот если у вас аневризма-колокол с широкой шейкой, катушки рискуют вывалиться, закупорить сосуд и прервать приток крови к мозгу.
Вот такая и была у Дэниела. И что тут применить? Стент? Да, наверное. И не только. Прежде чем вводить катушки, я должен воссоздать стенку сосуда. Значит, нужны еще инструменты. Но чем их больше, тем выше риск!
Я объяснил все это супругам. Дэниел просто отмахнулся. Ну ладно. Кто знает, может, он так со страхом справляется. Форма согласия на операцию повторяла все мои слова и ясно описывала все возможные исходы, включая смерть. Это была очень рискованная операция. Вероятность инсульта, паралича или даже гибели намного превышала обычную. Дэниел подписал форму не глядя и, казалось, выкинул из головы все мысли о риске.
Пока он лежал на каталке и ждал операции, я, как обычно, спросил, могу ли за него помолиться. Его неизменная улыбка вдруг исчезла, а Нелли с тревогой взглянула на меня. Казалось, они спрашивали себя: «Мы не ослышались? Мы в больнице? Нейрохирург спросил нас о молитве?»
– Хорошо, – ответил Дэниел, когда пауза стала неловкой. Я произнес краткую молитву. Когда я открыл глаза, то мог с уверенностью сказать: супруги, как и многие другие до них, глаз не закрывали. Дэниел выглядел как затравленный заяц. Его настроение полностью изменилось: он побледнел и затих. Даже неизменные прибаутки, и те не звучали. С чего бы?
– Нелли, встретимся в приемной после операции, – сказал я.
Операция оказалась невероятно сложной. Аневризма, как и ожидалось, находилась в мозге, на «Т»-образном перекрестке, там, где сосуд расходится в противоположные стороны. Такие там обычно и бывают – только вот тут все было «необычно».
Даже довести катетер до «Т»-образного перекрестка было трудно. Годы курения просто изничтожили сосуды. Позвоночная артерия, по которой я пытался пройти к мозгу, завивалась петлей и сужалась внутри. Сосуды ослабли. А еще в них была груда бляшек. Одно только продвижение по ним заняло два часа.
Даже у здорового человека с широким просветом артерий и вен пройти в больную область мозга сложнее, нежели, скажем, в сердце или в другие органы. Просто там, где артерии входят в головной мозг, приходится обходить резкие углы. Сонная или позвоночная артерии, берущие начало в груди, проходят сквозь шею и переходят в сосуды мозга, образуя множество изгибов толщиной с волосок. Сосуды извиваются, выпрямить их не позволяют кости, а потому те инструменты, что применяются в хирургии сердца, для нас, нейрохирургов, бесполезны. Наши стенты, проволоки и катетеры намного мягче и гибче. Двигаться по нашим территориям нужно осторожно и деликатно, и это очень сложно, независимо от того, насколько здоров пациент. А с Дэниелом было намного сложнее.
В позвоночную артерию, забитую бляшками, я не мог даже ввести катетер. Ее просвет был намного меньше нормального. Изнутри ее усеивали твердые мелкие шишечки. Стенки напоминали гравийную дорогу. Плохо. Очень плохо. Без катетера мы как слепые. Обычно через него я ввожу контраст прямо в артерию, и операционная бригада может делать рентген, – снимки потом проматываются как фильм, и мы понимаем, где аневризма и где инструменты. Теперь, когда подвести катетер ко входу в позвоночную артерию не получалось – она проходила в нескольких сантиметрах от сердца, – контраст пришлось разбавлять, и на добротные снимки надеяться не приходилось. И если бы только это! Так еще и сосуды сдвинулись! Правильно, так и бывает, если в них все время что-то пихать! Аневризма уже находилась в ином месте, и новый снимок был жизненно важен. А особо бесило то, что я не мог довести контраст до нужного места.
У нас две позвоночные артерии. По ним кровь поступает в верхний отдел позвоночника и в ствол мозга. Теперь, когда одну перекрывал катетер, эстафету приняла другая, но она была очень маленькой. Сколько она продержится? Сколько у меня минут? Я не знал. Я понимал только одно: чем скорее мы вытащим катетер, тем скорее к стволу мозга поступит полный приток обогащенной кислородом крови. Операция тянулась гораздо дольше, чем мы предполагали. Я думал продвинуться быстро, но больные сосуды на каждом шагу вызывали задержки.
А теперь и наша «дорожная карта» вдруг резко устарела. Я шел по артериям вслепую – на чувствах, опыте и воображении, позволявшем «видеть» форму сосуда. Я хотел воссоздать шейку аневризмы стентами, – тогда бы я сумел закупорить катушками слабую часть сосудистой стенки. Маленькие и очень мягкие катушки заполняют пустоту и преграждают крови путь, словно плотина. Они похожи на спираль и чаще всего сливаются в шарик, вокруг которого в конце концов затвердевает костная ткань. Так врачи и латают слабые сосуды.
Как правило, перед тем, как ставить стент, нужно проверить, где находится аневризма. Но мы не могли: у нас не было приличного снимка. А если я поставлю стент неверно, есть риск, что катушки выскользнут из аневризмы, заблокируют сам сосуд, и все – обширный инсульт.
Я поставил стент поперек шейки аневризмы, ввел несколько катушек – мне казалось, этого хватит – и стал ждать. Жизненные показатели Дэниела оставались в норме. Мы провели финальную ангиограмму, чтобы увидеть, заделана ли аневризма и все ли сосуды в голове наполнены кровью. Позвоночная артерия в области шеи выглядела слегка шероховатой, как будто операция чуть повредила стенки. Обычно такой ущерб устраняют препараты, разжижающие кровь. Дэниел их и так принимал. Впрочем, его сосуды изначально были столь плохи и так много выдержали за время операции, что ущерб в таких обстоятельствах казался совершенно нормальным. Ангиограмма показала, что все заметные сосуды мозга снабжаются хорошо. Больше мы уже ничего не могли сделать. Я вывел проволоку и катетер и клипировал прокол в бедренной артерии.
Мы все тяжело вздохнули. Операция наконец-то завершилась. Но все закончится лишь тогда, когда больной проснется и мы убедимся, что он может говорить и шевелить пальцами рук и ног. Только тогда мы понимаем, как все прошло, и если все хорошо, можем расслабиться. Мы еще очень многого не знаем о мозге. Даже если ангиограмма и снимки выглядят хорошо, это еще не гарантирует того, что больной очнется без неврологических нарушений. И пока этого не случится, мы цепенеем.
Я отошел выпить воды, потом стал просматривать ангиограммы и заполнять историю, все время ожидая, когда Дэниел очнется от анестезии. Чаще всего больные приходят в себя минут за пятнадцать.
Толстяки могут пролежать дольше: препараты откладываются в жире и выводятся медленнее. Но это был не тот случай. В какой-то момент анестезиолог сказал, что уже время. Но Дэниел так и не проснулся. Неужели во время операции случилось что-то, о чем я не знал? Инсульт? Нет, слава богу, нет. На томограмме все было в порядке.
Можно вздохнуть спокойно лишь тогда, когда больной проснется и мы убедимся, что он может говорить и шевелить пальцами рук и ног.
Дэниел открыл глаза через полтора часа. Еще чуть позже – больные, как правило, к такому времени уже весело болтают, – он едва мог говорить. Слова были невнятными, руки и ноги с одной стороны не шевелились. Эмболический инсульт? Мы сделали МРТ, и да, инсульт был. Небольшой.
Вот только в стволе мозга.
Есть два вида инсультов. Эмболический, он же ишемический – когда бляшка или тромб, оторвавшись от стенки, застревает в артерии и перекрывает приток крови, лишая клетки мозга жизненно важного кислорода. Геморрагический – кровоизлияние – когда разрывается сосуд или аневризма и кровь проникает в мозг. Мы пытались предотвратить второй, закупорив аневризму Дэниела. А случился первый.
Ствол мозга играет важнейшую роль по отношению к другим областям. Значение этого маленького участка поистине огромно. В нем, словно воронка, сходятся нервы, принимающие команды и информацию от коры, и проходят дальше, к спинному мозгу. Ствол отвечает за сознание, за непроизвольные и критически важные функции вроде дыхания и еще много за что. Люди могут жить без лобных долей – но не без ствола мозга. Маленький инсульт, который может пройти незамеченным в переднем мозге, при поражении ствола способен вызвать гемипарез – паралич половины тела, – а то и что похуже.
Я был почти уверен: холестериновая бляшка оторвалась от позвоночной артерии Дэниела и застряла в маленькой артерии, питающей ствол мозга. Слишком маленькая, чтобы разглядеть ее на ангиограмме – но достаточно большая, чтобы вызвать инсульт, – бляшка отсекла кровь от этой маленькой части ствола мозга. За несколько часов стало ясно: Дэниел уже не был прежним, и его прогноз стал неопределенным. Ему могло стать хуже. Могло стать лучше. Он мог остаться паралитиком. Мог онеметь до конца дней. Перед операцией ему давали антикоагулянты – и продолжили давать теперь, поскольку они остались единственным лекарством, приемлемым при его инсульте. Я уже ничего не мог для него сделать – ни как врач, ни как нейрохирург.
Когда мы наконец-то смогли предположить, что случилось, я отправился к Нелли и проводил ее из приемной в коридор.
– Мы вылечили аневризму, – сказал я. – Но во время операции Дэниел перенес инсульт. Процедура была очень сложной из-за его больных сосудов. Хотел бы я сказать вам, каким будет исход, но не могу. Пока еще ничего не ясно. Многие из тех, кто перенес инсульт, восстанавливаются, и мы делаем для вашего мужа все что можем.
Нелли кивнула, а потом выжидательно посмотрела на меня.
– Вы знали про его инсульт?
– Простите? – Я решил, что ослышался.
– Вы знали про инсульт? Потому и молились?
Этот вопрос слегка выбил меня из колеи.
– Нет, – ответил я. – Не знал. Я просто всегда молюсь перед операцией, если больные согласны.
– Просто он очень испугался, когда вы молились, – сказала она. – Он не думал, что все так серьезно.
Вот как? Потому он и был так тих и мрачен!
– Это была очень рискованная операция, и я думал, что объяснил это в полной мере, – сказал я. – Но нет, я не знал, что с ним случится удар. Я прошу о молитве каждого, кому предстоит операция.
Казалось, инсульт расстроил Нелли, но она была довольна тем, что изначально я о нем ничего не знал. Я проводил ее в коридор. Дэниел восстанавливался медленно, но со временем к нему вернулись почти все утраченные способности. Через полгода они пришли ко мне на осмотр. Понятия не имею, как повлиял на них пережитый опыт – и повлиял ли вообще. Естественно, я надеюсь, что Дэниел выздоровел не только телом, но что все происшедшее подтолкнуло их обоих к пересмотру их духовных убеждений. Это остается между ними и Богом.
* * *
Часто молитве противятся родственники. Однажды таким оказался дедушка одной гениальной девочки. Тина училась по программе для одаренных детей, играла на саксофоне и преуспела в словесности и истории. Как-то, играя на саксофоне, она вдруг поняла, что не может дышать через правую ноздрю. Противоотечные препараты не помогали, и семья привела ее на осмотр. Сканирование показало большую сосудистую опухоль напротив сонной артерии. Та заняла правую половину лица, и из-за нее у девочки даже опухла щека.
Тину привели родители, Тэмми и Ричард, и дедушка, доктор Уиллард, который, как я вскоре узнал, был семейным врачом на пенсии. Он был связан с Гарвардом и хотел, чтобы девочку отправили на лечение в Бостон, к его знакомым в один из академических госпиталей. Я сказал, что прекрасно справлюсь с операцией, но он, конечно же, волен обратиться и к другим специалистам. При таких рисках уверенность семьи в хирурге, кто бы то ни был, очень важна.
Часто молитве противятся родственники пациентов.
Я рекомендовал эмболизацию – закупорку сосуда особым «клеем», введенным через артерию, с целью блокировать приток крови в опухоли. Она в данном случае была довольно опасна: опухоль снабжалась кровью не только через сонную артерию, но и через несколько других, в том числе и через глазную. При попадании в эти артерии «клей» мог бы вызвать слепоту или инсульт. Кроме того, операция предстояла долгая, – а чем дольше она идет, тем больше радиации получает больной. Вторая операция, которую предстояло проводить блистательной команде наших черепных хирургов, заключалась в том, чтобы сделать надрезы под глазом Тины и со стороны носа, открыть лицевую область и удалить опухоль, которая вторглась в височную долю мозга.
Тэмми и Ричард были уверены во мне и хотели провести операцию в Сан-Диего. Доктор Уиллард настаивал на том, чтобы его внучку лечили на другом побережье, в Бостоне. В этой слегка неловкой ситуации родители Тины решили все же дать добро моему варианту: эмболизация, а спустя несколько дней – открытая хирургия и удаление опухоли. Когда они пришли на встречу перед операцией, доктор Уиллард сидел вместе с семьей. Я видел, что ему не по душе моя идея, и чувствовал, что он только и ждет какого-нибудь прокола, сигнала о недостатке профессионализма. Я снова объяснил им риски. Потом я обернулся к Тине и нарисовал на доске картинку – гору и извилистую тропинку, ведущую к вершине.
– Ты когда-нибудь ходила в горы? – спросил я.
– Нет, – ответила она. – Но в походы ходила. Они были очень долгие.
– Хорошо, – сказал я. – Тогда мы с тобой пойдем в поход. Он включает две разных операции и две разных дозы анестезии. Ты должна будешь восстановиться после первого перехода, а потом, на этой же неделе, снова отправиться в путь. Это опасный поход. Я уверен, что мы дойдем до вершины, но идти придется долго. Понимаешь?
– Да, – кивнула она.
На первой встрече я спросил Тэмми, воспитывали ли они ребенка в вере или религии. «Нет», – ответила она тогда, а Тина быстро добавила: «Но у нас есть рождественская елка!»
Я никогда не хотел никого смущать, но должен был сделать для больных все что мог. Я знал: мастерства мне хватит. Я уже лечил такие опухоли. Но я хотел предложить Тине нечто большее: молитву. Сердце заходилось как бешеное. Мне было бы гораздо легче, не будь здесь доктор из Гарварда, который, наверное, уже думал, что мы с коллегами и так уступаем его друзьям с Северо-Востока.
– Я всегда молюсь вместе с теми, кому предстоит операция, – смело сказал я. – Позволите мне помолиться за Тину?
Родители удивленно переглянулись. Тэмми кивнула и опустила глаза.
– Я подожду за дверью, – доктор Уиллард резко поднялся, стиснул дверную ручку и вышел. Он явно не хотел принимать в молитве никакого участия. К горлу подкатил ком, – но я должен был сделать все так, как было лучше для девочки. Я подошел к Тине и коснулся ее плеча.
– Господи, спасибо Тебе за Тину, – тихо сказал я. – Ты призываешь нас просить о том, чего мы хотим, и я прошу Твоей помощи. Пусть обе операции пройдут успешно. Пусть они не причинят Тине вреда. Молю Тебя, подари ей и ее родным мир и покой. Во имя Иисуса, аминь.
Тина, казалось, была увлечена. Опыт был для нее новым, и она нисколько не противилась. Тэмми вытерла слезы. С ясным рассудком и в предвкушении я поднялся и проводил их в приемную, где ждал доктор Уиллард.
На следующий день, рано утром, мы встретились в предоперационной.
– Мне сегодня снилось, что опухоль прошла! – воскликнула Тэмми.
Я улыбнулся, услышав в ее голосе надежду. Но когда я осмотрел лицо девочки, то покачал головой. Место опухоли все еще оставалось распухшим: ей было не обойтись без двух долгих операций. Я взял обеих за руки, произнес краткую молитву, и Тину увезли на операцию.
«Господи, сохрани ее», – прошептал я, вводя длинную полую иглу девочке в ногу.
Я надел синий свинцовый костюм-двойку и шейный бандаж – защиту от радиационного «разброса», – хирургическую шапочку с маской и прошел в операционную, где без сознания лежала Тина, завернутая в синюю ткань. Открыто было лишь маленькое пятнышко кожи над бедренной артерией. Операционный стол был подключен к компьютерной установке, стоившей миллионы: благодаря ей мы во всех подробностях видели сосуды мозга сквозь череп. Со мной было двое техников: один – мой ассистент в стерильном халате и перчатках; другой управлял аппаратом и при необходимости открывал для нас препараты, выстроенные позади, на столе. С другой стороны, за столом, защищенный свинцовым стеклом, сидел анестезиолог.
Я коснулся бедра Тины. Артерия мерно пульсировала. Я на мгновение замер, напоминая себе, что это живая девочка, а не проект, о чем легко забыть в этой безжизненной атмосфере.
«Господи, сохрани ее», – прошептал я, вводя длинную полую иглу девочке в ногу.
Мы проникаем через эту артерию, потому что она огибает головку бедра – крупную кость, которая позволяет после операции клипировать место прокола. Сонная артерия гораздо ближе к мозгу. Но давить на шею после операции – намного опаснее.
Ярко-алая кровь закапала из иглы: я проник в артерию. Ввел сквозь иглу проволоку. Вынул иглу. Надел на проволоку коническую пластиковую трубку-проводник, похожую на заостренную соломинку для коктейлей. На конце трубки был одноходовой клапан. Техник подал мне стерильный катетер и проволоку. Я сквозь клапан ввел их в ногу Тины – и двинулся по сосудам к опухоли в голове.
Эндоваскулярная нейрохирургия требует невероятного осязания. Проволоку толщиной меньше миллиметра – и катетер диаметром в два – вы должны провести в бедренную артерию. Потом вы мягко подталкиваете их к сердцу, и катетер скользит за проволокой по общей оси. Проволоку нужно двигать очень аккуратно – вы словно вяжете или прядете на веретене. Робот не справится ни с одной из этих операций. На конце проволока чуть изогнута, и ее можно поворачивать и направлять в разные сосуды. Если вы чувствуете сопротивление, то должны остановиться и разобраться, в чем дело. Необходимо рассчитать каждое движение. Лишние или слишком резкие рывки безумно опасны. Чутье подскажет, с чем вы столкнулись, пока вы следите за тем, как проволока идет сквозь тело.
Я мягко продвигал проволоку и катетер вперед. Сердце Тины слало кровь им навстречу. Вскоре я достиг дуги аорты: отсюда три главных сосуда отходили к шее, лицу и голове. От бедра я шел вверх, против течения крови, теперь же предстояло идти по течению, вместе с потоком, к голове.
Рядом с Тиной, прямо напротив меня, установили большие экраны. Стоило мне надавить на педаль в полу, как машина оживала и показывала прямое изображение нужной мне области. Глядя на экран, я следил за потоком рентгеновских лучей и видел, как между белых легких бьется серое сердце Тины. Черная металлическая проволока резко выделялась на сером фоне. Мы дотошно проверяем, чтобы ни в проволоках, ни в контрастном агенте не было воздушных пузырьков, – ведь все, что мы вколем, отправится в мозг, который всасывает кровь как пылесос. Я знал, какая из трех ветвей вела к опухоли.
Я не сводил глаз с экрана и, пройдя чуть больше метра, повернул проволоку. Та крутанулась и вошла в сонную артерию. Я выверял каждый шаг. Только чувства – и знание того, как отходят разные артерии от дуги аорты.
Операция шла хорошо. Слава богу, Тина была такой юной. Чем старше люди, тем более извилисты их сосуды и тем труднее добраться до нужного места. Больше часа может уйти только на установку катетера, как было с Дэниелом. Артериосклероз, кальцификация, общее отклонение сосудов, – все это искажает форму сосудов, и по ним очень трудно пройти. Выпрямлять их опасно: бляшки могут оторваться, дойти до мозга и вызвать инсульт. С молодыми, эластичными сосудами работать намного легче. А у Тины они были очень гибкими.
Главная цель при эндоваскулярной нейрохирургии – верно выставить катетер в сонной артерии на шее. Это «база». Отсюда я проникаю в мозг – или в лицо, как сейчас – при помощи еще более тонкой трубочки, микрокатетера. Эндоваскулярная хирургия похожа на хирургию в виртуальной реальности. Область операции попадает под поток рентгеновских лучей, и под ним проявляются все проволоки, шарики и стенты с металлическими маркерами.
Рентген и контраст, без которых не увидеть сосуды – дорогая цена. Не только в финансовом, но и в физическом плане. Контраст вреден для почек, и использовать его нужно редко. Особенно на ребенке.
Каждый раз, когда я нажимаю на педаль аппарата, чтобы заглянуть внутрь тела, больной получает дозу радиации. Я тоже – но меньшую. Радиация вредна. Говорят, вскоре два процента от всех случаев раковых заболеваний будут вызваны радиацией, под которую люди попадают в больницах во время тестов и операций. А потому приходится балансировать между необходимостью обновлять информацию, получаемую с контрастом и дозой радиации, и совершением самых эффективных действий на основе той информации, которая уже есть. Если операция длится долго, в облученном месте, где рентгеновские лучи проходят через голову, могут выпасть волосы и начнется раздражение кожи. Волосы отрастут за полгода, но вред от радиации не исчезнет – и к ней нельзя прибегать просто так.
Пока особых проблем не было, но это еще не гарантировало успешного исхода. С той самой минуты, когда вы вводите иглу в бедренную артерию, все может пойти не так в любой момент. В артерии три слоя, и вы рискуете их разорвать. Внутренний слой мягкий и скользкий. Его повреждения открывают мышечный слой. Рассечение сосуда может привести к тому, что на мышечном слое начнут формироваться тромбы: если они оторвутся, то вызовут инсульт. Вам приходится лавировать: прорвется ли кровь, загустеет ли – все ведет к инсульту. И никто не знает, как организм отреагирует на то, что вы протаскиваете по его главной артерии катетер. Артерию может свести спазм, отрезав приток крови в мозгу. От долгого пребывания в потоке крови катетер может застрять, и после введения «клея» его уже не вытащить. Чем дольше инструменты находятся внутри сосудов, тем выше вероятность, что все пойдет не так.
Я ввел микрокатетер в сосуд, по которому кровь шла в опухоль, убедился, что нашел самое лучшее положение, и ввел в кровь жидкий эмболизирующий агент, чтобы перекрыть приток. На всю операцию ушло более шести часов – из-за размера опухоли и обильного притока крови из внутренней сонной и глазной артерий. Дело шло медленно, отняло массу сил, и в нем было великое множество напряженных мгновений, когда мне приходилось решать, сколько «клея» вводить в критические области, – артерии, которые вели в глаз и в мозг Тины. Но настал момент, когда я счел, что сделал все.
Завершив операцию, я ждал, пока Тина проснется. Я смертельно устал и хотел только одного: убедиться, что с девочкой все в порядке. Примерно через полчаса – они показались вечностью – Тина открыла глаза. Я подержал перед ее лицом пальцы, и она прекрасно их сосчитала. Оба глаза видели. Руки и ноги слушались. Казалось, после всех этих долгих часов она совершенно не пострадала. Неврологических нарушений не было.
Доктор Уиллард, Ричард и Тэмми ждали в приемной, встревоженные после семи часов ожидания. Я сказал им, что все хорошо, и показал снимок. Эмболический агент заблокировал опухоль и отрезал ее от притока крови. Доктор Уиллард, осмотрев снимки, казалось, остался доволен. Через несколько дней Тина прошла вторую операцию – открытую; ее провела команда наших лучших черепных хирургов – хирург головы и шеи и нейрохирург. Опухоль удалили практически без крови: агент сработал прекрасно, операция закончилась без проблем. Прошло несколько дней, и Тина отправилась домой. Через шесть недель почти исчезли и надрезы на лице.
Спустя месяц после операции Тэмми и Ричард прислали мне открытку – благодарили за особую заботу об их дочери. А полгода спустя я получил еще одно письмо. И очень удивился – писал доктор Уиллард.
Дорогой доктор Леви!
Сложно найти слова, способные выразить, сколь я благодарен вам и вашей команде за исключительную заботу, проявленную Вами к Тине во время ее недавней схватки с опухолью четвертой стадии. С первой же нашей встречи, когда мы готовились провести эмболизацию, я был поражен Вашими заботливыми манерами и редкой способностью установить контакт с маленькой девочкой, которой предстояло перенести ряд столь непростых и страшных процедур. Благодаря вам и Тина, и ее родители ясно осознали, каким будет лечение, и смогли смело встретить все связанные с ним риски.
Я сорок лет провел в медицине, но нечасто встречал людей с таким сочетанием профессиональных, личных и духовных дарований. Ваши слова, манеры и духовный вклад успокоили родителей Тины и дали им надежду. Позвольте выразить вам вечную признательность всей нашей семьи11.
Читая эти строки, я вспомнил, какая смелость потребовалась мне, чтобы молиться в присутствии врача, некогда работавшего в лучших клиниках мира. И я был рад, что не отказался проявить заботу о Тине самым лучшим способом, какой я только знал, – тем, который гласит, что человека нужно воспринимать во всей его цельности.
Но сколь бы счастлив я ни был от того, что давала родителям молитва, я все еще боялся молиться в присутствии коллег. Чтобы преодолеть этот страх, мне требовалась невероятная смелость.
И вскоре я достиг критической точки.
Чужой среди своих
Молитва стала частью моего дня. Больные в целом принимали ее с радостью, и я даже почувствовал, что она улучшала исходы операций. Впрочем, я по-прежнему молился только в те краткие минуты, когда оставался один на один с больным – до операции и после. Я боялся молиться в присутствии кого-либо еще, кроме самих больных и их родственников. Иными словами, я боялся сестер.
Я боялся реакции медсестер. Они настолько влиятельны, что от них зависит вся жизнь лечебного учреждения.
Сестры влиятельны и необычайно ценны в больничной команде. Без них ни один госпиталь не будет первоклассным. И именно от них зависит то, как будут чувствовать себя пациенты во все время пребывания в клинике, – и то, как будет чувствовать себя врач. Хорошие сестры прекрасно знают своих больных и могут подсказать врачу, что именно он пропустил. Они подмечают все, что творится в операционной, – и даже то, у кого из больных больше всего осложнений после операции. Я ценю их мнение, оценки и заботу. Они очень нужны в нашем хаосе. И теперь я гадал, что они подумают обо мне за возможное нарушение их представлений о приличии в медицинской среде.
Стоит сестре один раз нелестно отозваться о враче – неважно, справедливо это или нет, – и репутация этого врача, по крайней мере у сестер, в мгновение ока может рухнуть. Конечно, они по-прежнему будут исполнять его приказы, – но просто не будут его уважать. Возможно, мы и не должны придавать этому особого значения, но глубоко в душе каждый врач прекрасно знает о своей репутации и боится потерять уважение других. Мысль о том, что сестры вас осудят, а потом об этом узнают коллеги – это опасная мысль, и неважно, как именно вы пытаетесь игнорировать эту угрозу или сводить ее к минимуму.
Вот в таком страхе я жил. А еще я двоедушничал. Тоже не сахар. Я молился вместе с больными – но не хотел, чтобы во мне видели того, кто молится вместе с больными. Я был уверен, что сестры и другие врачи неправильно поймут мои мотивы и даже поставят под сомнение мою добросовестность как хирурга. Была и еще проблема: в этой клинике я работал уже семь лет и установил со многими довольно крепкие отношения. Люди прекрасно меня знали. И узнай они о том, что меня так повело, отношения могли бы измениться, – а я не хотел иметь никакого дела ни с лишним вниманием, ни с вопросами.
И тем не менее эта молитва тайком невыносимо раздражала. Ждать, пока сестры и анестезиологи покинут операционную, чтобы я мог помолиться… несомненно, это было самой жалкой частью моего дня. Пока я ждал, меня всякий раз охватывал страх. Я не мог сосчитать, сколько раз ходил на цыпочках по предоперационной, убивая время, – или притворялся, будто читаю историю болезни в отсеке больного, а на самом деле ждал, пока сестры закончат и займутся другими делами.
А потом настал перелом.
Как-то днем я прошел в набитую предоперационную со смешанным чувством – предвкушение, надежда и в то же время некое раздражение. Я собирался молиться, как обычно, но мне надоело ждать, пока все сестры и анестезиологи покинут помещение. Я очень старался подгадывать время, когда мог бы остаться с больными наедине, но так и не смог. Придешь рано – там администраторы цепляют на больных браслеты. Придешь поздно – там анестезиологи. Придешь вовремя – рядом все время крутятся медсестры. А придешь слишком поздно – рискуешь: бригада уже может увезти больного на операцию.
Вот и в тот день я стоял и, пытаясь выглядеть занятым, ждал, пока трудолюбивая сестра покинет отсек. Мое раздражение все нарастало. Я чувствовал нетерпение, тревогу, утрату самообладания. Внезапно внутренний голос – я знаю, это был Бог – задал мне неожиданный и простой вопрос: «Ты веришь, что поступаешь правильно, когда молишься перед операцией?»
Я на мгновение задумался и молча ответил:
«Да, я знаю, что это правильно. Я видел результат. Молитва дает покой. Слезы освобождают чувства. И больные меня благодарят».
«Тогда чего ты боишься? Если не веришь в то, что делаешь, почему не прекратишь?»
Я замер. Прекратить молиться? Мне открылся целый иной путь заботы, дающий благо и мне, и другим. Я наслаждался молитвой и не хотел прекращать. Я просто хотел продолжать как прежде, втайне от всех.
«Я не могу перестать, – ответил я. – Это неправильно. И для людей, и для меня».
«Так чего ты боишься?» – упорствовал голос.
Зараза! Придется признать правду. Я боялся потому, что все еще ценил мнение других обо мне и о моей репутации. Уязвленный, я вступил в спор:
«Не хочу, чтобы люди думали, будто я один из этих чудаков, которые только ходят и молятся. Да я годами ковал репутацию в этой сфере и в этой клинике!»
«Не хочешь, чтобы в тебе видели того, кто ходит и молится о других?» «Да, верно».
«Но ведь ты ходишь и молишься о других?» – спросил голос, и, хоть никто нас не слышал, я покраснел от стыда.
«Да, но я не хочу, чтобы так думали люди!»
Вот и все, что я мог ответить.
Бог явно указывал мне на лицемерие. Я хотел и рыбку съесть, и хвостиком не подавиться. Мне нравилось молиться за людей и видеть силу и утешение, которое им приносила молитва. Но при этом я не хотел, чтобы другие даже подозревали о том, что я молюсь и верю, будто Бог имеет отношение к медицинской помощи. На отказ от этой жизни во лжи требовалась отвага. Но, если бы я сумел, я бы скинул с плеч гору! Не нужно больше ждать, пока уйдут медсестры, не нужно мучиться, не нужно таиться… Меня манила свобода, которая могла прийти, стань я смелым и честным. Но на кону, помимо этого, были репутация и гордость.
Я должен был сделать выбор.
И в тот момент, посреди гула предоперационной, я решил быть искренним, чего бы это ни стоило, – репутации, работы или уважения коллег. Заглушив все сопротивление, которое еще оказывало сердце, я подошел к больной и встал у ее постели.
– Доброе утро, миссис Грин, – поздоровался я.
– Доброе утро, доктор, – ответила она. Она выглядела уставшей и смиренной, как будто сюда ее привел долгий путь. Медсестра терпеливо протирала ее руку тампоном, не обращая на нас внимания.
– Мы уже говорили об операции, которая вам предстоит. Вы осознаете риски?
– Да, осознаю.
– Хорошо. Итак, сегодня утром я вылечу аневризму в задней части вашего мозга. Если все пройдет хорошо, вы выйдете из наркоза и восстановитесь спустя пару часов. У вас еще остались вопросы?
– Нет, не думаю, – она покачала головой.
Не дав себе времени даже на небольшую паузу – от страха, что могу вообще остановиться, – я продолжил:
– Не возражаете, если я помолюсь за вас?
Я знал: реакция будет.
Медсестра сидела ко мне спиной и как раз склонилась над левой рукой миссис Грин, готовясь ставить капельницу. Она остановилась, быстро взглянула на меня и встала. Молча. Миссис Грин недоверчиво на меня посмотрела, смутилась, но кивнула.
Без колебаний я сжал ее пальцы сквозь одеяло и начал молиться:
– Господи, спасибо тебе за мисс Грин. Она ценна для Тебя, и прошу, дай мне мудрость и мастерство, чтобы исцелить ее сосуды. Мы просим тебя о помощи. Подари ей покой. Аминь.
Когда я открыл глаза, то ожидал увидеть мир на лице миссис Грин – уже привычный мне вид, – но увидел лицо, искаженное болью. Она силилась улыбнуться, но улыбка выходила жесткой и резкой. Да что случилось? Я взглянул в сторону сестры.
Ох ты!
Я как-то даже не посмотрел, чем именно та была занята, когда я наконец расхрабрился и заговорил о молитве. А она в тот момент, вставив иглу в руку миссис Грин, искала вену, – и в знак почтения, прекратив работу, невольно склонила голову. Пока я тут благодушничал, игла все время торчала в руке больной! Какой уж тут мир и покой!
Простите меня, миссис Грин, бога ради!
Я что-то пролепетал в свое оправдание, медсестра продолжила охоту за веной, нашла ее и прикрепила иглу к руке.
– Спасибо, – с явным облегчением поблагодарила нас обоих больная.
Да, со временем получилась неувязка. Но я перешел границу смелости и не собирался поворачивать назад. Я по-прежнему предпочитал молиться с больными и их семьей один на один: так было проще. Я считал эти мгновения святыми и прекрасными – и не хотел уменьшать их значение для больных, допуская присутствие других людей, способных воспринять все совершенно иначе. А еще я не хотел тревожиться насчет того, не обидел ли я медсестер или других сотрудников – и не доставил ли им неудобств. Но с этого момента я уже готов был молиться, даже если рядом оказывались сестры, – а это случалось довольно часто, так что я не раз удостоился шокированных взглядов. «Что он делает? – словно спрашивали они. – Что-то новенькое? Посмотрим, что скажут!» Многие прекращали работу, как будто налетал порыв ветра, и ждали, пока молитва не утихнет. Иные склоняли головы и, казалось, принимали молчаливое участие. Третьи работали как ни в чем не бывало.
Их мнение все еще меня беспокоило – но куда больше значило то, что я был искренен и поступал во благо больных, даже если другие считали это глупым. Смелость вела меня прочь от лицемерия и фальши.
* * *
Прошло несколько месяцев. Я был в палате больного. То был особый случай – предстояла операция на массивном клубке неправильно сформированных сосудов мозга. Беседа шла как обычно, медсестра собралась за чем-то выйти и направилась к двери. Но когда я спросил пациента, могу ли за него помолиться, она развернулась, тихо прошла обратно и склонила голову. Черные волосы, доходившие до плеч, отчасти скрыли ее лицо. Мы соединили руки – больной, двое его родных и я. Сестра стояла позади нас и вслушивалась в слова молитвы.
Когда мы закончили и я повернулся, чтобы выйти в предоперационную, сестра преградила мне путь и отвела в сторонку.
– Доктор Леви?
– Да? – спросил я.
«Нужен совет?»
Порой сестры – ну или кто другой – перехватывают вас в коридоре или в лифте со словами: «Доктор, у меня близкие болеют, а скажите, что делать, если…». Наверное, это практически единственный случай, когда медсестры обращаются к врачам, – не считая работы. Я не знал, как ее зовут, и она явно нервничала, избегала моего взгляда и ломала руки. Это дало мне возможность прочитать ее бедж. Шерил.
– Мы с сестрами заметили, вы молитесь за больных. Ох ты! Не ожидал. В животе словно затянули узел.
– Да, – кивнул я.
И что теперь?
Шерил нерешительно помялась.
– Можно с вами? – наконец спросила она. – Позовете меня, когда будете молиться? – Потом она шепнула: – Есть и другие. Они тоже хотят. Вы нам позволите?
Я застыл. Вот как все обернулось! Я боялся раскола и насмешек, а вместо этого молитва объединила людей. Естественно, сестры обсуждали все, что я делал, – но отнеслись ко всему совершенно иначе! Возможно, мои поступки показали еще одну возможность проявить заботу – возможность, которую они даже не рассматривали! Они желали быть частью чего-то большего, нежели просто ремонт тел, – как и мне, им хотелось исцелять и тела, и души!
– Конечно, – сказал я. – Я вас найду.
– Спасибо, – ответила Шерил и, осмелев, ненадолго посмотрела мне в глаза перед тем, как пойти обратно на пост.
Так я начал приглашать к молитве сестер – тех, кто шел по доброй воле. Часто им приходилось снимать перчатки или прекращать свои дела – особенно если они ставили капельницу, – но многие были совсем не против.
Это еще одна область, где нужно продвигаться очень чутко. Сестры в любой момент могут сказать «нет», и я не настаиваю. Осторожность не дает злоупотребить властью и ответственностью, которыми я наделен как ведущий врач. Заставить сестру молиться я не волен – это неправильно. Равно так же неправильно склонять к молитве больных. Я аккуратно подбираю слова и слежу за тоном – доброжелательным и ни в коем случае не командным. И я никогда не слышал жалоб ни от одной сестры. Некоторые продолжают работать, как будто им неинтересно, но другие ведут себя довольно оживленно и даже добавляют «аминь».
Молитва объединяла нас всех – мы хотели, чтобы операция завершилась успешно, и все вместе заботились о больном.
Когда я позволил сестрам при желании присоединяться к молитве, я как будто вложил в мозаику последнюю плитку. Мы словно стали единым целым. Молитвы в предоперационной обрели завершенность. Я вскоре узнал, что многим, когда они молятся, нравится держаться за руки и становиться в круг. Некоторые родственники делали это сами, когда я молился, и со временем я сам стал просить их встать вокруг больного и взяться за руки. Чувство единства, которое я при этом испытывал, не походило ни на что прежде, – в больнице я никогда такого не чувствовал. Братья и сестры, не слишком ладившие прежде, объединялись вокруг близкого человека и вспоминали о том, что действительно важно. Родственники становились ближе друг к другу.
Молитва объединяла нас всех – мы хотели, чтобы операция завершилась успешно, и все вместе заботились о больном.
Теперь сестры иногда становятся частью нашего молитвенного круга. Конечно, я всегда знал, что многие из них очень заботливы. Но когда они молятся вместе с нами, всем будто становится теплее, – и мы оказываемся ближе друг к другу. Прежде я даже не представлял, будто такое возможно.
Сестры откликнулись сильнее, чем я мог пожелать. Но это было лишь началом моей дороги к искренности.
* * *
Я молился с больными до каждой операции и после нее. Это одухотворило мою работу – и жизнь тех, кто был со мной рядом. После молитвы, когда бы она ни звучала, обстановка часто менялась к лучшему. Я уже был уверен, что должен молиться на каждой операции, как только представится возможность. Это неизбежно влекло меня к новой границе: к молитве в присутствии ассистентов.
Молитва с сестрами – это одно: мы видимся лишь несколько минут в неделю. Но есть и люди, с которыми я работаю каждый день. Они знают меня гораздо лучше, и их мнение значит для меня гораздо больше – это техники, которые помогают мне во время операций, на протяжении долгих часов.
Техники работают с рентгеновским аппаратом. Они – не врачи, но их навыки очень высоки. Свой путь в медицине они обычно начинают со снимков руки или ноги; позже, при желании, могут выучиться на ассистента хирурга. За семь лет моя семерка техников стала моей второй парой рук. Они обрабатывают инструменты и в должный момент передают их мне; они и управляют многомиллионным компьютером, отвечающим за снимки, благодаря которым я могу оперировать. Они уже давно поняли, как я работаю, какие инструменты и смеси предпочитаю и когда я обычно прошу сделать снимок, – не говоря уже о том, как меняется мой тон, как быстро я работаю, как реагирую на стресс и как себя веду, если мы заходим в тупик. Мы – крепкая, проверенная в боях команда, и наша близость соответствует серьезности тех операций, за которые мы беремся.
Добавить молитву к нашей совместной работе – о, это был бы мой самый значительный шаг. Да, он бы изменил наши давние отношения. Да, пришлось бы испытать доверие остальных, – а в это доверие мы вложили немало. Однако к этому времени я был более решителен, чем в прошлом. Конечно, была вероятность того, что команда не примет молитву и, может быть, даже отвергнет меня, – но что мешало попытаться? За спрос денег не берут. Я уже не мог отрицать того, что во время операций дело касалось уже не просто техники и шансов, а чего-то большего. Сколько лет прошло, а мы так и не признали духовный элемент нашей сферы, – даже когда у нас на глазах рвались аневризмы и люди гибли прямо на столах. Теперь я видел, к чему могла привести молитва. Я верил:
Бог помогает тем, кто об этом просит. И что, я мог и дальше делать вид, будто все успехи связаны с моими навыками или слепой удачей? Я пришел к такой мысли: молитва – это лучшее, что я могу дать больным. Но хватит ли мне смелости просить Бога повлиять на исход операции – и изложить свою просьбу в присутствии других?
Перед каждой операцией мы с техниками собираемся в просмотровой – в маленькой комнатке, три на полтора. Одна из ее стен освещена изнутри – на ней мы вывешиваем снимки. Еще там стоит высокий монитор, на котором отражается трехмерная реконструкция мозга. Ее можно вращать как угодно – трекбол позволяет. Вот там мы и обсуждаем все планы на день и только потом начинаем операцию.
В тот день, когда я решился, Джефф и Хизер – наши техники – были в просмотровой. С ними вместе был представитель компании, производящей медтехнику, – специалист из отдела продаж. Мы рассматривали аневризму и сосуды. Я уже представлял, как буду работать, но почему-то именно в тот день решил спросить остальных, какие инструменты могут здесь пригодиться. Естественно, сотрудник компании предложил их приборы. Этого и следовало ожидать. Когда мне показалось, что мы рассмотрели этот случай уже со всех сторон, я вдруг почувствовал, как забилось сердце, и просто сказал:
– Мне кажется, здесь еще поможет молитва. И я хотел бы помолиться об этом больном вместе с вами, а потому спрошу, уместно ли это. Я ценю наши отношения, и мне очень важно знать, что я вас ни к чему не принуждаю. Если не хотите, вы вольны отказаться.
Все трое замерли, не говоря ни слова. В их повседневной рутине появилась новая проблема. Может, они гадали, не спятил ли я, – а потом, казалось, все как один пожали плечами, словно говоря: «Как угодно». Они не знали, что делать, пока я молился, и просто смотрели в пол. Мы все чувствовали себя неловко, но никто не ушел.
– Отец наш Небесный, – начал я, – спасибо Тебе за нашу работу и за то, что мы в силах излечить эту аневризму у мистера Симмонса. Прошу, дай нам понять, что делать и когда остановиться. Благодарю Тебя за Джеффа и Хизер. Им предстоит помочь нам: молю, дай им зоркость и чуткость. Благослови их родных и близких. Подари нам радость на этой операции. Во имя Иисуса, аминь.
При этом мы вошли в операционную, заняли места и работали так, как будто ничего необычного не случилось. На следующей неделе я сделал то же самое и с тех пор поступал так почти всегда. Относились мы друг к другу так же, как и прежде. Против молитвы никто не возражал – даже несмотря на то, что некоторые из нас разделяли иные религии или вообще были к ним равнодушны. Так проходили недели. Я заметил, что чаще радуюсь во время операций, и казалось, у нас возникало меньше осложнений. Мои помощники стали как-то теплее относиться и к больным, и друг к другу. Они поняли, что я отношусь к своей вере серьезно, но их при этом не осуждаю, и моя беседа с Богом – не пустой ритуал, а нечто живое и действенное.
Тем не менее, я все гадал, что они думали на самом деле. Смирились с тем, что работают чудаком-хирургом? Не хотели терять мое расположение? Но вскоре я увидел: за этим крылось большее. Как-то раз я так спешил на срочную операцию, что забыл помолиться. Я надел халат и перчатки и пошел к столу, где лежал подросток. Лидия, одна из наших техников, упрятав длинные волосы под синюю шапочку, преградила мне путь.
– А молитва? – спросила она.
Наверное, от нее я меньше всего ожидал услышать такие слова. Лидия была красавицей и от всего сердца жалела больных. Ее образ жизни, возможно, вызвал бы у приверженцев религии немало вопросов. Но молиться перед операциями она любила. И ее серьезный взгляд из-под защитных очков показал мне, что она не притворялась. Она на самом деле проявляла заботу о больном и хотела, чтобы я обратился к Богу с молитвой.
– Да, конечно, – сказал я из-под маски, легонько сжал ее руку – перчатки мы уже не снимали – и другой рукой прикоснулся к больному, накрытому тканью. – Господи, будь с этим мальчиком. – Лидия закрыла глаза и коснулась ноги больного. – Дай нам мудрость и умение. Дай нам вовремя увидеть любую опасность и успешно провести операцию. Во имя Иисуса, аминь.
Мы открыли глаза, и наши взгляды встретились. Она излучала уверенность, и мне стало лучше. Этой простой молитвой Бог укрепил и каждого из нас, и всю нашу команду.
Прошло несколько недель, и Хизер загнала меня в угол. Я был в просмотровой и записывал на диктофон историю болезни. Она вошла и села рядом, странно глядя на меня.
– Вы изменились с годами, – сказала она. – Я вижу. Вы уже не тот, кем были.
– Правда? – уклончиво переспросил я.
– Как вы обрели веру? – прямо спросила она. – Внезапно?
Я остановил запись.
– Постепенно.
Как мог, я рассказал ей, что со временем понял: в жизни было нечто большее, нежели работа во имя славы и денег. Цель могла быть намного выше, – но к ней нужно было стремиться.
Какое-то время Хизер молчала.
– Мой муж потерял работу, – резко сказала она.
– Мне очень жаль, – ответил я.
Она отмахнулась – помогла профессиональная выдержка. Но ее явно одолевали эмоции.
– Прошлой ночью мы вместе молились, – сказала она. – Впервые за весь наш брак. Думала, вы захотите узнать.
– А вот это хорошая новость, – улыбнулся я, чувствуя, как нарастает радость. – И как?
– Прекрасно, – вздохнула она. – Нам это было нужно.
– Горжусь вами, – поддержал я. – Надеюсь, вы продолжите в том же духе.
Она кивнула.
– Знаете, мы все очень ценим, когда вы молитесь перед операцией, – она замолчала, и я вдруг ощутил, что ей нужен не просто разговор. Она хотела какой-то помощи.
– Не возражаете, если я помолюсь о решении вашей проблемы? – предложил я.
– Конечно. Если можно, – выдохнула она.
– Отец наш Небесный, Ты знаешь Хизер и Брюса, – сказал я. – Ты знаешь, через какие трудности с деньгами им приходится проходить. Знаю, Ты уготовил им нечто хорошее, ибо Ты благ. И все же Брюсу прямо сейчас нужна твоя помощь. Он должен принять лучшие решения для своей карьеры и семьи. Молю, благослови их на этой неделе, сделай нечто особенное, чтобы они знали, что это пришло от Тебя. Во имя Иисуса, аминь.
Я открыл глаза. Она плакала. Тот же покой, который наполнял просмотровую по утрам, когда мы молились, теперь проник в ее сердце, и она сделала шаг навстречу Богу – источнику этого покоя.
Вскоре Брюс решил сменить профессию и вернулся в школу – выучиться на медицинского техника. Это был благотворный прорыв. Потом они нашли церковь по душе, и их путь к Богу продолжился.
* * *
Следующей преградой стала молитва в присутствии коллег. У меня было мало возможностей молиться вместе с другими врачами, и я особо этих возможностей не искал. Во всей больничной иерархии я больше всего опасаюсь осуждения врачей.
Иногда производители медтехники приглашают меня провести семинар – обучить других, как использовать новые аппараты. И вот как-то раз я отправился в клинику в другой город. Там мне предстояло научить двоих – к слову, мусульманина и индуса, – тому, как использовать новый внутричерепной стент для лечения сложных аневризм. По сути, я ехал как проктор – посмотреть, кое-что посоветовать да рассказать пару полезных историй из опыта.
Я даже не был уверен, знает ли больная о моем участии. Я не собирался общаться с ней или как-то ее затрагивать. От меня требовалось одно: быть в операционной и иногда давать советы. Однако утром, в день операции, когда мы все собрались, двое коллег неожиданно попросили пройти к пациентке вместе с ними. Та ждала в предоперационной. Неохотно, но я согласился.
– Это тот врач, о котором мы вам говорили, – сказали они гордо, когда мы подошли к ее кушетке.
– О, из Сан-Диего. Наслышана, – сказала она.
Дотти, уроженке Австралии, было пятьдесят, но выглядела она на все шестьдесят пять, – ибо привыкла выкуривать в день по две пачки. У нее была сложная аневризма, для лечения которой требовался стент, и мне как раз предстояло объяснить, как его использовать. Мы улыбнулись и пожали друг другу руки, но я почувствовал какое-то давление. Теперь, когда Дотти знала, что я эксперт, я вроде как нес за нее ответственность, – а значит, должен был предложить ей молитву, как и всем своим больным.
Но рядом были еще двое врачей, и это была проблема. Как я мог перейти к молитве, если не я вел эту больную? Да это ведь даже другая клиника! А они еще и из других религий! И уместно ли здесь молиться? Меня же просто пригласили показать, как использовать медицинский прибор! Столько вопросов, ни одного ответа… наверное, не стану я молиться. Ну правда, неудобно. Бог все видит, он поймет и простит.
Мы немного поговорили с Дотти о том о сем, и я гадал, что делать дальше. Я чувствовал себя под ударом. Проделать нечто подобное в чужой клинике – это требовало совершенно другого уровня смелости.
И я умолк, надеясь, что другие врачи найдут хоть какую-то причину оставить нас наедине. Но нет. И когда наша беседа уже вышла за пределы обычного разговора о пустяках, у меня в голове вспыхнули слова: «Голова и плечи».
«Голова и плечи? – поразился я. – При чем здесь шампунь?»12.
Я взял ее за руку. Врачи молчали. Казалось, мои слова заставили их застыть на месте, – они стояли, словно изваяния, и смотрели в пол.
И вдруг я вспомнил о той части Библии, где Саул был помазан на царство над Израилем. Там говорится, что он был выше от плеч своих, чем его соотечественники, но, когда настало время взойти на царство, он спрятался в обозе13. Вот и я прятался в обозе! И еще я почувствовал: Бог говорил мне, что двое коллег видели во мне наставника. Мой опыт был намного больше, чем у них, и мне не следовало скрывать его ни от них, ни от себя. И равно так же не следовало скрывать мое особое отношение к больным.
Этого хватило. Я понял, что по крайней мере предложу молитву. Я посмотрел на Дотти, улыбнулся и заставил себя сказать:
«Знаете, я привык молиться вместе с больными, когда им предстоит операция. Не возражаете, если мы и с вами помолимся?»
В глазах Дотти мелькнуло любопытство.
– Идет, – сказала она.
Я взял ее за руку. Врачи молчали. Казалось, мои слова заставили их застыть на месте, – они стояли, словно изваяния, и смотрели в пол. Когда я склонил голову, они быстро последовали моему примеру.
– Боже милостивый… – начал я молитву, в которой просил об успешном исходе ее операции. Когда молитва закончилась, оба врача словно пришли в себя, но не знали, что сказать. Дотти улыбнулась, как будто ей только что вручили подарок и она не знала, что с ним делать. Спустя мгновение она произнесла с замечательным австралийским акцентом:
– Спасибо. Никогда не слышала, чтобы доктор молился.
Бьюсь об заклад, двое других врачей тоже никогда о таком не слышали, подумал я.
Мои коллеги были гораздо менее словоохотливыми, когда мы вышли и начали готовиться к операции. Я нарушил молчание первым и, пока мы спускались по лестнице, заговорил о технической стороне дела. Это их успокоило. Видимо, они решили, что молитва – часть моего подхода. Вот так я научил их чему-то, чему и не собирался учить.
В тот день мы выполнили две операции. Обе прошли хорошо. На второй врач-мусульманин должен был куда-то уйти, и со мной остался Раджив – индус. Мы снова навестили больного в предоперационной. Ему требовалась установка стента в сосуды мозга. На этот раз я без колебаний попросил разрешения на молитву, больной согласился, и мы взялись за руки. Прежде чем я понял, что происходит, Раджив подошел с другой стороны каталки, взял больного за другую руку, а свободную протянул мне, и мы образовали небольшой молитвенный круг. Мой коллега крепко зажмурился и ждал, пока я закончу. Непросто выразить, как я был рад тому, что сдержанный и замкнутый Раджив пожелал оказаться «внутри» и прикоснуться к нашей духовной сфере! Когда мы закончили, его лицо озарилось улыбкой, и эта радость не исчезла, даже когда мы вышли из комнаты. Мы вели себя так, словно ничего не случилось, но я отметил, с какой легкостью мы обсуждали технические стороны предстоящей операции.
Этот опыт раскрепостил меня еще сильнее. Проблемы и преграды будут всегда. Я молился уже много раз, но я по-прежнему осознаю, что найдутся те, кому такое предложение покажется оскорбительным. Мне все еще нужна смелость, когда рядом находится любой посторонний человек, – например, приглашенный врач или студент. Я просто говорю, что привык молиться перед операцией, спрашиваю, все ли нормально, и смотрю, как кто отреагирует. Возражают редко.
Со временем моя работа стала не просто набором действий, а чем-то намного большим. Молитва, вошедшая в мою практику ради поддержки, стала призванием.
И если вспомнить, с чего я начал – о, это был долгий путь.
Механик в докторах
Хирурги нередко говорят, будто мы чиним людей, словно механик – машины. Но, насколько мне известно, я – единственный нейрохирург, начавший свой путь с автомастерской.
В юности я и не думал, что стану врачом. Я вообще мало о чем думал. В старшей школе у меня не было ни целей, ни мотивации. Учиться я ленился и брался только за то, что давалось легко. Родители были уверены, что колледж я не закончу, так что предложили мне пойти учиться на автомеханика. Я отверг даже эту скромную цель: я и так мог чинить автомобили и работал помощником на бензоколонке. Ничто в моей жизни не намекало на «высшую ученую степень», тем более на «медицинскую школу» или «хирургию головного мозга».
Однажды мой старший брат, работавший на буровой установке в Луизиане, упомянул, что «парням из колледжа» там платят больше, а в грязи они при этом не мараются. Те, кто окончил колледж, командовали теми, кто туда не поступил. Я заинтересовался. Тетя дала мне денег, и я мог выбрать курс в местном колледже. К тому времени я уже мечтал стать актером и решил на всякий случай получить высшее образование, а потом устроиться на буровую, заработать денег, купить мотоцикл и поехать в Голливуд, где начну свою настоящую карьеру. Это был очень деловой подход.
Тем временем я работал на бензоколонке и продавал шины в магазинчике вместе с сыном владельца. Однажды нам выдалась свободная минутка, и мы болтали, прислонившись к газовым насосам. Он сказал, что готовится сдать экзамены в медицинский колледж, – а потом, если получится, поступить в университет на медицинский факультет. Тогда я в первый раз услышал о том, что кто-то и правда готовится стать врачом, – и впервые понял, что есть и такой путь. Я не особо об этом думал, но позже, на той же неделе, меня словно осенило. Идея пришла, когда я полез под автомобиль. Он как-то странно кряхтел, когда я менял передачи, так что я решил разобрать трансмиссию, – и когда я держал запчасти в своих измаранных маслом руках, то вдруг подумал: если я могу чинить автомобили, так почему я не могу чинить людей? Мысль о том, как приятно восстанавливать такую сложную «машину», как человеческий организм, полностью меня захватила.
Два года спустя я поступил в медицинскую школу.
В двадцать лет я, младший ученик на курсе, отчаянно пытался определиться и искал группу, к которой мог бы примкнуть. Дэвид Леви – самое что ни на есть еврейское имя, и я с нетерпением ждал признания как «доктор-еврей».
Мой отец, Исаак Леви, сефард, рос в семье ортодоксов. Из-за нацистов наша семья потеряла дом и дело.
Дедушка и бабушка, бросив все нажитое, покинули Родос, успели вырваться из хватки Гитлера и, в конечном счете, добрались до США. Более полутора тысяч евреев, оставшихся на острове, отправились в концлагеря, и многие погибли.
В юности мой отец принял Иисуса как Мессию, и с ним перестали общаться и в семье, и в общине.
Ему было очень больно, но ему открылись смысл и цель как в Торе, так и в Новом Завете. Папа прекрасно знал, что такое гонения. Сперва его гнали нацисты за то, что он был евреем; затем – евреи за то, что он верил в Иисуса.
Думаю, поэтому он почти никогда не говорил о своем прошлом. Я очень мало знал о своем еврейском наследии – помимо того, что мы каждый год отмечали Песах. Возможно, отец хотел защитить нас от неприязни, с которой столкнулся сам, и потому поселился в маленьком городке. Мы росли без еврейских друзей и почти не знали нашей культуры. Я, например, о ней и понятия не имел.
С юных лет я считал Иисуса особенным. Моего отца гнали именно из-за решения следовать за Иисусом. И я уважал его убеждения. Я прилежно учил истории из Торы и Нового Завета. Я хотел верить в то, что Иисус ходил по воде, исцелял людей, прощал грехи и воскрес из мертвых. С таким героическим Спасителем, как Иисус, который пожертвовал собой, чтобы искупить мои грехи и чтобы я мог узнать святого и благого Бога, мир, казалось, имел больше смысла. Затем я пошел в медицинскую школу.
Там оказалось, что треть моих однокурсников – евреи, и я испытал культурный шок.
Раньше я почти не общался с евреями и был приятно удивлен. Они привлекали. Они были богатыми и остроумными, любили смеяться и, казалось, по-настоящему наслаждались жизнью; они водили хорошие автомобили; а еврейки были поразительно красивы. Что еще нужно парню в двадцать лет? Я чувствовал, что быть с ними – прекрасно. Кроме того, я мечтал открыть лекарство от рака или инсульта, совершить какое-нибудь великое открытие, изменить мир и купаться в лучах любви и восторга. Мне казалось, евреи очень многого достигли в медицине, и я хотел стать одним из них.
С юных лет я считал Иисуса особенным. Моего отца гнали именно из-за решения следовать за Иисусом. И я уважал его убеждения.
Я также оценил контраст с христианами, которых знал по жизни в маленьких американских городках. Те вечно были бедными, вечно испытывали проблемы, вечно раздражались и соблюдали кучу правил. Еще они все время несли Богу целые списки проблем, – причем решались эти проблемы далеко не всегда. Христиане казались нищими и беспомощными. Как здорово было наконец оказаться рядом с теми, кто имел деньги, власть и силу, чтобы двигать мир!
Я полностью принял культуру, которой никогда не знал. Я ходил с друзьями в синагогу. Я чувствовал себя праведным, когда постился в Йом-Киппур и ел мацу на пасхальной неделе. Я просиживал долгие службы на иврите, которого мы, в общем-то, не знали. Только однажды, из любопытства, я посетил христианскую общину, бывшую недалеко от кампуса, и об этом узнал мой однокурсник-еврей. Я сперва отпирался, но он заставил меня признаться, и я никогда не ходил туда снова, боясь, что скажут мои новые друзья.
Уважение к евреям и еврейской культуре я испытываю и по сей день. Мне нравилось чувство единства, которое я испытывал в синагоге на праздничных службах. И на четвертом курсе школы я начал испытывать конфликт. В глубине души я не мог отрицать, что Иисус был особенным, – но я не хотел, чтобы он был моим Богом или Мессией. Я не хотел почитать Иисуса. На мой взгляд, он был слишком смиренным, слишком милым и слишком мало противился злу. Я не хотел быть таким. Кроме того, мне казалось, что в академических залах не особо нужны ни Бог, ни Иисус. Меня учили тому, что медицина и хирургия имеют власть спасать жизни, – и что эта власть скоро будет моей. Следование за Иисусом казалось столь скучным и неинтересным по сравнению со славой, радостью и азартом… и я мог получить все это как еврей – и как врач.
Мне не хватало уверенности, чтобы общаться наравне с однокурсниками, которые были на два года старше, – но в учебе мне не было равных. Уже на третьем курсе я обрел свою стихию. До этого мы учились по книгам, но теперь началась практика, – мы работали с больными, чтобы узнать, как их лечить. И я понял, что мне безумно нравится медицина и что у меня прекрасно получается. Оставалось достичь вершин.
Помню, как я учился ставить центральный венозный катетер. Обычно это изучали в первый год резидентуры. Мне до нее оставалось два года. Установка центрального катетера – это первая опасная операция, которой учится резидент. По сравнению с обычным внутривенным катетером – это земля и небо. Иглу длиной почти с палец нужно ввести под ключицей в проходящую там крупную вену. Самый большой риск – проколоть верхнюю часть легкого. Это может стать фатальным, если вовремя не принять мер. Анатомия людей разнится, и искать эту вену – все равно что бурить землю в поисках нефти. На третьем курсе мы уже успели посмотреть со стороны, как ставят катетер, но вряд ли бы кто-нибудь позволил мне сделать это самому, – разве что в критической ситуации.
Если кто-то в больнице перестает дышать или переходит в иное опасное для жизни состояние, включается «Синий код», – и врачи с резидентами мчатся со всех уголков больницы реанимировать больного, что предполагает постановку центрального катетера. Студенты в таких случаях только смотрят. На второй «Синий код» я прибыл быстро, и никого еще не было. Я попросил сестру дать мне катетер, но та, посмотрев на мой короткий белый халат, – облачение ученика, – презрительно покачала головой. Спустя минуту появился резидент, и она отдала набор ему. Я пытался выпросить набор на других «Синих кодах». Исход был таким же.
Что поделать, клиника. Все по протоколу. Я бесился при мысли о том, что придется ждать еще два года, и упросил маму пришить мне к халату дополнительный карман. В нем я прятал набор для введения катетера. Теперь, когда я только слышал, что по интеркому передали «Синий код», я несся через семь лестничных пролетов, доставал собственный комплект и проводил операцию. Я быстро протирал место ввода антисептической салфеткой и вставлял иглу под ключицу больного. Все шло прекрасно. Я наслаждался вызовом. Уверенность хлестала через край. Я знал, что могу справиться с любой операцией, лишь бы дали шанс. Когда я видел, как темная кровь лилась в шприц, давая понять, что игла вошла в вену, я был в восторге, а резиденты, которые прибывали после меня – в ужасе. Я вдевал катетер и говорил с надменной улыбкой: «Рад помочь!» Сейчас я порой сожалею об этом рвении. По милости Божией мне везло, хоть я и считал это своей заслугой: почти каждая попытка была успешной, и я никому не причинил вреда, разве что некоторые сверстники от меня отдалились.
Если были другие способы продвижения вперед, я ими пользовался. Я узнал, что написание научных статей позволяло отправляться на встречи – передавать бумаги, – и давало свободное время. Более того, дорогу оплачивала резидентура. Да, конечно, нейрохирурги-резиденты писали научные работы, но вот написание их на первом году интернатуры, во время стажировки в общей хирургии, было необычным, – и более того, к великому огорчению моих сверстников, я написал не одну. Главный резидент выяснил, что я бывал на встречах чаще него. Это было весьма неправильно. В своей наивности я и правда полагал, будто все за меня лишь порадуются, – словно пленники, поддерживающие того, кто вырвался на свободу. Но никто не любит парней, идущих против правил. В первые годы своей семилетней резидентуры я использовал каждую возможность вырваться вперед. Если другие не хотели того же, меня-то что винить? Так к этому относился я. Они относились иначе – и винили.
В последние годы резидентуры я выучился на нейрохирурга. Выросло мое уважение к преподавателям, среди которых были специалисты с мировым именем, достойные глубочайшего уважения. Я завязал рабочие и дружеские отношения с другими резидентами, и мы вместе стремились достичь уровня, достойного нашей профессии. Желание добиться успеха стало уравновешиваться с желанием служить людям.
Я стал нейрохирургом и уехал в Пенсильванию на должность, которая позволила бы мне практиковать и открытую, и эндоваскулярную нейрохирургию.
Обширная практика давала мне массу возможностей оттачивать навыки. Я стал намного больше беспокоиться о больных. Сложных заболеваний было много, и моя карьера развивалась быстро. Я все так же писал труды и заметки, начал выступать с лекциями и много путешествовал. Моя уверенность в себе и мое мастерство возросли еще больше, и я планировал стать корифеем в сфере академической нейрохирургии.
Я должен был быть самым счастливым парнем в мире. Моя жизнь была динамичной, интересной и полной испытаний. Я мог считать себя героем, – ведь я спасал людей. Мечта сбылась. Но что-то было не так. Мне хватало внимания прекрасных женщин, я крутил роман с моделью, – но из моих отношений словно ушла жизнь. Все казалось пустым. Я заметил, что ненавижу дом и готов мчаться куда угодно, лишь бы избежать «нормальной» жизни. Шло время. Я перестал чувствовать радость от работы. Мне требовались все более сложные случаи, чтобы почувствовать азарт. В те дни я был на фронтах новой отрасли – эндоваскулярной нейрохирургии, только что возникшей и очень рискованной. «Обычная», рутинная, стандартная нейрохирургия оставляла меня с чувством невыполненного долга и недовольства жизнью. По правде, я просто впал в зависимость. Мне все время хотелось чего-то нового. Но тогда я просто хотел кого-то винить за свою «недоделанность» – и выбрал отца.
Папа не был особенно хорошим собеседником и редко говорил о своих чувствах. Как и у многих других, кого я знаю, отец никогда не говорил, будто любит меня, и никогда не хвалил, – по большей части критиковал. Все время, пока я учился в школе и колледже, он не хотел, чтобы у меня была постоянная девушка, – она могла препятствовать моей карьере. Теперь, когда у меня была карьера, я не умел строить нормальные отношения. Я думал только об этом и слал ему исполненные злости послания, где бичевал его мнимые пороки. Он никогда не отвечал. В моих глазах это было лишь подтверждением правоты. Между нами распахнулась огромная пропасть, но я всегда находил повод для оправданий, – ведь я мог обвинять хоть кого-то другого за постоянный страх и пустоту в собственной жизни.
Да, я винил отца, но жизнь моя лучше не стала. Как-то вечером я позвонил матери и стал высказывать, как злился на то, что отец так и не признал ни одного своего проступка, ни ответственности за то одиночество, которое я испытал. Она ненадолго замолчала, а потом сказала:
– Прости его. Тебе тоже есть у кого просить прощения. Ты и сам причинял боль другим.
Это было последнее, что я, восходящая звезда нейрохирургии, хотел услышать. Разве это не он должен извиняться? Не ему ли просить прощения? Если бы я простил отца, мне пришлось бы самому отвечать и за мою жизнь, и за мои неудачные отношения. Я бросил трубку, но не мог забыть ее слов. Да, я многим причинил боль. И я хотел прощения. Я должен был отпустить отца с крючка – и двигаться дальше. В ту ночь, в спальне, я сказал – возможно, Богу: «Хорошо, я прощаю отца. Я отвечаю за свою жизнь. Я больше его не обвиняю». Ничего особого не произошло. Мне даже не стало лучше. Впрочем, сейчас, вспоминая тот день, могу сказать, это было одно из самых важных решений в моей жизни. Мой выбор – простить – постепенно изменил мою душу, стал фундаментом моего будущего дела, и именно благодаря ему так изменился мой профессиональный путь.
Прошло несколько недель, и мне позвонили. Открылась вакансия в Калифорнии – место врача в клинике. С академическим госпиталем это было не сравнить, и прежде я только посмеялся бы. Но теперь во мне что-то поменялось. Стоило мне простить отца, и я вдруг понял, что желание прославиться ушло. Я больше не чувствовал, будто должен доказать что-либо ему или коллегам. И вместо того, чтобы отвергнуть работу, я ее принял.
Мой выбор – простить – постепенно изменил мою душу, стал фундаментом моего будущего дела, и именно благодаря ему так изменился мой профессиональный путь.
Было время, когда я хотел уравнять работу и досуг. Я хотел меньше работать и чаще общаться с людьми. Мечтал переехать туда, где климат был мягче. Амбиции всегда связывали меня с оживленной больницей, где можно было сделать престижную карьеру.
А теперь моей главной целью была не слава – меня гораздо сильнее влекла хорошая погода.
Я решился и в тридцать два года пошел ва-банк, оставив академическую должность в Пенсильвании ради клиники в Сан-Диего. Моя жизнь изменилась в мгновение ока.
Вместо того чтобы пахать как вол и злиться на нервы и холод, я играл в пляжный волейбол и любовался потрясающе красивой природой. Я уже и не помнил, когда у меня выдавалась свободная минутка, – а теперь мог даже бегать трусцой и просто думать о том о сем, в том числе и о жизни.
В те дни я хорошо себя чувствовал и считал, что получал от жизни то, что заслужил. Я прошел путь от мальчика с заправки до нейрохирурга – и доказал, что мечта может сбыться, если постараться. Тех, кто не смог преодолеть обстоятельства, я считал слабаками. В глубине души я, наверное, даже считал себя лучше тех, кого лечил, – если бы они занимались здоровьем, говорил я себе, если бы заботились о нем, то у них и проблем бы не было.
Мир манил меня, как и прежде. Я любил вечеринки, концерты и светские рауты. Я заводил один роман за другим и, хотя любви и не испытал, пустился во все тяжкие ради мимолетных увлечений. А насчет Бога… Насчет Бога я думал так: я посвятил жизнь служению другим, а значит, делаю божье дело, и пусть Бог теперь думает, что сделать для меня! Сейчас я понимаю, что никому я ничего не посвятил, – а что касается божьего дела, так я ни разу и не спросил, хочет ли этого Бог, и если да, то как именно Он это видит. Я считал, что и так все делаю верно, – я ведь людей спасал, а это угодно Богу по умолчанию.
От веры я не отказался. Я перевел ее в «свободный режим». Хотелось – молился. Хотелось – читал Библию. Дома, в уединении. Я следил, чтобы вера не вмешивалась ни в мою работу, ни в мои отношения.
А потом, вскоре после того, как я переехал, случился один очень странный разговор. Я вовсю наслаждался новой жизнью, частью которой стали субботние пробежки вдоль пляжа. Где-то в глубине души я знал, что это милость Божья. Да, я считал, будто я ее заслужил – и будто сам совершил немало, – но мое сердце было более открытым к голосу Бога, чем на протяжении долгих лет.
В то время как я в один прекрасный день бежал по прибрежной прогулочной дорожке и засматривался на волейболисток, голос внутри меня – не слышный другим, но от этого не менее реальный, – спросил:
«Что ты делаешь?»
Сперва я не понял: то ли мои мысли вдруг обрели звучание, то ли со мной заговорил Бог. В любом случае, это казалось совершенно естественным, и я ответил как было:
«Ищу девушку, хочу познакомиться и закрутить роман».
«И давно ты так?» – спросил голос, ставя акцент на слове «давно».
Я прикинул, когда начал интересоваться девушками. «Лет восемнадцать».
«И как проходит твой роман?»
«Ну… – задумался я. – Знакомимся, месяца три встречаемся, потом она мне наскучивает, и я ищу другую. В последние годы как-то так».
«И что хорошего ты получил за эти годы?»
Я замер. Такая мысль мне никогда не приходила. Я посвящал общению тысячи часов, но никогда не спрашивал себя: а что я, собственно, с этого имею? Я порылся в памяти, желая найти хоть какой-то оправдательный итог, и пришел к мрачному выводу.
«Ничего, – наконец признал я. – Ничего я не получил».
«И сколько еще времени ты потратишь?»
Я молчал.
«Может, перестанешь?» – предложил голос.
«Да я помру с тоски! – вскинулся я. – Это моя жизнь! Я так надеюсь хоть кого-то встретить! Я даже утром встаю только поэтому! Я хочу обрести любовь – это моя единственная цель, кроме карьеры!»
Ответа не было.
Я решил, что, наверное, говорю с Богом. Сам бы я таких безумств себе не наговорил. Я немного подумал и решился.
«Давай договоримся, – предложил я. – Сам я знакомиться не стану. Но если девушка заговорит первой, приглашу ее на свидание».
Голос не возражал. Казалось, эта маленькая формальность его совсем не смутила, и я побежал домой. Какой я все-таки умный! Как я все провернул! Я знал: впереди еще ворох свиданий. Я – мужчина в самом расцвете сил, нейрохирург, мой дом рядом с пляжем, я только что приехал… И что, никто не придет познакомиться? Никто не устроит мне свидания?
И в джунгли пришла великая сушь…
Прошел месяц. Ко мне никто не подходил. Прошел еще месяц. И еще. Я занимал за девушками очередь в бакалее. Я натыкался на них. Помогал им с тележками. Они будто воды в рот набрали. Счет времени уже пошел на годы – и ни одна привлекательная женщина со мной не заговорила. Никто меня ни с кем не познакомил.
Мои свидания начались снова лишь спустя несколько лет. И не сказать, чтобы к тому времени я столь же сильно этого хотел. Сперва, конечно, ломало. Непросто было прекратить преследовать женщин после того, как восемнадцать лет только этим и занимался.
Но одиноким я себя не чувствовал. Все свои силы я бросил в другом направлении.
Я хотел познать Бога.
Я чувствовал, что Бог хочет поделиться со мной Своей мудростью, которая намного превыше моей.
Вскоре после той памятной «сделки» я задумался: а какой он, Бог? Я изучал иудейские священные книги, слушал лекции и читал Пятикнижие – Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Я просматривал длинные родословные и пытался проникнуть в библейские тайны. Я читал то Ветхий Завет, то новозаветные истории об Иисусе, все пытаясь понять: «Кто Он?» Я жаждал истины – и вскоре уже с нетерпением предвкушал тот миг, когда смогу выкроить из графика время для Библии. Я совершенно иначе смотрел на все, что происходило в моей жизни, и чувствовал, что Бог хочет поделиться со мной Своей мудростью, которая намного превыше моей. Я привык жить по-новому и спустя несколько недель с радостью вставал на рассвете, когда мог провести несколько часов в тишине и уединении.
Бог занял в моей жизни первое место. Как и в любых других отношениях, чем больше времени я проводил с Богом, тем лучше узнавал Его, – и не только как Бога Отца. Прежде я представлял Иисуса так: он был хорошим парнем и любил детей и бедных, но, к сожалению, он был слаб, потому его и убили. Вот почему я не хотел за ним следовать. Я не хотел быть слабым. Ну что мог Иисус сказать мне, такому прекрасному нейрохирургу, перед которым был целый мир?
Сейчас я видел совершенно иное. У Иисуса была огромная сила. Но я был поражен не этим – а тем, как Он ее сдерживал. Он редко применял силу. Будь у меня такая власть, я бы творил чудеса не переставая. Я бы лечил людей пачками. Я бы стал всеобщим любимцем. Я исцелял бы всех и каждого – да, ради исцеления, но еще, конечно, и для того, чтобы меня боготворили. Я вспоминал, как хотел открыть лекарство от рака, – конечно, прежде всего ради больных… ну и «немножко» для себя. Но Иисус никогда не искал дешевой славы. Он оскорблял людей, наделенных властью, и нарушал правила. И я понимал, чем еще Он обладал – и чего был лишен я. Он любил тех, кто ничем не мог ему помочь. Я проявлял внимание, когда мне от этого была какая-то польза. Я видел ценность в красоте, богатстве и разуме. Бедным я помогал только тогда, когда это замечали другие, – те, кого я хотел впечатлить. Я не мог вспомнить, когда делал для обделенных хоть что-нибудь просто так и не трубил об этом на всех углах. Жизнь Иисуса озарила черные дыры в моей.
Я изменился, прошел преображение, но все еще верил, упрямо и нагло, что мне не нужна Церковь. Мне нравился индивидуальный подход. Я не понимал, зачем нужна Церковь – по крайней мере мне. Моей «церковью» были волейбол и серфинг. Была и другая причина, по которой я избегал этого: страх. Я все еще жил как врач-еврей. Я все еще посещал синагогу. Я хотел иметь приватные отношения с Богом, не рискуя своей репутацией или отношениями.
Желание присутствовать на церковных службах крепло несколько лет. Я уже не мог ему противиться и как-то утром, в воскресенье, собрался с духом, завел машину и поехал в ближайшую церковь. Но на парковке, скованный страхом, я никак не мог выйти из машины. Что, если меня увидят? Что скажут коллеги? А больные, что говорили обо мне как о еврейском враче? Я ведь никогда их не поправлял. Чтобы набраться мужества, я твердил как заведенный: «Я свободный человек. Это свободная страна. Я не боюсь того, что обо мне скажут. Я пойду». Я подавил страхи, вошел и принял участие в первой христианской службе за двадцать лет.
Я знал, что моя вера мне дорого обойдется и отношения со многими людьми в моей жизни, огорченными моим выбором, изменятся навсегда.
Я думал, что был свободен, не позволяя приковать себя к Церкви, – но на самом деле я все время жил в тюрьме под названием «а что все скажут?». Я даже церковь искал под влиянием этого страха – и выбрал ту, где пастор, прежде иудей, уверовал в Иисуса как в Мессию. Я сделал так, чтобы оправдаться перед коллегами-евреями: случись им припереть меня к стенке, я бы мог сказать, что пастор – тоже еврей…
Я стал прихожанином, общение с христианами вошло в мою жизнь, – и однажды то, чего я так боялся, случилось. Врач, некогда приглашавший меня к себе на еврейские праздники, позвал меня к себе в кабинет. Он был старше меня и всегда относился ко мне по-доброму. Я уважал его семью, и общение с ними доставляло мне радость. Мы беседовали о нашем общем пациенте, когда он вдруг резанул:
– Я так понимаю, вы сменили религию?
Я оцепенел. Значит, он узнал, что я хожу в церковь, – и воспринял это как обиду. Повисла неловкая пауза. Я чувствовал, что вынужден защищаться, и не знал, что сказать. Вот этого я и избегал двадцать лет. Мне хотелось сказать что-нибудь глубокое, мужественное, героическое. Но вместо этого, точно нашкодивший школьник, я обвинил свою мать.
– Моя мама – христианка, – сказал я, пожав плечами. Я готов был под землю провалиться от стыда и искал, как ускользнуть от обвинения.
– А вы? – спросил он.
Я все еще хотел, чтобы меня звали на праздники, хотел чувствовать себя желанным гостем в еврейской общине, – но я не мог предать свою совесть. Ради свободы я должен был сказать правду.
– В учении Иисуса столько свободы… – промямлил я. – Я глубоко уважаю и восхищаюсь тем, что Он сделал, и тем, как Он относился к людям.
Я тянул волынку. Мы оба понимали, что это не ответ. Отец, ты ведь прошел через это! Значит, я поступлю так же, как ты!
– Я верю, что Иисус – Мессия.
У Бога есть цель для каждого из нас – и, возможно, эта цель очень сильно отличается от тех, какие мы ставим себе сами.
Я это сказал. Я действительно в это верил – и знал, что эта вера мне дорого обойдется, как некогда отцу. Еще я знал, что наши отношения и с этим врачом, и со многими другими людьми в моей жизни теперь изменятся навсегда. Он казался огорченным, но молчал. Я понимал, что он не одобряет мой выбор. Так и закончилась наша встреча.
Да, вышло неловко. Но я как-то пережил столкновение, мысль о котором годами – десятилетиями – терзала мне сердце. Больше меня никто не звал в гости на Песах или Хануку – этой радости я лишился. Конечно, на рабочие отношения в клинике это никак не повлияло. Но некоторые друзья отдалились, и мне было больно их терять.
И в то же время в моей душе царил мир. Я чувствовал силу и свободу – их даровал отказ от притворства и лжи. С временем я оставил прежнее стремление угождать другим – и учился следовать за Иисусом, воплотившим искренность и свободу от рабского ига. И еще я понял, что у Бога есть цель для каждого из нас – и, возможно, эта цель очень сильно отличается от тех, какие мы ставим себе сами.
И бесконечно более ценна.
Простившие да исцелятся
Когда я начал молиться о больных, то и понятия не имел, что открою силу прощения. Идея о том, что уныние, обида и злость могли губить здоровье, прежде казалась мне бессмысленной. Но со временем я убедился: один из самых мощных похитителей радости и силы – нежелание простить тех, кто причинил вам боль.
Я познал это на собственной шкуре. Я годами критиковал и осуждал других, годами винил их в своих недостатках и неудачах, годами завидовал, и моя злоба, обида и зависть пожирали всю радость от жизни. Прошло немало времени, прежде чем я это понял. Когда я прощал, то чувствовал, что могу жить в полную силу. Я становился более счастливым и вольным, меньше спорил, меньше тревожился, – и обретал уверенность в себе. Пока я цеплялся за обиду, я алчно желал достигать все больших и больших вершин в работе, – по большей части стремясь доказать, что я лучше тех, кто причинил мне боль. А в итоге – чувство вечной нехватки и пустоты, независимо от того, насколько я преуспевал в карьере. Когда я стал прощать – отец был только началом, – то разорвал этот порочный круг, запустил поток перемен и благодаря этому со временем понял, как заботиться о людях иначе, не с таким эгоизмом, как прежде.
Я понял: простить нужно не только из-за психологии. Здесь очень важна и психосоматика. Эмоции влияют на иммунную систему и могут усилить ее или погубить. Счастье исцеляет. Горе приносит болезни и смерть14.
Эмоции влияют на иммунную систему и могут усилить ее или погубить. Счастье исцеляет. Горе приносит болезни и смерть.
Освобождение от горечи и злобы может исцелить, устранив настоящую причину болезни, и часто помогает лучше любой таблетки или операции. Уныние и злость – они словно курение: рак легких не у каждого курильщика, но врач всегда рекомендует бросить. Это привычка, ведущая к смерти. Постепенно я пришел к уверенности в том, что уныние, обида и злоба провоцируют одни болезни и мешают исцелению других, – и решил проверить это с больными и посмотреть на результат.
Я и понятия не имел, сколь эффективно это будет.
* * *
Рон, высокий силач лет сорока, работал в пограничной патрульной службе США. Солдата в нем можно было признать с первого взгляда. Выдавал «ежик».
Еще он явно занимался штангой: черная футболка скрывала прекрасно развитые грудные мышцы, а руки у него были просто огромными – толще, чем у меня ноги.
Еще у него был огромный клубок сосудов в твердой оболочке мозга. По-медицински – дуральная артериовенозная фистула. Иными словами, его артерии и вены переплелись. В норме такого не бывает. В артериях и венах разное давление, их разделяют мелкие капилляры, которые, словно трансформаторы, понижают давление артериальной крови – иначе вены не выдержат. Но иногда – и никто не знает, по какой причине – между артериями и венами формируются «неправильные» сосуды, группами по несколько десятков, и начинают истекать кровью, – их тонкие стенки не справляются с давлением. Кровь из артерий, проходя прямо в тонкостенные вены, расширяет их, переполняет и застаивается. Итог – судороги, кровоизлияния, а то и что похуже.
Эти фистулы – дикая головная боль. Для врача – в переносном смысле. Для больного – в прямом.
Рон не мог спать – он слышал, как у него в голове шумит кровь. Я объяснил ему варианты. Такие фистулы сложно исправить: приходится блокировать слишком много узлов, а иногда не удается даже подвести инструменты. Рон все понял и согласился: нужно спешить. Мы назначили операцию на ближайшую свободную дату, и беседа перешла в иное русло.
Помимо головной боли, Рои жаловался на шейный артрит. Шея безбожно ныла: ему не то что работа, жизнь была не в радость. Его уволили по инвалидности. Артрит не был связан с фистулой, да и вообще он в таком возрасте встречается довольно редко. Откуда у молодого спортсмена такая тяжкая болезнь? Когда что-то кажется мне бессмысленным, я думаю: а может, причины просто в другой области?
– Рон, если позволите… – я кашлянул и мысленно призвал всю свою отвагу. – Я хочу убедиться в том, что операция позволит вам исцелиться, а для этого вам нужна эмоциональная стабильность. Чувства влияют на нас, они способны и излечить наши тела, и разрушить. Страх, гнев, обида – все это может очень серьезно сказаться на здоровье. Обида – вообще как кислота. Разъест и не заметит.
Он чуть повел бровью. Сердце екнуло, и я взглянул гиганту прямо в глаза.
– Кого вы не в силах простить? – спросил я.
Он не сводил с меня взгляда. В них я видел сперва непонимание и растерянность, затем – удивление, серьезность и злость. Он хотел что-то сказать, но сдержался.
Я был напуган. Я впервые спросил о таком. Мне хотелось выйти за пределы молитвы. Я искренне верил, что причины проблем со здоровьем – не всех, но по крайней мере некоторых – лежат в сфере духа и чувств. Ясное дело, я и понятия не имел, что за что отвечает, вот и решил проверить. И угораздило же меня взять в подопытные кролики этого Голиафа!
Гляделки продолжались. Рои запыхтел, как кипящий чайник. Казалось, он вскочит с кресла и ринется ко мне через весь кабинет. На всякий случай я чуть откатился. И почему меня всегда тянет играть со спичками!
После нескольких долгих болезненных секунд он опустился в кресло, склонил голову и сказал то, чего я никак не ожидал.
– Мать.
Что? Мать? Я думал услышать про отца. Или хоть про сержанта.
– Простите? – переспросил я.
– Мать. Ненавижу мать, – повторил он. – Мы много лет не общались.
Это правда происходит? Не снится? «Морской котик» сказал, что обижен на мать?
– Расскажете?
И он рассказал – как она испоганила ему детство и как все время орала, что он ей не нужен. Он натерпелся от многих, но это было больнее всего. А когда мать отказалась его слушать и предпочла отчима, который бил и ее, и сына, он понял: его просто предали.
У меня не было карты духовных территорий, но я знал направление.
Обида – это яд, который вы пьете в надежде, что умрет ваш обидчик.
– Я могу вас понять, – сказал я. – Вы несправедливо пострадали и имеете полное право злиться. Думаю, именно эта злость убивает вас и лишает вашу жизнь радости. Обида – это яд, который вы пьете в надежде, что умрет ваш обидчик. И чтобы исцелиться, вы должны совершить очень смелый шаг. – Я ненадолго умолк. – Вам нужно простить вашу мать. Не хочу настаивать, если вы к этому не готовы, но в ином случае буду рад вам помочь.
– Я согласен, – кивнул он. – Что надо делать?
– Вы знакомы с религией?
– В детстве крестили. Баптисты. Но я давно все это бросил.
– Злитесь, когда при вас упоминают Иисуса?
– Нет.
– Я люблю это имя. Иисус призывал нас прощать. И Он помогает, особенно когда нам очень трудно это сделать.
– Ага, – ответил он.
– Некогда Иисус сказал нечто очень важное: если мы простим те обиды, которые нам нанесли, Бог простит и нас. Если же не простим, то и прощения не обретем15.
– Правда? – он казался искренне удивленным. – Я этого не знал.
– Да, это так. Теперь я начну, а вы повторяйте за мной. Попытайтесь прочувствовать все, о чем я буду говорить. Если согласитесь, говорите так, как будто это ваши собственные слова.
– Хорошо.
Я начал говорить:
– Господи, выслушай меня. Я решил простить свою мать. За всю ту боль, какую она причинила мне и своими поступками, и своим бездействием. А в особенности за то, что она… Продолжайте, Рои. За что вы ее прощаете?
– За то, что не умела выбирать, – выдохнул он.
Как только эти слова сорвались с его губ, он начал плакать. Я встал и поднялся, чтобы найти коробку с платочками.
– За то, что думала только о себе, – казалось, он годами ждал, чтобы сказать это. – За ее вечные пьянки. За то, что забросила себя. – Его слезы никак не хотели прекращаться. – И за то, что бросила меня из-за мужика. За то, что ее не было рядом, когда мне это было так нужно. За то, что наплевала на меня.
Он уже рыдал, и я только надеялся, что нас не услышат в других кабинетах или в приемной. Я дал ему всю коробку с платками.
– Вы еще что-нибудь хотите ей простить?
Он задумался, протер глаза и высморкался.
– Нет. Думаю, это все.
– Хотите попросить прошения у Бога? – спросил я. – За то, что так долго таили в душе обиду и злобу на мать?
Он даже не ждал моих слов – и заговорил сам.
– Господи, прости меня, – выдохнул он. – Прости, что я злился на маму.
Казалось, будто рухнула стена, отделившая его от Бога. В комнате стало легче дышать.
– Если это все, – сказал я, – знайте, Бог любит вас и прощает.
Он кивнул.
– Можно еще кое-что сказать? – спросил он. – Я ведь и сам далеко не ангел.
– А почему Бог прощает нам грехи? – спросил я, помня, что Рон рос при церкви.
– Иисус, – просто ответил он.
– Поблагодарите Его?
– Иисус, спасибо Тебе, – сказал он. – Спасибо, что искупил мои грехи.
Минуту мы помолчали. Я все еще поражался тому, что случилось.
– Знаете, вы совершили очень смелый поступок, – наконец сказал я. – Как вы?
Он протер глаза и посмотрел на меня с сияющей улыбкой.
– Хочу позвонить маме, – ответил он. – Не могу дождаться, когда поговорю с ней. Это прекрасно, док. Я будто заново родился.
Он почти не был похож на себя прежнего – того, кто переступил порог моего кабинета. Ледяная маска растаяла, он словно сиял. Из смотровой он вышел чуть ли не вприпрыжку.
Операция прошла через три недели – было сложно, но все закончилось хорошо. На закупорку фистулы ушло шесть часов. Гул крови он перестал слышать сразу же, и мы оба спокойно вздохнули. Встречались мы потом пару раз. Он сказал, его новая радость настолько сильна, что ее ничего не в силах ослабить. Боль от артрита стала намного меньше, и ему теперь не требовались таблетки. Он отличался от себя прежнего, словно земля и небо. Улыбка не сходила с его губ, и я невольно улыбнулся в ответ, как только его увидел. Его мать недавно начала новую жизнь, стала ходить в церковь, и они планировали воссоединение семьи. Ее отношения с родными, прежде далекими, начали исцеляться.
Прощение превратило разъяренного морского пехотинца в радостного и светлого ребенка.
Это был первый раз, когда я предложил больному простить и попросить прощения, – и я никогда не видел столь преображающей силы. Ни лекарства, ни операция не могли с этим сравниться. Прощение превратило разъяренного морского пехотинца в радостного и светлого ребенка.
Прошло несколько месяцев. Я провел еще нескольких через прощение различных обид и ситуаций. Результаты потрясали, каждый по-своему.
Один больной с небольшой аневризмой и болями в спине и шее сказал мне, что ненавидит своего агента по недвижимости, – тот завел его в субстандартную ипотеку прямо перед тем, как рухнул рынок жилья. Как и полагалось по закону, он сообщил об этом агенте властям, чтобы тот не причинил вреда другим людям, – но и сам не избежал последствий: дом забрали, и теперь он жил с дочерью. Еще у него умерла жена, с которой он прожил сорок восемь лет, – и теперь он злился на Бога. После того как мы поговорили, он перестал винить Бога, простил агента за финансовый хаос, стал относиться к жизни светлее и, к моему удивлению, боль в шее ушла. Как-то раз он сам обратился к Богу – и хотя сперва просто жаловался, но вскоре начал понимать, насколько благословенной была его жизнь на протяжении всех сорока восьми лет брака. Пройдя множество напрасных процедур, тестов и сканирований, он избавился от боли только тогда, когда отпустил тех, кого не простил прежде, и когда честно признался Богу в том, сколь болезненной оказалась для него разлука с женой.
* * *
Одна индианка – причем весьма ортодоксальная: каста, карма, дхарма – жаловалась мне на постоянные головные боли. Она злилась на дочь: та в двадцать один год съехалась с парнем. Да, в Америке это нормально. В Америке все нормально. Но для их семьи это жуткий удар. Дочери побоку ценности семьи. Но она все время требует денег, денег, денег…
– Она сделала свой выбор, – сказал я. – Простите ее. И за то, что просит денег, тоже простите. Верю, вас волнует ее судьба. Материнскую заботу ничто не заменит. Но есть то, за что отвечать ей самой.
Мы еще немного поговорили.
– Знаете, – вдруг сказала она, – а голова-то прошла.
Когда ко мне пришла Рода – чуть за сорок, церковь в жизни была, но когда-то давно, – я уже довольно бойко говорил о прощении и рассказал ей, как прошлое, которое мы не в силах простить, губит наше здоровье.
– Занятно, – заметила Рода. – Только на той неделе обмолвилась, что неплохо бы отца простить. Он уже пару лет как на том свете. Злой был как упырь.
– Вам, в общем-то, ничего не мешает начать хоть сейчас, – отозвался я. – Хотите, помогу?
– Хочу.
– И что вы хотите ему простить?
– Что выдал меня замуж за такого же кровопийцу.
– И вы вините Бога в том, что все так вышло?
– Да не особо, – напряглась она. – Всякое бывает.
– Рода, а давайте так, – предложил я. – Наверное, вы долго ломали голову над всякими «почему», да «зачем», да «за что». Оставьте их. Хотя бы ненадолго. Лучше подумайте о том, сколько благ вы до сих пор принимали как должное.
– Хорошо, – сказала она. – Я постараюсь.
И мы прошли через все шаги прощения. Так я провел уже десятерых. К тому времени, когда мы закончили, ее охватила глубокая радость.
– Как будто свет засиял! – удивилась она. – Почему-то хочется вернуться в церковь. Снова быть с Богом.
– Он тоже долго ждал, пока вы решитесь, – сказал я.
– Я так рада, что поняла это! Он словно снова ворвался в мою жизнь!
Мы простились, и я проводил ее. Она улыбалась, и я был доволен тем, что разговор между ней и Богом начался заново.
Естественно, были и те, кто не хотел иметь ничего общего ни с прощением, ни с «этой психологической туфтой» – например, одна элегантная дама с букетом заболеваний: тяжелый артрит, щитовидка, апноэ – и это еще только цветочки.
– Ничего вы, врачи, не умеете, – едко бросила она. – Я уже столько вас обошла. А сплю по два часа за ночь.
– А вы ни на кого случаем не злитесь? – предположил я. – На людей, на себя? На Бога?
– Ни на кого я не злюсь, – отрезала она.
– Может, вас обидел кто?
– Нет. Никто меня не обидел!
Даже для тех, кто выбирает прощение, это начало долгого пути, а не разовая сделка и не панацея. «Простить и забыть» – так не получится. Прощение должно войти в кровь.
Стать частью души.
Я предложил ей посетить консультанта, но не настаивал, и перешел к разговору об устранении возможных медицинских причин. Остаток беседы прошел нормально.
На повторном визите, когда мы должны были поговорить о результатах назначенного мной сканирования, первым же делом, прямо с порога, она рявкнула: – Мне не по нраву ваш психоанализ!
Я развернулся, не вставая с кресла, и встретился с ней взглядом.
– Прошу прощения, что обидел вас, – ответил я. – Поверьте, я не хотел.
– Знаю, – смягчилась она. Но пункт был ясно обозначен. Мы поговорили о проблемной артерии. Опасности она не представляла. В чем бы ни крылась причина боли, артерия была ни при чем. Никаких операций я не рекомендовал.
– Скажите, а есть нормальный врач, который лечит круги под глазами? – спросила она.
– Есть, – сказал я. – Я дам вам имя.
Было ясно: она хотела лечить симптомы, а не искать причину проблем. Я назвал ей врача, и она покинула мой кабинет. Больше я ее не видел.
О прощении я говорю только тем, кто для этого открыт и кому это нужно. Даже для тех, кто выбирает прощение, это начало долгого пути, а не разовая сделка и не панацея. «Простить и забыть» – так не получится. Прощение должно войти в кровь. Стать частью души. Это требует времени и усилий. Но оно того стоит.
Правда, порой найти корни болезни очень нелегко. Особенно когда к ней добавляется семейная тайна.
К нам в реанимацию попал Дэйв, невысокий сорокалетний толстячок. Инсульт – рванула недиагностированная аневризма. По счастью, инсульт был небольшим, а кровотечение – не слишком сильным.
* * *
Там, в реанимации, мы и встретились. Несмотря на явную опасность, которую представляла его ситуация, вел он себя вызывающе, но при этом растерянно и вообще казался уставшим от жизни.
– Как вы? – спросил я.
– Голова побаливает, – ответил он. – Немного.
Его речь была ясной. Кровь поразила полости головного мозга, но не вещество – и не нанесла особых травм. Ему повезло. «Уклонился от пули».
– Да вы счастливчик, – сказал я. – Треть до больницы не доезжает, а вы головной болью отделались. Когда все случилось?
– Пару часов назад, – ответил он.
– И как все было?
Он ненадолго умолк. Лицо ничего не выражало.
– Я был с одной… в общем, гулял от жены, – признался он. – У нас уже дошло до дела. И тут разболелась башка. Я понял: что-то не так.
Да уж, подумал я. Секс – это прекрасный способ порвать аневризму. Со спортом многие не дружат, и секс – высший стресс для их кровеносной системы. И аневризма проявляет себя в очень неудобное время.
– А что потом? – спросил я.
– Потом я упал, но успел позвонить сыну.
Он говорил с трудом. Я ощутил, что ему стыдно за обстоятельства инсульта.
Я просмотрел снимки и решил сделать операцию утром. Удар пришелся в субарахноидальные пространства, но в левой височной доле, где располагалась аневризма, крови почти не было. Если бы я обнаружил разрастающийся тромб, то перевел бы больного в хирургию. Но распуханий не было. Давление тоже держалось в норме. Дэйв явно не утратил ни умственных, ни физических способностей.
А значит, спешить незачем. Тем более, рабочий день только начался. Ночные операции более рискованны: когда уставшие люди хотят спать, мысли путаются и руки как деревянные. Аневризма уже перестала кровоточить. Да, был риск, что снова начнет, если ничего не сделать в период от двенадцати часов до суток. Но опасность невелика, а такие случаи требуют высокой концентрации и мастерства, так что нейрохирурги предпочитают иметь с ними дело в обычные рабочие часы.
– Обсудим все завтра утром, – сказал я. – А сейчас давайте о рисках. Во время операции аневризма может снова изойти кровью. Это риск инсульта или смерти. Ваша проблема довольно серьезна. Вопросы?
– Нет, – он покачал головой, избегая моего взгляда. Видимо, его снедало нечто большее, чем головная боль – тяжесть положения и стыд от того, что в это вовлечен его сын.
Вина и стыд – с ними многие попадают в больницу. Это похоже на то, когда вас ловят с поличным. Вы тихо сидели в уголке, делали свое темное дело, и вдруг ваша маленькая тайна раскрылась. Если поймать людей на горячем, они часто смиряются, раскаиваются, признают, что перегнули палку, и хотят, чтобы кто-то помог им примириться с Богом и избавиться от вины и стыда. Это отрицательные эмоции невероятной силы, и они способны уничтожить наши тела. В тот момент, когда мы стыдимся своих действий, виним себя и боимся последствий, организм выплескивает гормоны стресса: они повышают кровяное давление и не дают нам спать, пока все думаем, как выйти из положения.
Я не собирался пользоваться ситуацией в своих интересах, но хотел дать Дэйву возможность очистить совесть, если он где-то перешел черту. Ему было так стыдно, что этот стыд мог нанести вред его здоровью. Да, я мог бы подождать до утра, но ночью могло начаться кровотечение, и я почувствовал, что должен спросить его сейчас и дать ему возможность поспать. Я чуть коснулся его предплечья и с добротой посмотрел на него.
– Вы росли в религиозной семье? – спросил я.
– В протестантской. Но сейчас я равнодушен к религии.
– Вы страдаете, – сказал я мягко. – Это убивает ваш мозг. Если хотите о чем-то сказать или примириться с Богом, сейчас самое время.
Он посмотрел на меня с глухим презрением, закатил глаза и резко, насмешливо фыркнул.
– Может, позвать священника? – предложил я.
Вдруг ему неловко, что нейрохирург узнает подробности его жизни?
– Нет, не надо.
– Хорошо, – согласился я. – Знаете, у меня привычка молиться о больных. Ваша аневризма может разорваться, пока мы ее не исправим, – а исправим мы ее только завтра. Не возражаете, если я помолюсь о вас? – Я ждал, а он озирался, словно избегая вопроса. – Не хотите, не буду.
– Да нет, все нормально, – выдохнул он.
Я положил руку ему на плечо.
– Господи, – сказал я. – Ты все знаешь о Дэйве. Ты любишь его. Прошу, сохрани его этой ночью, и пусть аневризма останется целой, пока мы ее не исправим.
Молю, на операции сделай мои руки чуткими, а мысли – ясными. Во имя Иисуса, аминь.
Я вышел. Дэйву по-прежнему не было дела до аневризмы: он думал о другом. Я ушел домой, зная, что мы скоро встретимся.
Утром меня разбудил телефонный звонок. Аневризма Дэйва снова кровоточила. В левом полушарии мозга, где находятся центры, отвечающие за речь и понимание, образовался крупный тромб, и Дэйва разбил паралич. Когда я пришел, он уже с трудом говорил и не понимал, почему его правая рука не двигается, а правая сторона лица обвисла, как после инсульта.
Возникла и новая проблема. Прежде чем мы успели отвезти его в хирургию, медсестра сказала, что со мной хочет поговорить полиция. Нейрохирурги привычны ко многому и редко удивляются жизненным поворотам, так что я спокойно вышел в приемную к офицерам.
– Добрый день, – мы пожали руки. – Чем могу вам помочь?
– Нам нужно опросить одного из ваших больных. Дэвид Джексон, – ответил один. – Мы знаем, его привезли сюда прошлой ночью.
– Да, это так, – согласился я. – Только он вам ничего не ответит. Инсульт поразил его речевой центр, и он не может говорить.
Блюстители закона разочарованно молчали.
– А когда он… вернет свои способности? – спросил другой.
– Может, и никогда, – ответил я. – Это мы узнаем лишь через неделю после операции. И то если она пройдет хорошо.
– Ясно. Спасибо, доктор. Хорошего вам дня, – оба кивнули на прощание и удалились.
Рядом уже навострила уши медсестра.
– А что он сделал? – спросил я.
– Они говорили про девочку. Ей вроде как не было восемнадцати. Вот урод, – бросила она, развернулась и ушла по своим делам.
Я вошел в палату Дэйва. Да, занятная у него вышла оказия. Он уже не сидел, а лежал, откинувшись на постель, и в его глазах я видел страх. Ему не сказали о полицейских, но за последнюю пару часов он, видимо, понял, что с его телом и впрямь творится что-то не то.
– Доброе утро, Дэйв. Как вы? – спросил я.
Он промычал какую-то невнятицу. Правая половина лица застыла гипсовой маской. Он попытался снова – и снова напрасно. Тогда он просто вздохнул, словно махнув на все, и прекратил попытки.
– Все в порядке, – сказал я. – Можете пошевелить руками?
Он двинул левой. Правая висела плетью.
– А правой, Дэйв?
Он двинул левой и слегка улыбнулся, как будто я просил именно этого. Улыбка вышла половинчатой. Я поднял правую руку, указал на нее и повторил просьбу. Ничего.
– Вы понимаете, чья это рука?
Он помотал головой и прогудел что-то вроде: «Ууу…»
– Похоже, нет, – сказал я сам себе. – Вот же…
Одностороннее пространственное игнорирование – так в медицине называют то, что случилось с Дэйвом. Тромб давил на левое полушарие – и Дэйв совершенно не чувствовал правую руку. Он даже не понимал, что эта рука у него есть. Тело стало для него безвыходной тюрьмой. Паралич и немота прилагались.
Пришло время закупорить аневризму и предотвратить риск нового инсульта. Но уже нанесенный ущерб я исправить не мог. Техники ждали в операционной. Но у меня было гнетущее чувство, что Дэйву будет все хуже. И о полиции я тоже знал – как и о том, что причиной ее интереса были его амурные похождения. Обычно я не повторяю некогда отклоненного предложения, но на этот раз хотел дать ему еще один шанс – возможно, последний шанс – примириться с Богом.
– У вас опять был инсульт, – сказал я. – Теперь вы не можете говорить. Вы хотели бы обратиться к Богу? Вы можете сделать это в молчании. В душе.
Он мотнул головой. Я мягко взял его за руку.
– Позволите мне произнести еще одну молитву?
Дэйв пожал плечами, глядя в пустоту.
Я не был уверен, чего он хочет, и я никогда не подталкиваю к молитве людей, которые этого не хотят, – даже если они не могут говорить. Так что я спросил снова:
– Дэйв, вы не против, если я о вас помолюсь? Если вы согласны, кивните. Я не стану, если вам неловко.
Он схватил мою руку и кивнул. Кажется, он утешился тем, что я буду говорить с Богом от его имени.
Двадцать минут спустя я был в просмотровой и вместе с техниками рассматривал на экране трехмерную реконструкцию КТ-ангиограммы. Аневризма Дэйва предстала во всей своей красе. Я повертел картинку, оглядев ее со всех сторон. Аневризма была пакостная, крупная, ее доли свисали, как груши, а вдобавок ко всему с ночи появился еще один тромб.
Разорванная аневризма может кровить снова и снова. Давление в артерии – сто двадцать миллиметров ртутного столба. В полости мозга, куда хлещет кровь, оно в десять раз ниже, – около двенадцати миллиметров. Первый инсульт поразил основание головного мозга, кровь заполнила полости, но успела разжижиться прежде, чем нанесла сколь-либо значительный ущерб. Во второй раз – не успела и ударила из артерии по мозгу, как вода из шланга – по мягкой грязи. Именно этот удар повредил речевые и двигательные центры Дэйва.
Медицина почти ничем не могла компенсировать нанесенный вред. Дэйв должен был восстановиться сам. Мне предстояло только разобраться с аневризмой и устранить риск нового разрыва.
Я знал, что будет крайне непросто, и должен был принять тяжелое решение. Открытая хирургия? Рассверливать череп? Или пройти по бедренной артерии и закрыть ее катушками? Оба варианта имели свои достоинства и недостатки. Первый позволил бы увидеть саму аневризму, так сказать, при свете дня, – и, возможно, лечение стало бы более эффективным: я бы клипировал четко определенную артерию. Прямой доступ к такой сложной аневризме давал явные преимущества.
Только чтобы до нее добраться, мне предстояло развести доли мозга.
Левое полушарие и так уже было травмировано. Речевой центр отказал. Не навредить, отодвигая распухший мозг на пути к аневризме, почти невозможно. Я смотрел на экран и кусал губы.
Нет, все-таки через артерию. Оставим мозг в покое. Вторжение должно быть минимальным.
Через пару минут я вышел в операционную. Дэйв, обернутый синей тканью, уже лежал на столе, под наркозом. Так чего же хотела полиция? Чему он так противился, когда я спрашивал о примирении с Богом? Мне предстояла не просто операция на мозге. Его душа была на грани. И мне почему-то казалось, что Дэйв еще не готов к встрече с Создателем. Может, он считал, что недостаточно пострадал за грехи? Имел тайный порок и не мог от него отказаться? В любом случае, что-то осталось нерешенным.
Я встал рядом с ним, ввел иглу в бедренную артерию, и операция началась. Она должна была завершиться лишь после того, как я полностью закрою аневризму Дэйва платиновыми катушками. Паршиво, что она – словно груша. Теперь нельзя позволить крови дойти до купола. А он захватывал разорванную область. Одной катушки явно не хватит – это оставит пустоту на другой стороне аневризмы, и кровоток просто пойдет вокруг. Придется строить эффективный барьер – микроплотину, – чтобы кровь прекратила давить на слабую сторону аневризмы. И делать все это на самых крошечных расстояниях.
Я провел катетер по левой внутренней сонной артерии к основанию мозга. Ввел через него еще один катетер, тонкий, и проволоку с изогнутым наконечником. До нужной точки чуть больше метра. Потом поверну проволоку и переведу ее вправо или влево. Дойду, потом решу.
Я по привычке затаил дыхание и осторожно двинул катетер по проволоке – в аневризму.
До точки метр. Этот метр – как Эверест. Кто знает, во что там упрутся ваша проволока или катетер? Сосуды гибкие, они гасят силу движения. Надавите слишком сильно – проволока рванется вперед и, не приведи бог, разнесет аневризму. Так на операциях и умирают. Или получают травму на всю жизнь. Проткнете сосуд или аневризму, мозг заполнится кровью – и все. Извечный риск.
Я продвигался осторожно и прошел этот метр за час.
Так, время ювелиров. В катетер пошла первая катушка. Двадцать сантиметров платиновой проволоки, которая на выходе превратится в семимиллиметровую сферу. Она станет фундаментом. Я мягко продвигал катушку все дальше к аневризме. Наконец она дошла до цели и начала скручиваться. Пока все правильно. Мой маленький домик строится. Я бросил взгляд на экран. Здоровая какая, зараза. А так-то диаметр – с ноготь.
– Просмотр, – сказал я.
Помощница-техник перенастроила аппарат для получения новых снимков, и я нажал на педаль.
Цифровая субтракционная ангиография, прошу любить и жаловать. Компьютер делает снимки черепа и мозга – сперва без контраста. Это первый набор. Потом аппарат подает сигнал, я ввожу контраст, и пока тот идет по артериям, машина непрестанно фотографирует, делая три кадра в секунду, и устраняет все, что совпадает с первыми снимками. Остается лишь изображение контрастного агента, проходящего по резко очерченным артериям и венам, и никаких костей. Потом, проигрывая снимки как фильм, я выискиваю, что не так. Не уперлась ли катушка в главный сосуд, грозя тромбами и инсультом? Не проткнет ли заднюю стенку, вызвав кровотечение? Поступает ли кровь во все нетронутые сосуды? Я не хотел повреждать ни одного.
Люблю смотреть ангиограммы. Никогда не устану наблюдать, как кровь течет через мозг. А лучше всего – те, на которых прежде рваная аневризма уже идеально заделана и не кровоточит. Вот такой фильм я и хотел сейчас посмотреть. Но он только начался. На экране отразились мозговые артерии с аневризмой и новым «приобретением» – платиновой сферой. Встала она идеально.
– Так, поехали, – сказал я, замедлил фильм и начал смотреть его по кадрам.
Сфера пока что была непрочной. Я ввел еще одну. Проволоки на нее пошло меньше, так что и в диаметре она уступала. Каждая новая сфера делалась меньше предыдущей, – тогда они, как русские матрешки, соединялись в плотный и твердый шар, способный выдержать давление крови.
Я ввел еще несколько катушек, каждый раз проверяя, все ли на месте, – сосуды в любой момент могли сдвинуться. Вскоре платина закрыла одну сторону аневризмы, и я зашел с другой. Фундаментом новой «застройки» стала пара опорных катушек, и я добавлял к ним другие, ожидая той минуты, когда толщина новой сферы позволит ей сдержать кровоток.
В прежние годы я бы отпустил пару циничных шуточек по поводу морального облика Дэйва, и мы бы с техниками, наверное, посмеялись. В прежние – но не сейчас. Им не требовалось знать никаких личных подробностей для выполнения своей работы. Передо мной лежал не манекен, а человек. Я стремился дать всем своим больным все, что мог, а значит, личная жизнь Дэйва была максимально закрыта. Когда выдавался перерыв, я молча просил Бога дать ему еще один шанс на праведную жизнь.
Еще я следил за долей разбавителя крови. Здесь тоже нужен баланс. На инородных телах, проникших в сосуды, – именно таковы катетеры и катушки, – иногда формируется тромб. Стоит потоку крови подхватить его и умчать в мозг – инсульт не за горами. Дэйв и так едва дышал. А его аневризма кровилауже два раза, так что вполне могла отличиться и в третий. При травмах, хоть и не всегда, но довольно часто, кровь начинает свертываться быстрее: срабатывает защита, и это повышает опасность появления тромба.
Так что? Добавлять разбавитель как можно раньше?
Но насколько раньше? До блокировки аневризмы? А если катушка прорвет стенку артерии? Тогда Дэйв истечет кровью. И остановить это будет нелегко.
Я все-таки решил ввести антикоагулянт: свертывание встречается чаще кровотечений. Но теперь моя задача стала намного более деликатной. Словно Одиссей, я вел свой корабль между Сциллой и Харибдой. И кровотечение, и появление тромба – все могло привести к тому, что Дэйв не выйдет из операционной живым. Мы уже два часа шпиговали аневризму катушками. О да, чем меньше больной пролежит на столе, тем хирургу спокойней, – но я был не вправе спешить. Шаг за шагом, только шаг за шагом. Последние катушки – самые сложные и опасные. Когда бутылку заполняешь по самое горлышко, перелиться может в самый последний момент. Если катушка выпадет из аневризмы в артерию – жди проблем. Если катушек не хватит – барьер не выдержит, катушки собьются в кучу и аневризма раскроется вновь. Работа, как черная дыра, поглощала все силы. Но наконец я возвел преграду, которая, как мне казалось, могла выдержать неустанное биение крови.
– Все, – выдохнул я. – Давайте ушивать.
Особым устройством я зашил прокол в бедренной артерии и через несколько минут вышел, просматривая снимки.
Ангиограмма показала, что я закрыл аневризму. Но то, что с сосудами все хорошо, еще не означает, что пациент очнется таким же, каким заснул. Дэйв проснулся спустя четверть часа. Из-за тромба, вызванного вторым инсультом, говорил он все еще невнятно. Еще через час я зашел к нему в палату. Речь, движение – все осталось как прежде.
Да, Дэйв, теперь только сам. И где же ты так накуролесил?
* * *
На следующий день ко мне зашла женщина. Выглядела она уставшей и изможденной. Очень уставшей. Краше в гроб кладут.
– Добрый день, – сказала она. – Меня направили к вам. Дэйв Джексон. Нужно подписать бумаги на пособие. Его могут на улицу выгнать.
Ее речь была резкой и рваной.
– А вы… жена? – уточнил я на всякий случай. Мало ли.
– К несчастью, да, – ответила она. – Юридически. Так-то мы разошлись. А что с ним?
– Операция прошла хорошо, – ответил я. – Больше поймем, когда восстановится. Рад, что вы можете помочь ему с документами. Сам бы он не справился.
Я видел: все, что случилось, словно придавило ее к земле. Она была в смятении. В растерянности. В отчаянии.
– Вижу, у вас непростые времена, – сказал я. – Наверное, вам очень трудно.
– Это кошмар, – вздохнула она. – И главное, он ведь и детей в это втянул.
– Куда? – спросил я. – Я ведь ничего не знаю. В чем там дело?
– О, это хорошо, что вы не знаете, – язвительно бросила она. – Это особое дело. Он кого-то там нашел в интернете. Сказала, что взрослая. Обманула.
Так вот почему приходили офицеры!
Она рассказала все. Дэйв пригласил пассию к себе, и когда они были вдвоем, рванула аневризма. Дэйв уже подозревал, что девушке нет восемнадцати, – и не стал вызывать скорую, боясь, что работники сообщат в полицию. Он позвонил сыну, а тот, в свою очередь, позвонил Морин. Пока сын с отцом ехали в больницу, Морин хотела отвезти девушку домой, но та сбежала, – а потом пошла в полицию и сказала, будто Дэйв с сыном ее изнасиловали. Обвинения уже предъявили. Обоим.
Морин кипела от гнева. Я почти видел, как ее бьет мандраж.
– И как вы, справляетесь? – спросил я.
– Не уверена.
– А семья? Родные вас поддерживают?
– Не то чтобы очень. Какая тут уже семья? Мерзость!
– Знаете, может, вам это покажется странным, но вы тоже в опасности, – сказал я.
Моя голова немного кружилась от количества драм.
– Да? Это в какой же?
– Дела семейные тут ни при чем. Хотя да, положение не из приятных, – сказал я. – Просто вы рискуете поддаться злобе и горечи. Это обременит и вас, и семью. Да, у вас есть полное право злиться и горевать. Но вам это ничего хорошего не принесет.
Она склонила голову к плечу и недоверчиво посмотрела на меня.
– О да, горе мне знакомо, – сказала она. – Прекрасно знакомо.
– Тогда вы согласитесь: это сильнейшая эмоция, и она способна навредить и вашим чувствам, и вашему здоровью.
– Кто вы? Психолог? – она провела границу, и теперь я должен был ступать очень осторожно.
Да, я не психолог. Я нейрохирург. Психология – не мое поле, и ни больные, ни их родственники не ждут от меня консультаций. Я осторожен и не перехожу профессиональных границ. Многим из тех, кто приходит ко мне на прием, я рекомендую посетить психолога и обрести постоянную эмоциональную поддержку. Но если я могу открыть людям, что они вольны исцелить себя, если изменят образ мышления, то считаю это частью своей работы.
– Нет, – сказал я. – Но у многих, кого я встречал, здоровье ухудшалось именно тогда, когда они злились, завидовали или обижались. И улучшалось, когда они прощали. Это не психология, а просто мой опыт. Могу рассказать, только не сейчас, а в полпервого. У меня будет перерыв на обед.
Будь у нее все в порядке, она, наверное, просто бы от меня отмахнулась. Но она хваталась за соломинку. Как и многие другие, с которыми я встречаюсь, когда у них тяжелые времена, она искала кого-то, кто бы о ней позаботился, дал бы совет и притом не осуждал и не имел корыстных мотивов.
Многим из пациентов я рекомендую помощь психолога. Но если я могу открыть людям, что они вольны исцелить себя, если изменят образ мышления, то считаю это частью своей работы.
Современная медицина живет в бешеном темпе. Драму жизни и смерти можно пережить на одном дыхании, не успев ни о чем задуматься, – и пойти дальше той же дорогой. Я могу вылечить аневризму: возможно, это добавит больному несколько лишних лет, – но продление жизни не обязательно ее улучшит. Часто выбор, который совершают люди, не приносит им ничего хорошего, но они даже не подозревают, что вольны выбрать иначе. Идеальный врач – это друг, который говорит больным правду, но не осуждает их, а помогает понять, как они до такого дошли и куда могут направиться. Люди нам доверяют, а мы должны чтить это доверие и делиться всеми знаниями об исцелении, проявляя уважение к своим больным. Только так поступают настоящие профессионалы.
Морин появилась в моем кабинете ровно в двенадцать тридцать.
– Спасибо, что нашли время, – она присела рядом со мной. Она выглядела более сосредоточенной и лучше владела собой, чем на нашей первой встрече.
– Рад помочь, – ответил я. – Давайте пока что отложим проблемы Дэйва и поговорим о вас. Сейчас вам брошен вызов – что делать с болью и справедливым гневом. Если будете перечислять все преступления, которые он совершил против вас и детей, обида не даст вам спать.
Она кивнула.
– У вас есть два варианта: цепляться за обиду или отпустить ее, – продолжил я. – Прощение – это долгий путь. Одним разом, так сказать, не отделаться. С этой минуты придется развивать новый навык – умение прощать Дэйва. Примерно так же, как вы приучили себя думать, сколько обид он вам причинил.
Морин задумалась.
– Я поняла, – сказала она. – Знаете, наверное, я готова попробовать.
– Сможете простить ему вот это? – я повел рукой, намекая на нынешнее положение.
– Будет непросто.
– Справедливо, – сказал я. – Простить нужно много, а вы на линии огня. Многие не в силах, пока все не успокоится. Да и тогда, наверное, будет неимоверно сложно. Это ваш Эверест. Восхождение требует мужества и смирения. Если вы не готовы, не хочу на вас давить. Решайтесь сколько угодно. Будете готовы – приходите.
Идеальный врач – это друг, который говорит больным правду, но не осуждает их, а помогает понять, как они до такого дошли – и куда могут направиться.
– Нет, я готова, – возразила она. – Попробуем. Я все еще желаю ему лучшего. Хотя бы ради детей.
– Тогда сегодня мы отправимся в дорогу, – сказал я. – Эта дорога будет долгой. Если хотите отпустить обиду и освободиться, можем пройти ее часть вместе. Заявите о своем решении вслух. Я видел, как это действует на многих. Уверен, у вас тоже получится.
– Хорошо, – кивнула она. – Я попытаюсь.
Я направлял ее, и она вверяла Богу все проступки Дэйва – один за другим. За десять минут я услышал многое из того, что мы часто слышим от жен, решивших развестись с мужьями: невнимание, грубость, нехватка ласки, нелюбовь, оскорбления, измены…
– Я прощаю его долги, – закончила она, повторяя за мной. – Он ничего мне не должен…
Когда мы умолкли, она странно на меня взглянула.
– Мне лучше, – призналась она. – Удивительно.
– Если позволите, добавлю еще кое-что, – сказал я. – Вероятно, проблемы в вашем браке шли в обе стороны. Редко случается, что один супруг чист как младенец. Бремя часто ложится на обоих.
Не сразу, но Морин кивнула.
– Да, я не ангел, – признала она. – Когда я наконец ушла, то оставила его в долгах. Повесила все на его шею. Это было неправильно.
– Бьюсь об заклад, вы хотите избавиться от этой вины?
– Да, верно.
– Так почему не сказать об этом Богу и не получить Его прощение?
– Прямо здесь? – поразилась она. – Сейчас?
– Я не настаиваю. Но Бог обещает, что простит нас и очистит от грехов, если мы их признаем16. Думаю, вы бы хотели освободиться от вины и снова стать чистой. Можете признаться втайне, если хотите, но когда вы признаетесь кому-то, в этом больше силы, и люди обычно чувствуют себя лучше17. Искреннее признание своих ошибок требует мужества и смирения. Бог любит, когда мы их проявляем. Вы можете признаться другу, которому доверяете, да и сам я с радостью вам помогу.
– Да, давайте сейчас, – кивнула она.
– Обратитесь к Богу. Уверяю, Он вас слышит.
– Господи, прости меня за то, что я сделала с Дэйвом, уже зная, что я его брошу… – Она протянула руку за новым платком.
– Вы давали брачные обеты? Обещали оберегать и хранить друг друга?
– Да, вроде бы да… – сказала она сквозь всхлипы.
– Понимаю, обстоятельства и поведение Дэйва сыграли немалую роль. Но похоже, вы нарушили клятву. – сказал я. – Вы давали эти обеты перед Богом и свидетелями?
– Да.
– Бог прощает вам это, – сказал я без осуждения.
– Господи, прости мне то, что я предала Дэйва, – сказала она, затем повернулась ко мне. – Но он предал меня первым!
– Тогда вы в силах простить ему это, – заверил я.
Она кивнула и замолчала, прежде чем снова заговорить. Когда же это случилось, ее словно прорвало. Оказалось, в ее прошлом скрывалось намного больше, нежели просто «плохое обращение» Дэйва. Она схоронила в глубинах памяти очень многое, но из-за этого решила, что не заслуживает ничего хорошего, ничего прекрасного. Когда со мной делятся таким, даже быть частью этих откровений – великая честь. Но главная роль здесь принадлежит Богу. Выслушав ее историю, я спросил:
– Вы хотите простить этих людей и навсегда отпустить их?
Она закрыла глаза и заплакала. Сначала незаметно, потом задрожали плечи. Так прошла пара минут.
– Скажите о прощении сами, – тихо обратился к ней я. – Как захотите.
– Господи, я прощаю того, из-за кого все эти годы чувствовала себя последней дрянью, – сказала она. – Я больше не виню Тебя в том, что Ты меня не защитил. Не знаю, почему это случилось со мной тогда, не знаю, почему происходит теперь, но я приму: Ты благ. Что еще я могу сделать?
– Морин, для Бога вы драгоценны и прекрасны. Знаю, вы никогда этого не чувствовали. Но это истинная правда. Пусть она заменит ложь, которой вы верили прежде. Почему бы вам не сказать, что вы драгоценны и прекрасны? Ведь именно так о вас говорит Бог.
– Не знаю, смогу ли я, – отозвалась она. – Я никогда в это не верила.
Прежним собеседникам я предлагал такое несколько раз, когда мне казалось, что именно это они должны услышать. Это правда: мы все драгоценны для Бога. И каждый раз я слышал отказ: это слишком противоречило тому, во что они так долго верили.
– Вам не нужно это чувствовать, – сказал я. – Это не просто комплимент. Так вас видит Бог. Ваши слова – это ваше с Ним согласие.
– Ну тогда я драгоценна и прекрасна.
У нее на глазах показались слезы.
– Мне бы хотелось услышать это еще раз.
Она улыбнулась.
– Я прекрасна, – сказала она.
Ее голос звучал намного увереннее. У нее даже изменилось выражение лица. Истина способна преобразить нас, если мы ей доверимся. Многим из нас так долго внушали, что они никчемны и ничего не заслуживают, что они стали вести себя именно так, поверив в это. Так было и с Морин. А теперь она вновь открыла свою личность, данную Богом.
Многим из нас так долго внушали, что они никчемны и ничего не заслуживают, что они стали вести себя именно так, поверив в это.
– Это все, от чего вы хотели освободиться? – спросил я через минуту.
– Да, все.
Она вытерла слезы. Ярость больше не искажала ее черты. Казалось, она преобразилась и помолодела на пятнадцать лет.
– Я чувствую невероятный покой, – сказала она. – Это и правда свобода.
– Прекрасно, – ответил я.
– Я… мне нужна духовная связь с Богом, – сказала она. – Хочу снова ходить в церковь. Мой нынешний друг тоже пойдет. Только его утром не добудишься.
– Отличная идея, – поддержал я. – Вы проявили невероятную смелость и искренность. Я горжусь вами, и знаю: Бог тоже. Он хочет, чтобы вы стали ближе. Он поразительно благ, терпелив и добр.
– Я чувствую, – сказала она, встала, обняла меня и вышла.
* * *
С Дэйвом мы виделись каждый день, пока его не выписали. Говорил он все так же медленно, но операция прошла успешно. Катушки держались. Я молился за него каждый день: он соглашался, но ничего не говорило о том, что он готов открыть Богу сердце. Та девушка призналась, что в полиции солгала. Никто ее не насиловал. Дэйв не нарушил закон – головная боль повергла его на землю, прежде чем он смог слишком далеко зайти. Рванувшая аневризма спасла его от тюрьмы. Дело закрыли.
Мы встретились через полгода. Речевая терапия помогла, но он все еще говорил короткими, рублеными фразами. Правая рука оставалась слабой. Было ясно, что это на всю жизнь. Это его расстроило: он хотел вернуться на работу, но теперь не мог. Впрочем, барьер из катушек держался прекрасно, и мы могли не встречаться еще несколько лет.
Мне казалось, жизненные драмы смирили его и заставили пересмотреть всю жизнь, в том числе и духовную. Но, когда я спросил, изменилось ли что-то в его духовном мире, он только пожал плечами и покачал головой. Он не хотел иметь с этим ничего общего. Его заботило только одно: прежняя работа и прежняя жизнь.
Морин я больше не видел. Но уверен, что она, в отличие от Дэйва, перелистнула главу своей жизненной книги. Жизнь – это непрерывное путешествие. Когда люди покидают мой кабинет, понятия не имею, куда они решат направиться. Я в силах сделать только одно: дать им все возможное, пока они под моей опекой. Прежде, когда я только начинал молиться вместе с больными, мне казалось, Бог отвечает на все мои молитвы и дарит благодать и мне, и моим подопечным. Я начал думать, что подобрал ключ к идеальным исходам операций, и даже решил, что своими молитвами влияю на этот исход и что операция, перед которой я молюсь, никогда не будет неудачной.
Ага, разбежался.
Встань и иди
Сэм, худощавый брюнет, в свои сорок пять был скептиком и реалистом. В США он эмигрировал и жил по нашим меркам небогато, но в те годы решил круто изменить свой жизненный путь и вернулся в медицинскую школу – учиться на санитара. Ему оставалось пройти еще несколько курсов. На приеме он сказал, что ему все труднее ходить и двигать руками. На сканировании открылась страшная истина: интрамедуллярная артериовенозная мальформация. Двоюродная сестренка фистулы – только здесь артерии и вены намертво сплетаются в позвоночнике и спинном мозге. Как только я это увидел, меня словно пнули под дых. Наш кораблик плыл прямо в сердце шторма. Тело Сэма словно призывало только к одному – отказаться от лечения.
Позвоночник – это часть центральной нервной системы, так что нейрохирурги часто работают и с ним. Артериовенозные мальформации – самые рискованные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И более того, у Сэма она возникла в верхней части спинного мозга, а это означало одно: если операция пройдет плохо, он рискует онеметь ниже шеи. Но еще хуже – намного хуже, – было то, что мальформация, скорее всего, росла все сорок с лишним лет и все время давила на вену, отчего прямо посреди позвонка распухла громадная аневризма. В шейном отделе я таких крупных почти не встречал: ее диаметр составлял два сантиметра. Она расширила костное отверстие в спинномозговом канале и изменила его форму, прижав спинной мозг к кости – и медленно его разрывая.
Спинной мозг похож на канат плотно переплетенных нервов. Толщиной где-то с палец, он тянется от шеи вдоль спины и соединяет головной мозг с телом. У Сэма это был не канат, а шнурок, обернутый вокруг аневризмы, точно ночная сорочка. Все сигналы от мозга к телу шли через эту драную тесьму. Любое неверное движение, любой отек могли нанести нервам непоправимый урон и разорвать спинной мозг, оставив Сэма на всю жизнь паралитиком.
Столь опасные случаи появлялись у меня раз за пару лет. Вскоре я понял, что этот будет одним из самых опасных. О постепенном решении проблем здесь думать не приходилось: я не мог разобраться с мальформацией, не закрыв аневризму, – и не мог закрыть аневризму, не разобравшись с мальформацией. Все или ничего. Предстояло исправить обе проблемы одновременно – или даже не начинать.
Я все это объяснил. Сэм вроде как понял, что с позвоночником играть опасно, – но, видимо, упрямо считал, будто его можно вылечить без особых проблем. Начался какой-то «тяни-толкай»: я говорил ему, что стоит на кону, а он смотрел на меня так, будто я то ли приукрашивал, то ли утаивал правду. Он словно никак не мог признать – впрочем, как и многие другие, – что медицина не всесильна и что мы, как говорится, «приплыли». Впереди маячила «терра инкогнита». Но я уверил его, что мы сделаем все возможное.
Изучив варианты, Сэм загрустил. Он решил отложить лечение на три месяца и продолжить занятия в школе. С каждым днем он все больше слабел. О карьере можно было забыть – он еле двигался и терял ловкость рук. Все признаки указывали: несколько лет – и его ждет коляска. Наконец он позвонил мне и сказал, что решился на операцию. Иных возможностей не предвиделось, и он согласился рискнуть.
К операциям я всегда подхожу очень тщательно. А к этой – готовился как никогда. Я по многу раз проверил каждый снимок, не переставая спрашивать себя: что можно сделать? Что нужно сделать? Как много я могу сделать? А без этого не обойтись? А если проще? А если отложить это на потом? И как это отразится на всей жизни больного? Стоит ли игра свеч?
Все ответы вели к одному: промедление смерти подобно. А так мы могли сохранить возможность движений. Организм мог залечить повреждения, которые эта скрытая мальформация причиняла позвоночнику на протяжении десятилетий. Может, Сэм даже вернулся бы к нормальной жизни.
Исчерпав варианты, я позвонил коллеге, чтобы узнать, не было ли у него других идей. Их не было. Я часами напролет думал о том, как провести лечение. Требовалось перекрыть и аневризму, и мальформацию – иными словами, заблокировать специальным клеем сплетенные сосуды и закупорить внутреннюю аневризму. Так мальформации обычно и лечат. Но я понятия не имел, как отреагирует столь громадная аневризма, расположенная в такой чувствительной области. Если бы удалось остановить приток крови, расширявший аневризму с каждым ударом сердца, давление на спинной мозг могло бы снизиться. Но был риск и того, что аневризма, напротив, расширится, усилит давление, и – паралич. В молитве я просил Бога дать мне ясный разум и особые указания на этот случай, в котором было так много переменных. Наконец я убедился, что подготовка проведена на все сто – и с медицинской стороны, и с духовной.
Мы с Сэмом вместе молились на приеме, за день до операции. На следующее утро я вошел в операционную, накинул свинцовый фартук и встал рядом с пациентом, погруженным в наркоз. Техники готовили инструменты и область прокола, куда нам предстояло ввести полые оболочки и катетеры.
Когда я молюсь о людях, я словно становлюсь к ним ближе, и это хорошо. Я волновался за Сэма. Нас связало нечто большее, чем обязательства врача перед больным. Но специалист в моей душе никуда не исчез, и в тот миг, в операционной, я не мог не ощутить азарта от «большого дела», рискованного и сложного. Именно в такие моменты мы можем узнать, чего стоим на самом деле. Это вызов.
Операционную пронизывали предвкушение и надежда. Сердце билось ровно и мощно. Я ясно понимал: под этой синей тканью – Сэм, и его будущее в моих руках. Эту операцию устроили ради него, а не ради меня, и мной овладело чувство, что я просто должен провести ее на высоте, ибо отвечаю за ее исход.
Направляющий катетер прошел быстро – вверх по дуге аорты и через позвоночную артерию. Сосуды были на удивление ровными и гибкими: Сэм был еще довольно молодым и очень худощавым. Миниатюрный катетер столь же быстро прошел в питающую артерию и через полчаса уже находился в нужном месте. Я был готов сделать инъекцию.
Заклеивать мальформацию безумно сложно. Медицинский клей, который используют нейрохирурги – цианоакрилат – похож на суперклей. Он даже пахнет так же. А вот стоит в тысячу раз больше. Входя в контакт с кровью, он затвердевает, его молекулы слипаются, намертво прикрепляются к стенке сосуда и образуют блокировку. Хирург смешивает клей прямо в операционной. Только ему решать, насколько густым должен быть клей и как быстро его вводить. Это критически важные решения. Густота определяет, как быстро клей затвердеет. Слишком жидкая смесь твердеет медленно: клей рискует протечь в вены, загустеть, и мальформация разорвется. А если вены крупные, клей может унести куда угодно, например – в легкие, что очень нежелательно. Очень густой клей затвердеет слишком быстро, блокирует приток крови к артерии – не затронув мальформацию, которую будут и дальше снабжать малые ответвления, – и вы утратите доступ, после чего устранить проблему будет не в пример сложнее.
Перед смешиванием клея я вколол Сэму контраст. Цифровая субтракционная ангиография – четыре кадра в секунду – показала мне скорость тока крови сквозь мальформацию: от кончика катетера в питающей артерии до дренирующей вены. Так я понял, как долго там пробудет клей и сколь густым он должен быть.
Теперь я знал, какую смесь готовить. Я отошел к столу и смешал клей с металлическим порошком и контрастом: так я мог потом увидеть его на рентгеновском снимке. Разбавлять его я не стал. Кровь Сэма текла довольно быстро, а клей должен был застыть почти сразу. Я помешал смесь в небольшом стакане, втянул ее в шприц, вернулся к операционному столу и передал шприц Лидии. Та чуть покачивала его, чтобы металлический порошок не осел на дно, а я тем временем еще раз ввел контраст, сделал последний прогон, просмотрел снимки – и протянул руку за шприцем.
Господи, как же сложно вводить этот клей! Хорошо хоть техники напоминают, чтобы я не забывал дышать. В эти мгновения я смотрю только на монитор, вижу только серые оттенки и думаю лишь об одном: куда идет клей. Все занимает несколько секунд. Только решения приходится принимать за долю секунды.
Изогнув запястье, я прикрепил шприц к прозрачному поршню миниатюрного катетера – по сути, гибкой метровой иглы, – и осторожно надавил, не сводя глаз с экрана. Клей показался из кончика катетера и влился в сосуд. Меня накрывали волны адреналина. Что будет с клеем? Минует мальформацию и пройдет в вену? Или замрет, не сумев дойти до узла?
– Дышите, – напомнила мне Лидия, и я выдохнул.
Клей затек в мальформацию и в аневризму. Хорошо. Через несколько секунд я увидел, что он затвердевает.
– Давай, – прошептал я. – Густей.
Клей густел, отсекая кровь от пораженных сосудов и аневризмы. Приток ослаб и вскоре прекратился. Есть! Я отделил пораженные сосуды стеной. Несколько кратких мгновений – и все закончилось. Я сделал то, что хотел. Одна инъекция решила почти все: клей заполнил девяносто процентов мальформации, и кровь уже не давила на аневризму. Я чувствовал себя так, будто исполнил трипл в решающем бейсбольном матче Мировой серии.
Впрочем, дело еще не кончилось. Небольшая область на краю мальформации все еще заполнялась кровью. Я ввел в другую артерию, связанную с мальформацией, еще один катетер, и сделал вторую инъекцию. Клей застыл, закрыв еще пять процентов. Девяносто пять процентов травмы устранены за несколько секунд! Теперь мальформация сможет вернуться лишь через много лет – через десятки лет, – но даже тогда Сэму вряд ли потребуется лечение. Это уже не трипл, это победный хоум-ран!
Я вынул катетеры, чтобы не приклеились к сосудам, и улыбнулся под маской. Я был очень доволен технической стороной операции. Я верно оценил скорость потока крови, правильно смешал клей и ввел его с абсолютной точностью! Ни один здоровый сосуд не пострадал. Все пораженные образования были отрезаны от кровотока. В душе я ликовал.
Сэма перевели в палату, и мы ждали, пока он проснется. Просыпался он дольше, чем обычно, – анестезиолог дал ему наркоз в расчете на долгую операцию, а та прошла быстро. Я слегка тревожился: сказывалась усталость от подготовки и адреналин все еще не утих. Через полчаса Сэм очнулся, и я увидел, как он шевелит руками и ногами, и немедленно подошел к его постели.
– Сэм, пожмите мне руку правой рукой, – попросил я. Он сделал это.
– Теперь левой.
Он сделал и это.
– Подвигайте пальцами ног.
Он справился. Я редко видел более вдохновенную и прекрасную картину. Я плакал от благодарности и облегчения. Я редко плакал, но сейчас не мог сдержать слез. Почти невыносимое напряжение выплеснулось в потоке эмоций. Я схватил Сэма за руку и сказал: – Господи, мы так Тебе благодарны! Мы счастливы, ведь Ты исполнил все наши просьбы! Молю, благослови Сэма и дай ему исцелиться. Во имя Иисуса, аминь.
Я вышел из палаты и пошел готовиться к другой операции, назначенной на тот же день. Я был абсолютно счастлив. Исчезли все сомнения и страхи. Мы прошли через огонь и воду – и выжили.
Я вышел из палаты. Я был абсолютно счастлив. Исчезли все сомнения и страхи. Спустя некоторое время мне сообщили: пациента разбил паралич.
Затем, в разгар приготовлений, мне позвонили из палаты. Сэма разбил частичный паралич, и он паниковал. Я бросился к нему, как только смог.
– Доктор, что со мной? – спросил он. В его темных глазах клубился туман страха.
– Давайте посмотрим, – сказал я. – Шевельните пальцами правой руки.
Сэм попытался – и не смог. Его черты исказились.
– Я пытаюсь, – сказал он.
– Все хорошо, – ответил я. – Давайте еще раз. Пальцы правой ноги.
Ничего.
– Не могу, – выдавил Сэм. – Не шевелятся. Доктор Леви, я боюсь. Что происходит? Почему я не могу ими двинуть?
Он мог слабо шевелить левой рукой и левой ногой – но правую половину парализовало. Я надиктовал медсестре список лекарств – стероиды и еще кое-что для уменьшения отеков. Мало ли, может, из-за них аневризма или вена давит на спинной мозг?
– Все же было нормально, – сказал Сэм, его голос дрожал от отчаяния и плохо скрытого гнева. – Когда я буду здоров? Что со мной?
– Не знаю, Сэм, – признался я. – Мы сделаем все возможное. Давайте ждать.
Торжество превратилось в неопределенность, граничащую с отчаянием. Я видел, как человек, сошедший здоровым с операционного стола, теряет способность двигаться. И я ничего не мог сделать. Я несколько часов прокручивал в голове различные операции или варианты, способные хотя бы вернуть и сохранить изначальный результат. Ответ ускользал, и я просил помощи, надеясь на подсказку коллег, – но они все как один уверяли, что любое лечение грозило новым, более высоким риском. Мы сделали все, чтобы победить опухоль. Сэм должен был восстановиться сам.
Я навещал его когда только мог, надеялся и даже ожидал, что силы вернутся к нему в любое мгновение. Но мои надежды оказались напрасными. Его руки и ноги теряли чувствительность. Сэм впал в ступор. Опухоль давила на спинной мозг, блокировала сигналы от головного, и паралич медленно полз по его телу.
Прошла ночь, за ней день, и паралич стал полным. Сэм не чувствовал ничего ниже шеи. Это был худший исход. Хуже, наверное, была только смерть, – впрочем, многие со мной бы не согласились.
Я жил как автомат. Я будто сам утратил чувства. Сознание не могло справиться с горем. Горе от неудачной операции редко бывало столь сильным, – но я не мог позволить себе роскошь отдыха. У меня был охваченный ужасом больной и его разгневанная и перепуганная семья. Чувства могли подождать. Сейчас настало время решений. Я должен был пережить эту трагедию. Более того, у меня была назначена очередная операция, и я не мог отвлекаться на мысли о Сэме.
Я навещал его еще несколько дней. Мы каждый раз молили Бога исцелить паралич. Вместе с нами молились сестры. Может, подумал я, опухоль спадет, и тогда спинной мозг восстановится? Может, Сэм начнет двигаться так же внезапно, как перестал?
– Доктор Леви, когда я поправлюсь? – спрашивал он каждый день. – Когда я буду ходить?
Так проходили дни, и чем дальше, тем сильнее возрастал риск того, что паралич останется навсегда.
Паралич грудных мышц привел к обширной пневмонии. Я видел, как он страдает, и меня пронзало дикое чувство вины, – хотя я все еще считал, что провел операцию почти идеально. Сомнения и тревоги грызли мне душу, точно шакалы. Моя уверенность таяла на глазах. Как это могло случиться? Я утратил хватку? Неверно смешал клей? Мало советовался с другими? Может, мне вообще не стоило проводить эту операцию?
И еще в глубине души я считал, что меня предали. Неужели молитва не смогла такое предотвратить? Разве мы не просили Бога о хорошем исходе? Я ведь просил молиться о нем даже прихожан нашей церкви, – хотя никогда не делал этого прежде! Или это не я часами ломал голову над тем, как провести операцию? Или это не я просил у Бога мудрости? Как Бог позволил этому случиться? Как Он мог так отнестись к Сэму? У Сэма была цель в жизни! Он учился и хотел лучше исполнять свою работу. Почему именно он? Из всех моих больных – почему он? Чувства пустоты и потери пронизывали каждую минуту моей жизни, и их ничто не могло остановить.
Я навещал Сэма и не оставлял молитв. Но я видел, что он на грани. Он обезумел от отчаяния и безутешности. Он только и спрашивал, как ему снова начать ходить и шевелить руками. Я уже начал думать, что пневмония, возникшая после операции, станет для него благословением: добьет и избавит от страшной участи паралитика. Может, это и был единственный приемлемый для него исход? Суровая милость Бога? Словно в насмешку надо мной, пневмония отступила перед антибиотиками, и стало ясно, что он будет жить, – но совершенно не так, как прежде.
Я мог бы уйти на месяц в отпуск и оправиться от этого случая. Но в графике уже стояли операции на следующей неделе. Я никогда не отменял их из-за неудачного исхода другой – и не хотел начинать. По правде, у меня даже не было сил позвонить больным и отменить операцию. Я был безумно зол на Бога. Я доверял Ему, а Он меня предал. Смогу ли я снова работать? Или я просто испугался, что Бог оставил меня? А может, все еще хуже? Может, Он никогда со мной и не был? Может, я все это придумал? Первое серьезное дело, первая по-настоящему рискованная операция – и Бог покинул меня. Я был один – совсем один.
Со дня операции Сэма прошла неделя. Я шел на другую операцию, но совершенно не думал о ней. В моем сознании был только Сэм. Сэм, разбитый параличом. Сэм, лежащий в другом крыле больницы. На ватных ногах я поднялся по лестнице в предоперационную. Я чувствовал себя бездушной машиной. В этом не было ничего хорошего. Но нейрохирурги обучены блокировать чувства и действовать на одной только воле. Меня научили спокойно воспринимать трагедии, не поддаваться страху и не показывать неуверенность. Сэм был моей первой катастрофой с тех самых дней, как я начал молиться о больных, – и, как часто бывает у хирургов, перед ней померкли все мои прежние успехи. Я на автомате улыбнулся сестрам и притворился, будто все хорошо, так же механически прочел историю болезни и просмотрел документы для операции. Любое теплое чувство, которое я проявлял, было напускным. Моя душа заледенела. Жизни во мне было не больше, чем в зажимах и скальпелях, разложенных на хирургическом столе.
Первое серьезное дело, первая по-настоящему рискованная операция – и Бог покинул меня.
Настало время идти к первому больному после Сэма – и просить его согласия на молитву. Я колебался. Столько всего мешало… Больной ждал в предоперационной, за шторами отсека. Будем ли молиться вместе? Буду ли я молиться за него один? Да и могу ли я? Я не чувствовал Бога. Я и себя-то не чувствовал. Какая-то отстраненность и одиночество… В тот миг мне казалось, что лучше вообще уже никогда не молиться. Это будет хотя бы искренне. Да и зачем, если исходы так непредсказуемы?
Почему Бог не откликнулся на мою молитву о Сэме? Из всех моих молитв эта должна была войти в топ! Он отвечал на молитвы о многих других, которые – как я считал тогда в своей узости – заслуживали этого меньше. Но на этот раз молитва не помогла, и вместо того, чтобы стать героем, я оказался орудием разрушения. Если бы не моя операция, его бы не парализовало! По крайней мере не сразу! Значит, вот какую награду я получил, рискнув молиться вместе с больными?
Я открыл душу им и Богу, я стал уязвимым – и Бог отплатил мне провалом? Тогда благодарю, но нет. Я вернусь на привычные рельсы, снова окружу себя ореолом совершенства и скроюсь за иллюзией всевластия. Не надо мне никаких чувств. Пусть их заменит безопасность. Любезные манеры – и дистанция.
Боль и разочарование – вот что оставил в моей душе случай Сэма.
А еще сомнения в том, будто Богу есть до нас дело.
* * *
Конечно, в моей практике это была далеко не первая операция с осложнениями. Порой операции проходили плохо. Иногда они ничего не решали. Но с тех пор, как я внес в свою практику молитву, я никогда не испытывал ничего сравнимого с этим мучением. Молитва усилила мои надежды – и все обернулось так, словно меня провели на доверии. Слышал ли меня Бог? Откуда мне знать, если я не могу Его почувствовать? Ну не помолюсь я сегодня – и что, это мне хоть как-то повредит?
Мое смятение достигло пика – и вдруг из путаного вороха мыслей родилась простая и ясная фраза:
«Поступай правильно».
Я знал эти слова. Я слышал их, когда впервые начал молиться о больных и боялся, что подумают другие. Внутри меня вдруг возникло новое и неожиданное чувство – решимость. Фраза смела иные доводы, как битые фигуры с доски. Странно, как я не понимал это раньше? Ответ был очевиден: при чем тут мои чувства? Если это хорошо для больных – это правильно, и точка. Я видел результаты и уже не смел отрицать, что молитва помогает и должна совершаться, – даже если сам я и не чувствовал, что это так. А значит, прочь сомнения!
Я направился в отсек. Люпе, пятьдесят семь лет, церебральная аневризма. Я улыбнулся ей – так искренне, как только мог. Она и понятия не имела, чем для меня стала эта неделя. Я говорил ей о вероятных рисках операции – о смерти, о слепоте, о параличе и коме, – а внутри меня шла борьба. Каждое слово отзывалось набатом, и образ Сэма, прикованного к постели, все время мелькал перед внутренним взором.
– Да, я понимаю, это опасно, – сказала Люпе.
– Правда? – едва не вырвалось у меня, но я сдержался и произнес уже привычную фразу: – Перед операцией я молюсь о больных, если они дают свое согласие. Как вы, согласны?
– О, что вы! Конечно, согласна! – с радостью откликнулась Люпе.
Я еще никогда не молился о больном, подозревая, что Богу нет дела ни до нас, ни до нашей молитвы. Я даже не знал, смогу ли ее закончить – или умолкну на полпути. Я коснулся ладонью ее плеча и только благодаря привычке начал:
– Господи, спасибо Тебе за миссис Кортес…
Не знаю как, но эти слова растопили лед, сковавший мое сердце. С каждым мгновением молитва давала мне силу, развеивала морок, и я дошел до конца:
– Боже, дай моим мыслям ясность, и пусть эта операция пройдет успешно. Во имя Иисуса, аминь.
Молитва была недолгой. Но она дала мне то, чего в последние дни так не хватало: надежду. Я начал молиться лишь потому, что был уверен: так нужно. Но когда прозвучали ее последние слова, я понял, что мои сомнения – это просто пыль на ветру. Бог был здесь. Он проявлял Себя в действиях, и я не хотел действовать без Него, даже если не получу того, на что рассчитываю. Волны боли залили пламя, прежде горевшее в моей груди, но угли, скрытые в пепле, все еще тлели.
– Спасибо, – с улыбкой сказала Люпе.
И тут случилось нечто, чего никогда не случалось прежде. Из-за шторы, разделявшей каталки, я услышал гулкий голос:
– Док, а вы, когда закончите, не помолитесь со мной? Мой доктор не молится!
Мы с Люпе улыбнулись вместе, и я ощутил, как на глаза наворачиваются слезы. Бог не оставил меня. Он был здесь, со мной, пока я всеми силами заботился о тех, кого Он ко мне направляет.
Я зашел за штору и увидел мужчину. Его звали Тревис, и он был пастором. Ему в то утро предстояла операция на брюшной полости, но у жены и родных не получилось приехать, и он боялся.
– Бог с нами, Тревис, – сказал я, коснувшись его плеча. – Вы же знаете, это так.
* * *
Я еще никогда не молился о больном, подозревая, что Богу нет дела ни до нас, ни до нашей молитвы. Я даже не знал, смогу ли ее закончить – или умолкну на полпути.
Когда я закончил молитву, он плакал и тер глаза, и вздохнул так громко, что переполошенные медсестры, наверное, уже спешили сюда со своих постов, но потом Тревис улыбнулся и успокоился. Страх покинул его. Я улыбнулся в ответ, слегка похлопал его по плечу и вышел из предоперационной. Пока я шел по коридору, в моей душе царил мир, а Бог словно говорил мне:
«Я не бросил тебя. Не забывай, дело не только в тебе одном. Жизнь – не уравнение. Формулы-панацеи нет. Злость лишь показывает твою незрелость. Доверься Мне в том, чего не понимаешь. Я тебя очень люблю, и ничто этого не изменит. И Сэма Я люблю сильнее, чем ты. Проси Меня о нужном, Я позволяю это. Но знай: молитва не гарантирует результат».
Операция Люпе прошла хорошо, и она отправилась домой на следующий день. Я же нашел свой путь, пройдя через огромный кризис веры. Я поступил правильно, когда мне этого не хотелось, – и это было во благо Люпе и Тревису. Я решил довериться Богу, а не собственным чувствам. Он был благ, даже тогда, когда я этого не видел.
Но был еще Сэм.
* * *
Сэм оставался в клинике еще три недели. Потом его перевели в частную лечебницу. Двигаться он так и не начал.
Мы встретились через три месяца: его привезла сестра. Я вздрогнул, когда увидел в графике его имя. Если мне с кем и не хотелось встречаться – так это с ним. Чувство вины, предательство, горечь непомерной утраты – я не хотел этого чувствовать. Но инвалидную коляску уже завезли в кабинет, и меня захлестнуло отчаяние. Пока Сэм ждал в смотровой, я торчал в туалете, судорожно умывался и просил только одного: «Господи, помоги мне!»
У двери собственного кабинета я замер, не решаясь переступить порог, – и сумел сделать это, только собрав в кулак всю свою смелость. Я знал: мне будет сложно – и не ошибся. Изможденный, смертельно уставший, Сэм сидел в своем кресле. От человека, с которым мы когда-то познакомились, не осталось и следа. Он научился чуть шевелить левой рукой и левой ногой, но правую сторону сковал спазм. Протезы помогали ему есть, но скрюченные пальцы рук походили на когти. Мышцы атрофировались. Я сел в кресло и встретился с ним взглядом.
– Как дела, Сэм? – спросил я.
Он не ответил, но качнул головой, вроде как говоря: «А вы-то как думаете?»
– Расскажите об операции, – сказал он прямо. – Что пошло не так?
Я отъехал к доске, условно нарисовал его позвоночник, аневризму и мальформацию, и насколько мог, объяснил – и про риски, и про опасную аневризму, и о том, что его организм не переносил отеки… Я надеялся, это его удовлетворит и он смирится с исходом.
– Сэм, я этого не хотел, – сказал я.
Он отвернулся.
– Сэм, мне безумно жаль, что так вышло.
Он все так же молчал.
Я предложил помолиться за него снова. Что еще я мог? Очередная молитва казалась банальной, учитывая, сколько раз мы их вознесли. Он равнодушно кивнул. Я коснулся его плеча – на нем была фуфайка, – и только тогда понял, как много сил он потерял. Мышц почти не осталось, только кости.
Я молился о том, чтобы он снова смог ходить.
Я открыл глаза. Сэм их и не закрывал. Он едва живым взглядом смотрел на дальнюю стену. За несколько минут мы собрали данные для проверки, сестра вывезла его из кабинета, – и я постарался забыть о нем, как о слишком сложной, нерешаемой проблеме, от которой можно только уйти.
* * *
Он появился у меня через год – на контрольном осмотре. MPT-сканирование показало: его спинной мозг полностью изменился, усох и изогнулся дугой в области шейного изгиба.
Я объяснил это, и он посмотрел на меня. Его глаза были полны боли.
– Что случилось? – спросил он снова. – Почему операция сделала меня таким?
– Сэм, мы говорили об этом много раз, – сказал я. – Мне очень жаль. Поверьте, ваш случай травмировал меня сильнее, чем все остальные неудачи.
Это его слабо утешило. Он явно был на меня зол.
– Кто-нибудь может мне помочь? – спросил он.
Я дал ему имя врача, специалиста по сколиозам, но знал: никакие операции ему не помогут. Он отчаянно искал решения, которых не было. Я помолился о нем снова, прежде чем он ушел, – но его тоска осталась прежней, как и за год до этого. Молитва подарила мне покой и надежду, – но для него оказалась бесполезной: не исцелились ни его тело, ни его дух.
Ни один хирург не любит осложнений, плохих исходов и несчастных больных. Со временем такие случаи стираются из памяти. И я тоже надеялся на время, но мысли о Сэме никак не хотели меня отпускать. Прошло три года, и я вдруг ощутил, что должен с ним встретиться. Я не знал, почему – мне просто казалось, что мы чего-то не сделали. Я хотел еще раз его увидеть, прежде чем он навсегда исчезнет в моем прошлом. Я мог бы попросить его зайти, но прекрасно понимал, как трудно инвалидам добираться до больниц. Оставался только один вариант: пойти к нему. Звонок бывшему пациенту – не столь уж необычное дело. Многие врачи созваниваются со своими больными, пока проходит период восстановления. Но о праве прийти в гости я просил впервые. И все же я чувствовал, что должен сделать это исключение. И как-то раз я позвонил ему прямо из кабинета.
– Сэм, добрый день. Это доктор Леви, – представился я. Ответом было молчание. Мой звонок его явно удивил.
– Здравствуйте, доктор, – наконец отозвался он.
Я быстро заговорил, чтобы он не подумал, будто я придумал новый метод, способный исцелить его паралич.
– Мне нечем вас порадовать. Просто хотел спросить, смогу ли как-нибудь к вам заехать, если буду в ваших местах? Так, проверить, как у вас дела.
Он не отвечал. Наверное, просто не знал, как это воспринять.
– Хорошо, – осторожно сказал он. – Конечно. Я не против.
– Тогда договорились. Я позвоню, – сказал я. – Надеюсь, мы встретимся в ближайшие несколько недель. Увидимся!
– Увидимся, – эхом откликнулся он.
Прошло несколько недель, и я приехал к нему. Они с матерью и сестрой жили в маленьком доме. Мне открыла сестра. Сэм, в спортивных штанах и фуфайке, сидел в своей коляске. Он слабо улыбнулся, немного удивленный, что я выполнил обещание. Он выглядел изможденным и несчастным, как тряпичный Пьеро. Его черные волосы потеряли блеск, он хмурился, и на лице отражалась тоска. Левой рукой он двигал джойстик коляски: сил хватало только на это. Правая рука по-прежнему висела плетью.
Я сел на диван, напротив него.
– Как вы? – сказал я.
– Да не особо, – ответил он, не особо пытаясь притворяться счастливым. Его фразы разделяло несколько мгновений. – Иногда выезжаю. Нашел в Сети пару альтернативных методик.
– Правда? Каких? – тут же спросил я. Неужели он может хоть на что-то надеяться?
– Ароматерапия, – усмехнулся он. – Знаю, все это чушь. В смысле, что мне вообще поможет?
Он дернул головой, указав подбородком на тощее тело и коляску. Он ничего не сказал, но я ощутил, что он полыхает гневом и причина этого гнева – я. Я чувствовал это и раньше, но просто забыл, ведь с нашей последней встречи прошло много месяцев. Да в чем он меня винит? Он просто смотрел на меня и все так же не говорил ни слова.
Я хотел просто его навестить, посмотреть, где и как он живет, попросить его немного рассказать о своей жизни, возможно, даже о «новом опыте». Но сейчас я понимал, что должен сделать нечто совершенно иное: извиниться. Я никогда не извинялся перед больными, и мне не нравилась эта идея. Зачем? Я провел операцию прекрасно, как настоящий профессионал. Мое искусство могло дать ему шанс на нормальную жизнь – там, где другие врачи даже не стали бы пытаться. Я уже много раз говорил ему, как мне жаль, и один раз даже выдал что-то вроде: «Мы же оба молились, и все-таки это случилось», – надеясь, что он перестанет обвинять меня и займется этим вопросом с Богом. И тем не менее что-то мне подсказывало: я должен попросить у него прощения за то, что обрек его на инвалидную коляску. Я сделал все возможное, но это не изменяло того, что он мне доверился, – а я причинил ему боль.
Да, эта идея была мне не по душе. Зачем мне извиняться? Он не вправе этого требовать! Но тогда откуда эта неоспоримая уверенность, что он не двинется дальше, если не услышит этих слов от меня? Я сидел на диване – и вел тихую войну с самим собой. Я не был уверен, что смог бы произнести эти слова даже при желании. Гордость противилась – сострадание подталкивало в спину. Тишина начинала угнетать. А, ладно! Неважно, прав я или нет: я был готов смириться, если это поможет его исцелить. В конце концов, я сам все время повторял людям, что просьба о прощении – лучшая возможность достучаться до чужого сердца.
– Сэм… – я неловко кашлянул. – Поверьте, я очень сожалею о том, что с вами случилось…
Так, это я уже ему говорил. Теми же словами. У себя в кабинете, причем несколько раз.
– Я не хотел этого. Я даже не рассчитывал, что это случится. Ваш случай – один из самых болезненных в моей практике…
Я, я, я… Типичное врачебное извинение. Я говорил, как мне плохо от того, что он болен, – но так и не признавал за собой вины. Он кивнул и уставился в пустоту. Он все это слышал. Он не мог ни в чем меня обвинить. Меня оправдал бы любой суд. Но мы были не в зале суда. Он был болен, а я мог его исцелить. Но для этого я должен был сознаться в том, что виноват в его боли, пусть даже отчасти, – и, наверное, мне никогда еще не было так трудно. Ладно, будь что будет. Я должен рискнуть.
– Сэм, простите меня, – сказал я. – Я виноват перед вами. За операцию, сделавшую вас инвалидом. Вы мне доверились, а я вас подвел.
Я признавал свою вину и просил прощения у человека, которого сделал инвалидом.
Он изумленно обернулся, словно спрашивая: «Вы правда это сказали? Правда?»
И я как будто вынул из него какую-то заглушку. Он зарыдал и неуклюже пытался вытереть слезы, но просто не успевал.
– Лорна! – прокричал он сестре. – Лорна!
Я окаменел. Что случилось? Он рассердился? Что он будет делать? Звонить в полицию?
– Лорна! – крикнул он снова. – Захвати платок!
Она принесла платки и вытерла глаза брату. Сэм посмотрел на меня и кивнул. Он ждал.
– Я на вас не давлю, Сэм, – продолжил я. – Не хотите – не надо. Это не ради меня. И не для того, чтобы мне стало лучше. Но так вы сможете освободиться. Если вы злитесь на меня, обижаетесь, вините, это вредит и вашей душе, и вашему здоровью. Я хочу, чтобы вы отпустили все это и вылечились.
Я умолк и ждал, что он ответит. Моя голова походила на поле боя. Я привык помогать людям избавиться от обиды на других, но от обиды на меня – никогда. Я чувствовал себя обнаженным и беззащитным. Старые сомнения насчет операции хлынули обратно с прежней силой. Правильно ли я смешал клей? Может, я просто хотел покрасоваться перед другими врачами? Показать, как много я умею? Сэм каждый день страдал – а я радовался жизни. Да и сейчас – может, я хотел успокоить собственную вину? Да, я пришел не за этим – но я был бы в диком восторге, если бы он меня простил. Верно ли он меня поймет? Да и правду ли я ему сказал? А прежде – прежде, другим, я тоже говорил правду? Или меня вели какие-то тайные мотивы?
Я не знал. Но как бы там ни было, как бы неудобно я себя ни чувствовал, как бы сильно я ни рисковал, я хотел освободить его от злости и обиды. Я хотел исцелить его, и неважно как.
Сэм все еще плакал.
– Хотите, вместе пройдем через шаги прощения? – спросил я. – Хотите?
Он закашлялся, кивнул и ответил: – Да.
– Тогда повторяйте за мной, – сказал я. – Я прощаю доктору Леви…
– Я прощаю доктору Леви… – повторил он.
– То, что он сделал…
– То, что он сделал… – произнес он, точно эхо.
– Он причинил мне боль…
– Он причинил мне боль…
– Но я прощаю ему…
– Но я прощаю ему…
– Что вы мне прощаете, Сэм?
Он заколебался.
Господи, только не заставляй меня говорить это вместо него! Это слишком!
Но он молчал. Он не мог идти сам, без меня.
После неловкого молчания я наконец сказал:
– Я прощаю ему то, что он обрек меня жить в этой коляске…
Да, это не я посадил его в коляску! Да, я был ни при чем! Но кого еще он мог винить? Я должен был смириться и спасти его от злобы.
– Прощаю ему то, что он обрек меня на жизнь в этой коляске… – повторил он, стена рухнула, и он снова заплакал.
– Я прощаю ему все те страдания, которые принесла мне операция, – продолжил я. Я теперь и сам плакал, когда он повторял это. Господи, неужели я смогу? – Я прощаю ему, – мой голос надломился, и я подавился собственными рыданиями, – то, что я не могу ходить.
Он повторил это слово в слово, и я схватил из коробки платок.
– Я прощаю ему все, чего был лишен после операции, – сказал я.
Он повторил за мной. Я изо всех сил пытался не сломаться.
– Я отпускаю его, – сказал я.
Он молчал. Я посмотрел ему в глаза и вдруг понял, что и правда хочу освободиться от его гнева. Но Сэм не повторил этих слов. Вместо этого он сказал:
– Я отпускаю себя.
Я улыбнулся и почувствовал, как покой заполнил комнату. Хотя я предложил Сэму возможность освободить меня от вины в его глазах, совершенное им прощение даровало ему свободу от самой необходимости винить.
– Да, – сказал я, соглашаясь с ним, – я отпускаю себя, свой гнев, злобу и обиду…
Это он повторил.
– И я уверен, что Бог поступит с доктором Леви, – к горлу подкатил ком, но я должен был довести все до конца, – по справедливости Своей…
Я дрогнул. Он повторил эту фразу.
– И милости… – закончил я.
– И милости… – кивнул он.
Я ненадолго замолчал, а после спросил:
– Как вы, Сэм? – спросил я.
– Лучше, – он улыбался, и на этот раз искренне. Слезы высохли. Он сиял, несмотря на то, в каком состоянии находился.
– Когда мы прощаем другим те обиды, которые они нам нанесли, Бог прощает и нас18, – сказал я. – Вы простили меня, и Бог с любовью простит вам все ваши ошибки. Он послал Иисуса искупить наши грехи, чтобы мы могли обрести свободу. Вы хотите, чтобы Он простил вам грехи?
– Да, – ответил он.
– Тогда давайте вместе к Нему обратимся. Повторяйте все, что я скажу. Господи, прости мне мою злобу и обиду. Ты хочешь, чтобы я прощал, – а я никого не прощал до этого дня…
Когда мы закончили, он посмотрел мне в глаза – впервые после операции, и уже не с гневом, а с благодарностью.
– Как теперь? – спросил я.
– Намного лучше, – он улыбнулся. Прощение его преобразило. Неизбывная тоска исчезла – ее сменило настоящее счастье. Его душа наконец-то исцелилась.
– Я могу снова помолиться о вашем здоровье?
– Да, – согласился он.
Я вознес молитву, и после того, как прозвучало «аминь», встретил его пораженный взгляд.
– У меня словно ток по спине бежит, – сказал он тихо. – И правая нога… кажется, я ее чувствую.
* * *
Он позвонил мне через полгода.
– Доктор, я нашел новую программу! – его голос, восторженный, радостный, звонкий, как у ребенка, был полон надежды. – Спустя несколько недель после вашего визита! Я уже могу держаться на руках и шагать по брусьям! Пока еще не сам, но все впереди!
Когда-нибудь он снова будет ходить. Мы оба в это верим.
Цепи его уже не держат: он сбросил их сам – в тот самый день, когда решился меня простить.
Малышка награни смерти
Анет, самая юная из всех, кого мне доводилось лечить, впечатлила меня в высшей степени. Дети боятся врачей. Это факт. Но Анет на осмотре подошла ко мне без страха и совершенно доверилась. Она была прекрасно воспитана и на удивление чутка к другим людям. Если кто-то рядом чихал, она говорила: «Будьте здоровы». Мне казалось, она улавливала чужие желания каким-то неведомым способом. Я не мог даже представить, будто дети ее возраста на такое способны. Она никогда не проявляла злости – скорее, даже слишком осторожничала. Стоило ей подойти к выбоине на тротуаре или к невысокой ступеньке, ведущей вниз, она тут же поворачивалась и беззаботно шла обратно. Она была милой и вежливой, и с ней было радостно находиться рядом.
Анет привели родители. За ее правым ухом пульсировала шишка размером с четвертак. Девочка плохо спала и часто трогала шишку, как будто та ей мешала.
В смотровой я ощупал пульсирующую область и, хотя подозрения еще не подтвердились, был уверен, что ангиограмма покажет аневризму, а аневризма окажется частью дуральной артериовенозной фистулы. Ангиограмма показала не просто фистулу. Для двухлетней девочки это была фистула-левиафан, огромный клубок сплетенных вен и артерий. Вены распухли от крови, срослись с артериями грудой узлов, и как итог, артерия вздулась, ощутимая даже через кожу Анет, хотя основная масса фистулы таилась внутри черепа.
Бездействовать мы не могли. Но я тут же представил невероятный спектр осложнений, к которым могла привести такая операция. Когда на хирургическом столе ребенок, доступная доза контрастного агента становится намного меньше: такие вещества могут отравить почки, – а потому приходится очень осмотрительно использовать вещество и работать с менее качественными снимками. Объем крови у детей очень мал, кровопотеря у них гораздо серьезнее, и может потребоваться переливание. Еще у них нет жировой массы, чтобы удерживать тепло, а внутривенные жидкости охлаждают тело, и дети могут моментально замерзнуть, поэтому мы держим их под нагретыми одеялами и подогреваем используемые жидкости.
Но это еще ничего. А худшее крылось в том, что закупорка фистулы требовала долгой и сложной операции с большой дозой радиоактивного облучения. Я не хотел облучать ребенка, если фистула не представляла опасности. Симптомы, судя по всему, вызвала сама аневризма, и после небольшого раздумья я рекомендовал закупорить ее и оставить фистулу в покое до лучших времен.
– Чем дольше мы подождем, тем лучше, – сказал я. – Заодно и Анет подрастет.
Родители согласились.
Я выполнил операцию, она прошла хорошо, и на следующий день Анет уже вернулась домой. Две недели спустя, на осмотре, мы убедились, что масса больше не пульсирует. Малышка ни на что не жаловалась, я был доволен, ее родители – тоже, и я с радостью проводил их и назначил встречу через год.
Они пришли через три месяца. Анет опять плохо спала и как-то странно моргала. Область за ухом не пульсировала, но выросла вдвое, а то и больше, и напиталась кровью. Фистулы порой захватывают близлежащие артерии – и эта, очевидно, тоже не удержалась.
– Похоже, временные меры не помогли, – сказал я родителям. – Придется разбираться с фистулой. Можно на время перекрыть эмиссарную вену, которая снабжает кровью правое полушарие, но тогда кровь будет оттекать от мозга только по левой вене. Она большая, так что вполне справится. Только не знаю, как перекрытие вены отразится на мозге малышки.
Операция была серьезная и рискованная, намного опаснее, чем раньше. Но выбора у нас не было: девочке становилось все хуже.
Родители Аннет не были особенно религиозными, хотя церковь иногда посещали. Они обдумали мои слова. Мать была беременна двойней, и я подумал, что это, возможно, все усложняет.
– Можем провести операцию после родов, – предложил я. Мать просто улыбнулась.
– У меня и так хлопот будет, как они родятся, – улыбнулась она. – Давайте лучше сейчас.
Отец кивнул. Они решились, и я стал планировать операцию.
Если оперировать ребенка, то куда ни поверни, везде риски.
Я долго изучал снимки с прошлой операции и думал, по какому пути добраться до фистулы. Наконец время пришло. Помню, когда я вошел в предоперационную, там меня ждали не только супруги, но и бабушки и дедушки с каждой стороны. Анет лежала в кроватке и возилась с игрушками. Она посмотрела на меня и беззаботно улыбнулась, не зная, что вскоре мы снова увидимся в операционной, – только она будет без сознания, а я проникну инструментами в ее череп. Я, как обычно, кратко рассказал о предстоящей операции, напомнил семье о рисках и о том, чего мы хотим достичь, а после сказал: – Давайте помолимся о ней.
Все встали вокруг кроватки. Анет, окруженная любовью, смотрела на нас. Ей было любопытно.
– Отец наш Небесный, умоляем, пусть эта операция пройдет хорошо, – тихо сказал я. – Прошу, сделай мои мысли ясными, а руки – чуткими, и подари этой семье Твой покой. Во имя Иисуса, аминь.
Мы пожали руки. Анет улыбнулась и продолжила играть. Я вышел из предоперационной и через полчаса присоединился к техникам в кабинете ангиографии. Анет уже спала в операционной. Я встал рядом с ней. У двухлетних детей очень маленькие артерии в ногах, и я уже делал прокол в ее бедренной артерии раньше, на прошлой операции. Я хотел, чтобы то был единственный прокол: если артерии маленькие, велик риск рубцевания, а потом возникнут проблемы с кровоснабжением ног. Когда ваш больной весит меньше тринадцати килограммов, проникновение должно быть минимальным, – то был один из рисков, которые я должен был учесть и на первой операции, прежде чем разбираться с фистулой. Если оперировать ребенка, то куда ни поверни, везде риски.
Я ввел направляющий катетер в бедренную артерию Анет и осторожно двинулся к шее через дугу аорты. Расстояния были безумно короткими. Я чувствовал себя так, словно оперирую куколку. Сперва все шло гладко, но вскоре я понял: несмотря на краткость пути, добраться до фистулы будет непросто. Я попытался провести катетер в череп через правую яремную вену, но не смог добраться до нижних вен: что-то мешало. Я вытянул катетер, пошел вверх по левой яремной вене – хотел обойти затылок, – но анатомия Анет не позволяла катетерам и проволоке перейти срединную линию свода черепа. Я уже начинал волноваться. Попытка проникнуть через другой сосуд и питающие мозг артерии тоже ничего не дала: я опять не сумел добраться до фистулы.
Прошло четыре часа. Я так и не достиг нужного места, расстроился и устал от безуспешных попыток. Если не довести катетер, я не смогу вылечить фистулу. Сердце каждый раз болезненно сжималось, когда я жал на педаль и облучал Анет, делая снимки. Если еще и эта операция закончится неудачей… Что тогда? Снова прокол артерии, снова анестезия, проволоки, катетеры, дозы радиации… Так эти операции больше вреда причинят, а не пользы!
Я вынул проволоку и катетер, положил их на стол, отошел, снял свинцовый фартук и вышел из операционной. О том, что я оперировал Анет уже четыре часа, свидетельствовал лишь небольшой прокол. В таких операциях не сверлят череп, так что несколько минут перерыва больному не повредят. Да и вообще, продолжать операцию в гневе нельзя: это часто может привести к непоправимым ошибкам. Если операция идет не так и у меня ничего не выходит, я поступаю так: ненадолго все прекращаю, успокаиваюсь, выпиваю немного воды и молюсь. Минутный перерыв дает мне скинуть напряжение и вернуться к операционному столу со свежей головой, а иногда и с новыми идеями.
Я стоял в маленькой боковой комнатке, пил воду и молился. Господи, что еще я не пробовал? Краткий отдых придал мне сил. Так, есть одна мысль… Ассистенты и техники не сводили с меня глаз, готовые продолжать в любую минуту. Я решил опять пойти изначальной дорогой – через правую яремную вену, – но на этот раз взять более жесткую проволоку, способную преодолеть преграду. Я ввел новый катетер, аккуратно протолкнул его в шею, справа, и почувствовал, что он прошел дальше, чем предыдущий. Есть! Я продвинул направляющий катетер в затылочную область, к фистуле, а потом ввел второй, миниатюрный, в ту самую пораженную вену. Это заняло пять часов. Но я добрался до места.
А теперь настала тяжелая часть.
Я запустил цифровую субтракционную ангиографию – посмотреть, как быстро кровь Анет течет по сосудам; подошел к заднему столу и смешал клей с контрастным агентом и металлическим порошком. Все были спокойны и сосредоточенны: то был критический момент. Я вряд ли смог бы снова завести катетер в такое прекрасное положение, а значит, больше возможностей закупорить фистулу мне не представится. Я должен был одним ударом загнать мяч в лунку.
Я встал рядом с Анет, подготовил направляющий катетер для инъекции, взял шприц, всадил иглу в микрокатетер – и начал вводить клей. Все осложнялось еще и тем, что я был в вене, и клей шел против потока крови. Тек он ровно; постепенно заполнил большую вену с правой стороны головы и начал к ней прилипать. Когда мне остановиться? Я по-прежнему давил на поршень, не сводил глаз с экрана и неотрывно наблюдал за тем, как густеет клей.
Так, хватит. Я прекратил давить, потянул поршень на себя и вынул микрокатетер. Все, решение принято. Пути назад нет. Клей все густел, а я мог только ждать, что покажет ангиограмма. Техники установили камеры над головой Анет, я ввел контраст, запустил очередную ангиографию – и кадры замелькали, заставив мое сердце плясать от радости. Я закрыл вену и почти уничтожил фистулу. Слава богу! Шесть часов – но мы все же загнали мяч в лунку!
На то, чтобы ребенок уснул, требуется немало времени. Иногда столь же уходит на то, чтобы он проснулся. Анет спала почти восемь часов. В себя она приходила очень медленно. Я и сам был так утомлен, и мысленно, и физически, что едва двигался. Я встретился с малышкой и матерью уже в палате, когда Анет проснулась и шевелила руками и ногами.
– Какая умница! – улыбнулся я и сел с ней рядом. – Ну-ка, пошевели пальчиками. Так, а теперь ножками пошевели. – Она и без моих указаний справлялась прекрасно. Я встал и обернулся к матери. В душе словно пели птицы. – Кажется, она в порядке.
Мать просто кивнула, и я заметил, что она плачет. Да, у всех нас был долгий и трудный день. К моему удивлению, я тоже прослезился.
– Господи, благодарю Тебя за помощь! – воскликнул я. – Умоляю, исцели малышку! Аминь.
Это была одна из самых тяжелых операций, которые я когда-либо делал. Измученный, я вернулся домой и рухнул в постель. В голове крутились картины дня. Я спал сном младенца, когда два часа спустя мой пейджер вдруг запиликал. Я нашарил его рядом и позвонил на номер: ответил дежурный педиатр. Анет внезапно прекратила дышать. Ее подключили к нагнетателю, который сохранял ей жизнь, но она не реагировала ни на какие раздражители. Я вскочил с кровати, нацепил первую попавшуюся одежду и рванулся к двери.
И вновь после молитвы что-то пошло не так. Жизнь Анет теперь была в серьезной опасности.
Компьютерная томограмма показала кровотечение на правой стороне мозжечка – в заднем мозге. Увеличенные мозговые желудочки – полости с жидкостью – давили на все вокруг. Что-то пошло не так, и жизнь Анет теперь была в серьезной опасности.
Мы просверлили в черепе Анет дыру и установили в мозг дренажную трубку: отводить давящую жидкость. В пять утра малышку увезли на срочную операцию: удалять кость в задней части черепа. Мы надеялись, это снимет давление с распухшего мозжечка. Я ожидал, что Анет очнется, как только мы удалим кость и как только снизится давление.
Она не очнулась.
Мы сделали МРТ.
Снимок показал восходящую грыжу. Задний мозг набух и давил вверх. Сердце стиснули ледяной рукой: я увидел пораженный ствол мозга. Да, Анет проснется нескоро. Если проснется. Она могла остаться «овощем» на всю жизнь. А нам оставалось только одно – ждать и смотреть, как борется за жизнь ее тельце.
Прошло несколько дней. Анет не проявила никакой неврологической активности. Она не очнулась и даже не шевелилась. Я встретился с ее родными: обсудить всю тяжесть положения. Они ждали моего совета, но я не знал, что им сказать. Раздавленный отчаянием, я мог только отвергать одну идею за другой. Держать ее на дыхательной трубке мы могли не больше нескольких недель, а дальше – только трахеостомия, дыра в гортани и аппарат. Да, так бы она выжила даже «овощем».
Варианты сокращались. Состояние Анет оставалось прежним.
Родителей это уничтожило. Нет, они знали, что операция серьезна, но видеть своего ребенка в коме, не зная, будет он жить или умрет – к такому нельзя быть готовым. Да и никто из нас такого не ожидал. Мы молились на каждой встрече – но, как и прежде, все было напрасно. Ничего не менялось.
Сперва мне показалось, что вера не так уж много значит в их жизни. Но однажды, зайдя к Анет в палату, я увидел ее отца с Библией в руках. К тому времени о девочке узнала вся клиника – и за нее молились все. Непрестанный приток людей походил на животворную кровь: они приходили в палату, молились и уходили. Это не пробудило Анет – но вернуло к жизни ее родителей. Казалось, они благодарны и почти очарованы той любовью, которую проявили к их дочери совершенно чужие люди. В беде их поддержало общество – частью которого они были, даже об этом не зная.
Имя девочки внесли в национальные молитвенные сети: об этом я узнал от матери Анет. Тысячи людей молились за малышку и за меня и просили об этом других. Помню, меня слегка кольнуло: я до сих пор дрожал за репутацию. Увидеть свое имя в молитвенной сети; услышать, как люди молят Бога исправить твою ошибку и остановить кровотечение, к которому привела твоя операция, – любого эгоиста искорежит. Но я немедленно наступил гордыне на горло: дело меня не касалось. Речь шла об Анет. Более того, я первым заговорил о молитве.
И все же страх брал свое. Мать Анет скрутили преждевременные схватки, и ей пришлось сидеть в кресле-каталке, чтобы не начались ранние роды. Она могла приподняться лишь на несколько секунд.
– Я такая никчемная, – твердила она сквозь слезы, когда мы виделись. – Я так нужна дочке… Но я даже встать не могу.
Так проходили дни. Несмотря на все наши молитвы – и на все усилия медицины, – состояние Анет не улучшалось. Мы не могли больше держать ее на аппарате. Родители должны были решиться: либо мы делаем трахеостомию и поддерживаем жизнь дочери на дыхательном аппарате – либо вынимаем временную трубку, отключаем машину и смотрим, выживет ли девочка. Они очень серьезно обдумывали обе возможности. Учитывая мрачные перспективы и вероятное состояние «овоща», угрожавшее Анет, я думал иногда: что, если Бог именно сейчас дал им двойню и так хоть отчасти восполнится потеря малышки? Решать предстояло быстро.
Непрестанный приток людей походил на животворную кровь: они приходили в палату, молились и уходили. Это не пробудило Анет – но вернуло к жизни ее родителей.
У матери, которая оставалась у кроватки день и ночь, скорбя о дочке, начались схватки, и ее положили в больницу: пытались остановить ранние роды. Я узнал об этом утром, когда пришел в клинику. Врачи считали, что причиной схваток стал стресс: мать слишком страдала, глядя, как умирает ее девочка. Для появления двойняшек было слишком рано. Легкие еще не развились, и дети могли не выжить. Теперь смерть грозила всем троим детям.
Я вышел в коридор. Меня словно распотрошили. Состояние Анет держало нас в таком напряжении, что мне казалось, хуже новостей я уже не услышу. Две недели я пребывал в каком-то полусне, словно боксер, пропустивший хук в голову, и новый удар швырнул меня на канаты. Где Бог? Почему все так плохо, мы же молимся! Я добрел домой и упал ничком на ковер в гостиной.
– Господи! – шипел я. – Что Ты творишь? По-твоему, им не хватило? Анет в коме! Мы все время молимся, вся страна молится, и ничего не происходит! Я провел блестящую операцию, а теперь трое детей умрут или станут инвалидами! Почему Ты ничего не сделал? Не видишь, что происходит? Где Ты?
Я был изнурен. Я гневался на Бога, равнодушного и далекого. Я хотел увидеть, как проявятся Его сила и любовь, и этого не происходило. Я уснул с обидой в сердце и в ту ночь я видел яркий сон: зал суда, и Я был прокурором, Бог – судьей. Я указывал на Него обвиняющим пальцем и требовал ответа на вопрос: «Почему?» Вдруг открылись двери, в зал вошла Анет – она была чуть старше, но я знал: это она, – и заняла место свидетеля. Она сказала только одну фразу, я не расслышал, что именно, но Бог улыбнулся, и я понял, что дело закрыто. Я отказался от обвинения, опустил руку, и меня прожег стыд. Все изменила одна-единственная фраза. Затем сон оборвался.
Я проснулся с чувством, что винил Бога несправедливо. Я многого не знал о судьбе Анет. Да и об остальных своих больных я тоже почти ничего не знал. Почему я не понял этого раньше? Все знает только Бог. И Он добр и достоин доверия. Собираясь в клинику, я кое-что для себя решил. Хотя в том, что случилось с Анет и ее родителями, я не видел ничего хорошего, я все еще мог поверить: Бог добр. Я мог выбрать веру в то, чего не мог увидеть и почувствовать, и я сказал: «Если я хоть что-то знаю, так только то, что Бог добр». Слова придали мне сил, и я ощутил прилив уверенности.
Еще я понял другое: источником моей злобы был эгоизм, – по крайней мере отчасти. Я злился, ведь моя долгая и сложная операция принесла больше вреда, чем пользы, и теперь я не мог ответить родным Анет, выживет ли их дочь, и чувствовал себя ни на что не способным ничтожеством. Мне было плохо, и я винил в этом Бога. А теперь, этими словами, я отдал все – и свое «доброе» имя, и все, что было не в моей воле – в руки Бога, независимо ни от чего. В конце концов, жизнь Анет – равно как и моя жизнь – была в Его руках.
Когда я пришел в клинику, то ясно понимал: мне нужно изменить атмосферу в комнате Анет. Детские отделения интенсивной терапии – возможно, одни из самых гнетущих мест на всем белом свете, – пронизаны гневом и ненавистью к Богу. Пока оплетенные трубками дети цепляются за жизнь, а аппараты гонят в их крошечные легкие воздух, мы задаем только один вопрос: «За что?» Неужели мы надеемся, что ответ даст нам утешение, даже если мы его получим? Именно здесь многие совершенно теряли веру. Я видел: семья Анет все больше сомневается в доброте и милосердии Бога. Тянулись дни, лишенные надежды, а мы все гадали: почему Бог позволил этому случиться с невинным ребенком?
– Я надеялся, все будет иначе, – честно признался я, когда мы с родителями Анет стояли рядом с ее колыбелькой. Она лежала неподвижно и беззвучно. Мерно шелестел дыхательный аппарат. Смерть или долгое умирание в коме – такими были самые вероятные исходы. Но я сохранил эти мысли при себе.
– Не знаю, что делать, – признался я. – И это смущает, ведь я должен. Но я знаю одно: Бог добр и милосерден. И это так, пусть даже здесь, в этой палате, все выглядит иначе. И я решил: что бы мы ни выбрали для Анет, мы должны, как и прежде, приходить сюда и говорить вслух о Его доброте и милосердии. Мы будем вместе и плакать, и смеяться, и решать, и верить в Его милость.
Они кивнули. Поделиться верой в тяжелые времена – возможно, это даже благородно. Мне показалось, их вера возросла.
– Давайте встанем рядом с ней и вместе скажем то, во что мы истинно верим, – предложил я.
Мы подошли к колыбели, ненадолго замолчали, и родные Анет начали повторять вслед за мной короткие фразы.
– Пусть я не понимаю причин и целей всего, что случилось… я говорю, что ты добр и милосерден, Господи… Милость Твоя на все времена… И пусть я не вижу Тебя и не чувствую… Но Ты любишь Анет сильнее, чем мы… И Ты знаешь, что для нее лучше.
Детские отделения интенсивной терапии пронизаны гневом и ненавистью к Богу.
«Ты любишь Анет сильнее, чем мы». Эти слова пронзили мое сердце. Я плакал без стыда, когда услышал, как родители Анет сквозь слезы провозглашают эту веру. Конечно, это так, подумал я. Иначе и быть не может. Почему я не подумал об этом раньше?
– И что бы ни случилось, – продолжил я, – и как бы долго это ни продлилось… мы будем приходить… мы будем говорить, что Ты милостив и добр… и восхвалим Тебя, ибо Ты достоин почтения.
Малышка в колыбели была на пороге смерти. Но почему-то мне казалось, что мы победили. В комнате повеяло теплом. Мы отбросили сомнения, мы прекратили обвинять, и пришел покой. Мы даже улыбнулись друг другу – впервые за две недели. Мы уже не винили Бога. Мы почитали Его и верили в его доброту и милость, даже не видя их. Мы отдали Анет в руки Божьи и знали: Бог не оставил нас и не оставил Анет, и все будет хорошо.
Когда я покинул палату, у меня была новая цель: провозглашать, что Бог милостив и добр, – и если будет необходимо, то даже вопреки всему. Я видел в этом возможность, которую мог упустить только безумец. Когда в жизни все хорошо, легко говорить, что Бог милостив, – и не нужно особой веры. А здесь, чтобы поверить в это, вера требовалась – иная, чистая, детская. Я вспомнил, как доверилась мне Анет, когда я позвал ее в кабинет. Она немного колебалась, но подошла прямо ко мне; она верила, что я не сделаю ей ничего плохого. Именно такой веры Бог и ждал и от меня, и от всех нас. Анет, даже не зная об этом, дала мне бесценный урок, едва не стоивший ей жизни, – и я прошел испытание.
После нашей встречи у матери Анет прекратились схватки. Беременность стабилизировалась. Когда мы встретились снова, родные Анет были все так же спокойны. В палате появились не только слезы – но и улыбки. Иногда мы даже смеялись. Прошло еще несколько дней, и мы решили отключить Анет от аппарата и не делать трахеостомию. Мы доверились Богу. Если Он хочет, чтобы девочка выжила, она выживет и без нагнетателя.
Мы еще раз встретились за день до отключения машины. Когда я вышел из палаты, то увидел, как бабушки и дедушки Анет – обе семьи, – со слезами обнимают друг друга на скамейке у клиники. Наше долгое путешествие подходило к концу.
Мы отключили аппарат на следующее утро, в присутствии родителей Анет. Теперь у нее не было дополнительного кислорода. Мы смотрели на ее маленькое неподвижное тело и вслушивались в зловещий хриплый свист, развившийся за те недели, пока в ее трахее торчала пластиковая трубка. Услышав его, я вздрогнул. Никто не произнес ни слова, но все знали, что будет дальше. Дыхание Анет будет слабеть и наконец прекратится – и в тот миг, когда это случится, семье придется пройти новое испытание: преодолеть горечь смертельной утраты и жить дальше. Мы молча ждали. Тревожно запищал монитор: кислорода в крови становилось все меньше. Казалось, девочка боролась за жизнь.
Я обернулся к медсестре и попросил принести лекарства, чтобы малышке было легче дышать. Хрипы немного стихли. Ей хотя бы не придется тратить столько сил, подумал я. Мать смотрела на дочку с грустью, но в то же время с чувством глубокого покоя и решимости. Ее родители – и родители отца – выглядели так, будто кто-то вырвал у них сердца и растоптал их о пол. Я оставил их и попросил медсестру позвать, если что-то случится. Она поняла, о чем именно я говорил.
В тот день я провел еще несколько встреч, но забыть об Анет не мог ни на мгновение. Я все ждал тревожной трели звонка – и той минуты, когда сестра принесет мне скорбные вести. Но ко мне никто не пришел. А когда я разыскал сестру сам, та сказала, что кислород у девочки упал лишь незначительно, а потом держался на должном уровне без аппарата.
У меня в тот день была консультация в городе, и когда я вернулся в кабинет, то нашел сообщение от педиатра: состояние Анет изменилось. Я бросился к ней. Родители все время находились в палате.
– Ей лучше, – сказал отец с осторожной надеждой. – Она немного шевелит рукой и ногой и осматривается. Кажется, она следит за мной глазами.
Да, Анет открыла глаза. Она еще не вполне пришла в себя, но в «овощ» не превратилась. Она сохранила сознание и явно сражалась за жизнь, но ей нужна была наша помощь.
– Она хочет жить, – сказал я. – Мы должны ее поддержать.
Отец кивнул. Именно это он и хотел услышать.
Мы сделали три отдельных шунтирования и пустили кровь, которая собиралась в мозгу и вокруг, по другому маршруту. Люди из многих церквей и общин шли потоком, желая помолиться о ней. Друзья семьи учредили благотворительный фонд, чтобы оплатить медицинские издержки и бытовые траты, пока отец Анет не мог работать. Теперь мы все ждали, что будет с малышкой.
Прошел месяц. Ей становилось все лучше. Стало ясно, что она не просто выживет. Все утраченные способности тоже могли восстановиться. Физиотерапия возвращала ей былую подвижность. Молчала она долго, несколько месяцев, но было видно, что ее ум остался таким же ясным: она отвечала на все вопросы, указывая на карточки со словом и картинкой. Та восприимчивая малышка, которую я когда-то встретил у себя в кабинете, снова была с нами.
Мама Анет вскоре родила здоровых двойняшек – мальчика и девочку – практически рядом с палатой дочки. В канун Рождества мы решили, что Анет уже вполне здорова и может отправиться домой. Родители забрали ее, устроив роскошный праздник. Она наконец-то познакомилась с братиком и сестричкой. Ее способности по-прежнему развивались. Спустя три месяца после операции она снова заговорила, еще через три – встала на ходунки, а через полгода стала ходить сама – правда, недалеко.
Когда мы снова встретились на контрольном осмотре, Анет по-прежнему была необычайно доверчивой и чувствительной. Впрочем, после операции она немного изменилась: стала увереннее в себе и смелее. Она заставляла себя снова ходить. Та воля к жизни, которую она явила после отключения дыхательной машины, теперь влекла ее к еще большим свершениям.
Изменились и родители Анет. Горе и боль показали обоим, насколько им нужен Бог. Увидев, как их поддерживают христианские общины, они перешли от жизни по инерции к жизни по вере, и эта вера могла выдержать ураган. На наших встречах они всегда говорили о том, что нового узнали о Боге. Казалось, кто-то подключил их к розетке и щелкнул выключателем. Несмотря на все трудности, с которыми мы преодолели болезнь Анет, эти события изменили их жизнь. Они смотрели на мир иначе – духовным зрением – и знали, что Бог был с ними рядом.
Я не раз пораженно замирал, когда видел, как Бог спасает детей из объятий смерти.
Я уже не смел винить Бога в равнодушии: сейчас я понимал, что это несправедливо. Он знал все. Я – только часть. Я мог только работать на пределе сил и всегда помнить, что Бог добр и милостив, – и говорить об этом другим. Мне могли не нравиться Его свершения; я мог не понимать, почему Он позволяет кому-то страдать или умереть, – но это решать Ему, а не мне.
И я не раз пораженно замирал, когда видел, как Он спасает детей из объятий смерти.
Вырванная из ада
Шарлотта училась на врача, работала в клинике на другом конце города и скрывала страшную тайну: ее муж Алан, здоровый и крепкий, беспробудно пил, бесился, тиранил жену и кричал на нее, не стесняясь дочери и сына, которым не исполнилось и трех лет.
Алан был классическим тираном. Что-то снедало его изнутри, и боль свою он вымещал на близких. Он грубил Шарлотте когда хотел. Звал ее уродиной. Изменял ей, причем не раз. Когда дочь положили в больницу, он заявился на операцию пьяным. В другой раз, когда из клиники, после операции, выписывали уже саму Шарлотту, Алан наорал на жену за то, что ему пришлось ее забирать.
Он бил ее больше года. Сгорая от стыда, Шарлотта скрывала побои, не смея показать – а может, даже поверить, – что у нее, охранявшей здоровье других, развился синдром избиваемой жены. Неспособная разделить свою тайну хоть с кем-то, она надеялась, что случится чудо и муж изменится к лучшему.
Однажды ночью, когда пьяный Алан рассвирепел, Шарлотта попыталась выгнать его из дома: она боялась за детей. Он пришел в бешенство, схватил ее за волосы и рывком сдернул с кровати. В сжатом кулаке остался клок волос, и у нее мелькнула мысль, что завтра придется весь день ходить в шапке, лишь бы на работе ни о чем не прознали. Она схватила детей в охапку, заперла дверь и легла спать – с дикой головной болью.
Утром она открыла глаза и поняла, что умирает.
«Тело было как кисель, – говорила она мне. – Я будто распадалась на куски».
Она с криком выбежала в коридор, потом решила, что это просто паническая атака, и вернулась в постель к детям.
Алан съехал через неделю. Пришлось – Шарлотта позвонила его родителям и пригрозила сообщить в полицию, если те не вмешаются. Тошнота и головные боли не только не прошли, но и ухудшились. Из-за них она уже едва могла встать с постели, не говоря уже о том, чтобы идти на работу. Дети видели, что маме плохо, но не понимали, что с ней. Друг отвез ее в неотложку, но компьютерная томография ничего не показала. Давление дико подскочило, но никто не знал, почему: о побоях Шарлотта молчала как партизан. Ей диагностировали офтальмологические мигрени, дали лекарство и отправили домой.
Дома все стало только хуже: ее стошнило, она упала на пол и ненадолго ослепла. Шарлотта впала в панику, и скорая помощь снова умчала ее в неотложку. Дети остались с соседкой.
На этот раз ей сделали МРТ – впрочем, снова напрасно. Домой она вернулась через два дня. Голова кружилась каждые полчаса. Потом Шарлотта падала и слепла. Она перевела детей на хлеб и воду – готовить не было сил. На работе натыкалась на стены. Исхудала так, что уже испугались коллеги.
В конце концов, уже не сомневаясь в том, что умирает, она попросила коллегу о помощи. Он посоветовал ей невролога, а тот назначил полное МРТ-сканирование. Шарлотта с детьми тем временем переехали к другу.
Снимки кое-что проявили: рассечение позвоночной артерии в обеих ветвях, идущих к мозгу. Иными словами, внутренний слой сосудистых стенок оторвался от наружного, и именно там, где обе ветви входили в заднюю часть головного мозга. Это опасное состояние. Оно может вызвать инсульт, необратимые повреждения мозга и даже летальный исход. Обычно такое случается, когда шею или спину травмирует внезапный резкий рывок. Шарлотту немедленно направили ко мне, ведь именно я занимался поражениями сосудов, ведущих к мозгу.
Мы встретились утром, у меня в кабинете. Она не могла ни на чем сосредоточиться даже ненадолго. Я задал ей ряд вопросов, но она слишком устала и даже не понимала, о чем я говорю и что вообще происходит.
– Я умру? – все время спрашивала она. – Вы можете это исправить? Мне есть зачем жить. У меня двое малышей. Я им нужна.
Она повторяла это как заведенная, начисто забывая, что произносила те же самые реплики прежде.
Я вгляделся в снимки. Да, двустороннее рассечение позвоночной артерии. Видно с первого взгляда. Как раз перед входом в мозг сосуды внезапно сужались, как будто их укусили. Такие травмы, да еще сразу на обеих ветвях артерии, доводится видеть редко. Если не сказать – очень редко.
Я развернул к ней монитор.
– Такое делает травма или резкий рывок, – сказал я. – Что с вами случилось?
– Ничего, – она замотала головой. – Ничего такого.
Начисто забыть о такой травме? Хорошо, все равно сейчас важнее ее вылечить. Я рассмотрел варианты – и оказалось, что операция опасна и риски перевесят любую пользу.
– Операцию лучше не делать, – сказал я. – Легче дождаться, пока артерии заживут сами.
– Вы ничего не можете? – возмутилась Шарлотта. – Я даже работать не в силах! За детьми присмотреть – и то не могу! Я просто развалина!
– Мне очень жаль, – сказал я. – Поверьте, операция вам ничего не даст и не ускорит возвращение к работе. Она только хуже сделает. Лучше всего ждать. Я выпишу вам антикоагулянты – снизить риск инсульта до тех пор, пока тело не исцелится. Вам нельзя напрягаться и поднимать тяжести. Артерии заживут. Просто не сразу.
Шарлотта провела дома шесть недель. Симптомов у нее был калейдоскоп: и жизнь в замедленной съемке, и волны электричества по телу, и слепота, и падения, и шаткая походка. Наконец мне позвонил один знакомый врач.
– Скажите, там точно ничего не сделать? – спросил он. – Она просто в отчаянии.
С медицинской точки зрения я исчерпал все возможности. Но принять ее согласился. Мне было ее жаль – да и кто знает, может, снимки и впрямь не все показали? Вдруг что еще прояснится?
Когда она пришла, мне показалось, что она на грани безумия.
– Шарлотта, – мягко сказал я. – Рассечения заживают долго. Лекарства, которые я вам прописал, защищают вас от тромбов. У вас скачет давление, но это неизбежно. – Я немного помолчал. – Скажите, вас тревожит только это? Или есть что-то еще?
Больше мне уже ничего не пришлось говорить – она разрыдалась. Это было неправильно. То были слезы отчаяния и безнадежности. Она просто слишком устала, чтобы стесняться, и не могла остановиться.
– Ненавижу мужа, – выдохнула она. – Ненавижу эту сволочь. Он нас тиранил, и я подала на развод. Проклятый алкаш! Ему плевать на меня. И на детей плевать! Ему надо только одно – свести меня в могилу! Он меня и сейчас изводит, звонит по сто раз на день, грозит, оскорбляет… Суд запретил ему приезжать, я этого добилась, но этот гад кричит на меня и унижает, когда забирает детей.
«Спасибо, не надо! Меня и так водили в церковь все детство. Вся зта чушь про Бога мне печень проела».
Да уж, прояснилось. По самое не могу.
– Это большие проблемы, – сказал я. – Они требуют очень большого внимания и долгих бесед. Вы не можете исцелиться, пока над вами и над детьми такая угроза. Знаете, я часто молюсь о своих больных вместе с ними. И могу предложить вам молитву.
– Спасибо, не надо, – огрызнулась она. – Меня и так водили в церковь все детство. Вся эта чушь про Бога мне печень проела. Лицемеры чертовы! Меня бесит сама идея Бога! У меня мачеха прямо до икоты верила, но это не мешало ей меня унижать! Ненавижу ее! И отец ей все это позволял! Я его за это тоже ненавижу!
Она умолкла и вытерла слезы. Я думал, она встанет и уйдет, но вместо этого она сказала:
– Но вы… вы все-таки помолитесь за меня, когда будете в церкви.
– В церкви я за вас тоже помолюсь, – сказал я спокойно. – Но я имел в виду, что хочу сделать это сейчас.
– Сейчас? – удивилась Шарлотта. – Вот здесь?
– Да, – сказал я так мягко, как мог, и мой тон и манеры, казалось, оказали свое действие. Она заметно нервничала, но, видимо, уже просто не могла ничего не делать.
– Хорошо, – кивнула она. – Я согласна.
– Отлично, – я улыбнулся и поудобней устроился в кресле. – Но прежде чем мы начнем, позвольте кое-что сказать вам. Я уже на опыте убедился в том, что болезни – не все, но некоторые точно – рождены нашими чувствами. – Я объяснил ей связь между прощением и здоровьем. – Когда я призываю вас простить, я не прошу притвориться, будто зла никогда не было, и не прошу назвать зло добром. Когда вы прощаете, вы обретаете свободу – и показываете, что ни люди из прошлого, ни мысли о них не в силах причинить вам боль. Мне кажется, для вас это лучшая возможность исцелиться. – Казалось, она поняла. – Кто вас ранил, Шарлотта?
Она задумалась.
– Мне нужно простить отца. – сказала она. – Он никогда не защищал меня от мачехи. А она меня ненавидела.
– Да, – сказал я. – А еще?
На этот раз молчание продолжалось дольше.
– Еще мужа, – наконец призналась она. – Если кого и прощать, то точно его. Такое чувство, что я за него вышла, совершенно не зная.
– Что вам нужно ему простить? – спросил я.
– Унижения. Измены. Пьянки. Он постоянно твердил, что я никчемная уродина. Он даже мою собаку убил.
Она замолчала.
– Хорошо, тогда давайте простим ему это, – сказал я, и мы прошли через прекрасно знакомые мне шаги. Шарлотта называла всех, кто ее ранил, все, что они сделали, и отпускала свою боль, доверяя ее Богу. Вскоре она заплакала – со слезами выходили долгая боль одиночества и многолетняя ненависть.
Она простила отца и мачеху, и последним – мужа.
– Господи, я прощаю Алана, – сказала она. – Ты справедлив, и не мне Тебе помогать. Поступай с ним как сочтешь нужным. Я оставляю все мысли о мести. Я отпускаю его.
Я был поражен – и глубиной ее отчаяния и боли, и тем, как она, уже сама, шла все дальше и дальше. Словно с захламленного чердака, она вытряхивала из памяти каждую соринку. Я знал: за один раз ей всего не охватить. Но у нее уже была надежда.
Когда мы закончили, Шарлотта выглядела спокойней.
– Как вы? – спросил я.
– Легче, – отозвалась она. – Как будто гору скинула. И на душе спокойней. Голова пока болит, но хоть не кружится.
– Вам станет лучше, – уверил я. – Дайте немного времени.
Она помолчала.
– Такое чувство, будто новую жизнь начала, – сказала она. – Никогда такого покоя не чувствовала.
– Это от Бога, – сказал я. – Вы скинули свой балласт. Попытается вернуться – а скорее всего, попытается, – не пускайте. А начнете снова злиться – просто простите.
Шарлотта вытерла глаза, я записал ее на новый осмотр. Из смотровой мы вышли вместе.
– Спасибо, доктор Леви, – тихо сказала она.
* * *
Шарлотта в конце концов получила развод. Алан не унимался, и суд позволил ему видеться с детьми только в присутствии пристава, после чего он прекратил появляться вообще, и пять месяцев о нем не было ни слуху ни духу. Шарлотта тем временем завершила обучение и стала семейным врачом. Она приходила ко мне еще несколько раз. Через три месяца после нашей первой встречи мы сделали повторный снимок: ее артерии, пусть и медленно, исцелялись. Молилась она с великим рвением, и я дал ей имена двух женщин, с которыми она при желании могла молиться сколько душе угодно. Они подружились.
– Как вы, поладили? – спросил я позже на одной из наших встреч.
– Они мне как сестры, – ответила она. – У меня никогда не было сестер. А теперь есть.
Ей становилось все лучше. Симптомы уже проявлялись не столь сильно. Частота приступов с полусотни в день снизилась до десятка, а потом до пары-тройки. Наконец Шарлотта сдалась и рассказала, что с ней сделал Алан. Мы просматривали снимки, и вдруг она, казалось, осознала, чем ей грозила травма, – и это понимание ее ошеломило.
– Господи, я ведь умереть могла… – прошептала она. – Я даже не поняла… Мой бывший муж… он тогда сдернул меня с постели за волосы. – Она тихо всхлипнула. – Он много раз пинал меня, бил, толкал. Но тогда… тогда он меня чуть не убил.
Я не удивился. Печально, что она так долго таилась, – но хорошо, что истина наконец-то стала явной. Исповедь очищает душу – в церкви или вне ее, – и на моих глазах она дала благо Шарлотте.
– Какая же я дура, что так долго лгала, – сказала она. – Люди пытались мне помочь. А я знала, что это он, и молчала.
Шарлотта склонила голову. Она стыдилась своих откровений: ей казалось, что врачи, лечащие других, не имеют права страдать, и боялась, что ее осудят. Но я ее успокоил: знание ее секрета никак не повлияло на мое мнение о ней, а понимание причин травмы не повлекло изменений ни в диагнозе, ни в лечении.
А еще я был рад ее новой жизни.
* * *
Вскоре к Шарлотте вернулись силы, и она снова спокойно работала и могла заботиться о детях. Еще она наняла прекрасную няню и обрела больше свободного времени. Об Алане она не слышала уже бог знает сколько – и вдруг на телефоне высветился незнакомый номер.
– Добрый день, – прозвучал женский голос в динамике. – Простите, что беспокою вас. Я сестра из интенсивной терапии. Алан Хансен – ваш бывший муж, верно?
– Да, – ответила Шарлотта после недолгой паузы.
– Дело в том, что ему очень плохо. Он попал в реанимацию – остановилось сердце. Сейчас он в сознании, но плачет и очень хочет увидеть детей. Можете его навестить? Не знаю, много ли ему осталось.
Шарлотта разрывалась. Увидеться с человеком, причинившим ей столько боли? Позволить ему увидеть детей перед смертью? А должна ли она? Или пусть умирает в одиночку?
Но она ведь училась прощать? Как насчет всех этих обид, которые она отпустила? В силах ли она взглянуть в лицо тому, кто чуть ее не убил? Проявить к нему доброту? И обязана ли она это делать?
Шарлотта разрывалась. Увидеться с человеком, причинившим ей столько боли? Позволить ему увидеть детей перед смертью? А должна ли она? Или пусть умирает в одиночку?
Она спросила совета у подруги. Та была против.
– Шиш ему! – сказала она. – После всего, что он сотворил с тобой и детьми, он того не стоит. Он их даже ни разу не повидал.
Шарлотта терзалась целый день. Наконец ей снова позвонила та медсестра.
– Алан очень плох, – сказала она. – Все просит увидеться с детьми. И с вами.
– Не уверена, что смогу, – ответила Шарлотта.
– Прошу вас, – сказала сестра. – Это его последняя просьба. Если можете.
Сострадание проникло в сердце Шарлотты. Она собралась с духом и спустя пару часов вошла в отделение интенсивной терапии. Одна. Из палаты Алана вышел кардиолог, и Шарлотта окликнула его.
– Здравствуйте, – сказала она. – Я бывшая жена Алана Хансена. Что с ним? Скажите как коллега коллеге. Я тоже врач.
– А, это хорошо, – ответил кардиолог. – Раз вы наша, скажу как есть. Я только что слил из его перикарда пол-литра кровянистой дряни. Легкие полны жидкости. За последние дни выкачали пять литров. Это нехорошо. Ему по документам чуть за сорок, но сердце и легкие как у старика в восемьдесят пять. Он едва держится. Такие вот дела.
Он грустно взглянул на нее и ушел.
Шарлотта прошла в палату Алана. Человек в постели ничем не походил на ее бывшего мужа. Он был истощен и слаб. Он скользнул взглядом к двери, словно ожидая увидеть медсестру. Но когда он узнал бывшую жену, на его лице отразилась радость, слитая с отчаянием смертника. Он собрал все силы и помахал Шарлотте рукой.
– Я так рад тебя видеть, – хрипло прошептал он.
– Что с тобой? – спросила она. – Что случилось?
– Не знаю. Я не мог почистить зубы. Не мог переодеться, – он умолк, чтобы отдышаться. – Наверное, все очень плохо. А где дети?
– Дома.
Он помрачнел.
Страх перед Аланом все еще жил в ее душе, и Шарлотта не знала, в каком состоянии его найдет, так что оставила детей в приемной. Но сейчас она понимала: Алан был на пороге смерти. От великана, которого она помнила, остался только скелет. Ее сердце пронзила жалость.
– Алан, – сказала она. – Хочу, чтобы ты знал. Я простила тебе все, что ты со мной делал. Все те страшные вещи.
Он огорченно помотал головой, даже не в силах приподнять ее от подушки. Его взгляд словно говорил, что он не заслужил этих слов.
– Жаль, не смогу все исправить, – прохрипел он. – Все, что я сделал с тобой и с детьми. Все, через что вам пришлось из-за меня пройти…
– Алан, послушай меня, – прервала Шарлотта. – Я простила тебя, но тебе нужно большее. Тебе нужно прощение Бога.
Он посмотрел на нее остекленевшими глазами и слабо кивнул.
– Повторишь за мной? – с тревогой спросила она.
– Хорошо, – тихо сказал он, снова кивнув.
– Иисус…
– Иисус… – равнодушно повторил он.
– Я знаю, что грешен…
– Я знаю, что грешен…
Это задело его сильнее.
– Я ужасно поступал с другими…
– Я ужасно поступал с другими…
– И с близкими…
– И с близкими… – Его голос дрогнул. Теперь он говорил от сердца.
– Я принимаю Твое прощение. Спасибо, что искупил мои грехи на кресте. Я хочу вечно быть с Тобой на небесах. Аминь.
– Аминь, – повторил он со слезами на глазах и слабо кивнул.
– Алан, – сказала Шарлотта. – Жди. Я приведу детей.
* * *
Они навещали Алана еще несколько недель. С каждым днем ему становилось хуже. Он постоянно задыхался, и из легких литрами откачивали кровавую жижу.
– Иисус, помоги мне, – хрипел он. – Господи, помоги мне.
У него вспух левый паховый лимфоузел: врачи нашли рак. По всему телу шли метастазы. Они усеяли перикард и плевру. Как-то онколог показал Шарлотте снимки, и та заплакала. В легких не было ни одного целого участка.
– Он не выйдет из больницы, – признался онколог. – Говорю вам как врач врачу.
Через несколько дней Алан уже не мог дышать. Ему надели респиратор: кислород теперь гнала машина. Когда дети сидели на коленях, они едва могли видеть лицо отца: его закрывала маска. И все же Шарлотта видела огромную разницу между нынешним Аланом и ее бывшим мужем-тираном. Болезнь смирила его; он получил прощение от Бога, и Шарлотта начала его преображать. Он даже делал ей комплименты – впервые за все годы. С детьми он вел себя как любящий отец.
Однажды она тихо сидела у его постели, и Алан сказал:
– Я только начал что-то понимать, только обрел мир с самим собой и с Богом – и Он собирается меня забрать.
Он с горечью отвел взгляд.
«Я только начал что-то понимать, только обрел мир с самим собой и с Богом – и Он собирается меня забрать».
Однажды по дороге в больницу Шарлотта остановилась у магазина – купить CD-плеер, чтобы ставить Алану церковную музыку. На кассе ей позвонила медсестра.
– Его почки и печень отказали, – сказала она.
Обе понимали, что это значит.
Тело Алана было холодным. Его прошиб липкий пот. Но его глаза все еще были открыты. Шарлотта спокойно поставила диск с записью богослужений. Он лежал и слушал, потом взял ручку и нацарапал на листке: «Сколько еще?»
– Не знаю, – сказала Шарлотта. – Но ты готов.
Она ненадолго вышла в столовую, а когда вернулась, в палате бушевала лихорадка: медсестры, врачи и техники то вбегали, то выбегали. Алан смотрел на потолок и плакал. Шарлотта знала: он покидает этот мир – и, схватив его за плечи, посмотрела умирающему в глаза и сказала:
– Алан, Бог любит тебя!
Когда она выпрямилась, его сердце остановилось: об этом объявила следившая за монитором сестра. Тело выгнулось дугой и рухнуло на койку. Алан ушел. Осталась только пустая оболочка, и лишь плоская зеленая линия, бегущая по монитору – и тишина, заполнившая палату, – сказали Шарлотте, что ее бывшего мужа больше нет.
На поминальной службе Шарлотта сказала:
Алан был сильным. Но в его сердце зияла брешь. Он был поглощен ненавистью и желанием себя убить. И его тело погибло – но исцелилась его душа. Он стыдился умереть, не получив прощения. И я бы мучилась, если бы не откликнулась на его последнюю мольбу. Но каждый раз, когда я думаю об этом, я чувствую мир и покой. Я сделала для него все что могла19.
Я позвонил ей на следующий день после смерти Алана.
– Доктор Леви, спасибо, спасибо, спасибо вам! – только и повторяла она. – Спасибо за то, что вы верите и так рискуете, молясь и говоря о духовном. Мой путь к исцелению начался с ваших слов о духовной стороне здоровья. Кто знает, что стало бы, реши вы отделаться от меня рецептом на антикоагулянты! Если бы вы не помогли мне простить, злоба не дала бы мне увидеть мир таким, какой он на самом деле, и тогда я никогда не сказала бы Алану, что ему нужно прощение от Бога. Спасибо, что решили рискнуть! Это изменило всю мою жизнь! И лишь благодаря этому Алан ушел с чистым сердцем!
Шарлотта расцвела. Ее отношения с Богом по-прежнему прекрасны, ее дети здоровы и счастливы. Недавно она рассказала, что молилась вместе с больным, бывшим на последней стадии печеночной недостаточности, – и он умер спокойно и мирно. Шарлотта – мое живое напоминание о том, что стоит на кону, когда кто-то переступает порог моего кабинета. Жизнь коротка, и она полна бед, – иногда отчаянных бед. Но она полна и возможностей. А способы, которыми их использует Бог, поразительны и поистине безграничны.
Когда все очень сложно
Молиться о том, чтобы операция завершилась удачно, или направлять больных, желающих простить и исцелиться – это одно. А принять то, когда Бог прощает тебе твои же операции, приведшие к травме, – это нечто совершенно другое. И это сложнее во сто крат.
Кену было тридцать. У него нашли опухоль за лобной костью – благо, доброкачественную. Хирург, которому предстояло ее удалить, очень хотел, чтобы на операции та кровила как можно меньше, а потому просил меня блокировать приток из питающих ее артерий, причем уже на следующий день. Хорошо, решил я. Сделаем как обычно: проклеим сосуды, и все. Операция обещала быть простой. Вот только Кен почему-то противился. Это меня удивило. Обычная тревога больного? Я не давил – просто приводил выгоды и риски и сравнивал их. Уговорила его в конце концов жена. Я вписал Кена в график и был уверен, что все будет хорошо.
В день операции я молился вместе с ним в предоперационной; молился и перед самим ее началом, уже вместе с ассистентами. Анестезиолог дал общий наркоз, Кен уснул, и я вошел в операционную. Мы были готовы.
Я видел опухоль на МРТ, но точно не знал, как выглядят сосуды, снабжавшие ее кровью. Так часто бывает: все начинает проясняться только по мере действий. А четкую картину могла дать лишь ангиограмма. Я продвинул маленький пластиковый катетер от бедренной артерии до сонной, в область шеи, ввел контраст и сделал снимки. На экране замелькали кадры, показывающие, как контраст протекает сквозь опухоль. Питавшие ее сосуды проявились: они проходили позади глаза. Еще она разбухла так, что дошла до основания черепа. Ох ты! По тем же сосудам, которые ее питали, кровь шла к коже лица. Это все усложнило. Риск возрос от умеренного до высокого, и я остановил операцию.
Эмболизацию для других хирургов я делаю довольно часто: так опухоли потом легче удалять. Тут решение принимают другие хирурги, так что, если проблема серьезна, я связываюсь с ними. По правде, вопрос сводится к тому, кто решит рискнуть: они или я.
– Позвоните доктору Миллеру, – сказал я одному из техников и вышел в просмотровую.
Хирург подошел к телефону через пару минут.
– Ангиограмма показала, что сосуды, питающие опухоль, питают и кожу лица, – сказал я. – Если продолжим, сильно рискуем. Предлагаю отменить эмболизацию.
Он молчал. Я знал, что он против. Он хотел оперировать «чисто» – и я его не винил. Удалять кровящую опухоль опасно: можно не увидеть, что режешь. А эта опухоль затронула много нервов в основании черепа.
– Уверен, вы справитесь, – сказал он. – Опухоль большая, с ней сложно работать. Зачем мне лишняя кровь и переливания? Давайте, Леви, вы сможете. Вы же наша главная звезда.
– Ценю ваше доверие, – сказал я. – Но не думаю, что выгода того стоит.
– Не согласен, – возразил он. – Я полностью вам доверяю и уверен, что мы все решили верно. Не хочу, чтобы эта гадость забрызгала все кровью, когда я буду ее удалять. Найдете другой способ – дело ваше.
Так, поговорили. И что же мне делать? Значит, его это не беспокоит. А с чего тогда разволновался я? Может, день не задался? Или я просто боюсь?
– Доктор, вы как там? – в комнату вошел один из техников.
– Не нравится мне это, – объяснил я. – Риск выше, чем я думал. И, вероятно, выгоды его не оправдают.
– Да ладно, док! – удивился он. – Вы столько операций провели! Вы эти артерии за полчаса закроете!
Если кто в меня непоколебимо верил, так это техники. Мы вместе делали сотни операций. Неудач было не так много. Остальные смотрели на меня, не покидая постов. Да что же я так колеблюсь? Может, это я неправ? Все в меня верят, так почему я не решаюсь? Меня охватило знакомое чувство. Я хотел побыть героем: ведь я мог помочь там, где отступали многие! Да меня ведь именно этому и учили!
– Ладно, – я подавил сомнения. – Поехали.
Актеры вернулись на сцену, спектакль продолжался.
Через направляющий катетер я ввел другой, миниатюрный, прошел по внешней сонной артерии – и столкнулся с первой преградой. Артерия закручивалась штопором, ее свело, и катетер в ней намертво застрял, хоть и я подбирал самый тонкий.
– Спазм, – сказал я. – Нужно расширить артерию. Готовьте препараты.
Техники занялись делом.
Спазмы артерий, особенно небольших – обычное дело. Стенки реагируют на инструмент, сокращаются – и все, спазм. Это случается с любыми сосудами, но чем они меньше, тем выше риск, что операция прервется и ваш катетер застрянет как корабль во льдах: не потеплеет – не поплывешь.
К счастью, кровь к той области шла и по другим сосудам: блокировка одного не нанесла Кену вреда. Я ввел препарат, чтобы облегчить спазм, и мы молча ждали и злились, – как будто нас в самый разгар боя вдруг попросили замереть для фотоснимка.
Через десять минут сосуд расслабился, и катетер снова мог двигаться. Я осторожно повел его сквозь этот «штопор», мимо развилки, от которой часть сосудов отходила к лицу, и прошел вниз, сквозь череп, – к артерии, питающей опухоль. Меня все еще тревожило, что сосуды, по которым кровь идет к лицу, находятся так близко. При заклейке все всегда может пойти не так, и этого не исправить. Клей намертво блокирует любые сосуды, в этом его прелесть – но и неимоверная опасность. Блокировку пораженных сосудов и травму здоровых разделяет малейшая ошибка в расчетах.
Сосуды Кена были маленькими. Крошечными. Даже с тем увеличением, которое давал аппарат, я с трудом видел, что делаю. Сперва я хотел применить не клей, а маленькие частички пластика: возвести в сосуде подобие дамбы и тем самым отсечь кровоток. Но я все же выбрал клей. Пластик мог застопорить и катетер – и при этом ничем не помочь. А еще клей легче увидеть под рентгеном, это повышает свободу действий. В сложном положении – например, в таком, когда «хорошие» лицевые сосуды находятся так близко к «плохим» сосудам опухоли, – я должен был действовать неимоверно точно.
Эта сложность беспокоила меня, когда я готовил инъекцию. Я знал: на таком крошечном участке за клеем очень трудно следить. Я мог ввести слишком много, тогда он протек бы в артерию и в ту ее ветвь, по которой кровь поступала к лицу. Была и другая забота: аппарат с трудом выстраивал изображения такого уровня. Я еще видел, что делаю, но машина работала на максимуме.
Катетер находился в сосуде, питавшем опухоль, – позади тех, по которым шла кровь к лицу. Я смешал клей, наполнил шприц, провел пробу с контрастом. Кровь текла довольно живо. Оставалось лишь клеить.
Я прикрутил шприц к микрокатетеру – тот крепился к синей ткани, прикрывшей колено Кена, – и сказал:
– Гасите карту.
Техник, стоявший рядом, коснулся кнопки и изменил режим аппарата. Я нажал на педаль, и на экране остался лишь светло-серый фон: теперь тот показывал только то, как движется по опухоли клей, отсекая все иное.
Я надавил на поршень, прикипел взглядом к экрану, не сводя глаз с кончика микрокатетера… и ждал. Прошло несколько секунд, пока клей шел по всей длине трубки. Я ожидал, пока на экране появится черный цвет. Дыхательный аппарат подал порцию кислорода, и голова Кена чуть сдвинулась. Несколько участков почернели, затем появилось что-то темно-серое: клей проник в опухоль. Я добавил еще, желая, чтобы он прошел как можно глубже. Хорошо. Клей тек как нужно. Я нажал сильнее. Прошла секунда, возможно, две, и вдруг я заметил, что клей пошел обратно в катетер, мимо развилки, от которой сосуды отходили к коже. Я прекратил инъекцию и быстро вынул катетер, до того, как клей успел затвердеть.
Наконец-то можно выдохнуть! Оказалось, я все это время не дышал.
Да, немного клея вытекло. Но я был доволен тем, как он проник в опухоль. На операции доктора Миллера почти не будет крови.
Направляющий катетер все еще оставался в шее Кена. Мы сделали финальную ангиограмму. Опухоль выглядела как призрак; клей стал стеной на пути крови. У меня словно гора свалилась с плеч. Я поручил ассистентам вынуть катетер и проследить, пока прокол перестанет кровоточить. Обычно на это уходило минут пятнадцать, и было легче сделать все, пока больной еще под наркозом. Я надеялся, что об операции ему будет напоминать только одно: повязка над точкой входа в артерию.
Через полчаса я просмотрел снимки. Артерии, питающие опухоль, погибли, и я был доволен собой за то, что справился.
– Хорошая работа, – поздравил я команду, и те улыбнулись в ответ.
Я прошел в маленькую приемную – составить список заданий для сестер в послеоперационной палате и в отделении интенсивной терапии.
И тут раздалась трель: мне звонил анестезиолог. Он снял с Кена респиратор, и кое-что его обеспокоило.
– Смотрите, это нормально? – спросил он.
На щеке Кена полыхало мертвенно-белое пятно. Я видел такие раньше. Но столь огромные, с серебряный доллар – никогда.
Господи, только не это…
Когда я осознал, что могло стать причиной, меня пронзил ужас: клей убил сосуды лица.
– Ему будет больно, – сказал я. – Готовьте морфий.
Медсестра кинулась за лекарством, а я немедленно вышел – звонить пластическому хирургу. Отсечение крови действует на кожу как обморожение. Когда сильный холод грозит отморозить вам нос или пальцы, кровеносные сосудики замерзают, кожа не получает кислорода, – и сигналит об этом болью. Если кислород не поступит к тканям – счет идет на минуты, – боль будет непрестанной и такой сильной, что вам захочется кричать.
Теперь это ожидало Кена. Клей лишил его кожу кислорода. Та умирала, и нервы били тревогу высшей степени, крича об этом мозгу.
Пластический хирург сказала, что уже в пути, и попросила нанести на рану крем-анальгетик: он мог бы расширить сосуды и, возможно, усилить кровоток.
Я вернулся к Кену – слава богу, тот еще не очнулся, – и обработал белую область. Анестезиолог вколол ему немного морфия, и Кена отвезли в палату.
Спустя четверть часа он кричал и извивался на кушетке. Он пришел в себя, и первым, что он почувствовал, стала боль. Мы вместе – я и пластический хирург – ринулись в его палату и пытались понять, что делать с травмой и чем она вызвана. Это было непросто: Кен стонал и ворочался.
– Опасно, – согласилась коллега. – Пройдет паратройка дней, поймем, насколько. Сейчас ничего не сделать, только ждать и смотреть, до каких пор вырастет.
– И белого все больше… – с грустью сказал я.
– Да белое – это еще ничего, – сказала она. – Лишь бы не почернело.
Мы вышли из палаты, и тут я вдруг понял: это не единственный риск! Сосуды шли рядом с глазом! А если клей проник туда? Кен рисковал ослепнуть! Тут впору взмолиться, чтобы кожей отделаться!
Словами не выразить, что со мной творилось. Я провел операцию и нанес больному невероятный вред. Я кое-как молился, вроде: «Господи, помоги!» – но чувствовал себя совершенно одиноким. Случилось то, чего никто не ждал. Последствия были плачевны. А ведь я сам критиковал других врачей за такие исходы – и в душе костерил их неучами и тупицами.
Как я мог сделать то же самое? Почему заглушил интуицию? Почему слушал других, а не себя? Утратил навыки, зоркость, здравый смысл? И что теперь будет с Кеном? Мало ему этой белой кляксы – так еще и окривеет!
«Это я? Это все я?» – твердил я себе, не в силах поверить. Голова шла кругом. Когда я думал, что натворил, меня тошнило. Но не было времени витать в раненых чувствах. Родные Кена – жена и родители – ждали моего решения в приемной. Я попытался прийти в себя, прежде чем направился к ним.
Словами не выразить, что со мной творилось. Я провел операцию и нанес больному невероятный вред.
– Я заделал сосуды, которые питали опухоль, – сказал я. Так, теперь глубокий вдох. – Но случился один из рисков, о которых мы говорили. Повредилась кожа на лице. – Я видел, как они вздрогнули. – Без ущерба не обошлось. Насколько он велик, мы не знаем. Еще может понизиться зрение. Кену сейчас очень больно, но я хотел бы проводить вас к нему.
Я вел их в палату и корил себя как мог. Почему я позволил такому случиться? Я умирал от чувства вины.
Мы пришли в отсек. Кен стонал от боли. Сестры дали ему морфий, и он уже не метался, но обычной дозы едва хватало, а повышать мы не рискнули, боясь остановки дыхания.
Жена бросилась к нему и стала гладить по голове. У Кена распух глаз. Белый крем еще сильнее подчеркивал травму. Родители помогли его успокоить, и я поднял ему веки – проверить зрительный рефлекс.
– Кен, видите мою руку? – спросил я.
– Голова болит! – застонал он. – Болит!
– Кен, сколько пальцев? – Я не унимался.
– Не знаю! – он замотал головой. – Больно!
Наконец морфий подействовал, и Кен снова впал в ступор. Я обернулся к его жене и родителям.
– Пока я ничего не могу вам сказать, – сказал я. – Придется подождать и проверить позже. Я хотел бы помолиться за него, если вы не против.
Они одобрительно кивнули, и я положил руку ему на лоб. Эта молитва предназначалась не только для Кена, но и для меня. Я должен был говорить с Богом о страшных последствиях своей ошибки.
– Господи, мы знаем, Ты здесь, даже если не видим Тебя, – начал я. – Знаем, Ты любишь Кена. Прими же нашу молитву. Исцели его лицо и глаза…
Я замолчал. С чего это Богу устранять мои огрехи? Он ведь не обязан мне помогать. Да и стоит ли просить? И все же я продолжал – на одной только вере.
– Молим Тебя, дай нам покой и мир… всем нам, – закончил я. – Во имя Иисуса, аминь.
Душевная боль мешала мне говорить. Но я знал, что поступаю верно. Я должен был просить Бога о помощи. Речь шла не обо мне, а о здоровье Кена.
Когда молитва завершилась, я вышел и вернулся в отделение. Уже настал вечер, но я не мог заставить себя уйти домой. Оставив больницу, я предал бы Кена и его семью – так мне тогда казалось. Я засиделся допоздна – оформлял документы, занимался чем угодно: такое вот было покаяние. Несколько раз я проведывал Кена и наносил ему крем. Наверное, тоже из чувства вины: обычно этим занимаются сестры, и я прекрасно это знал – как и то, что этот крем, скорее всего, бесполезен, ведь травма была внутри. Но я все равно размазывал этот крем – так мне было хоть чуточку легче.
Домой я ушел глубокой ночью, и начался недельный кошмар. Я не мог есть. Не мог думать ни о чем другом. Кен, Кен, Кен… В голову бил кузнечный молот. Это я его ранил, я, я, я… Теперь его ждет пластика. И, не дай бог, слепота. Не вернуть, не исправить. Я снова и снова прокручивал в сознании всю операцию, будто личную травму. Да, я знал, что риск есть. Но ущерб от моих операций еще никогда не был столь явным. Меня преследовали страхи. А если я плохой врач? А если я потеряю работу? А если Кен и его родные подадут на меня в суд? И та моя нерешительность на операции… может, Бог предупреждал меня? Может, Он призывал меня прекратить? А если так, то я не послушал – и причинил боль тому, кто мне доверился. Ведь Кен не хотел операции…
Наряду со страхом нахлынула беспричинная ярость – на себя, на хирурга, на техника, который подбил меня продолжать, хотя я этого не хотел. Я снова понял – и мысль заставила меня содрогнуться, – как мала в нашей сфере граница между великим благом и огромным вредом. И дело было не в клее. В нейрохирургии сфера применения инструментов очень узка, а использовать их порой нужно со сверхчеловеческой точностью, иначе они превращаются в орудия гибели.
После операции прошел день. Потом еще один. И еще. Я каждый раз просыпался, надеясь, что все это сон. Однажды мне реально приснилось, что операция прошла хорошо, – и я был в этом абсолютно уверен, но только до того момента, пока не добрался до больницы, не взглянул под повязку Кена – и не воскресил свой кошмар.
Я проведывал его по три раза в день. Пораженная область сменила белый цвет на серый. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Медсестра все время колола ему морфий: только так можно было сдержать боль. Она не прекращалась – и могла пройти, только когда умрет ткань.
Я постоянно встречался с его родными, подбодрял, утешал, и не мог понять, их ли я утешаю – или себя самого. Когда боль отступала, Кен, казалось, благосклонно принимал мои визиты и молитвы. Я поддерживал его как мог. Его жена и родители черпали силу в моих словах. Они пытались поддержать Кена, и это было только начало. Операцию по удалению опухоли никто не отменял: более того, к ней уже готовились. Впрочем, семья держалась на удивление стойко, и все трое сказали, что очень ценят наши совместные моления.
Черному цвету нет места в нашем теле – это цвет смерти.
Через неделю мы узнали, что зрение Кена не пострадало. Размытость восприятия была временной; возможно, ее вызвал отек вокруг глаза. К несчастью, с лицом все обстояло иначе. На третий день небольшой участок в центре раны начал чернеть. Пятно разрослось и захватило всю прежде белую область. Черному цвету нет места в нашем теле – это цвет смерти.
Теперь даже пластика, пусть и необходимая, была бессильна вернуть Кену прежний облик.
Пока Кен восстанавливался, проходя сквозь боль и страдания, я начал распутывать гордиев узел сожалений и пытался найти смысл в своем поступке. Я не спрашивал Бога: «Почему Ты позволяешь людям страдать?» Я задавал другой вопрос: «Почему Ты позволил, чтобы это случилось по моей вине?»
Я вошел в крутое пике и падал в бездну раскаяния. Мне был известен только один выход: открыть Богу грехи, обрести Его прощение и попросить о благодати. Теперь этого явно не хватало, ведь преступление совершил я сам. Других наставлять легко. Теперь мне предстояло принять свое собственное лекарство и поверить, что я смогу исцелиться, если Бог меня простит.
Я позвонил другу, который мог бы понять и помочь, – хирургу и христианину. Многие, особенно врачи, говорили мне: «Это часть риска операции. Он обо всем знал, когда соглашался». «У всех бывают сложности. «Вам просто нужен отпуск». «Вы сделали много хорошего, подумайте об этом». Шаблонные фразы. Нет, конечно, это утешало, и я был признателен, но я был в плену вины и не мог освободиться. Я рассказал другу обо всем, что случилось, – и даже о том, что от горя не могу есть.
– Это сила вины, – сказал он. – Ты себя убиваешь. Мысленно. Тело просто откликается и изничтожает себя.
– Я не могу поверить, что сделал этот укол. Я же чувствовал, что не стоит! И все равно его сделал!
– Ты чувствуешь себя виноватым. Может, это твоя вина. А может, и нет, – сказал он. – Излей Богу душу. Он волен простить любой грех. Даже если ты признаешься в чем-то, чего не совершал, Богу и так все известно, и повредит это только твоей гордыне. Что бы ты ни сделал, это не изменит того, как Бог тебя видит. А равно так же не изменит того, как тебя вижу я.
* * *
Он принял мою исповедь. Я признался Богу в грехе, и друг сказал, что Бог простил меня. Бичевать себя как прежде – значило признать, что мои стандарты выше, чем у Бога. Одна только гордость мешала мне поверить, что меня простили. И все же мой ум по-прежнему прокручивал то роковое решение, и я еще нескоро принял мысль о том, что прощен. Я каждый день воевал сам с собой, и каждый раз, когда я видел Кена, мне приходилось напоминать себе, что Бог любит меня независимо от того, сколь хорошо я работаю.
Да, я на самом деле жалел о своем решении, я сказал об этом и Кену, и его родным, но еще я посчитал, что просить у них прощения за исход операции не стоит. Все равно это не принесло бы им никакой пользы. В конце концов, такой риск и правда был. Вместе с Кеном мы молились о его выздоровлении – и о том, чтобы опухоль удалили без осложнений. По крайней мере особо кровить она не будет. Хоть в этом-то я был уверен на все сто.
Мы обязаны докладывать главному нейрохирургу о любых осложнениях, возникших на операции.
Я доложил, и он сказал, что это не тот случай: осложнение было чисто внешним, в неврологическом отношении больной не пострадал, а потому и говорить тут не о чем. Но сам я и близко не считал такой исход нормальным.
Кена выписали. Рана на лице исчезла, но шрам остался навсегда. Он остался и у меня на сердце.
Кен отправился домой на седьмой день. Он все еще принимал слабые болеутоляющие. Опухоль успешно удалили две недели спустя, тогда же провели и пластику. Рана на лице исчезла – но шрам остался навсегда.
Он остался и у меня на сердце.
* * *
После Кена была Лиза. Пятьдесят лет, парикмахер. Вдоль основания ее черепа, за правым ухом, разрослась опухоль, похожая на сигару, – честно скажу, нечасто их там встретишь, – и теперь она грозила поразить ствол мозга и все ушные нервы. Опухоль тоже была необычной, и реши черепной хирург удалять ее без первоначальной эмболизации, она бы превратила все вокруг в кровавое болото.
Все опухоли – паразиты. Они вторгаются в нормальный кровоток и жрут, жрут, жрут без остановки. Опухоль выделяет особое вещество, под действием которого сосуды прорастают в нее и питают ее все новыми порциями крови, из-за чего разбухают и сами, и кровь, столь нужная в другом месте, уходит на разрастание опухоли.
По степени васкуляризации, или захвата новых кровеносных сосудов, опухоли разнятся очень и очень сильно. Иногда таких сосудов почти нет, и опухоль растет медленно. А иногда их прорва – и в самой опухоли, и вокруг.
Вот у Лизы и был второй случай.
На первых снимках я увидел массу здоровых сосудов, уже захваченных опухолью. Многие были крошечными, но их было столько, что казалось, будто кроме них там ничего и нет. Ясно, почему наши черепные хирурги так хотели, чтобы я блокировал приток крови еще до того, как они начнут операцию. Кровь в этой области может хлестать так, что не просто усложнит хирургам жизнь, но и потребует переливания. Кроме того, опухоль зародилась возле черепных нервов, отходивших к уху, языку, лицу и горлу, и уже разрослась вокруг некоторых, так что было проще простого зацепить в кровавом месиве один, а то и пару.
Черепные хирурги знают, как идут нервы, сонные артерии и другие важные структуры, скрытые в лицевых и височных костях, а также в затылочной области – там, где череп соединяется с шейным отделом позвоночника. Особым сверлом они подрезают кость, окружающую нервы, до толщины бумажного листа, и тщательно отделяют нерв от опухоли. Операции длинные и очень утомительные – даже по сравнению с теми, что проводят нейрохирурги. Удалить опухоль между нервами у основания черепа – для этого требуется высочайшее мастерство, огромное терпение и невероятная самоотверженность, и ими обладают немногие хирурги. Доктор Сэмюэлс, доктор Бронсон, позвольте выразить вам мое искреннее уважение на страницах этой книги.
Лиза жила за городом, довольно далеко от Сан-Диего. Чтобы убить двух зайцев одним махом, она решила провести операции – сперва мою, а потом открытую хирургию – с интервалом в два дня. И вот день настал, я надел шапочку и маску и направился в операционную. Наркоз уже дали, и Лиза спала на столе. Я быстро сделал ангиограмму, ввел катетер в бедренную артерию, продвинул его к шее, до сонной, а потом пошел в аппаратную, снял перчатки и сел смотреть, что покажет ангиография. И то, что я увидел, заставило меня содрогнуться: сосуды, питающие опухоль, находились в опасной близости от лицевого нерва, а тот шел совсем рядом с наружным слуховым проходом. Я позвонил доктору Сэмюэлсу, и тот спустился через несколько минут.
– Опухоль рядом с лицевым нервом, – я указал на ангиограмму. – Не хочу, чтобы ей парализовало пол-лица.
Он помолчал.
– А я не хочу, чтобы эта пакость истекала кровью, – сказал он наконец. – В прошлый раз с вашим пластиком все в кашу превратилось. Давайте думать. Заклейте ее, что ли. Этот ваш новый клей весьма неплох.
Он посмотрел на часы. Весь его график уже был расписан, и он очень желал, чтобы я уже в тот день провел операцию.
Я снова посмотрел на ангиограмму, затем – на Лизу, лежавшую без сознания. Что будет лучше для нее? Ассистенты напряженно ждали. Наш паровоз летел вперед, и снова только я один грозил рвануть стоп-кран.
– Позвольте, я позвоню. Я быстро, – сказал я и вышел. Доктор Сэмюэлс тяжело вздохнул. Техники остались на местах.
Ладно. Хотите клей, будет вам клей.
По правде, это не клей, а нечто иное – черное вещество, вязкое, будто патока. Оно намного гуще, чем наш обычный клей, водянистый и проникающий в опухоль вместе с током крови. С черной патокой все иначе – ее приходится чуть ли не толкать, пока она не заполнит всю пораженную область, сосуд за сосудом. В ней содержится металлический порошок; он оседает в сосуде и блокирует его, словно заглушка. Раньше я уже применял «патоку», только не в этом месте, – и хотел убедиться, что ее использование не влекло никаких осложнений с лицевыми нервами. Ей посвящалась целая хвалебная статья, и ни одного слова о вреде. Но я так и не смог выяснить, оперировал ли хоть один хирург именно такую опухоль – и именно в этой области.
Я увильнул в смотровую и позвонил паре-тройке коллег: хотел обрисовать им ситуацию и получить оценку. Никто не ответил: все были заняты. Отозвался только торговый представитель; он хотел дозвониться до консультантов компании, но не смог. В общем, никто не знал, безопасно ли применять «черную патоку» в области лицевого нерва.
Думай сам, решай сам.
Кровеносные сосуды, питающие лицевой нерв, очень малы. «Патока» довольно густая. Да, риск есть, но так ли он велик, чтобы все прекратить? Или я так осторожен из-за Кена? А может, эта операция дана мне во искупление? Я уже не раз делал и более опасные, и все было хорошо.
Да я карьеру сделал на опасных! И риск почти всегда окупался с лихвой. А если я не возьму на себя эту проблему, доктор Сэмюэлс потом замучится. Кто-то должен был рискнуть – или он, или я.
– Продолжаем, – сказал я, когда вернулся в операционную. Доктор Сэмюэлс улыбнулся и пошел к себе.
Я встал рядом с Лизой; осторожно провел катетер вверх – от бедренной артерии до уха; выделил три отдельных сосуда, питавших опухоль, и стал заполнять их смолистым черным клеем. Пять часов я проталкивал его через сосуды и не сводил глаз с монитора. Сменяя друг друга, кадры показывали, что «патока» проходит в разные части опухоли. Никаких органов или структур на экране не было – ни мозга, ни даже самой опухоли. Мне все время приходилось представлять их, пока я следил за «патокой», готовый в любой момент прекратить инъекцию, если та начнет блокировать важные сосуды.
Еще я всеми силами стремился избежать главного риска. Стоило «патоке» просочиться не в тот сосуд, она могла бы мог попасть в общий кровоток и вызвать инсульт. Я постоянно старался оставаться в границах опухоли – по крайней мере тех, какими я их представлял. Воображение работало на пределе: я представлял и форму опухоли, и тот участок, который она занимала. И если бы я увидел, что черный клей приближается к «нормальному» сосуду, остановился бы в тот же миг.
Есть операции, которые длятся долго, но придают сил и азарта. Эта была просто долгой. В глубине души я постоянно думал о высоком риске. Я мог отсечь опухоль от кровотока. Но я не был уверен, что не причиню вреда, и потому злился.
Когда все закончилось, я был доволен. Черный клей не попал в мозг и заполнил только пораженные участки. Снимки показали, что кровь уже не поступала в опухоль. Ассистенты были радостны и счастливы. Я тоже.
Лиза проснулась не сразу. Это было нормально, ведь операция шла долго, – и, когда это случилось, я пришел ее навестить и приступил к обычной проверке. Она по-прежнему была немного не в себе.
– Все хорошо, Лиза, – подбодрил я. – Улыбнитесь. Она улыбнулась.
Левой стороной рта.
– А еще раз? – я напрягся.
Она улыбнулась снова. Без изменений.
– Закройте глаза, – попросил я.
Правый глаз не закрылся.
Мое сердце дрогнуло. Лицевой нерв! Два осложнения на неделе! Это невозможно!
Еще сонная после наркоза, она не понимала, что есть проблема.
– Лиза, увидимся в палате, – я улыбнулся ей. – Придете в себя, тогда и обсудим операцию.
Пока я, следуя протоколу, вбивал данные дела в компьютер, я никак не мог понять: почему? Почему ее губы не двигались? Почему не закрывался глаз? Мы не кололи анестетик в лицо! Что могло парализовать нерв? Растворитель в составе «патоки»? Тогда все пройдет. Но все равно: это моя инъекция прошла в крошечные сосуды, питающие нервы! Это она отсекла кровь от лица!
Опять?!
Так, ладно, лучше не гадать. Я пошел в палату к Лизе. Она уже была гораздо бодрее и при моем появлении воспрянула духом.
– Все хорошо? – спросил я.
– Да, очень! – ответила она.
– Тогда улыбнитесь, – предложил я вроде как невзначай.
Нет. Половина рта оставалась неподвижной. Еще я заметил, что при моргании правый глаз закрывался, но не полностью. Травма осталась.
И, видимо, навсегда.
– Лиза, у вас в лице небольшая слабость, – сказал я, пытаясь говорить спокойно. – Не знаю, пройдет она или нет. Пока просто отдохните. Остальное потом.
– Хорошо, доктор, – беззаботно отозвалась она. Мыслями она уже была на новой операции, и мое известие затерялось среди других ее забот.
Но я знал, насколько все серьезно. Закрывшись в кабинете, я сидел и думал над убийственными фактами.
Моя операция нанесла вред второму подряд больному! С технической точки зрения она прошла успешно – и тем не менее вред был, и немалый. Половина лица разбита параличом! А я опять продолжил операцию, несмотря на сомнения.
Я склонил голову на руки и лег на стол. Два раза за неделю! Это было слишком! Я снова терзался и бичевал себя. Неужели я опять причиню больному вред?
То, как врач заботится о больных и их семье после неудачного исхода операции, говорит о нем больше, чем все таблички с его дипломами, развешанные на стенах.
Через два дня Лиза легла на операцию. Ей удалили опухоль, и черепные хирурги были очень довольны: долгая и сложная операция прошла совершенно бескровно. Частично нервы восстановились: теперь Лиза могла закрыть глаза. Правда, улыбка ее навсегда изменилась.
– Я там ваш клей видел, – сказал мне потом доктор Сэмюэлс. – В сосудах возле нерва.
– Мой, да? – устало спросил я.
– Ваш, – ответил он. – Прекрасная работа. Если бы там все кровило, я бы тот нерв вообще не заметил. Срезал бы под корень, и все.
Вот так и работает наша команда: вместе и в радости, и в горе.
Неудачные исходы – часть нашей профессии. Я не всегда ставлю верный диагноз. Не всегда идеально оперирую. Я человек, и я ошибаюсь. И все же больно, когда среди твоих ошибок – та, кому ты превратил половину лица в гипсовую маску, а через две палаты от нее – тот, кого ты заклеймил. Я предпочел бы видеть свои успехи, а не неудачи. Впрочем, я в этом не одинок. Иные врачи даже запрещают больным, которым нанесли травму, появляться на пороге их кабинета. Я уверен в одном: то, как врач заботится о больных и их семье после неудачного исхода операции, говорит о нем больше, чем все таблички с его дипломами, развешанные на стенах.
И тем не менее… две травмы на неделе. Я явно что-то делал не так.
* * *
Прошло несколько недель. Мне предстояла очередная операция. Нира, восемь лет. Левая рука и предплечье слегка опухли: там таилась артериовенозная мальформация. Симптомы проявлялись слабо, но меня тревожило, что все могло стать хуже. Такие мальформации – моя специальность. Иногда они поражают самые необычные места: ноги, колени, язык; сейчас вот – руку. Это случается нечасто, оперировать в таких случаях очень трудно, и мне помогал доктор Фитцджеральд, специалист в патологии периферических сосудов. Прекрасный врач, он ассистировал мне уже не раз, и я научился доверять его умению и оценке.
Я начал операцию очень осторожно – намного более осторожно, чем прежде. Я уже давно не был так осторожен. Я почти не доверял собственному мнению, – а это в моем положении очень и очень опасно. А перед операцией я вместе с ассистентами и персоналом – в присутствии доктора Фитцджеральда – вознес молитву Богу.
– Господи, прошу, дай мне ясные мысли и умение верно судить, – попросил я.
Они требовались мне как воздух.
Операция началась. Я провел катетер в нужное положение и готовился заклеить сосуды – и тем самым блокировать часть мальформации.
– Мы на месте. Что скажете, доктор? – спросил я.
Он стоял позади и смотрел на большой видеомонитор, куда мы вывели изображение руки Ниры – во всей ее анатомической красе.
– Все нормально, – одобрил он. – Клейте.
Я отошел к столу – смешивать клей – и у меня возникло стойкое чувство, что продолжать операцию нельзя. Я замер.
Время, мне нужно время!
И вновь эта борьба с самим собой. Я что, уже себе не доверяю? Опять игры разума? Или напротив – внутренний голос? Может, Бог откликнулся и дал мне ясность мыслей? Я вернулся к операционному столу и снова взглянул на ангиограмму.
– Знаете, доктор, давайте не будем спешить, – сказал я. – Надо кое о чем подумать.
Прекратить операцию и не лечить больного – одно из худших решений, какие только может принять хирург.
Он посмотрел на меня как-то странно. В глазах техников я тоже видел недоумение. В операционной возникла уже знакомая тяжесть, незримая, но очень реальная. У нас ребенок под наркозом! Чего волынку тянуть? Меня учили принимать быстрые решения – вот и пора показать, чему я научился!
Но меня все равно что-то тревожило. И на этот раз я решил, что не стану давить сомнения. Я посмотрел на снимки. Ничего особенного. Катетер стоял правильно. Что меня так беспокоит? Состав смеси? Скорость потока крови? Область, куда рискует попасть клей? Я не мог сказать точно, но знал одно: дальше я не пойду.
– Не могу, – наконец сказал я. – Прекращаем.
Доктор Фитцджеральд уставился на меня так, словно у меня во лбу вырос рог. Техники застыли, не веря, что я серьезно. Прекратить операцию и не лечить больного – одно из худших решений, какие только может принять хирург. Я не стал вынимать катетер – на случай, если снова передумаю, – но снял перчатки и направился в просмотровую. Доктор Фитцджеральд молча следовал за мной.
Мы сделали ряд новых ангиограмм – и обнаружили то, чего не видели прежде: из-за предыдущих операций к большому пальцу Ниры почти не поступала кровь. Обычно она идет по двум артериям, у нее же шла только по одной. И если бы я сделал инъекцию как задумывал – и перекрыл единственную питающую артерию, – со временем девочка просто потеряла бы палец.
В немом изумлении мы смотрели на снимки. Я ликовал. Решив остановиться, я, скорее всего, спас ее!
– Неплохо, Леви, – наконец нарушил тишину мой ассистент. – Прямо в яблочко.
Через полчаса Нира проснулась. Рукой она двигала совершенно спокойно, как и до операции. Я шел домой, и в душе царили смирение и легкость – конечно, из-за Ниры. Но и за себя я тоже радовался. У меня были все основания продолжить. Даже доктор Фитцджеральд дал свое одобрение, а ведь его опыт в этой области превосходил мои знания! Но я решился – и прислушался к своему внутреннему голосу. Или это был голос Бога? Наверное, все-таки голос Бога – особенно если вспомнить, к чему все привело. Небольшая припухлость в руке и предплечье могла сохраниться у Ниры на несколько лет – но она уже не увеличится. Дальнейшее лечение ей потребовалось бы только года через три, и риск потери большого пальца ей в это время не грозил.
Нелегко принять решение, когда на кону опасность смерти или травмы. А больные редко догадываются о том, как страдают врачи, если операция или назначенные лекарства наносят вред. Но все равно я знаю: даже если на операции и случится ошибка, Бог всегда со мной, – и с теми, кому служит мое искусство.
И милость Его над всеми нами.
О ком я не забываю никогда
Молитва о больных, обращение к их душе и чувствам – все это меняло и их мир, и мой. И несколько таких случаев врезались мне в память.
Клаудия, под тридцать, бледная, застенчивая и несчастная. У нее в мозгу нашли небольшое образование. Сперва решили, что аневризма, но тревога оказалась ложной. На сканирование она пришла из-за длительных и сильных головных болей, причину которых никто не мог установить. Невролог увидел на снимках маленькое вздутие и направил Клаудию ко мне. Она надеялась, что шишку удалят и боли прекратятся. Однако давление в сосудах колебалось в пределах нормы.
Иногда бывает так, что больной даже рад, когда ему сканируют мозг, ставят диагноз «аневризма» и направляют к нейрохирургу. По крайней мере это может оправдать и таинственные головные боли, и проблемы со здоровьем, – не перед собой, так перед другими. Даже фраза «так сказал нейрохирург» может дать странное утешение тому, кто чувствует себя непризнанным и неоцененным. Но я надеялся предложить ей нечто более существенное.
– Как давно у вас эти боли? – спросил я, когда она пришла на прием.
– Очень давно, – ответила она. – Сколько себя помню.
– Насколько больно? По шкале от единицы до десятки?
– Иногда восемь. Иногда пять.
– А сейчас?
– Восемь.
– Они проходят?
– Полностью – никогда.
Короткий обмен репликами выявил в ней «вечную пациентку». Такие могут годами осаждать врачей, менять клиники, перепробовать массу препаратов, но так и не находят реального решения своих проблем. Я понимал, что медицина тут бессильна. И мне было очень жаль эту девушку. Она казалась такой потерянной и уставшей от жизни… Но в чем же причина? Я хотел ее найти, какой бы она ни оказалась.
– Шишка ни при чем, – сказал я, когда мы вместе смотрели на снимки. – Это ложная аневризма. Она не опасна. Но здесь нам полной картины не увидеть; все несколько сложнее. Скажите, как у вас складываются отношения с другими людьми? Стрессов нет?
– В смысле? – Она чуть напряглась и медленно выдохнула, словно пытаясь справиться с гневом. – На работе? Или дома?
– Да где угодно. Есть те, на кого вы злитесь?
– Конечно. У меня жуткие отношения с матерью. Она меня бесит. Мы не общались полгода, с тех пор, как отец свалил из страны с другой женщиной. Он еще хуже матери, и с ним я тоже не общаюсь. А как это связано?
Она с любопытством посмотрела на меня.
– Негатив поражает не только душу, но и тело, – ответил я. – Вас воспитывали в вере?
– Ага, в католической, – с вызовом сказала она. – Только я больше не верю в Бога.
Я вздохнул. Придется доставать занозу из львиной лапы, – очень, очень осторожно. Я кивнул, показывая, что отметил ее чувства и ничем ее не осуждаю.
– А когда вы решили, что Бога нет?
– Когда мне было девять.
– Что-то случилось?
Она чуть задержалась с ответом.
– Меня чуть не изнасиловали.
Она бросила это небрежно, пожав плечами, словно пытаясь показать, будто это ее не волнует. Но скрыть свою боль она не сумела: и напряженность позы, и дрогнувший голос, и взгляд сказали мне, что она просто сжилась с этой горькой обидой, и – так же, как и многие другие, кому довелось страдать, – сделала выбор, желая защитить себя от новых мучений. Раз Бог меня не хранит, не буду в Него верить, – обычная мысль. Не отвечает на мои молитвы – буду делать что хочу и с кем хочу. Да, для таких решений есть причина, и в тот миг, когда мы их принимаем, они кажутся вполне оправданными, – но они же навеки заключают нас в темную клеть одиночества, страха, стыда и, наконец, заболеваний. В отрыве от Того, кто нас создал, мы не в силах обрести истинный мир и покой. Мы можем достичь вершин, и немалых, – но вечную с Ним разлуку Бог не предначертал никому.
Раз Бог меня не хранит, не буду в Него верить, – обычная мысль. Да, для таких решений есть причина, но они же навеки заключают нас в темную клеть одиночества, страха, стыда и, наконец, заболеваний.
В тот момент у меня появилась надежда: может, это Бог позволил нам встретиться? Сколь сильно она воспротивится, услышав о молитве? И как сказать ей правду – так, чтобы она ее услышала и приняла? Я словно шел по канату над бездной. Хочет ли она вернуться к своей вере? Толкать ее насильно – нет, не буду. Но избавить ее от обиды и горечи – да, это я должен сделать: ведь именно из-за них она лишалась и радости, и сил.
– Жаль, что вам довелось через это пройти, – сказал я. – Многие бы разгневались на Бога. И спрашивали бы, как Он мог это позволить.
– Да, многие, – эхом откликнулась женщина.
Многие – так, значит, и она? То есть – Бог для нее по-прежнему существует? Эту-то мысль она не отвергла? Так, уже лучше.
– Клаудия, все мы злимся или обижаемся, когда Бог не исполняет наших желаний, – сказал я. – Это вполне естественно, особенно когда мы страдаем. Проблема в другом. Потом, когда Он нам больше всего нужен, мы уже не можем к Нему обратиться, – ведь некогда мы оттолкнули Его.
Ее глаза расширились от удивления, – но она быстро успокоилась и чуть наклонила голову к плечу.
– Клаудия, вы злитесь на Бога. Я хотел бы помочь вам отпустить гнев, но только если вы согласитесь. Я знаю: Бог на самом деле хочет услышать о ваших чувствах, – сказал я.
– А то Он не знает! – фыркнула она.
– Знает, – кивнул я. – Он читает наши души как книгу и видит все наши мысли. Но подслушивание – это разве отношения?
Она улыбнулась.
– В основе любых хороших отношений – искренность и честность. Бог хочет услышать о ваших чувствах – и сейчас, и в прошлом. Вам было одиноко? Вы боялись? Скажите ему обо всем. У Него сильные плечи; Он выдержит. Если притворитесь, что все нормально, и промолчите – в проигрыше окажетесь только вы.
– Ну, скажу я, и толку с этого?
– Клаудия, заставь я вас прождать два часа в приемной, вы бы, наверное, обиделись – и ждали бы объяснения. А если бы я не извинился и не рассказал, что меня задержало, вы бы решили, что мне все равно, так?
– Ну да, – она с сомнением посмотрела на меня, но позволила продолжить.
– Так и мы. Когда Бог не оправдывает наших ожиданий, мы обижаемся и хотим знать причину. Но Он обычно не отвечает на вопрос: «Почему?» Он ждет, что мы оставим злость и доверимся Ему, узнав, какой Он, – не на слепой вере, но зная, что Он для нас сделал и что нам о Себе рассказал.
– Например?
– Готов поспорить, к вам много чего пришло просто так, от Бога, и вы ничем этого не заслужили. Вот взять Сан-Диего. Здесь же лучшая погода на всей земле, – улыбнулся я.
– Да, согласна, – Клаудия слегка усмехнулась. – И мужа своего я не заслужила. Он хороший, а я делаю его несчастным.
– А еще?
– Работа у меня есть, в отличие от многих. И дочка. Люблю ее, – усмешка превратилась в улыбку.
– А знаете, чему я много раз был свидетелем? – задал я вопрос, на который собирался ответить сам. – Многие заболевают потому, что в их прошлом что-то случилось – как у вас. И они не могут – или не хотят – простить тех, кто причинил им боль, и отходят от Бога. А потом горечь и злоба отравляют их жизнь, что влечет за собой массу проблем со здоровьем. – Теперь она слушала очень внимательно. – Их мучают головные боли и бессонница, а порой их иммунитет настолько слаб, что не в силах справиться ни с одной болезнью.
– И как вы помогаете таким людям? – спросила она.
– Советую им простить всех, кто причинял им боль, и помогаю говорить с Богом, если они этого хотят, – ответил я. – Некоторым нужно признать, что они злятся на Бога. Я бы ни за что не подтолкнул вас насильно, но думаю, если вы расскажете Богу о том, как вам больно, это вам не повредит. Искренность – залог отношений. Советую вам делать это с уважением, но Он примет все, что вы скажете. Можете обратиться прямо к Нему.
Клаудия ненадолго замолчала.
– Хорошо, я попробую, – сказала она.
– Давайте. Расскажите Богу о том, когда вы отвергли Его, – и что вы тогда чувствовали.
Клаудия долго молчала, и я было решил, что потерял ее и наша встреча резко закончится. Но она сказала:
– Господи, где Ты был, когда меня насиловали? Почему Ты это допустил?
– Вас бросили? – тихо подсказал я.
– Я чувствовала, что Ты меня бросил. Будто Тебе все равно.
Признания отзвучали, и на миг воцарилась тишина.
– На кого еще вы злитесь? – спросил я. – Скажите Ему.
– Я злюсь на мать, – сказала она. – Злобная стерва, просто дышать мне не давала! Где отец ее только откопал! Ненавижу даже думать, что я с ними в родстве!
Она умолкла.
– Мы многого не понимаем в жизни, – сказал я. – Вот и вы застряли на месте. Вы все ждете объяснения от Бога, и только потом будто бы решите Ему довериться. Вы уже признали, что получили многое просто так. У вас есть вопросы о вашем прошлом, – но, видимо, есть и подтверждения того, что Бог проявил к вам доброту.
– Думаю, да, – призналась она с легкой улыбкой.
– Если вы готовы сделать шаг вперед, навстречу Богу, вам придется больше не требовать от Него объяснения причин. Уверен, когда-нибудь вы их узнаете. Но не сейчас.
Клаудия надолго задумалась.
– Скажите Богу что-нибудь, если хотите сделать этот шаг. Скажите так: «Господи, я не понимаю многих причин, но я оставлю поиск ответов и не стану их требовать. Если захочешь, объяснишь мне потом – у нас впереди целая вечность, и сейчас мне ничего не нужно. Я выбираю веру в то, что Ты добр и милосерден – и что Ты делаешь все так, как лучше для меня»20.
Когда я умолк, Клаудия заплакала.
– Господи, я не знаю, зачем это было, – сказала она от чистого сердца. – Но я больше не буду спрашивать. Пусть все откроется потом. Я верю, что Ты милостив и желаешь мне добра, пусть даже все выглядит иначе.
Мне показалось, что после этих слов ее лицо словно озарилось. Сутулость исчезла. Она как будто скинула с плеч тяжелый камень.
– Вы идете к Богу, Клаудия, – сказал я. – Готовы ли вы простить мать и отца?
– Готова, – сказала она, и я помог ей отпустить эту горечь.
Она снова тихо заплакала, и мое сердце дрогнуло от боли, – я сочувствовал ей. Затем она затихла: наверное, она много лет не чувствовала такого мира и покоя. Я бросил взгляд на монитор: уже подошло время принимать нового больного, а я и не заметил. Клаудия взглянула на меня, но не вставала, – прислушивалась к чувствам.
– Так странно, – сказала она. – И легко. Будто тонну сбросила.
– Это нормально. Вы на пути к здоровой жизни. Я поражен тем, что вы сегодня совершили.
Я должен был принять другого пациента – назначенное время и так прошло, – и пришлось проводить Клаудию с наилучшими пожеланиями. Я знал: обида и горечь попытаются вернуться. И я не успел хоть чем-то заменить злость, бывшую у нее на сердце. Разговор с отцом или матерью мог снова всколыхнуть гнев и страхи. К счастью, долго ждать не пришлось: вскоре она позвонила.
– Как вы? – спросил я.
Она уже не плакала: голос был живым и веселым.
– Намного лучше! – радостно воскликнула она. – Со мной что-то произошло у вас на приеме! А еще я узнала, что мачеха за меня молится! Муж мне говорил то же самое, что и вы, но я ему не верила, а теперь меня спрашивают: «Что с тобой? Ты чего такая счастливая?»
Люди могут не слушать ни родственников, ни священников, а вот врачи, как ни странно, могут помочь им снова обрести Бога.
Я видел это много раз. Люди могут не слушать ни родственников, ни священников, – а вот врачи, как ни странно, могут помочь им снова обрести Бога. Я дал ей номер женщины, помогавшей в духовном исцелении, и Клаудия тут же ей позвонила. Она восстановилась невероятно быстро: за один визит она прошла от яростного неверия до абсолютного принятия Бога. Ее семейная жизнь начала улучшаться, и теперь она с надеждой смотрит и на себя, и на мир, – словно она ждала, пока кто-то поможет ей собрать осколочки веры в единую и прекрасную картину.
* * *
Джерри. Огромная аневризма, поразившая ствол мозга. Неимоверно опасная. Резидент, принимавший больного, вписал его в график срочных операций и позвонил мне в самую рань. Я просмотрел томограммы на домашнем компьютере. Да, случай был опасным, и разобраться с ним стоило как можно скорее.
Аневризма вспухла на базилярной артерии в передней части ствола мозга и разбухла настолько, что сжала сам ствол, отчего Джерри едва мог ходить. Большинство аневризм – с горошину, в диаметре миллиметров семь. Эта была вчетверо больше, что перевело ее в разряд гигантов. Мозг, в общем-то, на удивление неприхотлив; его отделы часто приспосабливаются к медленному росту аневризмы или опухоли. Но ствол мозга, равно как и спинной мозг с его канатом нервов, поддаются раньше других, – и именно их сейчас поражала аневризма. Риск мог оказаться фатальным.
Мои первые вопросы, даже когда случай столь опасен, всегда звучат так: «Делать – или не делать? Может, ничего не трогать? Это длилось годами – так сколь велик риск нанести больному вред? Или стоит просто вылечить симптомы и не трогать саму аневризму?» Вот о таком я в то утро и думал, пока ехал в больницу, – впрочем, без снимков я все равно не мог ничего рекомендовать.
А снимки показали, что проблема куда более серьезна. Вероятность инсульта на операции или после нее мы расценивали как один к четырем. Но бездействие могло повлечь лишь ухудшение – и смерть.
Джерри я встретил в смотровой. Он был невысоким, уже на седьмом десятке, и выглядел так, словно мог выжить в джунглях с одним только ножом. Я уже успел поговорить с резидентом и знал, что Джерри ненавидел, когда зависел хоть от кого-нибудь, – и очень долго ждал, прежде чем обратиться к врачам. Но ему было все хуже, и под угрозой инвалидной коляски он, хоть и неохотно, согласился рассмотреть варианты лечения.
– Чем занимаетесь? – спросил я, пытаясь узнать и о нем, и о его окружении.
– На пенсии, – ответил он.
– А чем занимались?
– Да так, разным по мелочи, – недовольно сказал он и замолк.
– Ладно, – не стал настаивать я. – Как проявлялась ваша болезнь?
– Слабость. В правой половине. В автобус еще забираюсь. Но уже хромаю, – объяснил он рваными фразами.
– Вас некому отвезти?
– Я живу один.
– Друзья, соседи?
– Нет.
Волк-одиночка? Или боится и просто блефует? В общем, ясно: о себе он говорить не любил.
– Чем дольше будете тянуть, тем хуже, – сказал я. – Операция рискованная, но если ничего не сделать, то вас, в конечном счете, разобьет паралич.
– Понимаю, док, – сказал он. – Потому я и тут.
Что-то казалось мне странным. Он словно воспринимал нашу встречу как визит к дантисту ради пломбы. Не знал, насколько серьезны такие вмешательства? Ладно, зайдем с другой стороны.
– Кто-нибудь пришел с вами? – спросил я.
– Нет.
– Есть ли в городе родные, с которыми вы можете связаться?
– Нет.
– Прошу. Это очень рискованная операция.
– Насколько?
– Невероятно рискованная, – ответил я. – У вас громадная аневризма рядом с важнейшим отделом мозга. Артерия извернулась, и вернуть ее в норму будет крайне трудно, если вообще возможно. Не исключен летальный исход. Думаю, вероятность обширного инсульта или смерти – один к четырем.
Ага, проняло.
– Вы серьезно?
– Абсолютно.
Судя по виду, на такое он не рассчитывал. Странно, почему он решил, будто риск окажется низким? Это была исполинская аневризма! Паралич и так уже подбирался к нему, словно паук.
– Мне ничего не говорили о смерти.
– Жаль быть первым, – отозвался я. – Эта операция очень опасна.
Джерри опустил голову и скривился. Он явно обдумывал новые сведения – и явно никогда не думал о смерти. Он тяжело дышал. В жестах скользили гнев и разочарование, как будто его рывком втащили в ловчую сеть.
– Мне нужно позвонить жене, – сказал он. – На самом деле она моя бывшая жена, но она мне важнее всех в жизни. Она и сын.
Я заметил, что на каждую фразу он тратил больше времени.
– Конечно, прошу. Звоните прямо отсюда.
Он достал мобильный и набрал номер.
Это дало мне передышку. Что еще сделать? Выходит, он и о рисках не знал! Ему требовалось время, а в идеале – и близкие люди, способные утешить и подбодрить. А он сидел тут совсем один, явно расстроенный, и этот удар застал его врасплох.
Бывшая жена ему не ответила – он добрался лишь до ее голосовой почты. Но это был ее голос. И этот бесстрастный человек, услышав его, зарыдал и никак не мог остановиться, а когда пришло время оставить сообщение, прохрипел:
– Это Джерри. Мне хотят делать операцию. Я могу умереть…
Он отключился, попытался взять себя в руки, затем набрал сына, но не смог дозвониться и ему, а потом отложил телефон – и захлебнулся рыданиями. Его терзали муки. Я протянул ему платок и стал подробно изучать историю болезни. Мало ли, может, еще что узнаем. Только что пришел анализ крови. Показатели были крайне низкими.
– Джерри, есть идея, где вы могли потерять кровь? – спросил я.
– Ангиомы, – его рыдания чуть стихли. – По всем кишкам. Кровят.
– Как часто?
– Раз в неделю.
– И сколько крови вы теряете?
– Пинту21.
– Пинту крови в неделю?
– Да.
Ангиомы – небольшие узелки, похожие на красные родинки. Порой они вызывают кровотечение в желудочно-кишечном тракте, но довольно редко. Джерри описывал спонтанное кровоизлияние, вызвавшее обильную кровопотерю, – и это очень влияло на операцию.
– Вы их вылечили?
– Не люблю больницы, – он покачал головой.
Да, проблема. А я-то хотел применить антикоагулянты, чтобы уменьшить риск тромбоза и инсульта! Шиш! Если рванет хоть одна из этих ангиом, Джерри истечет кровью, а нам останется только смотреть. И даже если все пройдет успешно – один к двум на то, что он умрет в палате.
– Джерри, давайте подведем итоги, – сказал я. – Аневризма раздавит ваш мозговой ствол. Вы перестанете чувствовать правую половину тела. Вы не сможете ходить без трости. Мы планировали провести операцию сегодня, но сперва нужно разобраться с вашими кровотечениями, так что приоритеты меняются. Кажется, вы только сейчас начинаете понимать, насколько рискованна эта операция, – и, видимо, лучше с ней повременить. Предлагаю вот что. Сегодня делаем ангиограмму и смотрим и на вашу аневризму, и на ангиомы в кишечнике. Ангиограмма покажет мне, как течет ваша кровь, и я пойму гораздо больше. Рентгенолог поможет заблокировать любые кровотечения. Расправимся с ними – лечить аневризму станет намного проще.
– Ладно, – сказал он уже чуть спокойней.
– Сегодня рекомендую именно это.
Он кивнул.
– Джерри, еще кое-что. Рискованна всякая операция, даже ангиограмма. Обычно я молюсь о своих больных, которым предстоит операция, и хотел бы сделать это сейчас. Как вы на это смотрите?
Джерри выглядел удивленным, но согласился. Смотрел он прямо перед собой.
– Господи, Ты знаешь все о Джерри, – сказал я, коснувшись его плеча. – Прошу, сохрани его на сегодняшней операции. Аминь.
Я открыл глаза. Джерри все еще смотрел в одну точку, словно ничего и не случилось, – с таким видом, будто ждал, пока я завяжу шнурки.
Анестезиолог уже ждал у смотровой: Джерри отвезли в операционную, дали наркоз, и начались уже привычные мне этапы: облачение, подготовка, катетер в бедренную артерию, контраст, ангиограмма в высоком разрешении и кадры моего «кинофильма», где в главной роли была аневризма Джерри, огромная и уродливая. Исправить ее по-простому – об этом не стоило даже и мечтать.
Сделав ангиограмму, мы еще несколько часов опознавали и пытались блокировать артерии, питавшие груду его кишечных ангиом. Наконец мы решили, что кровоточить те больше не будут, и спустя какое-то время я навестил его в послеоперационной палате.
– Как вы? – спросил я.
– Нормально.
– Операция прошла хорошо, – я показал ему снимки. – Вот. Ваша «годзилла» во всей красе.
– Спасибо, док, – отозвался он.
Я планировал провести следующую операцию через две недели – и хотел, чтобы он за это время задумался о главных вещах и был готов ко всему: эмоционально, психологически и духовно.
– Джерри, помните, мы говорили о риске смерти? В ваших обстоятельствах смерть очень вероятна – что с операцией, что без нее, – сказал я. – Как ваш духовный путь? Вы об этом подумали?
– Нет, – он покачал головой. – Я не могу поверить в Бога.
– Почему? – мягко спросил я.
– Я слишком много видел, – презрительно бросил он. Я промолчал, ожидая, пока он продолжит. – И много где был. Я не в силах в такое поверить.
– Ладно, – согласился я. – Понимаю, об этом непросто говорить. Иногда нужно во многом разобраться.
Он вяло кивнул: мол, я вас слышу. Было ясно, что дальше пытать его не стоит. Пользы все равно никакой. Тут лишь бы не навредить.
– Хорошо, Джерри, увидимся где-то через неделю, – сказал я. – Появятся вопросы, не стесняйтесь звонить. Отдохните. Вы отлично держитесь.
– Спасибо, – сказал он на прощание.
* * *
На следующей неделе его кишечник снова кровил, и Джерри забрали в неотложку. Там сказали, он опять потерял пинту и ему грозило малокровие. Но он по-прежнему хотел делать операцию, пока была хоть небольшая возможность нормально ходить, и спустя две недели снова оказался в предоперационной. В приемной сидели его сын и пара соседей из многоквартирного дома, где он теперь обитал. Похоже, они не знали друг друга, и в помещении царило неловкое молчание.
Джерри на этот раз был куда веселее. Я приехал рано, и время позволяло поговорить, пожелай он излить душу. После взаимных приветствий я прошел по обычному списку: риски на операции, риски после операции, риски последствий… а потом снова обратился к его духовной жизни.
– Джерри, помню, вы говорили, духовный мир вам не особо важен, – сказал я. – Но я привык спрашивать больных, хотят ли они примириться с Богом перед такой операцией. Может, нерешенное дело? Просьба о прощении? Иное, что позволит обрести покой?
– Док, я правда в это не верю, – вздохнул он и умолк, но потом заговорил снова: – Знаете, сколько в Африке голодных детей? Тут все сытые, а они умирают. И я это видел своими глазами. Никогда не понимал: как Бог позволил им так страдать? Чем они это заслужили?
– А что вы делали в Африке? – Мне стало любопытно.
– Работал.
– Кем?
– Да просто работал, – бросил он, но вдруг смягчился и склонил голову. – Был наемником в военизированной структуре. Разные места. Разные группы. Занимался всем, на что был заказ.
Я кивнул. Принято.
– Интересная жизнь. А в каких странах?
– А где воевали, там и был, – мрачно ответил он и слегка усмехнулся. – Где требовалась война. Вы и представить не можете, как прогнили эти сволочи из тамошних правительств. Их даже убивать не совестно. Наверное, я должен был там умереть. Все друзья погибли под пулями. Или на минах. Не знаю, почему я выжил. Так и не смог понять.
Я не перебивал, выражая свое уважение, и внимательно слушал.
– Мы тренировали повстанцев, – добавил он. – Доставляли им оружие. Убирали плохих парней.
– Опасно?
– Не то слово. Но не работа меня тревожила. А бесчеловечность тех, с кем я был. Знаю, прозвучит глупо. Но иногда, когда мы плыли по реке, наемники палили по крокодилам. Те вылезали к берегу, греться, и их расстреливали. Как в тире, чтобы навыка не терять. Как можно так убивать невинных зверей? И дети – везде дети… Где бы мы ни оказались, я видел их страдания. Они страдали ни за что.
Я кивнул.
– Смерть часто грозила?
– Часто, – сказал он. – Один раз попали в засаду, пока плыли на лодке. И в домах нас зажимали. Пару раз думал: все. Однажды оказался единственным выжившим. Всех, с кем я работал, в конце концов убили. Остался только я.
– А зачем вы это делали?
– Деньги. Большие деньги. Азарт. Боевые друзья. Чувство локтя.
– И поверить в Бога вам не дает то, что вы видели? – спросил я чуть смелее. – Или то, чем занимались?
– Да и то, и то, – вздохнул он. – Я хотел справедливости. Правили бы там люди, а не эта лживая мразь – не пошел бы. Но все не оправдать. Среди нас тоже были звери. В них что-то умерло. Я испугался, что стану как они. А стоило увидеть умиравших от голода мальчишек и девочек – ненависть просто сводила с ума.
– А вы говорили Богу, насколько это несправедливо? Все, что вы видели?
– А оно ему надо? Он же и так все знает!
– Не ради Него. Ради вас. Вы же так и не поняли, почему это происходит?
Он на мгновение задумался.
– Возможно, – ответил он. – Гнев еще есть.
– Бог не боится вашего гнева. Он может принять все, чем вы в Него кинете, пока вы искренни. Честность – это первый шаг к примирению с Богом. Хотите Ему рассказать?
– Можно, – сказал он. – Не повредит.
Я сел на стул рядом с его кроватью.
– Господи, – взмолился я. – Джерри видел много страданий в своей жизни и хотел бы с Тобой поговорить.
Я замолчал. Прошли мгновения, и бывший наемник заговорил.
– Я видел столько зла, – сказал он. – Столько несправедливости. Дети умирали у меня на глазах. Люди превращались в нелюдь. Это жестоко. Почему Ты позволил такому случиться? Как Ты мог просто стоять и смотреть?
Джерри умолк, и глаза вдруг распахнулись, будто он обрел откровение, – а потом он сказал, словно сам себе:
– А если все это творили люди? Если Бог не виноват? Он же дает нам свободу… Это были… люди?
– Все наши «почему» да «зачем», все попытки доискаться до причины – доверие к Богу от них не зависит, Джерри, – сказал я. – Я часто об этом говорю. Хотите отбросить все это? Хотите довериться Ему сейчас, не имея ответов? Такое чувство, что вы получаете новые идеи, просто говоря с Ним.
Он кивнул, и я продолжил: – И знаете, говоря с Богом, лучше всего упомянуть, за что вы благодарны. Можете что-нибудь вспомнить?
– Да.
– Уделите Ему минутку благодарности?
– Да, конечно, – он закрыл глаза и склонил голову. – Господи, спасибо Тебе за все те мгновения, когда Ты щадил мою жизнь. Ты всегда возвращал меня домой. Все мои друзья… ушли. Спасибо, что пули, мины и мачете меня не достали. Я не знаю, как все это пережил. Я чувствую, что за это стоит благодарить Тебя.
Он успокоился.
– Джерри, вам за что-то нужно попросить прощения? – спросил я.
– Да, – кивнул он. – За многое.
Он задумался. Я его не торопил.
– Я знаю, что должен это сделать, – наконец решился он. – Господи, прости меня… Ты знаешь, что я творил. Это было неправильно. Плохо. Я больше этого не вынесу. Прости меня.
Теперь он был спокоен.
– Джерри, вам лучше?
– Да.
Странно, но мне показалось, будто в нем проявились другие, мягкие черты. Суровый ветеран исчез – передо мной сидел хрупкий старик, оставшийся на закате дней совершенно одиноким. Я пожал ему руку.
– У вас остались вопросы?
– Нет, док. Думаю, я готов.
Он улыбнулся, и я ушел готовиться к операции.
Она была сложной. Стент я применить не мог: потом пришлось бы полтора месяца держать Джерри на антикоагулянтах, а это могло привести к смерти от разрыва кишечных ангиом. Помог маленький баллон; им я удерживал просвет сосуда, пока вводил в гигантскую аневризму катушку за катушкой. И все прошло хорошо.
Но на следующий день Джерри перенес инсульт и еле говорил. Благо, с ним хоть сын остался. Соседи посидели в приемной – из чувства приличия, – но Джерри они особо не знали и поддержать не могли. Боевых товарищей не было. Даже в соцсетях никто ничего не написал – у него и там почти не было знакомых.
Джерри явно злился из-за своей беспомощности. Операция продлила ему жизнь, но лишила независимости. Позже речь вернулась, но стала, как прежде, краткой и рубленой.
– Джерри, как ваш духовный путь? – спросил я, улучив момент.
– Никак, – отрезал он.
О духовном мы больше не говорили. Я по-прежнему молюсь о нем. И надеюсь, он все же говорит с Богом – и о боли из прошлого, и о тех разочарованиях, которые испытал в своей новой битве.
Но моя роль в этой истории сыграна.
* * *
Еще помню Бетти. Ей было восемьдесят семь, но она была стройной и изящной, и энергии ей было не занимать. Встретились мы так: она споткнулась о бордюр, когда несла на почту бюллетень бридж-клуба, упала, набила шишку, и врач назначил КТ, а там оказалась аневризма, – никак не связанная с падением и не очень опасная. Но Бетти все равно направили ко мне, и на первом приеме она очень волновалась.
Я довольно быстро убедил ее, что лучше ничего не делать. Аневризма никогда не кровоточила и не вызывала проблем. Самой Бетти было уже далеко за восемьдесят. Операция рисковала повлечь инсульт – и, на мой взгляд, была опаснее бездействия. Бетти согласилась, и главный вопрос почти моментально был снят с повестки дня. Даже неловко стало: она столько времени на это потратила… Я чувствовал, что должен уделить ей чуть больше внимания. Бетти нервно стискивала пальцы и не спешила уходить.
– Вас что-то тревожит? – спросил я. – Когда людям за восемьдесят, я советую им задуматься о главном в жизни. Мало ли чем нас порадует завтрашний день? Вас воспитывали в вере или религии?
Бетти слушала с приятной улыбкой, но когда я упомянул о религии, посмотрела на меня с недоумением.
– У методистов, – сказала она. – Но я уже ни во что не верю. А почему вы спросили?
– Люблю узнавать, откуда приходят люди и что для них важно, – ответил я. – Многие говорят, вера помогает принять старость. Уверен, у вас впереди еще много прекрасных лет. Но в восемьдесят семь хорошо бы примириться со смертью.
– А я и примирилась, – она пожала плечами. – Помирать так помирать. Чего тут скажешь?
Я решил не перебивать и просто кивнул.
– Я часто бываю на похоронах, – сказала она. – И ненавижу всю эту болтовню о религии или загробной жизни. Они должны говорить лишь о том, как жил человек. Хватит с меня этих проповедей.
– Вас не тревожит смерть?
– Меня тревожит только то, что я умру, а дом останется неприбранным, и люди решат, будто я бездельница и неряха.
Она подчеркнула свои слова решительным кивком.
– Да, основательно вы все продумали.
– А то, – усмехнулась она. – У меня умер муж. Вышла за другого – так прошел ровно год, и он тоже умер. За пять лет с десяток соседей похоронила. Так что мы с костлявой близки.
– Ладно, – не стал спорить я. – Тогда просто спрошу: есть ли в вашей жизни что-то нерешенное? То, о чем вы хотели бы позаботиться?
– Помимо грязи в доме? Да нет.
– Вам правда есть дело до людских пересудов? – искренне удивился я. – Да устройте хоть бардак, какая разница? Бетти, это же смерть!
– Так-то оно так, – сказала она, немного подумав. – Да, наверное, вы правы.
– А еще? – спросил я. – Есть у вас тяжесть на сердце? Бетти молчала довольно долго.
– Я никому не говорила, – наконец открылась она. – Есть нелады в семье. Сын хотел жениться, но я была против. Настояла, они разошлись. Потом она сказала ему, что беременна, и он покончил с собой. Она теперь судится с нами за его деньги. Говорит, на ребенка, но пока все идет на адвокатов.
– Жаль, – сказал я. – Наверное, вам очень трудно.
– Я никому не говорю о сыне. Даже когда подруги начинают плакаться о том, как им тяжко в семье. Мне стыдно. Если они узнают, то поймут, что моя жизнь не такая, какой кажется. И что хуже всего, я даже с внуком не могу повидаться из-за иска. А ему всего два годика.
– Вы злы на сына за то, что он лишил себя жизни?
– Не совсем.
Это меня удивило.
– Вы злы на Бога? За то, что Он позволил этому случиться?
– Нет.
Бетти была поразительно стойкой. Такая боль, такие потери… и она держалась, как солдат. Мои вопросы о духовном просто разбивались о ее броню. Я не мог найти ни малейшей бреши. Неужели она не видит, что Бог хочет облегчить ее скорбь?
И тут случилось нечто странное: мне захотелось ее похвалить.
«Господи, покажи мне ее красоту, которую Ты видишь, – взмолился я. – Позволь мне увидеть ее так, как видишь Ты».
И я увидел. Не ее недостатки – но ее достоинства. Не неудачи – но успехи. Не робость – но решительность и отвагу. Не отсутствие веры: она просто еще не знала, насколько Бог добр и милосерден.
– Бетти, я поражен, – сказал я. – Вы удивительная. Вы пострадали, когда несли на почту бюллетень клуба. Сколько сил вы отдали, чтобы его заполнить – и тем порадовать друзей? То, что вы хотите быть вместе с близкими, быть рядом с ними – это замечательно. И этот бюллетень… Вам же никто за него не платил. Никто вас не обязывал. Вы просто сделали это из доброты, от чистого сердца.
Она удивленно посмотрела на меня и вдруг залилась краской и заплакала. Я протянул ей платок.
– Вы любите веселье и можете порадоваться за других, – продолжал я. – Вы умница: вам восемьдесят семь – и вы сохранили здоровье и ясность мысли. И вы очень сильная.
– Спасибо, – отозвалась она, когда слезы чуть утихли. – Не знаю, что и сказать.
– Вы прожили целую жизнь, – сказал я. – Поделитесь опытом и мудростью. Вы пережили непростые времена и можете помочь другим – тем, кто еще в пути. И мне кажется, вам не стоит стыдиться семейных драм. История вашего сына поможет другим обрести силу духа и удержаться от опрометчивых шагов. И люди вас поддержат. Эти испытания вас закалили.
Бетти улыбнулась мне сквозь слезы. Я говорил правду – именно так ее видел Бог, – и, видимо, такого ей не говорили очень давно, а может, и никогда.
– Думаю, попытаться стоит, – вздохнула она.
Я хотел благословить эту прекрасную женщину, обратиться к Богу с молитвой о ней, – но позволит ли мне она? Я решил проверить почву.
– Бетти, меня ждет очередной пациент, но я был бы рад помолиться вместе с вами, прежде чем мы расстанемся, – сказал я. – Вы согласны?
– Конечно, да! – воскликнула она, схватила меня за руки, крепко их сжала и склонила голову.
– Господи, благодарю Тебя за Бетти, – сказал я. – Знаю, Ты гордишься ей и тем, как она заботится о семье и о близких. Тебе нравится, когда она смеется, нравится ее ясный и светлый ум, – и то, как она заботится о себе все эти годы. Молю, исцели ее и верни мир в ее семью. Во имя Иисуса, аминь.
Бетти встала.
– Я должна обнять вас, – сказала она.
И обняла меня.
Я был удивлен: эта женщина казалась такой самоуверенной и независимой, так сильно противилась вере… Когда мы шли к посту медсестер, Бетти взяла меня за руку и прижалась, будто я вел ее на студенческий бал. У стойки администратора я дал ей визитку.
– Если вдруг что, звоните, – сказал я. – И всего вам доброго.
Но Бетти не уходила – просто стояла вместе со мной и медсестрами и наслаждалась чем-то давно забытым. Она снова любила себя и принимала. Потом она попрощалась и ушла. Я не ожидал увидеть ее снова.
Но она появилась полгода спустя. Я видел имя в расписании, но узнал ее лишь при встрече и вспомнил наш разговор.
– Как вы, Бетти? – спросил я, пожимая ей руку.
– Отлично! – она сияла. – Пришла посмотреть мою аневризму.
Думаю, мы оба знали, что аневризма ей ничем не грозила, но я все же сравнил новые снимки со старыми. Мало ли. Да, все осталось как прежде. Никакого вмешательства не требовалось.
– Ее можно вылечить, но риск выше пользы. Я уже вроде и говорил, – сказал я.
– Да, помню, – кивнула Бетти. – Я не поэтому. Когда я звонила, чтобы записаться на прием, мне сказали, что вы в поездке, помогаете бедным. У меня друзья много чего делают для городской бедноты. Я не такая хорошая, как они, и большую часть времени играю в бридж. Я такая эгоистка! Но я подумала: может, мне следует иногда им помогать. У меня есть время, могу что-нибудь полезное сделать.
– Вижу, идея вам нравится, – улыбнулся я.
– Да, так и поступлю, – уверила она. – Просто хотела сказать вам, что открываю для себя новые пути.
Я посмотрел ей в глаза. Бетти не шутила: эти слова очень много для нее значили.
– Во всем вас поддерживаю, – сказал я. – И очень рад, что вы хотите помочь бедным. Это верная дорога.
Говорить людям об их достоинствах, об их душевной красоте, доброте, любви – о, в атом скрыта великая сила!
Бетти лучезарно улыбнулась, встала, и я проводил ее до поста медсестер. Там она обняла меня и вышла из клиники.
Врачу легко думать только о проблемах и болезнях. Собственно, потому люди к нам и приходят. И все же исцелить можно не только лекарствами, но и словом. Когда я рассказал Бетти о том, что я в ней видел, то помог ей найти в жизни иной смысл, больший, чем картежная игра. Говорить людям об их достоинствах, об их душевной красоте, доброте, любви – о, в этом скрыта великая сила. Бетти показала мне, что такие аффирмации – возможно, самый прекрасный путь, по которому Бог ведет нас навстречу нашей судьбе. В конце концов, нас ведь влекут именно Его доброта и милость!
В милости своей Он привлек и меня, даровал мне особые знания и позволил исцелять тела, – а иногда я помогаю людям обрести душевный покой, что кажется мне еще более невероятным. И это вовсе не повод для гордости. Это великая честь.
И я смиренно благодарен Ему за каждую новую встречу.
Эпилог
Анет, малышка, год назад едва пережившая операцию по блокировке огромной фистулы, снова была на операционном столе, – и снова при смерти. А я мог только наблюдать за тем, как резко ее покидает жизнь. Доктор Томпсон, мой ассистент, смотрел на меня в беспомощном непонимании – что случилось? Я отвечал ему тем же. Операция шла успешно, так почему ее тело начало отказывать? Что я теперь скажу ее родителям – после всего, через что мы прошли? Как буду говорить, что их долгое путешествие закончилось вот так – смертью девочки на столе у хирурга? Как смогу посмотреть им в глаза?
Я смотрел на монитор, где уменьшались числа, и мог думать только о том, как провести сердечно-легочную реанимацию, когда ее сердце перестанет биться. Может, удастся поддержать кровоток? Да хоть бы успеть понять, что не так!
* * *
Со времени прошлой операции Анет стало намного лучше. Она научилась гулять на ходунках и даже сама сделала двадцать шагов, а разговаривала намного лучше, чем мы ожидали.
Но ее фистула… таких огромных хищниц я не встречал почти никогда. За год она перешла и выше, и ниже моей «заплаты». Артерии сплелись с венами, обойдя заклеенный участок. Вот такого я точно не видел. Мы словно играли в шахматы: на каждый мой ход она отвечала своим.
Блокировать дуральные фистулы у детей особенно сложно. Детские тела полны гормонов роста, и опухоли растут не по дням, а по часам, все время захватывая ближайшие артерии. У Анет она разбухла непомерно, и девочке требовалась новая операция. Но теперь я не мог добраться до опухоли через поврежденный сосуд, ведь в прошлый раз я залил его клеем, и пришлось идти через череп.
Мой план был таким: закрыть всю сеть вен в этой части мозга в два этапа. Первый – блокировать яремную вену в области шеи и полностью лишить фистулу оттока. Второй – открытая хирургия: раскрыть проблемную вену, клипировать пораженные сосуды и проклеить всю область вплоть до яремной вены. Ее слияние с пораженными артериями я мог предотвратить только одним способом: закрыв отток и пустив кровь по другому руслу. Проводить такую операцию на ребенке было настолько сложно, что мне потребовался ассистент – доктор Томпсон, специализированный нейрохирург.
Риск был невероятно велик. Мне предстояло навсегда блокировать одну из двух яремных вен, по которым кровь оттекает от головы. Кто знал, чем это могло грозить? Я был уверен, что вторая вена сможет принять дополнительный отток на себя. В этом яремные вены похожи на почки: у вас их две, но жить можно и с одной. То была безумно пагубная операция – но на нее пришлось пойти: насколько опасной была фистула.
Потом нам предстояло просверлить участок черепа и расправиться с проблемной веной. Открытие черепа тоже влечет всевозможные риски, от инфекции до проблем с ликвором. Я бы ввел клей непосредственно в вену, но здесь, в нейрохирургической операционной, было гораздо труднее ее рассмотреть. Мобильный рентген лучше всего в отделении радиологии – там мы и проводим большую часть эндоваскулярных операций, когда дело касается мозга. Но перетащить сюда другую машину мы не могли: тут аппарат был стационарным. А в отделении радиологии не провести открытого вмешательства.
Это означало одно: операция Анет будет какой угодно, но только не рутинной.
* * *
В день операции мы молились вместе с родителями Анет. Девочку они держали на руках. К тому времени я уже совершенно спокойно приглашал Бога в медицину.
Первый этап операции прошел хорошо. Я закрыл яремную вену особым устройством – по сути, высокотехнологичной металлической пробкой. Та плотно засела в сосуде, тут же перекрыв поток крови.
Анет реагировала прекрасно: кровь из головы пошла по другой яремной вене, но не перегрузила ее.
Мы начали открытую операцию, завели бормашину и просверлили кость за ухом девочки. Иногда мы отрезаем часть черепа, держим ее в стерильном полотенце, пока длится операция, а затем, когда закончим, возвращаем на место. Но сейчас мы отшлифовали кость моторной дрелью и просверлили отверстие прямо над веной, которую перекрыли зажимом. Теперь участок вены оказался между клипсой и пробкой, установленной ниже, в яремной вене, и кровь в нее не поступала и не вытекала из нее. Исключением были только узлы, захваченные фистулой.
Я не видел лица Анет – только дырку в черепе за ухом, – и смотрел на твердую оболочку мозга. Большая вена, которую я искал, проходила прямо под ней. Настало самое важное мгновение операции. К тому времени она шла уже четыре часа.
Сквозь отверстие в черепе я ввел в вену катетер. Кровь выплеснулась, указывая, что сосуды еще не закрылись. Я ввел клей с помощью шприца. Одна секунда… две… три… Я хотел перекрыть любые возможные связи и заклеить всю вену. Когда я закончил и вытащил иглу, кровь не полилась обратно. Так, приток отрезан.
Мы остановились не сразу. Я заметил второй венозный мешочек – за ухом, под кожей, в стороне от вены, – заполнил его клеем и дал застыть, а потом отошел, позволив ассистентам закрывать череп, и занялся укладкой иголок в особый контейнер. Можно было снимать перчатки. Я завершил свою часть операции.
– Эй, а что с ней? – вдруг испуганно вскрикнул анестезиолог, сидевший у своей тележки. Там мерцали плоскопанельные дисплеи, показывая давление, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. – Давление падает! Вы что творите?
– Да ничего! – отозвался доктор Томпсон.
– Ритм падает!
Я знал, что ничего не могу сделать и остается только молиться. И я молился. Моя душа кричала: «Господи, Ты должен ей помочь! Не дай ей умереть! Нам нужна Твоя помощь! Мы ничего не можем!»
Динамики на панелях тревожно запиликали. Давление Анет – нормальные сто тридцать миллиметров ртутного столба – упало до ста и быстро снижалось. Падал сердечный ритм. Росла только температура. На наших глазах творилось нечто безумно опасное – и никто не понимал, что.
Анестезиолог ринулся к девочке. Обычно анестезиологи сидят за своей синей шторой, точно манекены. Но сейчас спасать ее должен был именно он.
– Анализ газов крови! – бросил он технику, собирая в пробирки кровь из прокола в бедренной артерии Анет. – Быстрей!
Техник с пробирками кинулся в лабораторию. Анестезиолог уже шарил в ящиках тележки, извлекал флаконы с препаратами и ставил капельницы, пытаясь вернуть в норму артериальное давление девочки – но оно продолжало падать.
90… 80… 70…
– Господи, что это? – прошептал я. – Что это?
Падали все жизненные показатели. Одновременно. Это предвещало большую беду. Удар поразил главные системы организма. Но почему? Если сердечный ритм и давление падают вместе – проблема не просто серьезна, она ненормальна! При снижении артериального давления ритм возрастает: тело стремится компенсировать разницу. А если падают оба… Поражение нервов? Клей затронул ствол мозга?
Я обратился в камень.
Или другое? Воздушный эмбол, пузырек воздуха в открытой вене? Попадает редко, но окажется в легких – фатален. Или сместилась эндотрахеальная трубка? Анестезиолог, пытаясь это выяснить, прослушал легкие. Нет, она на месте.
Так отчего девочке все хуже?
Неопределенность была настолько мучительной, что на мгновение я перестал следить за монитором. Я знал, что ничего не могу сделать и остается только молиться. И я молился. Я повернулся к стене, вперился в нее взглядом, и моя душа кричала: «Господи, Ты должен ей помочь! Не дай ей умереть! Пожалуйста! Нам нужна Твоя помощь! Мы ничего не можем!»
И доктор Томпсон, и резидент-нейрохирург оцепенели. Как раз перед тем, как состояние Анет начало меняться, они наложили на дырку в черепе кальциевую пасту, а теперь застыли, решив, как и я, что спустя минуту у девочки остановится сердце и нужно будет давить ей на грудь, пытаясь спасти. У трехлетнего ребенка сил – кот наплакал. Ее свободное падение должен был кто-то остановить.
Сердце превратилось в комок пульсирующей боли. Как я выйду в приемную? Как буду говорить ее родным – моим друзьям, – что их дочь умерла у меня на столе? У меня оставалось только одно утешение: Бог все равно меня не оставит.
Анестезиолог рычал на техников и сестер и раздавал приказы направо и налево. Доктор Томпсон и я бессильно переглядывались. Отчаянно и страшно скулили сирены, пока их не вырубил анестезиолог, а потом мы в жуткой тишине уставились на мониторы, глядя, как сменяются цифры.
Анестезиолог рывком распахивал ящики и все искал флаконы; стекло звенело, как ветряные колокольчики. Найдя нужный, он перевернул его, всадил шприц и воткнул иглу в капельницу. Этот препарат должен был запустить сердце – увеличить частоту сокращений и давление крови. Анестезиолог открыл капельницу на полную, чтобы залить еще больше препарата в организм Анет, – но если девочка уже умирала, то все это было бесполезно.
60.. 50… 40…
Пора реанимировать. Я уже хотел шагнуть к столу – и цифры замерли.
40.. 40… 40…
– Стабильно, – выдохнул анестезиолог. – Нет, растет… Оно растет…
Я не мог в это поверить. Цифры изменились снова – но теперь они возрастали.
40… 50… 50… 50… 60…
Мы снова ожили – и две минуты не сводили глаз с растущих показателей Анет. Что бы ни вызвало кризис, сейчас он миновал.
Доктор Томпсон и резидент-нейрохирург снова стали заделывать череп. Мы не знали, что случилось, но понимали: нужно завершить все, пока гром не грянул снова.
«Господи, благодарю Тебя, – прошептал я в глубоком волнении. – Благодарю Тебя».
Я благодарил непрестанно, пока шла операция. Через полчаса они закрыли дыру кальциевой пастой и зашили кожу. Теперь оставалось ждать, пока Анет очнется.
Она просыпалась так медленно, что мы начали беспокоиться, не поврежден ли мозг. Только через час сестры сказали, что девочка шевелит руками и ногами, и первый раз за день я ощутил, как с плеч рухнула гора, – а потом вышел к ее родителям.
– У нас был кризис, – сказал я. – Почему, мы так и не поняли. Но движения не нарушены, а значит, ствол мозга невредим, и слава богу. Может, мы никогда не узнаем, что произошло – особенно если учесть, сколь сложной была операция. Но главное, что теперь она в порядке.
Они вздохнули, обнялись и схватили меня за руки.
Анет осталась в больнице еще на два дня, а когда вернулась домой, занялась тем же, чем раньше – гуляла на ходунках и училась говорить. Несмотря на кризис, операция прошла хорошо, и я очень надеялся, что больше проходить подобного ей не придется.
* * *
Нейрохирургия, как и жизнь, полна сюрпризов. Ни один хирург, даже великий мастер, не может спасти других в одиночку. На этой операции, невероятно тяжелой по накалу, мне снова напомнили, что их исходы – да и вся наша жизнь – в руках Божиих. Бог хочет присутствовать во всем, – чем бы мы ни занимались. Молитва о больных, а равно с ней и молитва вместе с больными, преобразили мое дело и мой мир. Риск казался огромным, – но был ничтожен по сравнению с тем, что я обрел. Как яркое солнце пронзает туман, так луч надежды, дарованной Богом, озаряет наши самые темные дни. Я узнал это сам. И если мы станем искать Бога, мы найдем Его22, – и путь к Нему будет поразителен.
Послесловие
Молитва возносится ради больных, а не ради врача. Конечно, можно благословить и врачей, и сотрудников больницы, – но прежде всего молитва несет благо больному.
В молитве, как и в хирургии, можно совершить великое благо, – но и нанести огромный ущерб. Я не прошу молиться вместе с каждым. Если люди отказываются от молитвы, она ничем не поможет и ничего не даст. Нет ни одного «рецепта» молитвы, – по крайней мере мне они неизвестны. Могу сказать лишь одно: нужно чувствовать и даже предвидеть, когда молитву воспримут как благословение. Давить и настаивать на своем, если дело касается веры, нельзя ни в коем случае.
В то же время предложение помощи, медицинской ли, духовной ли, и внимание к тому, как эту помощь воспримет больной, – это я называю участием. А вот умалчивание о том, что может помочь, – это проявление равнодушия. И именно поэтому я верю, что молитва – одна из высших форм доброты, какую я только могу проявить к своим пациентам.
Иным становится не по себе, когда в их присутствии упоминают о Боге. Многим причинили боль в общине или церкви; таких особенно легко ранить, если говорить о Боге властно и непримиримо. Здесь помогает смирение: оно полезно не только в медицине, но и где бы то ни было. Когда люди чувствуют искреннюю заботу, они более открыты. Давайте помнить о том, что все мы в пути и никто еще не прибыл в пункт назначения.
Чем бы мы ни занимались, каким бы ни был наш статус, я верю: все мы хотим внести в этот мир разнообразие. Забота о каждом больном – как о личности – позволила мне обрести судьбоносные откровения, выходящие далеко за пределы моих операций. Да, здесь тоже есть свои затраты, – а где их нет? Вот, например, наше время – оно ограничено: каждому отведена одинаковая мера минут, и мне не раз приходилось менять распорядок дня, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался. Но на эту книгу времени хватило. И надеюсь, она вдохновит вас на то, чтобы и в жизни, и в сферах влияния – какими бы они ни были, – вы проявили как можно больше искренности и любви. Об авторе
Дэвид Леви окончил медицинскую школу при университете Эмори (Emory University; Атланта, штат Джорджия) и резидентуру по специальности «нейрохирургия» в неврологическом институте Барроу (Barrow Neurological University; Феникс, штат Аризона), после чего получил приглашение на должность научного сотрудника от кафедры эндоваскулярной нейрохирургии Венского медицинского университета (Vienna University; Вена, Австрия). В 2007 году он взял творческий отпуск и за это время посетил множество приютов и тюрем в Боливии, Перу и Эквадоре; в последние годы возобновил практику и операции; а в свободное время проводит лекции, посвященные прощению и иным возможностям исцеления. В год выхода первого издания книги он занимал должность нейрохирурга в одной из клиник Сан-Диего, штат Калифорния. Примечания
1 Curlin FA et al., “Physicians’ Observations and Interpretations of the Influence of Religion and Spirituality on Health,” Arch Intern Med (2007) 167 (7):649-54.
2 Magyar-Russell G et al., “Ophthalmology Patients’ Religious and Spiritual Beliefs,” Arch Ophthalmol (2008), 126(9):1262-65.
3 Выводы сделаны на основе следующих статей:
Carson JW et al., “Forgiveness and Chronic Low Back Pain: A Preliminary Study Examining the Relationship of Forgiveness to Pain, Anger, and Psychological Distress,” J Pain (2005 Feb) 6(2):84–91.
Dezutter J et al., “God, Image, and Happiness in Chronic Pain Patients: The Mediating Role of Disease Interpretation,” Pain Med (2010 May) ll(5):765-73.
Больные, страдающие хроническими заболеваниями, как правило, более счастливы, если Бог в их представлении наделен положительными чертами. Обращение к Богу влечет переживание счастья.
Friedberg JP et al., “Relationship between Forgiveness and Psychological and Physiological Indices in Cardiac Patients,” Int J Behav Med (2009) 16(3):205-11.
Прощение снижает уровень стресса, тревоги, депрессии и холестерина.
Hansen MJ et al., “A Palliative Care Intervention in Forgiveness Therapy for Elderly Terminally 111 Cancer Patients,” J Palliative Care (2009 Spring) 25(1):51–60.
У раковых больных, познавших прощение, значительно улучшается качество жизни и появляется надежда.
Lawler К A et al., “A Change of Heart: Cardiovascular Correlates of Forgiveness in Response to Interpersonal Conflict,” J Behav Med (2003 Oct) 26(5):373-93.
Lawler К A et al., “The Unique Effects of Forgiveness on Health: An Exploration of Pathways,” J Behav Med (2005 Apr) 28(2):157-67.
Webb JR et al., “Forgiveness and Health-Related Outcomes among People with Spinal Cord Injury,” Disability and Rehabilitation (2010) 32(5):360-66.
Больные с травмами спинного мозга, простившие других, сообщили о значительном улучшении здоровья.
Whited МС et al., “The Influence of Forgiveness and Apology on Cardiovascular Reactivity and Recovery in Response to Mental Stress,” J Behav Med (2010 Aug) 33(4):293–304.
Прощение оказывает благотворный эффект на выздоровление после остановки сердца, вызванной стрессом.
Worthington EL et al., “Forgiveness, Health, and Well-Being: A Review of Evidence for Emotional Versus Decisional Forgiveness, Dispositional Forgivingness, and Reduced Unforgiveness,” J Behav Med (2007 Aug) 30(4):291–302.
4 Прославленный американский фотограф, известный черно-белыми снимками американского Запада.
5 MacLean CD et al., “Patient Preference for Physician Discussion and Practice of Spirituality,” J Gen Intern Med (2003 Jan) 18(l):38–43.
6 King DE, Bushwick B, “Beliefs and Attitudes of Hospital Inpatients about Faith Healing and Prayer,” J Fam Pract (1994 Oct) 39 (4):349-52.
7 Maugans ТА, Wadland WC, “Religion and Family Medicine: A Survey of Physicians and Patients,” J Fam Pract (1991 Feb) 32(2):210-13.
8 Matthews DA et al., Religious Commitment and Health Status: A Review of the Research and Implications for Family Medicine,” Arch Fam Med (1998 Mar-Apr) 7(2):118-24.
9 Larimore WL et al., “Should Clinicians Incorporate Positive Spirituality into Their Practices? What Does the Evidence Say?” Ann Behav Med (2002 Winter) 24(1): 69–73.
10 He могу вспомнить все, что я говорил Джоан – после того, как она испытала чувство этой «облачной легкости». Здесь я привел те слова, какие обычно говорю всем, кто хочет двинуться навстречу Богу.
11 Письмо приводится с согласия «доктора Уилларда». Имя изменено.
12 Имеется в виду «Head & Shoulders» (Прим. пер.).
13 И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево; и приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов; и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь! (1 Цар. 10:20–24).
14 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости (Притч. 17:22).
15 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6:14–15).
16 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1 Ин. 1:9).
17 Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак. 5:16).
18 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6:14–15).
19 Подробности этой истории, а также эти фразы приведены с разрешения «Шарлотты». Имя изменено.
20 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу (Рим. 8:28).
21 Скорее всего, имеется в виду американская жидкая пинта = 0,11 литра (Прим. пер.).
22 Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим (Иер. 29:11–13).
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня (Притч. 8:17).
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Лк. 11:9-10).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



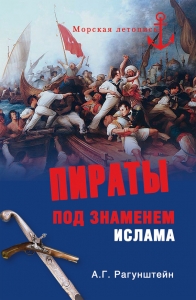

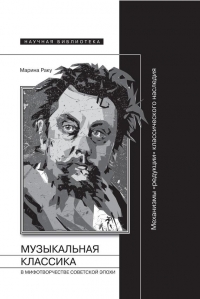

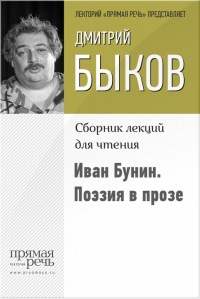
Комментарии к книге «Молитва нейрохирурга», Дэвид Леви
Всего 0 комментариев