Роберт Уорт Антанта и русская революция. 1917—1918
Предисловие
Настоящая книга является первой попыткой рассказать о том аспекте истории дипломатии в начальный период русской революции, который касается взаимоотношений России с другими государствами-союзниками по Антанте. Но речь здесь будет вестись не только о дипломатических переговорах – в противовес работам историков дипломатии в прошлом, которые добровольно возлагали на себя такое ограничение. Я пытался провести более глубокое и широкое изучение данного вопроса, но до тех пор, пока архивы Британии, Франции и России остаются закрытыми, историки не имеют доступа ко всему объему хранящихся там документов. Однако представляется существенным отметить, что крайне маловероятно, чтобы появление новых документов способно было внести кардинальные изменения в основную картину этих взаимоотношений. Исторические события вообще допускают различную интерпретацию, и вполне естественно, что многие читатели не согласятся с моим толкованием. Тем не менее я стремился изложить исторические события как можно более полно и беспристрастно, и, хотя пока по данной теме еще не производились систематические исследования с целью сформулировать какие-либо конкретные тезисы и выводы, думается, события и факты, изложенные в книге, невольно наводят на некоторые умозаключения. В качестве примера, возможно, стоит сделать основной вывод: политика и дипломатия союзников в интересующие нас годы исходила почти из полного непонимания сил и событий русской революции. Союзники – как и Центральные государства[1] – больше и прежде всего были заинтересованы в успехах военных действий, но провозглашенные ими идеалы, за которые они якобы и вступили в смертельную схватку с Германией, никогда более ярко не противоречили действительности, чем в проводимой ими политике по отношению к России, как демократической, так и большевистской.
Роберт А. Уорт
Нъюарк, Нью-Джерси
Глава 1 Царская Россия и мировая война
Война 1914—1918 годов нанесла ощутимый удар по либеральным идеалам XIX века – не подвергающейся сомнениям вере в свободный рынок, в свободу людей и в способность совершенствования человечества. Из этой войны возникла русская революция – событие столь огромного исторического значения, что оно еще до сих пор не осмыслено в полной мере даже теми, кто изучает и преподает историю. Знакомство с учебниками по истории Европы приводит к любопытному выводу, что в них, за очень немногими исключениями, гораздо больше внимания уделяется описанию сражений и военных кампаний периода Первой мировой войны, чем событиям русской революции.
Как убийство в Сараеве наследника австро-венгерского престола было лишь непосредственным и не основным поводом для войны, так и сдвиг настроений в России в сторону революции начался задолго до полного истощения царской династии, что в 1917 году привело к ее окончательному крушению и к победе большевиков. Несокрушимая мощь германской армии обнажила прогнившую социальную структуру России, на которой держался старый режим, и ускорила его неизбежную гибель. Рискованная иностранная политика, проводимая Николаем II во время своего злосчастного правления, некоторыми недоброжелательными критиками интерпретировалась в основном как попытка предотвратить усиление революционных настроений. Возможно, именно с этой целью и был затеян русско-японский конфликт 1904 года, но он принес России только революцию 1905 года, которая могла бы стать крахом царской династии, если бы она вовремя не пошла на некоторые уступки.
Первые месяцы мировой войны, казалось, подтверждали мысль, что «маленькая победоносная война» действительно была средством, необходимым для восстановления жизнеспособности и престижа царского режима. Но поскольку она оказалась отнюдь не маленькой и не победоносной, в первой половине 1914 года появились зловещие признаки угрозы, которую могли предотвратить только война или кардинальные реформы. Революционный дух, затихший почти на десять лет, вновь ожил, выразившись в волне политических забастовок. В июле для подавления всеобщей забастовки были вызваны войска. В столице возводились баррикады и шли уличные бои. Серьезный характер волнений был несколько затушеван визитом доброй воли президента Французской республики Раймона Пуанкаре, который стремился укрепить союз с Россией. Хотя беспорядки в основном ограничивались городами, казалось, ситуация стремительно приближалась к той, которая охватила Россию в 1905 году.
Объявление Германией 1 августа 1914 года[2] войны вызвало в России взрыв народного патриотизма, против которого открыто высказывались только социал-демократы. Их политические взгляды были основаны на принципах марксистского социализма, и с 1903 года они раскололись на две фракции: большевиков, под руководством Владимира Ильича Ленина, и меньшевиков, под руководством Георгия Плеханова и Юлия Маркова. В 1912 году раскол стал окончательным, и в результате появились две разные партии, каждая из которых считала себя подлинной наследницей учения о социализме, изложенного в сочинениях Карла Маркса. Обе партии выразили войне неодобрение – что составляло примечательный контраст по сравнению с позицией социалистов остальных воюющих на стороне Антанты стран, – проголосовав против войны на специальной сессии Думы 8 августа 1914 года. Однако вскоре стало очевидно, что только большевики выступают против войны, которую они называли «капиталистической» и «империалистической», и что меньшевики решили пойти по пути оппортунизма, поддержав войну как «оборонительную» по характеру. Большевики поплатились за свою непримиримую позицию, когда 18 ноября того же года пятеро их представителей в Думе были арестованы и затем сосланы в Сибирь.
Помимо большевиков другой единственной значительной группой в России, про которую можно было сказать, что ей недоставало энтузиазма по отношению к войне (открыто они никогда против нее не высказывались), были крайние правые. Союзу с демократической Францией они предпочитали альянс с монархической Германией. Но насущные требования международной политики были важнее вопросов идеологии, и им пришлось по мере сил примириться и с союзнической системой, и с войной. Однако по мере того, как война поворачивалась к России все более черной стороной, в обществе усиливались слухи о прогерманских настроениях в верхах. Хотя в большинстве случаев эти слухи были необоснованными, они получили широкое хождение и были связаны со скандальными рассказами, которые ходили об императрице и ее пресловутом советнике, религиозном шарлатане Григории Распутине.
Естественно, эти слухи тревожили союзников России и ту небольшую часть русского общества, которая по своим взглядам ближе всего была к верхним слоям среднего класса западных демократов. Давние приверженцы английского и французского парламентаризма, они громче всех заявляли о своей поддержке войны, при этом сочетая патриотические и политические чувства таким образом, что это отвергалось реакционерами. Признанным лидером этой группы был известный ученый и историк Павел Николаевич Милюков, а его партия называлась «конституционные демократы» (кадеты). На взгляд стойких приверженцев царской династии, кадеты были революционерами, но фактически их политические устремления простирались не дальше либерализации существующего режима, возможность чего, как они полагали, значительно увеличивалась участием в войне наравне с другими союзными державами. Однако время шло, а надежды не осуществлялись – и так до тех пор, пока время для реформ не было безнадежно упущено; затем стремительно развивающиеся события вместе с остатками монархии смели и «революционных» кадетов.
Русская армия была грозной по численности, но во всех остальных отношениях оставалась гораздо слабее армий Германии, Англии и Франции. Во время войны было мобилизовано более четырнадцати миллионов человек, что не могло не подорвать экономику страны. Недостаток ружей, амуниции, боеприпасов и другого военного снаряжения; недостаточно развитая транспортная система; нехватка докторов, медсестер и медицинских материалов и некомпетентность большого числа военных командиров – все это проявилось уже в первые несколько месяцев войны. Если бы главные военные силы Германии были направлены на Россию, а не на Францию, то в 1914 году она потерпела бы настоящий крах. Но стратегией германского высшего командования предусматривался стремительный удар на Запад – план, который мог принести ей большой успех, если бы наступление России в Восточной Пруссии не вынудило Германию перебросить на Восточный фронт две армии. Они прибыли слишком поздно, чтобы помочь сокрушить русских у Таннерберга (30 августа), но ослабили наступательную силу на Западе, и отчасти в результате этого французы смогли выиграть решающую битву при Марне (6—12 сентября) и предотвратить захват Парижа.
Наступление русских было предпринято только после неоднократных просьб Франции, послу которой в Петрограде Морису Палеологу суждено было всю войну заниматься просьбами о помощи. Огромные и частые денежные займы, которые Франция предоставляла своей верной союзнице, послужили основной причиной некоторого усовершенствования российской армии, и кредиторы не намеревались позволить России забыть об этом. Французские генералы цинично видели в безграмотных и обычно покорных русских солдатах, набранных из крестьянского сословия, лишь превосходное пушечное мясо, а ее невероятная численность возродила легенду о «непреодолимой русской силе». Многие русские знали об этом и, хотя зачастую великодушно отзывались на мольбы о помощи, предпочитали получать займы, но ограничивать свои наступательные операции более слабым австрийским фронтом. У Британии была возможность вести подобные дела с большим тактом. Ее посол сэр Джордж Бьюкенен, блестящий дипломат старой школы, пользовался в России огромным доверием, к тому же на его долю не выпадали такие неприятные поручения, как на долю его французского коллеги. Несмотря на свой крайний консерватизм, Бьюкенен был также очень популярен среди кадетских лидеров и членов Думы, тогда как Палеолог отличался социальным снобизмом, предпочитая общество консервативных аристократов.
Для России события 1915 года имели более злосчастные последствия, чем события предыдущего года. Успешное наступление против Австрии на Юго-Западном фронте внезапно оборвалось. Тогда на помощь своей союзнице пришла Германия. Их объединенное наступление началось 1 мая 1915 года, в результате чего российские войска были изгнаны из Галиции и вынуждены были отступить по всему фронту протяженностью тысяча триста километров. В течение всего лета длилось отступление, и потери приближались к ужасающей цифре в триста тысяч человек ежемесячно. Этими потерями российская армия была обязана как недостатку вооружения, так и другим факторам Дэвид Ллойд Джордж, который в 1916 году стал премьер-министром Британии, позднее резко отзывался о грубых промахах военной стратегии союзников, когда безуспешные атаки пехоты поглощали огромные количества боеприпасов, которым можно было найти лучшее применение на русском фронте. «Если бы мы отправили в Россию половину боеприпасов, израсходованных в этих злосчастных сражениях, и одну пятую часть количества винтовок, которые там были использованы, – упрекал он, – можно было не только предотвратить поражение России, но и Германии пришлось бы испытать такой отпор, по сравнению с которым захват нескольких километров территории Франции, политых кровью, показался бы смешным».
Обвинение Ллойд Джорджа, хотя и предъявлено с точки зрения ретроспективы, в точности описывает скупость британской и французской поддержки их русскому союзнику. В современной войне человеческая плоть, безусловно, была неадекватной заменой механической силы. Но даже если бы все необходимое военное снаряжение и было предоставлено своевременно, его невозможно было бы использовать надлежащим образом без особой внешней помощи крайне разветвленной и запутанной транспортной системы России, которая была совершенно непригодна для обслуживания форс-мажорных ситуаций. Финансовая помощь со стороны союзников составляла: за время войны Британия предоставила займы на сумму 2 миллиарда 766 миллионов американских долларов, тогда как Франция выделила относительно меньшую сумму – 762 миллиона американских долларов. Соединенные Штаты, Япония и Италия также предоставили займы на значительно меньшие суммы. И хотя лишь часть этих займов была использована на закупки, по крайней мере, Россия не оказалась без финансовых средств для оплаты любых материалов, которые могла бы купить за границей. Обладающая крупным морским флотом Британия перевезла большую часть военных материалов, поставленных европейскими союзными государствами, тогда как русские и нейтральные суда в основном занимались поставками из Соединенных Штатов. Турецкие проливы Босфор и Дарданеллы были закрыты, поэтому почти все закупленное в Европе доставлялось в порты Белого моря, из которых во время летней навигации самым важным был Архангельск. Поставки через Владивосток, чьи портовые возможности были не очень велики, еще более затруднялись ограниченной пропускной способностью Транссибирской железной дороги, по которой товары доставлялись с побережья Тихого океана в европейскую часть России с огромной задержкой. В 1917 году в этот дальневосточный порт стали в значительных количествах стекаться поставки японских и американских военных материалов и к середине лета из-за недостатка транспорта застряли в доках. За время зимы 1916/17 года военные потребности России, казалось, начали наконец удовлетворяться, но было слишком поздно, поскольку по-прежнему внешне внушительная ее армия уже перестала существовать как эффективная военная сила.
Искренне стремясь добиться военных успехов России в общем деле борьбы с германским агрессором и не подозревая о будущем армии и всей империи, 5 сентября 1915 года царь принял на себя Верховное командование от своего дяди, великого князя Николая – шаг, к которому его настойчиво подталкивала императрица. Военный опыт нового Верховного главнокомандующего в основном ограничивался парадами. В обществе имела широкое распространение шутка о том, что его главным вкладом в обеспечение победы в Русско-японской войне было снабжение войск иконами за счет государственной казны. Царь предпринял этот шаг вопреки единодушным советам его министров, которые понимали, что в глазах народа он станет виновным в будущих военных поражениях, даже если он и не принимал бы участия в разработке реальных стратегических планов. Правительства союзнических стран также были огорчены этой новостью, но от открытых возражений воздержались. 16 сентября 1915 года была распущена Дума – еще один промах, который немедленно вызвал политическую забастовку в Петрограде. Эти инциденты отметили поворотный пункт судьбы правящей династии. Отныне неудовлетворенность общества верховной властью нарастала все больше, пока императорская супружеская чета не оказалась изолированной от остального населения страны.
1915 год также стал свидетелем заключения первых из многих секретных договоров, которые в последующие годы стали для союзнических государств серьезной проблемой. О существовании этих договоров стало известно только после того, как большевики в 1917 году обнаружили их в государственных архивах и опубликовали в газетах. Один из них, который имел для России самое важное значение, касался Константинополя и турецких проливов. С XVII века Россия искала выход в теплые воды Средиземного моря. С этой целью она предприняла несколько войн, но ее всегда останавливали превосходящие силы, что наиболее ярко проявилось в Крымской войне (1854—1856 годов), когда она потерпела поражение от Англии и Франции. В марте 1915 года переговоры между министром иностранных дел России и послами союзников заложили основу соглашения за счет Турции. Россия получала Константинополь и вожделенные проливы, тогда как Британии и Франции предоставлялись сферы влияния в Персии (ныне Иран) и в других районах Ближнего Востока. В апреле уговорили вступить в войну на стороне союзников Италию, пообещав ей австрийские территории. Другие подобные сделки, в которых участвовала Россия и большинство из которых было заключено в 1916 году, касались подкупа Румынии Турцией за ее вступление в войну, а также русско-японский договор по Китаю. Последний из всех тайных договоров, заключенный незадолго до отречения царя, предоставлял России свободу в определении ее западных границ в обмен на поддержку французских притязаний на земли вдоль Рейна.
Отсутствие в столице царя, который отправился в зону военных действий, дало простор интригам на домашнем фронте, где безраздельно правили императрица и Распутин. Далеко не выдающийся ум Николая и его слабоволие отступали перед властностью супруги. Ее ежедневные письма к супругу, полные признаний в любви и различных советов, изобличают натуру ограниченную, с экстравагантными и довольно невежественными понятиями, пренебрежительно относившуюся ко всему, что касалось благополучия страны, и полагавшуюся исключительно на советы безграмотного развратника Распутина. Всем было известно о его дебошах, но, несмотря на неоспоримые доказательства порочности этого человека, императрица продолжала неукоснительно доверять ему из-за его кажущейся способности лечить ее сына и наследника трона Алексея, больного гемофилией. Императрица была особой крайне невротического склада, и по своей силе ее привязанность к Распутину носила явно патологический характер. Как говорил один из премьер-министров этого времени (И.Л. Горемыкин), это был «клинический вопрос». Распутин приобрел столь огромное влияние на императрицу, что любой министр, который осмеливался высказаться против него, оказывался в опаснейшем положении, а его прихожую постоянно заполняли завистливые искатели судьбы и льстецы. «Министерская чехарда», как стали называть быстро сменяющие друг друга назначения среди членов кабинета, привела к тому, что высшие посты благодаря своей близости и преданности придворной камарилье стали занимать откровенные бездарности. Самым вопиющим примером, поскольку он касался поста премьер-министра, стало выдвижение некомпетентного реакционера Бориса В. Штюрмера, который возглавил кабинет министров в феврале 1916 года. Он был тайным противником войны и, предположительно, симпатизировал немцам, поэтому его назначение крайне возмутило союзников. Антивоенное настроение Распутина также воспринималось как убедительное доказательство его прогерманских симпатий – в чем обвиняли и Ленина, который придерживался политических убеждений, совершенно противоположных взглядам Распутина, – а самые пылкие патриоты считали его германским шпионом. Французский посол говорит, что в отчаянии подумывал о целесообразности подкупа Распутина союзниками, но отверг идею как слишком рискованную.
Какими бы сомнительными ни были политические перспективы России, ее военное положение в 1916 году несколько улучшилось. Поскольку Германия была занята Западным фронтом, а Австрию тревожила итальянская армия, на Восточном фронте царило относительное спокойствие. Увеличение количества боеприпасов, финансовая помощь союзников и подъем военного производства на отечественных заводах помогли преодолеть хронические недостатки, которые досаждали российской армии. В июне было предпринято наступление на Австрию под командованием талантливого генерала Алексея Брусилова. В начале кампании были достигнуты некоторые впечатляющие успехи, и в течение лета русские войска постоянно продвигались вперед. Но эти успехи были достигнуты только благодаря огромным человеческим жертвам, и вскоре обозначился резкий спад боевого духа армии, когда количество дезертиров достигло ужасающих цифр – к ноябрю оно составляло уже миллион солдат. В австрийской армии дезертирство также достигло внушительных размеров, и наступление русских удалось остановить лишь благодаря поддержке германских войсковых соединений. К осени русские были уже остановлены по всему фронту, а на некоторых участках их даже потеснили назад. И хотя русская армия разочаровала Францию, не сумев произвести наступление против Германии всем фронтом, – что почти наверняка привело бы к катастрофе, – ее действия спасли от уничтожения и сохранили для союзников итальянскую армию. Этот результат казался таким обнадеживающим, что собравшиеся на встречу в ноябре 1916 года военные стратеги союзников оптимистично призывали Россию произвести весной полномасштабное наступление, одновременно с планирующимся нападением франко-британских войск на Западном фронте.
Возрождение престижа России в 1916 году было очень важным, поскольку ее скромные успехи на полях сражений скрывали растущие политические трудности. Обмен миссиями доброй воли в течение года также помогал замаскировать серьезное положение дел. В феврале делегация из шести русских журналистов объехала Англию и Францию. В обеих странах им был оказан теплый прием, сопровождающийся речами, банкетами и осмотром войск. Предложенная в обмен идея визита английских журналистов наконец преодолела возражения со стороны российского правительства и была одобрена, но затем британский посол в России посоветовал отменить визит по политическим соображениям. Если бы об этом инциденте стало известно, он мог бы свести на нет результаты визита русских и укрепить доверие к начавшим циркулировать в странах-союзницах смутным слухам о внутренней обстановке в России.
В мае последовал еще один визит русских в Англию, но более официальный по характеру, поскольку в приглашение были включены десять членов Думы и десять членов Императорского совета. Члены Думы с готовностью приняли приглашение, но из консервативного Совета только семь особ согласились на эту поездку. Сначала эта группа посетила Англию и Шотландию, где в их честь были даны множество приемов с демонстрацией преувеличенно дружеских чувств. Они получили официальное приглашение на банкет, который устраивал премьер-министр Герберт Асквит. На речь Асквита было поручено ответить барону Роману Розену, бывшему послу в Соединенных Штатах и старшему члену Императорского совета, что вызвало недовольство нескольких членов делегации. Розен был настолько оскорблен этим инцидентом, во время которого ему пришлось выслушать оскорбительные замечания относительно его немецкого имени и происхождения, что отказался продолжить с делегацией дальнейшую поездку и проследовать на континент.
Во Франции делегаты имели возможность посетить участок фронта и получили отличные впечатления от военных усилий Франции. Кроме того, они осмотрели контингент российских войск, находившихся на учениях в Майи и представляющих собой авангард из двух бригад, которые позже сражались на Западном фронте. Воспользовавшись случаем, семь членов Думы подвергли критике Мориса Палеолога как слабого представителя Франции в России. Несомненно, это было результатом широко известной любви посла к придворной жизни, которую он предпочитал общению с более плебейскими кругами Думы. Из-за отсутствия хорошей замены Палеологу было решено оставить его на посту; позже он не был отозван из-за происшедшей в России революции. Посетив военные заводы и передний край фронта в Италии, делегация вернулась в Россию с блестящими отчетами о том, что удалось увидеть в странах союзников.
На обратном пути произошел инцидент, совершенно не относящийся к деятельности делегации и приобретший весьма дурной привкус. В Стокгольме Александр Протопопов, вице-председатель Думы, встретился с известным германским финансистом и получил от него предложение заключить мир между Россией и Германией. Это был не первый и не последний пример утечки информации, касающейся переговоров о сепаратном мире, в которых была замешана Россия. Весной 1915 года бывшая наперсница императрицы Мария Васильчикова, которая была интернирована в Австрию еще в начале войны, написала первую серию писем царю, целью которых было заложить основы для мирных переговоров. Перед этим с ней общались персоны, близкие к придворным кругам Берлина и Вены, а затем у нее состоялась беседа с министром иностранных дел Германии. Несмотря на отсутствие ответа из России, в том же году ей разрешили приехать в Петроград, где она даже удостоилась приема царя; но чтобы погасить открытый скандал, вызванный ее амбициозными, хотя и любительскими попытками в дипломатии, она укрылась в имении своей сестры под Черниговом. Одновременно с деятельностью Васильчиковой предпринимались еще некоторые шаги в этом направлении, среди которых особенно примечательными были безуспешная попытка брата императрицы, великого князя Гессе, который пытался уговорить царя послать своего эмиссара в Стокгольм, и столь же неудачная попытка личного представителя датского короля вовлечь русское правительство в переговоры о мире. Не увенчавшиеся успехом попытки «зондирования почвы для мира» – среди прочего – наконец убедили Центральные государства, что Россию невозможно изолировать от ее союзников. Но легко понять озабоченность Британии и Франции, время от времени сталкивающихся с зачастую подтасованными сведениями о закулисных переговорах о мире, тем более что по времени они совпадали с еще более искаженными россказнями о предательстве и политическом хаосе в высших эшелонах власти, которые провоцируются кликой Распутина.
Отчасти с целью положить конец неуверенности относительно серьезного отношения к участию России в войне великий военный герой Британии лорд Герберт Китченер, занимавший в это время пост военного министра, отправился с секретной миссией в Петроград. Еще в мае 1916 года Китченер сообщил российскому послу о своем желании посетить Россию, если ему направят официальное приглашение. Царь с готовностью пригласил его произвести тщательное изучение военного положения России и просил свободно поделиться своими рекомендациями по его улучшению. 5 июня Китченер с группой сопровождающих лиц отплыл в Архангельск, но в тот же вечер недалеко от шведского берега его корабль подорвался на мине и через десять минут затонул. Удалось спастись лишь нескольким членам его делегации. Смерть Китченера потрясла британцев, а его авторитет был столь высоким, что позднее многие полагали: если бы он смог убедить царя провести некоторые необходимые реформы, то в 1917 году можно было бы предотвратить революцию и выиграть войну. Но это убеждение скорее было основано на преклонении перед героем войны и наивном представлении о причинах развития исторических событий, чем на понимании российской действительности. О том сопротивлении, которое он мог встретить, можно судить по замечанию Распутина, переданному императрицей своему царственному супругу: «Для нас хорошо, что Китченер погиб, потому что иначе он мог был навредить России». Было предложено послать вместо Китченера генерала сэра Уильяма Робертсона, начальника штаба, но он сослался на долг, который призывал его оставаться в Британии.
В заключение серии обменных визитов весной 1916 года в Россию прибыла французская миссия, в то время как делегация Думы навещала западных союзников. Цель этой миссии была такой же, как миссии Китченера, но, поскольку ее возглавляли не военные, а два члена кабинета министров, Рене Вивиани и Альбер Тома, она скорее имела характер миссии солидарности. Многие из высших чиновников, казалось, ожидали прибытия последнего с нескрываемым страхом. Социалист патриотических убеждений, имеющий репутацию жесткого делового человека, Альбер Тома явно оправдал их опасения. Он нашел множество поводов для критики и не замедлил ее высказать. «Россия должна быть очень богатой страной, чтобы позволить себе роскошь содержать такое правительство, как ваше, – иронически заметил Тома одному из чиновников, – потому что ваш премьер-министр – это несчастье, а военный министр – настоящая катастрофа!»
Отдавая должное пышным приемам, француз тем не менее затрачивал много сил для выполнения одной из главных целей своего визита: пополнение русскими солдатами истощенной французской армии. В декабре прошлого года этот вопрос уже поднимался делегацией во главе с Полем Думером, членом французского сената. Он просил четыреста тысяч человек, которых направляли бы партиями по сорок тысяч в месяц на протяжении десяти месяцев. Русским не нравилась идея возмещать своими солдатами потери французских вместо того, чтобы отправить на Западный фронт отдельную армейскую единицу, а подразумевающийся под этой просьбой смысл о поставках пушечного мяса вызвал их естественное возмущение. Путем затягивания переговоров они старались избежать прямого отказа и пообещали в качестве эксперимента прислать одну бригаду. В марте, когда бригада уже направлялась во Францию, этот вопрос был заново поднят через русского посла в Париже. Тот передал просьбу французов послать четыреста тысяч солдат в греческие Салоники, где у союзников размещался плацдарм, чтобы возместить потери среди французских колониальных войск, а затем еще двести тысяч – в Румынию для наступления на Болгарию. Но им была предложена только одна бригада для Салоник; понятно, французов это не могло удовлетворить. Вивиани и Тома было дано незавидное задание убедить российских генералов изменить свое решение. На совещании, где присутствовал сам царь и его военные советники, Вивиани изложил просьбу прислать огромное количество войск, первоначально запрошенных Думером. В конце концов Николай согласился послать пять бригад (пятьдесят тысяч солдат) во Францию за период от 15 августа до 15 декабря, в дополнение к первой, которая отправилась в марте, и ко второй, которая должна была отправиться в Салоники 15 июня. И хотя эти цифры были далеки от тех, которые запрашивались, можно было считать, что французская миссия справилась с поручением. И 17 мая оба министра покинули страну через Архангельск. В конце августа бригада, предназначенная для отправки в Салоники и находившаяся тогда в Марселе, подняла мятеж; солдаты убили командира в чине полковника и ранили нескольких офицеров. Для подавления мятежа были вызваны французские войска, и около двадцати мятежников были казнены. Палеологу напомнили о предостережении Сергея Сазонова, министра иностранных дел, который сказал: «Когда российский солдат находится за пределами родины, он бесполезен; он сразу рассыпается». Этот инцидент оказался дурным предзнаменованием для судьбы оставшихся на французской земле русских военных соединений.
Обмен миссиями в 1916 году не смог изменить самоубийственную политику династии, где, выражаясь на принятом в то время языке, по-прежнему правили «темные силы». В июле Сазонов вынужден был сложить с себя полномочия, и его портфель был передан Штюрмеру, который сохранил за собой и пост премьер-министра. Возражения со стороны британского и французского послов были оставлены царем без внимания. Неудовлетворенность масс постепенно возрастала, и в придворных кругах можно было слышать о дворцовом перевороте – сначала разговоры велись тихо, но со временем об этом заговорили все громче и настойчивее. Недостаток продуктов в городах стал привычным явлением, и к октябрю стоимость жизни в них подскочила в триста раз по сравнению с предыдущим периодом. На заводах, фабриках и среди тыловых солдат стала распространяться пораженческая пропаганда. Стачка петроградских рабочих, которая произошла 29 октября, достигла такого размаха, что для ее подавления была вызвана полиция и два гарнизонных полка. Войска отказались стрелять в забастовщиков и повернули винтовки против полиции. В конце концов четыре полка казаков загнали мятежников в казармы. Если верить Палеологу, наказание было жестоким: 9 ноября были расстреляны сто пятьдесят солдат, и как только об этом стало известно в рабочих районах, стачки возобновились.
14 ноября вновь была созвана Дума, которая создала платформу для критики правительства. Обычно объектом нападения служили министры, но не сама династия, поскольку даже «прогрессивный» блок не имел ни малейшего желания во время войны усиливать революционные настроения. Однако во время сессии лидер кадетов Милюков прозрачно намекнул на поведение императрицы в речи, в основном посвященной бесчестным поступкам Штюрмера, из которой знаменитая фраза «что это – глупость или предательство?» приобрела широкое хождение как приговор, как призыв к свержению существующего режима. 2 декабря с такой же смелой речью выступил Владимир Пуришкевич, преданный монархист, открыто назвавший источником проблем Распутина. Дума приветствовала его выразительное нападение громом аплодисментов и, желая продемонстрировать свой патриотический энтузиазм, устроила новую овацию послам союзнических держав. Американский посол Дэвид Р. Фрэнсис, тоже находившийся в дипломатической ложе и не понимавший русского, позабавил своих коллег, раскланиваясь налево и направо перед обращенными к ложе лицами думцев, решив, что эта овация в честь Соединенных Штатов. Бедный Фрэнсис был крайне смущен, когда британский посол с самым бесстрастным видом сказал, что немедленно информирует министерство иностранных дел его страны, что Америка присоединилась к союзникам.
Пуришкевич не замедлил подтвердить свои слова делом. С помощью трех заговорщиков, из которых самым важным являлся князь Феликс Юсупов, выдающаяся фигура в придворных кругах, он начал составлять план убийства Распутина. Деяние было осуществлено на рассвете 30 декабря, причем весьма неуклюже и с огромными трудностями, ибо для уничтожения выносливого фаворита двора пришлось использовать и яд, и пули, и удары по голове, и утопление. За исключением узкого кружка камарильи императрицы, вся страна с радостью встретила известие о его смерти. Особенно высшие классы общества, в которых распространилось мнение, что очищенная от Распутина династия каким-то образом окрепнет и снова обретет доверие народа. Но в данном случае вряд ли можно было этого ожидать. Крестьянам и солдатам произошедшее представлялось слишком отдаленным от их насущных интересов и лишь на время привлекло их внимание. Для правящей четы убийство Распутина было ударом по их авторитету и престижу и одновременно личной утратой, вследствие чего она еще меньше склонялась к каким-либо послаблениям режима.
Царь постоянно получал предостережения, что его политика ведет страну к гибели, но они производили на него мало впечатления, если не сказать, что вообще никакого. 12 января 1917 года Бьюкенен, британский посол, испросил аудиенцию у Николая, намереваясь обрисовать серьезность положения вещей, даже если это превысит границы дипломатического этикета. Вместо того чтобы быть принятым в неформальной обстановке личного кабинета Николая, как тот обычно делал, на этот раз посол был вынужден ожидать появления царя в зале для приемов. Этот ясный признак неодобрения едва не выбил почву из-под ног Бьюкенена, но он сумел твердо держаться своего намерения и откровенно высказал царю мнение о его ошибочной политике. Он указал на некомпетентность администрации, на продовольственный кризис, на частую смену министров и на растущую опасность революции. В заключение он предупредил, что династия находится на развилке исторического пути: «У вас есть возможность выбрать одну из двух дорог. Одна приведет вас к победе и к славному миру, а вторая – к революции и к катастрофе». Николай поблагодарил его, внешне благосклонно восприняв критику; но, как всегда, когда его вынуждали признать неприятную правду, скорее он испытывал раздражение. Императрица, которая, очевидно, слышала весь разговор, находясь в соседней комнате, реагировала более откровенно, составив впечатление – и, видимо, сумев убедить в нем и царя, – что посол задумал переворот с целью возвести на трон одного из великих князей. Это странное подозрение стало основой для дальнейших утверждений защитников династии, что ответственность за революцию, которая разразилась через два месяца, целиком лежит на Бьюкенене. Министр внутренних дел порекомендовал установить слежку за британским посольством, а императрица предложила, чтобы посол был отозван. Но Николай запретил принимать столь решительные меры, не желая обнаружить свое недоверие представителю союзнической страны.
В конце января 1917 года в Петрограде состоялась давно откладываемая конференция союзников, самое крупное и блестящее собрание из тех, что проводились в военное время. Во время беседы с царем Бьюкенен говорил о перспективах войны в самом пессимистичном тоне, и будущее показало поразительную точность его предсказаний. «В истории великих войн редко встречается такое явление, когда столь большое количество ответственных министров и генералов решились покинуть свои страны по делу, оказавшемуся столь бесполезным», – откомментировал событие Брюс Локарт, тогдашний вице-консул Британии в Москве. Британскую делегацию возглавлял лорд Альфред Милнер, член Специального военного кабинета, с генералом сэром Генри Вильсоном и еще пятью генералами в качестве военных советников. Франция прислала Гастона Думерга, министра колоний, и генерала Эдуарда Кастельно, возглавлявшего ставку, приехали и представители таких менее влиятельных государств, как Италия и Румыния. Члены делегации тщательно отбирались в надежде, что более внушительная делегация будет иметь больше шансов на успех. Дата конференции несколько раз переносилась по просьбе российского правительства, чтобы дать ему возможность подавить революционные настроения. Когда стало невозможно и дальше откладывать проведение конференции, Дума, которая должна была собраться 23 января, отложила начало своей работы до 27 февраля, чтобы избежать открытых политических разногласий.
Все представители союзников, пятьдесят человек, отплыли из Англии и прибыли в столицу России 30 января 1917 года. После пленарного совещания, состоявшегося 1 февраля, конференция разбилась на несколько комитетов, которые должны были обсуждать вопросы политики, финансов и транспорта, а также проблемы технического обеспечения армии, организации и стратегии. Армейские офицеры объезжали фронты, а гражданские чиновники и политики высказывались по поводу положения в стране. Бесконечная череда банкетов, завтраков и приемов создавала соответствующую торжественную и праздничную атмосферу и являлась средством помешать гостям серьезно обсудить те проблемы, которые, как всем было известно, были куда важнее мелких технических вопросов, рассмотрению которых делегаты посвящали столько времени. Но даже при этих, главным образом, добровольно принятых на себя светских обязанностях ни один из делегатов не попытался перешагнуть за рамки условности и поднять волнующие всех вопросы. Царь дал официальный прием, на котором вел себя с обычной безукоризненной любезностью, но упорно избегал затрагивать любые темы, кроме самых банальных. Трудно сказать, было ли это показной апатией или просто устранением от обсуждения сложных проблем, – качество, свойственное всем Романовым. Милнер, казалось, с самого начала потерял всю надежду и механически выполнял свой долг, не скрывая своего крайнего неодобрения. «Мы тратим время попусту!» – часто жаловался он. На одном из собраний он «демонстративно откинулся в кресле и громко застонал», когда направление дискуссии стало еще более безнадежным, вспоминал Родзянко. Только генерал Вильсон сохранял оптимистическое настроение, оживленно участвуя в торжествах.
Французскую делегацию, казалось, не столько тревожила перспектива революции, сколько обеспечение поддержки России ее территориальных претензий на предстоящей мирной конференции. В состоявшемся 3 февраля разговоре с царем Думерг добился необходимых гарантий на получение Францией территорий по левому берегу Рейна, о притязаниях на которые по полученной из Парижа инструкции Палеолог заявил в официальном письме российскому министру иностранных дел. Эти переговоры держались в секрете, и британское правительство ничего о них не знало, пока в ноябре того же года большевики не опубликовали этот факт в газетах. От французов решительно потребовали объяснения, и они прибегли к совершенно неубедительному, но безошибочно срабатывающему приему, заявив, что Думерг превысил данные ему полномочия. Конференция закончила свою работу 21 февраля 1917 года, и результаты ее были весьма ничтожные, если не считать оценки нужд российской армии и обмена мнениями по широкому кругу вопросов. Просьба делегатов о разрешении задержаться в Петрограде до очередного созыва Думы была отозвана, когда кто-то из придворных чинов по секрету признался, что если они останутся, то начало заседаний Думы придется отложить еще на две недели. Одного этого намека было достаточно, чтобы делегаты встревожились по поводу опасной политической ситуации в стране. Тем не менее даже явные признаки коррупции и дезорганизации, волнения и стачки в Петрограде, предупреждения лидеров Думы и различные планы смещения правящей четы, о которых открыто судачили в обществе, не смогли вызвать в членах миссий представление о неминуемо приближающейся революции. Исключение, возможно, составлял сэр Уолтер Лейтон, эксперт по военному снабжению, который выразил свое частное мнение, отличающееся от официального отчета. На удачное предсказание приближающейся революции претендовала также итальянская делегация, но веских доказательств, что их политическое предвидение оказалось основательнее прозорливости коллег из других стран, не существует. Милнер, который на протяжении всей работы конференции сохранял мрачное выражение лица, в своем докладе военному кабинету сообщил, что «в разговорах о революции было много преувеличений, и особенно относительно предполагаемой нелояльности армии». Думерг был еще более оптимистичен. «Я привез превосходные впечатления от поездки, – сообщил он корреспонденту газеты «Матен». – Из всех разговоров, которые я имел, и из всего, что я видел, ясно, что Россия единодушно настроена продолжать войну до полной победы».
Спустя два дня после отъезда миссии Милнера из Петрограда царь дал аудиенцию председателю Думы Михаилу Родзянко и услышал то, что должно было послужить ему последним предостережением. Холодная сдержанность, с которой обычно принимался председатель, на этот раз превратилась в ледяную. Николай равнодушно слушал доклад Родзянко о сложности политической обстановки в стране и наконец раздраженно его прервал: «Вы не могли бы побыстрее закончить с докладом? Меня ожидает к чаю великий князь Михаил Александрович». Родзянко торопливо дочитал доклад и закончил следующим: «Считаю своим долгом, ваше величество, выразить вам мои глубочайшие опасения и убеждение, что этот мой доклад вам будет последним». Николай поинтересовался, почему он так считает. «Потому что Дума будет распущена, – последовал ответ, – а курс правительства не предвещает ничего хорошего… Вы, ваше величество, со мной не согласны, и все останется по-прежнему. Последствиями этого, по моему убеждению, станет революция и анархия, которую никто не будет в силах обуздать». Николай на это ничего не ответил и лишь коротко простился с Родзянко.
Дума собралась через четыре дня, когда на улицы Петрограда вышли бастующие рабочие, в основном сохраняя порядок демонстрации. Открытые призывы к политическим беспорядкам не высказывались, но ситуация казалась временной и могла продолжаться до тех пор, пока либо мнимая революция сверху, либо подлинная революция снизу не устранит растерянность членов Думы. Еще через неделю царь изъявил желание обсудить вопрос об одном из важных министерств и объявил о своем намерении прийти в Думу, чтобы сделать заявление по этому вопросу. В последний момент он передумал и 8 марта уехал в штаб войск, получив окончательные заверения министра внутренних дел, что для подавления возможного восстания в столице будут приняты все меры. В тот же день разразился «хлебный бунт», и забастовали более девяноста тысяч рабочих. К 9 марта беспорядки и забастовки стали еще более серьезными, их не могли подавить, потому что вызванные для восстановления порядка казаки стали брататься с рабочими. И все же пока еще никто не думал, что давно ожидаемая революция, о которой мечтали миллионы людей и ради которой пожертвовали своей жизнью тысячи, становилась наконец реальностью.
Бьюкенен, который не был склонен недооценивать опасность революции, в своих донесениях в Лондон стремился приуменьшать трудности. Он приводил высказывание советника посольства о том, что проблема разрастается, «как это происходило уже раньше», говорил об «огромных толпах людей» и о случаях «некоторого беспорядка, впрочем, несерьезного». Такой же была преобладающая точка зрения даже в революционных кругах, но сила уже «выплеснулась на улицы» в ожидании появления нового политического устройства.
Глава 2 Союзники и мартовская (Февральская) революция
Взбунтовавшиеся безымянные массы Петрограда совершили последний толчок, который предал трехсотлетнюю династию Романовых полному и неоплакиваемому забвению. В течение пяти дней на улицах столицы бурлил народ, пока 12 марта растущее неповиновение войск не переросло в настоящий мятеж, и то, что казалось серьезным восстанием, перешло в увенчавшуюся успехом революцию. Когда было уже слишком поздно, Родзянко отправил царю вторую отчаянную депешу – первую царь оставил без внимания, – умоляя немедленно принять какие-то меры: «Меры должны быть приняты незамедлительно, ибо завтра будет уже поздно. Пробил последний час, когда должна решиться судьба страны и династии». Прочтя депешу, Николай раздраженно заметил: «Этот толстопузый Родзянко снова написал мне полную чушь, на которую я даже отвечать не буду».
После 12 марта едва ли один человек поднялся на защиту старого режима, настолько он себя дискредитировал. Против взбунтовавшейся столицы были посланы войска, но они самовольно «демобилизовались» и присоединились к революции. Заразительная атмосфера товарищества и братства охватила шумную толпу, кипящую энтузиазмом. Классовые различия стирались и снова стали проявляться только после того, как прошло первое опьянение победой. Всех ораторов слушали с одинаковым жадным вниманием, были ли они самыми рьяными революционерами или консервативными националистами вроде Родзянко. Из тюрем были выпущены все заключенные без разбора, как политические, так и уголовники. Большого кровопролития не произошло, так как полиция оставалась преданной монархии. Обнаружив человека в полицейском мундире, хотя большинство полицейских благоразумно поспешили от них избавиться, толпа жестоко с ним расправлялась, но, принимая во внимание размах переворота, таких случаев было не так уж много.
События развивались столь стремительно, что не успевавшие реагировать на них Дума и царь значительно оторвались друг от друга и от революционных масс. К тому моменту, когда Николай наконец решил, что необходимо немедленно создать ответственное министерство во главе с Родзянко, думские лидеры также опоздали выполнить свой план по спасению монархии, для чего намеревались возвести на трон одного из великих князей. Оказавшись перед фактом массового дезертирства из армии, Николай II 15 марта отказался от трона в пользу своего двенадцатилетнего сына Алексея, назначив регентом своего брата, великого князя Михаила. Милюков возвестил об этой смене правителя собравшейся перед зданием Думы толпе и попытался пояснить смысл события, но ему не дали говорить, заглушив его криками. Позднее Николай передумал назначать наследником трона Алексея из-за его хронической болезни и в официальном манифесте об отречении возложил царствование на великого князя.
16 марта думский комитет пытался убедить Михаила согласиться на правление. Поскольку ни Милюков, ни Родзянко не могли гарантировать его личную безопасность, Михаил счел благоразумным отказаться от престола. Окончательно осознав полное крушение идеи конституционной монархии, думские лидеры продолжали лихорадочно искать какие-либо лозунги, посредством которых революцию можно было бы «дисциплинировать» и сделать ее порождением самой Думы. Французский посол, вызванный Родзянко для совета, сказал, что его прежде всего беспокоит вопрос войны и что необходимо как можно скорее восстановить порядок и свести к минимуму все последствия революции. Василий Шульгин, депутат-консерватор, выразил чувства своих коллег, когда предупредил, что «если мы не возьмем власть, ее возьмут другие… те, кто уже выбрал на фабриках каких-то негодяев». «Негодяи на фабриках», о которых он говорил, были представителями Советов рабочих и солдатских депутатов, уникальной формы революционной демократии, которая впервые заявила о себе во время революции 1905 года. Советы представляли собой местные образования, в состав которых входили депутаты, избранные из среды рабочих, крестьян и солдат. Поскольку Петроградский Совет располагался в самой столице, во время мартовской (Февральской) революции он обладал гораздо большим влиянием и властью, чем советы, находившиеся за ее пределами. Эти организации отражали действительное состояние народного мнения гораздо точнее, чем Временное правительство, которое приняло на себя руководство страной после отречения великого князя. Возник феномен «двойной власти» с непреодолимым противоречием интересов, представляемых законным правительством и фактически существующей властью Советов; это противоречие поначалу было не очень заметным, но постепенно все более обострялось, пока в ноябре большевики не сумели захватить власть.
Лидерами Думы было избрано Временное правительство. Оно возглавлялось князем Георгием Евгеньевичем Львовым, честным, но бесцветным кадетом правого крыла. То, что на этот пост был избран именно он вместо более ожидаемого по логике кандидата Родзянко, было результатом влияния Милюкова, чья личная непопулярность в народе помешала ему самому стать главой правительства. Милюков контролировал деятельность нового правительства, но сам удовлетворился портфелем министра иностранных дел. В целом кабинет контролировался кадетами и консервативными националистами (октябристами), единственное исключение составлял пост министра юстиции, который был отдан Александру Федоровичу Керенскому, юристу умеренных левых взглядов, вскоре ставшему главной фигурой правительства. Николай Чхеидзе, меньшевик, недавно избранный председателем Петроградского Совета, был рекомендован на пост руководителя Министерства труда, но отказался от него, подчиняясь резолюции Исполнительного комитета Совета, которая высказалась против участия во Временном правительстве. Керенский, который так же был членом Совета, отказался подчиниться резолюции и тем не менее сохранил твердое положение в обоих лагерях. Как выразился Ленин, правительство было сформировано из «десяти министров-капиталистов и Керенского в качестве заложника демократии».
Революционный переворот вызвал огромный интерес во всем мире. Из-за строгой царской цензуры мир узнал об эпохальном событии только через несколько дней. Эта новость стала еще более неожиданной и поразительной для заграничных обозревателей, чем для российских, потому что, несмотря на множество самых диких слухов и нескольких правдивых сообщений, проникнувших в иностранную прессу, ни мировая общественность, ни ее лидеры не были готовы к столь внезапному повороту событий. С самым горячим сочувствием приветствовали революцию, конечно, союзные державы. Однако Центральные государства также выражали оптимизм, предвидя ослабление участия России в войне, хотя и признавали огромный ущерб, нанесенный престижу идеи монархии. Союзники видели в демократической России, освободившейся от царской тирании, возрождавшуюся нацию, готовую к новым жертвоприношениям на войне, при этом совершенно забывая о причинах великого переворота.
Ясно, что революция не могла быть одинаково выгодной для обеих сторон. Прошло несколько недель, и неуверенные ожидания Центральных государств полностью осуществились, тогда как союзникам предстояло испытывать все больше разочарований до тех пор, пока заключенный годом позже в Брест-Литовске мирный договор не положил конец всем их надеждам на способность России оказать серьезную помощь в войне. Британия и Франция стали в значительной степени жертвами собственной пропаганды, которая представляла войну как борьбу за свободу против власти автократии. Присутствие царской России в демократическом лагере союзников было серьезной помехой в этой идеологической войне, и было только естественно, что революция была встречена как удар, нанесенный по абсолютистской власти Гогенцоллернов и Габсбургов. Здесь они более всего подошли к правде, поскольку наступившее позднее крушение этих династий, вероятно, произошло не без помощи морального воздействия примера России.
Однако следует подчеркнуть, что военные представители союзников оценивали революцию более пессимистично. И хотя возможно, что такое отношение складывалось как в результате обычной настороженности военных по поводу любых изменений в статусе, так и исключительно стратегическими соображениями, по меньшей мере в данном случае они были гораздо меньше задеты политическими настроениями, чем гражданские.
Своевременность революции была особенно отмечена Соединенными Штатами, в то время как раз готовившимися к крестовому походу с целью «обезопасить мир для демократии». Хотя вряд ли Америка вступила в войну в результате свержения царизма, невозможно учесть влияние этого фактора в создании единодушного общественного мнения и в более эффективно проводимой пропаганде, обращенной к германскому населению. Почти все без исключения американские газеты и журналы приветствовали новую Россию и продолжали это делать еще долго после того, как в британскую и французскую прессу стали проникать критические замечания. Для бостонской «Транскрипт» революция была «кошмаром, вскормленным грудью либерального мира», тогда как далласская «Ньюс» выражала чувства нации, заметив, что революция «дает политическое и духовное единение союзу противников Германии, которого до сих пор недоставало по той причине, что демократия находилась в одной лиге с автократией».
В западноевропейской прессе проявилась отчетливая тенденция представлять революцию как антигерманский переворот, произведенный из патриотических целей под руководством Думы. Заголовок в лондонской «Таймс», зачастую воспринимаемой как полуофициальный орган министерства иностранных дел, приветствовал ее как «победу в военном движении», и редакторский комментарий пояснял, что «армия и народ объединились, чтобы свергнуть силы реакции, которые удушали народные стремления и связывали национальные силы». Однако уже 20 марта «Таймс» узнала о существовании Советов, членов которых она описала как «анархистов» и «демагогов», которые «проводят дикие митинги… терроризируют рабочих… и распространяют фальшивые и зловещие слухи с целью ослабить Временное правительство и отвлечь народ от войны». Британское либеральное еженедельное издание «Нейшн» большую часть своего номера от 24 марта посвятило революции и высмеивало прессу за ее «представление славного воскрешения России из мук и смерти актом обыкновенного шовинизма». Но затем великодушно признавало, что, «за исключением «Таймс», такое отношение к революции скорее было следствием неосведомленности, чем злобы. Тенденция, за которую «Нейшн» отчитало британскую прессу, столь же явственно выражалась и во Франции, где, в частности, «Птит репюблик» провозглашала «триумф либерализма» как начало решительной фазы в борьбе против «германского варварства». Один автор в «Ревю блю» утверждал, что революция произошла как «взрыв возмущения славянской души против ее внешних врагов и тех, кто пытался ее задушить внутри страны». В то же время от более либеральных газет поступало много теплых поздравлений. Разумеется, не обошлось без аналогий с Великой французской революцией 1789 года, а так же с революциями 1830 и 1848 годов. Но по мере того как все более очевидным становилось военное банкротство восточного союзника, из этих аналогий обычно делался вывод, что в противовес жалкому положению России Франция одна выстояла против всей Европы, защищая свою революцию, – весьма поверхностное сравнение двух ситуаций, которое не выдерживает тщательного изучения из-за совершенно разных условий.
Если принимать во внимание нетерпимость по отношению к режиму царской России, в прессе союзников проявлялось поразительно благосклонное отношение к Николаю II, которое не разделялось в Соединенных Штатах. Это было своего рода результатом представления о царе как о «маленьком отце», который столько времени удерживал в руках русское крестьянство. «Темп», французская коллега английской «Таймс», выражала свое огромное сочувствие императору. Его отречение от престола подавалось как великодушная жертва патриота, всеми силами желавшего избежать гражданской войны, а его свержение приписывалось дурным советам и махинациям злобной бюрократии, которая стремилась посеять рознь между царем и его народом. Пышный и довольно банальный манифест об отречении вызвал особенное восхищение в консервативных парижских газетах. «Можно ли представить себе язык более благородный и выразительный при всей его простоте, более искренний и патриотический?» – спрашивала «Галуаз», католическая газета с роялистским уклоном.
Послания от стран-союзниц дали новому режиму необходимую моральную поддержку, за которой быстро последовало официальное признание. Уже 17 марта лидеры Британской лейбористской партии направили поздравления Керенскому и Чхеидзе, выражая надежду, что они внушат Совету, «что любое ослабление военных усилий означает несчастье для товарищей в окопах и для нашей общей надежды на общественное возрождение». Такие же поздравления несколько позже принесли палата общин и премьер-министр. Весьма примечательно, что послание парламента было адресовано Думе, а не Временному правительству – ошибка, выразительно иллюстрирующая господствующее за границей представление, что Дума не только совершила революцию, но и взяла на себя функции правительства. Социалисты из французской палаты депутатов направили искреннюю, хотя и банальную телеграмму Совету, а три министра-социалиста из кабинета министров Франции поздравили Керенского. Министры предпочли поздравить именно его, а не правительство или Совет, по предложению Палеолога, который утверждал, что «только он способен заставить Советы понять необходимость продолжения войны и поддержания союза». Александр Рибо, 21 марта ставший новым премьер-министром Франции, засвидетельствовал свое уважение к революции в послании к Милюкову. Эти официальные поздравления не могли устранить неприятное впечатление, создавшееся в России от сделанных в своих парламентах Рибо и министром финансов Британии Бонаром Лоу заявлений, в которых они превозносили царя за его преданность делу союзников. Менее значительные страны-союзницы, как и множество неофициальных организаций всего мира, также откликнулись поздравительными посланиями. Среди них была Американская федерация труда, чьего президента Самуэля Гомперса убедили послать телеграмму на имя Чхеидзе. Она была отправлена по каналам Государственного департамента и, вероятно, затерялась, так что только в начале апреля была отправлена новая, более длинная телеграмма.
Соединенные Штаты, все еще сохраняющие нейтралитет, не принесли официальных поздравлений, но оказались первой страной, которая признала новое правительство, чем всегда очень гордился американский посол Фрэнсис. Он запросил необходимые полномочия 18 марта, и через два дня после консультации с президентом государственный секретарь Роберт Лэнсинг предоставил их послу.
Фрэнсис получил эту телеграмму 22 марта и незамедлительно известил Милюкова о благоприятном ответе. В тот же день посол, сопровождаемый полным штатом секретарей и атташе посольства и при всех регалиях, был принят Советом министров, где он в соответствии с протоколом известил Временное правительство о его официальном признании Соединенными Штатами.
В сравнении с послами стран-союзниц Фрэнсис вынужденно играл менее заметную роль в общественных и политических интригах Петрограда. Здание американского посольства было весьма скромным, и русское избранное общество считало его часто сменяющихся резидентов лишенными необходимого общественного лоска. Фрэнсис был типичным представителем американской средней буржуазии и вряд ли был способен изменить сложившееся о нем мнение. Ходило множество анекдотов о его мещанстве, о смелой игре в покер, а самой его выдающейся чертой считалась непринужденность и точность, с какой он попадал плевком в плевательницу. Его биография была типичной историей «энергичного парня» из мира дельцов, который добился успеха на политической арене. Богатый банкир и зерноторговец из Сент-Луиса, Фрэнсис был мэром этого города в 1885 году, губернатором Миссури в 1889 году и членом кабинета министров при президенте Гровере Кливленде в 1896 году. Его назначение в марте 1916 года в русское посольство было результатом постоянной личной преданности демократической партии, а вовсе не наградой за исключительное знание российской ситуации или за выдающиеся дипломатические способности. Он был выше посредственности только в своем сверхразвитом «деловом чутье», что могло оказаться весьма полезным при выполнении данных ему инструкций по обсуждению нового торгового соглашения с Россией, если бы этому не помешала разразившаяся в начале 1917 года революция. Крушение автократии и вступление Америки в войну полностью соответствовали политическим симпатиям посла. В основном он разделял консервативные взгляды своих коллег, но ему недоставало опыта и знаний, на которых основывался их консерватизм. Один из его тогдашних знакомых заметил: «Старина Фрэнсис не в состоянии отличить левого социал-революционера от картошки». Один критик, менее знакомый с добродушием его характера, которое до какой-то степени компенсировало отсутствие у посла выдающихся умственных способностей, высказался еще более ядовито: «Посол Фрэнсис, один из несчастных политиков Миссури, главным образом примечательный своей непроницаемой скорлупой самодовольства, прошел через значительнейший за все столетие переворот без единой отметины на блестящей поверхности его ума». Не говоря уже о его ограниченных интеллектуальных способностях – а возможно, именно благодаря им, – Фрэнсис упорно отказывался увольнять «экономку» посольства, некую мадам Матильду де Крам, вызывавшую у офицеров британской и французской разведок сильнейшие подозрения в том, что она является германским агентом. В Вашингтон одно за другим шли многочисленные донесения о его неблагоразумии, в которых предлагалось отозвать его с поста, но Госдепартамент ограничился только личным предупреждением посла, очевидно не принимая все это всерьез.
Послам стран Антанты были даны полномочия признать новый режим еще до того, как Фрэнсис поднял этот вопрос перед Лэнсингом. 18 марта Милюков обратился по этому вопросу к Бьюкенену, и ему было сказано, что необходимо представить заявление, что Россия стремится восстановить дисциплину в армии и участвовать в войне до ее окончания. Милюков без колебаний подтвердил оба требования, но указал, что «экстремисты» его подозревают и что ему придется или согласиться на некоторые уступки, или уйти в отставку. Не желая терять лучшего друга Британии в кабинете министров России, Бьюкенен без колебаний посоветовал ему пойти на уступки. Но поскольку последующая отставка Милюкова сопровождалась самыми противоречивыми слухами, установить, в чем именно состояли эти уступки, оказалось невозможно.
Бьюкенен несколько дней был не здоров, поэтому только 24 марта он смог вместе с послами Франции и Италии появиться в Совете министров. Состоящая из советников посольств, а также военных и морских атташе в парадных мундирах, делегация производила весьма внушительное впечатление, по словам одного из ее членов, который присутствовал на официальной церемонии заявления о признании новой власти России. В отличие от официального приема Фрэнсиса во время церемонии произносились достаточно прочувствованные речи. Как дуайен (глава) дипломатического корпуса Бьюкенен начал свое выступление с подтверждения желания, которое уже выразил Милюкову, относительно продолжения участия России в войне. Поддержав Бьюкенена, итальянский посол приступил к утомительному чтению длиннейшего отчета о дебатах относительно России в итальянской палате депутатов. Отвечая со стороны русских, Милюков выразил ожидаемые от него чувства патриотизма, выступая в поддержку незамедлительного продолжения войны. Он поклялся, что Россия будет сражаться до последней капли крови, по поводу чего военный атташе Британии задался в своем дневнике следующим вопросом: «Относительно Милюкова у меня нет ни малейших сомнений, но может ли он отвечать за всю Россию?»
Огромная признательность, которой пользовались в кругах Временного правительства Англия и Франция, способствовала увековечению в кругах роялистов и в германской пропаганде легенды о том, что ответственность за революцию падает на союзников. Даже Ленин, стоящий в крайнем левом ряду политического спектра, казалось, действовал под влиянием этого недоразумения. Поскольку все знали о монархических взглядах Палеолога, а влияние итальянского посла в любом случае было незначительно, эти открыто не выражавшиеся обвинения ограничивали круг подозреваемых и указывали прямо на Бьюкенена. Еще до революции он был известен дружескими отношениями со многими лидерами Думы, а для неосведомленных о реальной ситуации в России людей, особенно для консерваторов, было самим собой разумеющимся, что Дума и революция – одно и то же. Ему предъявлялось обвинение, что он поклялся отомстить царю, который во время их последней встречи не предложил ему сесть. Но самым фантастическим из слухов была история о том, что он якобы «посещал собрания революционеров, приклеив себе фальшивый нос и бороду». На самом деле английский посол – убежденный тори по взглядам – «приходил в ужас при одной мысли о возможной встрече с людьми, которых он считал революционерами», и с величашей неохотой согласился наконец на контакты с либералами только благодаря своему другу Гарольду Уильямсу, влиятельному британскому корреспонденту и большому авторитету по России, который подталкивал его к этому. Будучи неистовым патриотом, Бьюкенен с трудом уступил убеждениям, что лидеры Думы, особенно кадеты, предлагают единственную защиту против реакции и сепаратного мира. Крайне далекий от революционных идей, он делал все, что мог, для предотвращения революции; а когда это оказалось невозможным, поддерживал бесполезные попытки Думы как-то ее ограничить. Получив известие, что великий князь отклонил предложение стать новым правителем России, посол воскликнул: «Это уже конец! Российская армия не станет сражаться без императора, который ее вдохновляет». Под давлением левой прессы Милюкову пришлось неоднократно просить посла прекратить посещения родственников бывшего царя, и только под угрозой отзыва со своего поста Бьюкенен уступил этим просьбам.
Утверждение, что человек, занимающий положение Бьюкенена, мог иметь отношение к свержению династии, даже если бы он этого хотел, является полным абсурдом, но слухи обычно не подвергаются тщательному изучению. Их логическое продолжение можно найти в толках о том, что по его вине были сорваны переговоры о предоставлении царской семье убежища в Англии. Николай подписал в Пскове акт о своем отречении от престола и вернулся в Генеральный штаб армии. По требованию Совета он был доставлен в Царское Село и помещен там под арест вместе с остальными членами своей семьи. Главы военных миссий союзников обратились с просьбой, чтобы им разрешили сопровождать Николая, на что из ставки ответили, что это «нецелесообразно» и может задержать отправление царя, потому что сначала пришлось бы получить согласие правительства. Вполне возможно, что генералы Антанты имели в виду устроить его побег в Англию. Правительство, в противоположность гневным настроениям народа, сочувствовало семье Романовых и даже отказывалось признавать, что она находится под арестом. Николая просто «лишили свободы», было объяснено британскому послу, который по понятным причинам не мог оценить разницу в этих выражениях. Керенский во всеуслышание выразил свое нежелание стать «Маратом русской революции» и выразил намерение эскортировать семейство Романовых в Мурманск. Петроградский Совет ответил приказом железнодорожным рабочим, если потребуется, остановить царский поезд.
Тем временем Милюков запросил Бьюкенена, готово ли его правительство предоставить императорской семье убежище, и его просьба была немедленно передана в министерство иностранных дел в Лондоне. На следующий день военный кабинет обсудил этот вопрос, и было решено продлить срок действия приглашения, понимая, что семья не может покинуть страну во время войны. 23 марта Милюкова информировали о решении и дали обещание, что императорское семейство будет вполне обеспечено. Договорились о том, что в Мурманске его заберет британский крейсер. Через нейтрального посредника Германия представила обещание беспрепятственно пропустить корабль. Но Милюков умолял о сохранении тайны: стоило просочиться в прессу хоть одному намеку, что Временное правительство принимает участие в организации этого путешествия, как оно может быть свергнуто исключительно по политическим причинам. Немедленной отправке семьи помешала корь, разразившаяся в царской семье: один за другим заболели все пятеро детей, а правительство откладывало отъезд со дня на день в тщетной надежде на смягчение позиции Петроградского Совета.
Английский король Георг V, ближайший кузен отрекшегося правителя, направил ему дружеское послание, старательно избегая любых упоминаний о политике и о его возможном прибытии в Англию. Оно было передано через военного британского атташе при верховной ставке, поскольку полагали, что Николай все еще находится там, и наконец оказалось у Бьюкенена. Посол, не имевший доступ в Царское Село, попросил Милюкова передать послание Николаю. Тот согласился, но на следующий день (25 марта) передумал, опасаясь политической реакции, которая могла воспоследовать из-за неверного толкования содержания телеграммы. Ее доставка была «отложена», и, предположительно, телеграмма так и не была доставлена адресату. Вскоре посол получил из Лондона инструкции не принимать никаких дальнейших мер по этому делу. Именно из-за этого безобидного указания позднее роялистски настроенные комментаторы упрекали Бьюкенена в самоустранении – и таким образом «виновным по неисполнению обязательств» за последовавшее позднее убийство императорской семьи.
Решение проблемы, что делать с «гражданином Романовым» и его семьей, уже не зависело от посла, какими бы ни были его личные желания, и даже от позиции русского или британского правительств. Совет принял решение, что императорская семья должна остаться в России, был назначен специальный комитет, чьей задачей было следить за их содержанием, а в Царском Селе размещена охрана. Репутация павшего монарха в определенных кругах Англии была такой же низкой, как и в России. Возможно, еще ниже она была во Франции, где, по словам британского посла в России, бывшую императрицу считали «преступницей или преступной сумасшедшей, а бывшего императора – преступником из-за его слабости и повиновения ее воле». Посол Франции не скрывал своего удовлетворения, что план доставки императорской четы в Англию не осуществился.
Растущее волнение среди рабочих и в руководстве лейбористской партии заставило британское правительство пересмотреть свое приглашение. Предвидя в случае продолжения попыток спасти императорскую чету возможность политического взрыва как в России, так и в Англии, правительство Британии решило не форсировать этот вопрос. Вместо того чтобы прямо заявить об отказе, правительство искало предлоги, которые могли бы задержать отъезд царя до окончания войны. В апреле Бьюкенен получил телеграмму, в которой говорилось, что из-за неспокойной обстановки в Англии, которая может перерасти в забастовки на верфях и на военных заводах, в настоящее время было бы благоразумнее отменить все приготовления. Формулировки были дипломатичными – на приглашении уже «не настаивали», – но посол сразу понял, что, по существу, приглашение аннулировано. Вторая телеграмма, которая поступила к нему в июне, изложила этот вопрос еще более определенно, и Бьюкенен, который принял это почти как личный удар, сообщил печальную новость военному министру «со слезами на глазах».
При написании своих мемуаров Бьюкенен столкнулся с трудной задачей снять с себя обвинения в том, что он препятствовал побегу царя, и в то же время оправдать поведение своего правительства. С первой задачей он справился довольно легко, но вторая была решена лишь благодаря весьма сомнительному приему – заявлению, что «предложение оставалось открытым и не отзывалось», что было формальной отговоркой, уязвимость которой он слишком болезненно осознавал. Король Георг также был задет отказом царю со стороны правительства. «Эти проклятые политиканы! – говорил он позднее. – Если бы он был один из них, они действовали бы куда быстрее. Но только потому, что этот бедняга был царем…»
Король Георг ограничился этим кратким замечанием, хотя отлично понимал, что неприятная правда состоит в том, что дальнейшее существование свергнутого правителя всегда представляет неизбежную угрозу успеху революции. Его пребывание за границей может только увеличить опасность контрреволюции и вовлечь страну, предоставившую ему убежище, в непредвиденные дипломатические осложнения. Тот факт, что царской семье удалось прожить определенное время, во многом объясняется как пассивной позицией царя, так и сдерживающей тактикой Временного правительства. Он почти без возражений смирился со своей участью, и у него не было ни намерений, ни возможностей для интриг. В августе 1917 года царскую семью в глубокой тайне перевезли в отдаленный Тобольск, а в апреле 1918 года – на Урал, в Екатеринбург. Ее судьбу окончательно определила разразившаяся гражданская война. Когда к городу приблизились антибольшевистские войска, Уральский совет решил казнить пленников, чтобы их не смогли отбить белогвардейцы. Ночью 16 июля вся семья, включая семейного врача и трех слуг, была переведена в подвал здания, где они содержались. Им был торопливо зачитан приговор, после чего всех без дальнейших церемоний расстреляли. Тела были тщательно уничтожены. Пленение Романовых и их дальнейшая судьба вызывали мало интереса и сочувствия среди русского населения. Мученики царского абсолютизма по количеству намного превышали относительно небольшое количество приверженцев старого режима, которые были арестованы Временным правительством. Из Сибири были возвращены тысячи политических узников, и в Москве и в Петрограде их встречали с огромным энтузиазмом. Из-за границы также прибыли еще тысячи высланных и беженцев, особенно из стран Антанты. Новое правительство великодушно предоставило им возможность вернуться на родину. Российский поверенный в делах в Лондоне Константин Набоков оценивает субсидии, выделенные на эти цели, более чем в миллион долларов. Сумма в двести пятьдесят тысяч долларов, которую Набоков получил на нужды изгнанников как раз перед большевистской революцией, вскоре была конфискована британским правительством и не возвращена.
Большинство ссыльных были умеренными революционерами и поддерживали дело Антанты. После лет, проведенных за пределами России, многие европеизировались и растеряли свой революционный пыл, оставшись революционерами только теоретически. Типичными представителями этой группы, хотя и гораздо более известными, чем обычный эмигрант, были лидер правого крыла меньшевиков Плеханов и знаменитый анархист князь Петр Кропоткин. Оба прожили в Западной Европе много лет и без особых затруднений вернулись в Россию – красноречивое доказательство умеренности их взглядов. Условия военного времени делали путешествие на родину сложной проблемой, и для тех эмигрантов, которые были известны отсутствием патриотизма, препятствия становились почти непреодолимыми. В Западной Европе местом сосредоточения эмигрантов был Лондон, а поскольку британский военный флот контролировал морские пути, действовал выборочный запрет, чтобы помешать наиболее радикально настроенным эмигрантам возвратиться на родину этим путем. Однако наименее известные люди ухитрились проскользнуть, пока сеть не стала слишком частой, а некоторым беспрепятственно удалось получить разрешение вернуться – Временное правительство хлопотало за них, а Англия не могла отказать союзнику. Набоков телеграфировал в Россию о необходимости принять меры для воспрепятствования притоку большевиков. «Вы рубите сук, на котором сидите!» – предостерегал он. Этот совет оказался излишним. Милюков позаботился о том, чтобы информировать все российские посольства и представительства о том, что «в случае каких-либо сомнений относительно личности политического эмигранта… просим сформировать совместно с соответствующим отделом Министерства иностранных дел комитет, состоящий из представителей политических эмигрантов, чтобы прояснить все сомнения по этому поводу». Более поздняя телеграмма предупреждала, что «при выдаче паспортов эмигрантам вы должны руководствоваться доказательствами их благонадежности в отношении войны, предоставленными другими эмигрантами, которым можно доверять, или комитетами, созданными в соответствии с нашей телеграммой».
Среди наиболее значительных лиц, которым не удалось получить доступ в Россию, были Георгий Чичерин и Максим Литвинов, ставшие при советском режиме министрами иностранных дел. Чичерин был арестован в августе 1917 года под предлогом произнесения антивоенной речи и содержался в лондонской тюрьме, пока позже советское правительство не добилось его освобождения. Литвинову удалось остаться на свободе, и после падения Керенского его собирались депортировать в Россию, но большевики назначили его послом. Виктору Чернову, лидеру социал-революционной партии и настроенному «пораженчески», было разрешено вернуться, но не без опасений.
Эмигрантам же, оказавшимся в Соединенных Штатах, за редким исключением удавалось получить паспорт. Среди самых заметных эмигрантов, которые возвратились на родину – хотя американцы знали их не очень хорошо, – были Николай Бухарин, Михаил Бородин, Владимир Шатов, Александра Коллонтай и Лев Троцкий. Сотни других, чьи имена тогда были неизвестны и которые позднее, весной и летом, устремились в Россию, обычно прибывали через Тихий океан и далее следовали через Сибирь. Американское правительство не предпринимало никаких мер для прекращения отъезда эмигрантов, пока посол Фрэнсис не сообщил на родину о демонстрантах перед посольством, которые протестовали против заключения в тюрьму Александра Беркмана и Эммы Гольман, анархистов, которые были осуждены за агитацию против призыва в армию, и Томаса Муни, заключенного в тюрьму за предполагаемое участие в стрельбе во время военного парада, который проводился в июле 1916 года в Сан-Франциско. Фрэнсис ничего не знал об этих людях и обратился за разъяснениями в Госдепартамент. Он заключил, и возможно правильно, что лидерами этих демонстраций были эмигранты из Соединенных Штатов. И сделал еще один, на этот раз совершенно неверный вывод, что «прискорбные условия в России в основном сложились благодаря возвратившимся изгнанникам, большинство которых прибыли из Америки и среди которых самым опасным был Троцкий». Несколько раз Лэнсинг безуспешно пытался заставить Фрэнсиса ходатайствовать перед Временным правительством, чтобы оно запретило российскому консулу в Соединенных Штатах выдавать паспорта русским эмигрантам. «Политические агитаторы и опасные персоны, – убеждал он, – невероятно искажают настроения и намерения американского народа по отношению к войне». Но к тому времени, как Соединенные Штаты стали «угрозой» для эмигрантов из России, большинство из тех, кто желал вернуться на родину, уже сделали это.
«Самый опасный» из эмигрантов в Соединенные Штаты, Лев Троцкий, кому по заслугам и славе суждено было занять второе место после Ленина, был изгнан из Европы незадолго до революции. Будучи во Франции, он участвовал в издании небольшой ежедневной русской газеты, публикуемой для русских эмигрантов в Париже. Под предлогом того, что в российских войсках, восставших в Марселе, были найдены экземпляры этой газеты, она была закрыта, и Троцкого вынудили выехать в Испанию, откуда в начале 1917 года он уехал в Соединенные Штаты. Он обосновался в Нью-Йорке и с Булгариным и другими соотечественниками помогал выпускать радикальную газету на русском языке «Новый мир». Со времени раскола с большевиками в 1903 году Троцкий вел непримиримую политическую борьбу с Лениным и обычно ассоциировался с меньшевистским крылом партии. Однако было бы более точно определить его как «троцкиста», хотя со временем этот термин приобрел совершенно иной смысл и до сих пор в России считается синонимом «предателя». Блестящий писатель и оратор, по своему темпераменту он был неспособен примирить свои взгляды с какой-либо программой, которую не сам изобрел, и с довольно скромным успехом постоянно пытался воспитать приверженцев собственных идей.
Сразу после революции Троцкий получил билет на норвежское судно и 27 марта отплыл вместе с женой и двумя сыновьями. В Галифаксе (Новая Шотландия) это судно захватил британский военный корабль, и все русские эмигранты, находившиеся на его борту, были с пристрастием допрошены, причем особый интерес проявлялся к их планам и политическим убеждениям. 5 апреля на борт норвежского судна поднялись британские офицеры во главе с капитаном и потребовали, чтобы Троцкий с семьей и еще пять революционеров покинули судно. Те отказались добровольно сойти на берег, хотя их уверяли, что в Галифаксе все будет выяснено, и тогда вооруженные моряки силой заставили их спуститься в ожидающий катер. Семья Троцкого была оставлена в Галифаксе, а остальных отправили поездом в Амхерст, лагерь для германских военнопленных. Начальник лагеря отказался отправить их телеграммы в Петроград и задержал отправку протеста Ллойд Джорджу. Троцкий снова доказал свои способности пламенного агитатора: его речи были настолько убедительными, что консервативно настроенные германские офицеры обратились с жалобой к британскому полковнику. Полковник занял сторону сторонников Гогенцоллернов и запретил Троцкому выступать с речами.
Когда известие об аресте Троцкого достигло Петрограда, оно вызвало усиление антибританской пропаганды в левой прессе, и без того возмущенной задержанием в Лондоне многих политических беженцев. Объяснение Бьюкенена, что это произошло из-за нехватки транспорта, только навлекло на него поток новых обвинений. Дополнительный предлог задержания, заключавшийся в том, что русские были интернированы, так как «ехали на субсидии германского посольства, чтобы свергнуть Временное правительство», также были встречены насмешками. Большевистская газета «Правда» объявила это «открытой, неслыханной и злобной клеветой на революционеров».
Широко распространенные антибританские настроения причиняли послу массу забот о судьбе британцев, которые владели промышленными предприятиями в Петрограде и чьей безопасности угрожали революционно настроенные рабочие, и, как всегда в трудную минуту, он обратился за помощью к Милюкову. Министр иностранных дел, разумеется, был в курсе истории в Галифаксе и потребовал разрешить заключенным проследовать в Россию. Но 10 апреля он передумал и попросил, чтобы их задержали до следующего распоряжения. Бьюкенен, который больше не желал, чтобы его правительство заставляли играть роль козла отпущения в отношении политики российского правительства, пригрозил предать гласности всю историю. Милюков успокоил его, пообещав сделать публичное заявление, в котором снимет с Британии всю вину. В конце концов Временное правительство было вынуждено проявить активность, и 29 апреля пленники были освобождены и доставлены на датское судно. Без дальнейших осложнений они прибыли 18 мая в Петроград. Троцкий немедленно приступил к сотрудничеству с большевиками и в июле официально вступил в партию. Не скоро он забыл свои злоключения. Среди капиталистических стран излюбленным объектом его нападок стала Англия – во всяком случае на некоторое время, – и каждое воскресенье его страстные речи, обличающие британский империализм, собирали огромные толпы народа.
Остальные главные революционеры, из которых самым выдающимся был Ленин, в момент революции жили в Швейцарии. Получить транзитную визу, позволяющую пересечь территории стран Антанты, было невозможно, и в отчаянном стремлении оказаться в России изобретались и тут же отвергались самые немыслимые планы. В качестве последнего выхода были начаты переговоры с германским правительством при посредстве одного швейцарского социалиста и достигнута договоренность, что русские проедут по Германии в нейтральную Швецию в «опломбированном» вагоне, то есть как наделенные дипломатическим иммунитетом. Этой возможностью воспользовались около тридцати человек, в основном большевики, включая Ленина с женой, Григория Зиновьева и Карла Радека. Союзники пытались изыскать способ задержать эту группу с помощью шведских властей, но были вынуждены отказаться от плана как от неосуществимого и из опасения серьезно рассердить русских. Для германского Генштаба большевики были противниками врага Германии – российского правительства – и вследствие этого законным военным средством в борьбе за военное превосходство. Ленин понимал, что его политические противники не замедлят предъявить ему обвинение в «прогерманских» настроениях, но предпочел этот риск перспективе оказаться изолированным в Швейцарии. И все же вряд ли он предвидел ту широчайшую кампанию поношения, которая началась вскоре после его приезда. Утверждение, что Ленин и Троцкий являются агентами Германии, было очень распространено среди сторонников Керенского и особенно в странах Антанты. То, что известные большевики по пути в Россию пересекли враждебную Германию, стало «доказательством» их предательской деятельности только для тех, кто был уже в этом убежден по совершенно иной причине. Эта причина, хотя она никогда публично не признавалась, заключалась в непопулярной позиции, которую Ленин и Троцкий занимали по отношению к войне – то есть непопулярной у патриотов, которые горячо одобряли политику Временного правительства, не пользующуюся массовой поддержкой населения и поддерживаемой почти исключительно западными союзниками. Спустя месяц тем же путем, что и Ленин, в Россию проследовали около двухсот меньшевиков с их лидером Мартовым. Но поскольку они поддерживали Временное правительство, искренность их мотивов никогда не подвергалась сомнению.
16 апреля Ленина и его сторонников на Финляндском вокзале Петрограда приветствовали огромные толпы восторженных рабочих, солдат и матросов. По поручению Совета короткую приветственную речь произнес Чхеидзе, осторожно предположив, что Ленин присоединится «к революционной демократии… чтобы защитить нашу революцию от попыток свергнуть ее изнутри и извне». Спокойно проигнорировав эти намеки, Ленин повернулся к собравшимся и коротко сказал: «Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие! Я счастлив приветствовать в вашем лице победоносную русскую революцию, приветствовать вас как авангард мирового пролетариата… Предательская империалистическая война является началом гражданской войны по всей Европе… Завтра, теперь уже в любой день, европейский империализм будет полностью уничтожен. Русская революция, которую вы совершили, означает начало его гибели и новой эпохи. Да здравствует мировая социалистическая революция!»
Послы союзников по понятным причинам были встревожены прибытием Ленина, хотя до этого ничего о нем не знали. Однако его взгляды показались им до такой степени странными, что поначалу они склонялись к тому, чтобы не принимать его во внимание как безвредного безумца. Бьюкенен говорил о Ленине как об «анархисте», а Фрэнсис телеграфировал в Вашингтон, что «крайний социалист или анархист по имени Ленин произносит жестокие речи и таким образом усиливает правительство; пока ему намеренно предоставляется возможность выступать, но в свое время он будет выслан». Для Палеолога, чей дневник демонстрирует доказательства внесения более поздних по времени исправлений, Ленин был «утопическим мечтателем и фанатиком, пророком и метафизиком, невосприимчивым к любым представлениям о невозможном, человеком, которому мало знакомы чувства справедливости или милосердия, жестоким маккиавельцем, выжившим из ума от тщеславия». Позднее Бьюкенен жаловался Милюкову, что Россия никогда не выиграет войну, если Ленину будет позволено «агитировать солдат дезертировать, захватывать землю и убивать». Министр иностранных дел объяснял, что правительство выжидает психологического момента для ареста Ленина, который, как он думал, уже недалек.
Послу было от чего тревожиться. До приезда Ленина большевики бесцельно шумели, их позиция почти не отличалась от позиции меньшевиков и социал-реворюционеров (эсеров), которые поддерживали Временное правительство. Будучи в Швейцарии, Ленин определил правительство в самом мягком из своих выражений как «связанное по рукам и ногам англо-французским империалистическим капиталом». И уже с 16 апреля большевики под руководством одаренного вождя стали постоянно призывать к немедленному общему перемирию – призыв тем более эффективный, что выражал растущее стремление рабочих, солдат и крестьян положить конец кровопролитной войне. Министр иностранных дел, которого прозвали Милюков-Дарданелльский и Павел Дарданеллович, что отражало его представление о целях русских в войне в отношении проливов Босфор и Дарданеллы, принадлежавших Турции, на ощупь двигался от одного кризиса к другому, пребывая в ошибочном убеждении, что внешняя политика, принятая при царском режиме, достаточно хороша и для революции. Как вскоре станет ясно, он глубоко заблуждался.
Глава 3 Милюков и кризис внешней политики
В один из дней марта Керенский, с трудом пробравшись сквозь возбужденные толпы народа, неожиданно появился в помещении, где заседал думский комитет, с загадочным видом бросил на стол толстый сверток и, сказав: «Это наши тайные договоры с союзниками… спрячьте их!», так же драматично удалился. Не найдя ни ящика, ни стенного шкафа, члены комитета впопыхах запихнули сверток на время под стол. «Какая выразительная символика! – пишет бывший лидер социал-демократов Чернов. – Смешанные в кучу документы – наследство старой царской дипломатии, отягощенное просроченными векселями и теперь завещанное новой России, – в спешке были спрятаны под столом».
Политическое банкротство, которое доказали думские лидеры своей безуспешной попыткой направить революцию в «безопасное» русло, как выражался Чернов, нигде не проявилось так ясно и полно, как в области внешней политики. Родзянко олицетворял благодушный оптимизм, когда уверял полковника Альфреда Нокса, британского военного атташе, что революция не отразится на участии России в войне. «Россия – огромная страна и способна вынести одновременно и войну, и революцию», – заявил он обеспокоенному офицеру.
Союзники не стали терять время, и уже 18 марта главы их военных миссий направили командующим армиями различных фронтов телеграммы, призывающие подтвердить верность «священному союзу», созданному для обеспечения «триумфа принципов свободы». Полученные ответы были составлены в таких же громких, но ничего не значащих выражениях, но поданные под успокаивающим сиропом заверения позволили военным представителям Антанты убедить самих себя в прежней крепости и нерушимости союза.
В тот же день Палеолог позвонил в Министерство иностранных дел. Милюков объяснил ему, что министры стараются выработать декларацию о ведении войны, которая удовлетворяла бы и союзников, и Петроградский Совет, и что он надеется добиться принятия этой декларации в нужной формулировке. Палеолог раздраженно ответил, что ему нужна не надежда, а полная уверенность. Посол мог бы проявить больше вежливости, поскольку в России не было более преданного поборника дела союзников, чем сам министр иностранных дел. Однако следует заметить, что его мотивы были не совсем бескорыстными. Это становится очевидным из его ноты от 18 марта ко всем российским дипломатам в заграничных государствах, копии которой были направлены каждому из российских союзников (включая и Соединенные Штаты, которые в тот момент еще не вступили в войну). После краткого перечисления недавних российских событий следовало заявление, что правительство «не забудет о международных обязательствах, данных свергнутым режимом, и будет свято выполнять обещания России». Со своей же стороны Милюков попросил представить подобные гарантии союзников в отношении тайных договоров, и эти гарантии были незамедлительно представлены.
20 марта в печати появился манифест Временного правительства, тон которого был более сдержанным и осторожным, чем откровенное заявление Милюкова, и вызвал недовольство французского посла. Хотя правительство обещало «принять все меры для обеспечения армии всем необходимым, чтобы довести войну до победного конца» и «свято соблюдать все союзы, объединившие нас с другими странами, и все соглашения, совершенные в прошлом», Палеологу это показалось недостаточным, он немедленно прибыл в Министерство иностранных дел и в самых резких выражениях выразил свое возмущение. В душе Милюков целиком соглашался с раздраженным послом, но вынужден был смущенно оправдываться и пообещал исправить заявление при первой же возможности.
Петроградский Совет совершенно иначе воспринял действия Милюкова. 27 марта он объявил «народам мира» решение Совета «противостоять завоевательной политике их правящих классов» и призвал «народы Европы» «к согласованным и решительным действиям в пользу мира». Этот манифест был обращен, главным образом, к германскому пролетариату, который призывали превзойти русский пример и «прекратить служить инструментом завоевания и насилия в руках королей, землевладельцев и банкиров». За ним последовала энергичная редакторская статья в «Известиях», официальном органе Петроградского Совета, направленная против «тайной дипломатии» и «ядовитого тумана шовинизма», который исходит от буржуазной прессы. В России эти призывы встретили горячий отклик, но вряд ли их могли прочитать народы воюющих стран, к которым на деле они были адресованы. Не обращая внимания на дружные протесты, Милюков продолжал твердить о необходимости завладеть турецкими проливами, указывая своим слушателям на необходимость видеть отличительные черты разного типа империализма. Естественно, свое понимание империализма он подавал как самое благоразумное. Защищая проводимую им внешнюю политику скорее с точки зрения историка, чем члена кабинета министров, Милюков сказал, что «во всех своих заявлениях он всегда энергично подчеркивает мирные цели освободительной войны, но всегда представляет их в тесной связи с национальными проблемами и интересами России». Прозрачная маскировка «мирными целями» не могла затемнить смысл необходимости защищать «проблемы и интересы». Керенский рекомендовал ему «полностью изменить стиль всех наших дипломатических нот и заявлений». Но гораздо важнее было добиться серьезных изменений в международной политике. Милюков на это не соглашался. Его присутствие во Временном правительстве быстро становилось помехой, а вовсе не преимуществом.
2 апреля президент Вильсон обратился к специально собранной сессии конгресса Соединенных Штатов и призвал к войне с Германией, «этому естественному врагу свободы». Целый параграф его речи был посвящен «одобрению и поддержке событий, которые произошли в России за последние несколько недель». С необычным для него пылом он говорил об отталкивающем характере автократии, которая так долго «увенчивала вершину своей политической структуры». «Сейчас она поколеблена, – продолжал он, – и великий и благородный русский народ со всем своим простодушным величием и мощью присоединился к силам, которые по всему земному шару сражаются за свободу, за справедливость и за мир. Вот достойный партнер для Лиги чести». Через четыре дня Соединенные Штаты официально объявили о своем вступлении в войну, новость, которую русское правительство восприняло с благодарственными молебнами, видя в ней для России новый побудительный мотив продолжать участие в войне. В послании президенту Милюков воздавал должное ему за то, что тот направил «великую демократию нового мира» в сторону «справедливости… против… теократии и патерналистской автократии и агрессивного империализма». Российский министр иностранных дел воспользовался этим случаем и дал интервью прессе, в которое он искусно включил заявленные Вильсоном идеалы как цели войны, как будто это был его собственный уникальный вклад в усовершенствование мира. В то же время он соотнес выдвинутую большевиками формулу «мир без аннексий и контрибуций» с германской пропагандой и отверг «тупиковый мир, основанный на status quo». Он говорил так, как будто Босфор и Дарданеллы уже находятся под юрисдикцией России, а судьба Румынии и Армении почти определена: «Румыны будут присоединены к нашей Украине», а армяне, поскольку они не могут оставаться под оттоманским игом, «могут быть помещены под протекторат России».
В попытке успокоить возмущение снизу, поскольку народ стал задаваться вопросом, стоит ли продолжать войну на любых условиях, не говоря уже о тех, за которые агитировал Милюков, 9 апреля Временное правительство опубликовало призыв к поддержке идеи продолжения войны. «Целью свободной России, – говорилось в нем, – является не господство над другими народами, не захват их национальных владений, не насильственная оккупация иностранных территорий, а достижение стабильного мира на основе самоопределения народов». Это звучало почти в унисон с заявлениями Страны Советов, но далее следовало самое главное: «Эти принципы станут основой внешней политики Временного правительства, которое преданно осуществляет волю народа и защиту прав нашей отчизны, в то же время полностью соблюдая все обязательства, взятые по отношению к нашим союзникам». Безусловно, это было намеком на тайные соглашения, хотя, как ни странно, Исполнительный комитет Петросовета одобрил это заявление перед тем, как допустить его опубликование. Милюков согласился с текстом только под давлением большинства коллег по правительству, да и то, скорее интерпретируя документы как призыв к гражданам. Если бы он был интерпретирован Советом как уступка их концепции требуемой внешней политики, Милюков «оставлял за собой право в случае, если эта уступка будет воспринята как односторонняя, трактовать ее со своей точки зрения и прояснить неопределенные термины в соответствии со своей прежней политикой, с политикой союзников и с национальными интересами России». Выражаясь с обычной для него излишней прямолинейностью, он и не пытался скрыть свою позицию от публики, в результате чего «произвел эффект разорвавшейся бомбы» и вызвал «взрыв ненависти к Милюкову в Петросовете», который, как признает Керенский, «обнажил всю глубину назревшего в правительстве нравственного кризиса, обострение взаимного недоверия, которое началось с самого первого дня революции». Однако самому Керенскому также недоставало прозорливости для верной оценки ситуации после этого инцидента, и он уверял Бьюкенена, что Советы умрут естественной смертью.
11 апреля в Петрограде открыл работу I Всероссийский съезд Советов, который доказал их жизнеспособность. После бесконечных дискуссий, во время которых представители всех фракций левого направления смогли выразить свои взгляды перед делегатами, была принята резолюция, поддерживающая «пораженческую» концепцию войны. Предложенная Ираклием Церетели, меньшевистским лидером Петроградского Совета, резолюция была принята 325 голосами против 57 при 20 воздержавшихся. В одном из ее пунктов говорилось о «сохранении боеспособности армии для активных действий», в которых на деле мало кто из солдат готов был принять участие. С момента революции дисциплина в войсках невероятно ослабла, и германцы заняли тактику «выжидания». На фронтах царило относительное затишье, стало привычным братание солдат из противостоящих лагерей, и армия скорее напоминала огромное дискуссионное общество, чем обученные дисциплинированные войска. Вновь стало расти дезертирство, и вскоре все поезда осаждались тысячами солдат, одержимых стремлением поскорее вернуться к земле, чтобы ее не успели без них экспроприировать и поделить. Генерал Нокс, который в апреле был повышен из полковников, и другие говорящие по-русски офицеры британской военной миссии пытались вести пропаганду среди солдат, которые находились как внутри, так и вокруг столицы. Их всегда принимали вежливо, но эффект был незначительный, поскольку, как откровенно признает Нокс, «то впечатление, которое мы могли произвести, тут же сводилось на нет следующим агитатором». Короче, русскому солдату и русскому человеку война встала уже поперек горла. Любая попытка заставить их продолжать войну была обречена на провал и вызывала только еще большее недоверие к тем, кто стоял за эту политику. То, что Ленин и большевики с их политической проницательностью сумели увидеть главное и очевидное и начали проводить кампанию за выход России из войны, скорее является результатом некомпетентности буржуазных руководителей страны, чем верой в мистическое откровение марксистского учения, которое помогало профессиональным революционерам.
Поддерживая идею оборонительной войны, Петроградский Совет продолжал агитировать за демократический мир «без аннексий и контрибуций» и выступал за «свободное развитие всех народов». Александр Рибо, премьер-министр и министр иностранных дел Франции, отнесся к намерениям российского правительства с огромным подозрением и телеграфировал в Лондон и в Рим, чтобы заручиться поддержкой своего предложения направить строгую ноту с требованием положить конец уклончивому поведению союзника в вопросе войны. Премьер-министр Италии выразил согласие, но британцы предложили дать возможность членам миссии социалистов-союзников, которая недавно прибыла в Петроград, сначала попробовать убедить своих русских товарищей-социалистов занять более решительную позицию в защиту войны.
Эта миссия прибыла в Петроград 13 апреля с целью рассеяния, по словам премьер-министра Франции, «экстравагантной мечты, которая охватила умы русских революционеров». Францию представляли Марсель Качен, Эрнест Лафонт и Мариус Муте, все члены социалистического крыла палаты депутатов. Качен позднее стал одним из лидеров коммунистов Франции. Их присутствие в России было своего рода парадоксом. Как заметил в своем дневнике Палеолог, «за последние двадцать пять лет социалистическая партия не упускала случая критиковать франко-российский союз. А теперь мы видим, как три депутата от социалистов приехали его защищать – от России!». Французы выбрали момент для своего приезда вскоре после того, как произошла революция, и, когда известие об их прибытии достигло Лондона, Артуру Хендерсону, лейбористу, члену Особого военного кабинета, было поручено составить соответствующую британскую делегацию. В нее вошли: Уилл Торн, Джеймс ОТреди и Уильям Сандерс, все выдающиеся члены лейбористской партии. Двое первых, кроме того, состояли членами парламента, тогда как Сандерс был лидером кабинета министров Фабиана. В русской прессе появились многочисленные выпады в адрес миссии, отчасти в результате телеграммы, которую Британская независимая лейбористская партия, НЛП (настроенная против войны) отправила в Россию, заявляя, что делегаты миссии являются оплачиваемыми правительством эмиссарами, а не представителями британских рабочих. Генри Хиндман, лидер Британской социалистической партии, телеграфировал Керенскому с некоторым пылом, чтобы «самым решительным образом отвергнуть лживое заявление НЛП». Филипп Сноуден, лидер НЛП, дважды очень сурово критиковал миссию в палате общин, утверждая, что ее посылает «правительство, чтобы она проводила политику правительства». Другой член НЛП язвительно поинтересовался, не считает ли правительство нужным «пригласить представителей свободной России приехать и рассмотреть деятельность правительства Ирландии».
15 апреля 1917 года делегация была принята в Петроградском Совете, где собравшиеся вежливо, но холодно выслушали изложенные ею взгляды. Даже самые умеренные революционеры считали приехавших «агентами англо-французского капитала и империализма» и подвергли такому ожесточенному перекрестному допросу, что Качен, желая расположить к себе аудиторию и «разрядить обстановку», предложил решить вопрос о возврате Эльзаса и Лотарингии – потерянных Францией в результате Франко-прусской войны 1870 года – путем плебисцита. Палеолог недовольно отреагировал на предложение, за что получил упрек от Милюкова. Он спросил посла, как можно от него ожидать сопротивления требованиям экстремистов, когда французские социалисты сами отказываются от борьбы.
18 марта делегация была принята членами Временного правительства, которые отнеслись к ней более благожелательно. Представляя своих английских коллег, Сандерс в привычных выражениях говорил об общей борьбе, в которой «демократическая Англия идет рука об руку с демократической Францией, Россией и Америкой». Муте вторил ему в том же стиле и духе. В ответной речи Милюков заявил, что «свободная Россия» стала «в два раза сильнее». «Мы с точностью можем сказать, – продолжал он, – что Временное правительство удвоит усилия, чтобы сокрушить германский милитаризм». Керенский, чья необыкновенная высокопарность, казалось, в таких случаях особенно расцветала, долго распространялся о демократической природе войны и простодушно закончил: «Мы надеемся, что вы окажете… такое же решительное влияние в вашей стране, какое мы в России оказываем на буржуазные классы, которые уже отказались от своих империалистических амбиций».
На следующий день делегация посетила заседание Исполкома Петроградского Совета и довольно долго общалась с его членами. Большевик Александр Шляпников отвечал приехавшим довольно резкой критикой, считая их представителями буржуазии, а не рабочих. Французов обвиняли в колониальной политике, проводимой в Африке, а англичан – в их владении Индией и Ирландией – это были уязвимые моменты, которые вынуждали делегатов оправдываться. После нескольких подобных бесплодных стычек в Петрограде миссия перебралась в Москву, затем посетила линию фронта, где с помощью переводчика ее члены множество раз произносили патриотические речи. Когда они появились в Московском Совете, их подвергли новому пристрастному допросу. Формулу Советов «мир без аннексий и контрибуций» они объявили слишком туманной и отчасти противоречивой. Когда член Совета выразил свое недовольство тайными договорами, особенно относительно Константинополя, один из британских делегатов шутливо заметил: «Если вам не нужен Константинополь, черт с ним! Мы возьмем его себе!» Присутствующий при этом корреспондент вспоминает, каким гробовым молчанием была встречена эта реплика, за чем последовало холодное прощание, и социалисты стран-союзниц ретировались. Другой обозреватель – без сомнения, радикал – утверждает, что британские лейбористы подвели итог своей оценки положения в следующем выражении: «Господи, если это демократия, то такая демократия в нашей стране нам не нужна!»
Следом за социалистической депутацией в Россию отправился со вторым визитом Альбер Тома. Он прибыл в Петроград 22 апреля в сопровождении внушительной свиты офицеров и секретарей, имея при себе письмо Рибо, отзывающее французского посла из России. Отзыв Палеолога уже некоторое время не подлежал сомнению, поэтому он спокойно принял это известие и пообещал преемнику всестороннюю помощь. 25 апреля Тома имел длительную беседу с Керенским, и оба согласились в том, что необходимо провести пересмотр целей войны. Как и ожидалось, Палеолог решительно этому воспротивился. В присутствии британского и итальянского послов он заявил Тома, что Керенский «имеет в виду уверенную и решительную победу Советов, что означает полную волю разнузданной черни, развал армии, разрыв национальных связей и конец Российского государства». Палеолог был настолько убежден в безрассудности каких-либо уступок власти Советов, что телеграммой от 26 апреля предостерегал Рибо от любых послаблений в отношении соглашений, заключенных с царской Россией. Раздраженный деятельностью посла, который уже выходил за рамки своих полномочий, Тома на следующий день тоже отправил телеграмму, в которой объяснял ситуацию с противоположной точки зрения и предложил себя в качестве третейского судьи между правительством и Петросоветом, чтобы достичь временного разрешения проблемы.
Тем временем Милюков подвергался все усиливающейся критике со стороны левой прессы. Его жалобы Палеологу на отношение Тома и его товарищей-социалистов были частыми, но бесплодными. Министр иностранных дел ни на йоту не желал сдвинуться со своих прежних позиций. Полеты его фантазии были настолько далеки от реальности, что он со всей серьезностью рассматривал возможность высадки российского десанта в Константинополе и в проливах и буквально накануне своего падения целиком погрузился в разработку плана этой операции вместе со ставкой. 22 апреля, будучи с коротким визитом в Москве, он дал интервью корреспонденту манчестерской газеты «Гардиан» и горячо говорил о будущей политике России по отношению к проливу Дарданеллы. Соглашаясь предоставить право свободной торговли через проливы, заявил он, Россия должна «настаивать на праве закрыть проливы для прохода военных кораблей», что вряд ли возможно осуществить, если только «она не захватит и не укрепит проливы». Когда его спросили, не думает ли он, что Соединенные Штаты выступят против такого урегулирования, он утверждал, что в речах Вильсона не содержится никаких принципиальных возражений против захвата Россией Константинополя в соответствии с соглашением, уже заключенным по этому вопросу. Представитель Совета тут же ответил, что «российская демократия не имеет ничего общего с целями, о которых заявляет Милюков».
Через три дня после интервью Милюкова съезд Советов обновил свою позицию в отношении целей демократической войны. Несмотря на неоднократно выражаемое решение защитить революцию от внешней агрессии, резолюция тактично советовала правительству придерживаться своего заявления от 9 апреля и настаивала на обсуждении с Англией и Францией проблемы мира «на основе братства и равенства свободных народов». «Официальное заявление правительств о своем отказе от всех завоевательских идей, – говорилось в ней, – будет самым мощным способом привести войну к окончанию на этих условиях».
В тот же вечер Керенский сообщил в прессу, что правительство рассматривает вопрос направления союзникам ноты, информирующей их о новых целях России в войне, которые сформулированы в манифесте от 9 апреля. На следующее утро газеты вышли с информацией, будто эта нота уже направляется, и, когда Милюков, который ничего не знал о неожиданном решении Керенского, увидел эту статью, он с возмущением потребовал официального опровержения. Керенский признал справедливость его требования, потому что вопрос не был согласован с министром, которого он прежде всего касался. Опровержение было опубликовано на следующий же день и немедленно «вызвало настоящую бурю протестов». Петроградский Совет потребовал от правительства направить союзникам манифест от 9 апреля, в противном случае угрожал отказаться от поддержки предстоящего «свободного займа». Остальные члены кабинета поддержали это требование, и Милюкову ничего не оставалось, как согласиться с ними. Однако он обусловил свое согласие требованием одновременно с текстом манифеста направить союзникам «разъяснительную» ноту. Все министры, включая Керенского, самого непримиримого противника Милюкова в кабинете министров, провели ночь за составлением этого документа. Они стремились следовать принципам, изложенным Альбером Тома. «Я знаю моих социалистов, – сказал он послам стран-союзниц. – Они будут отчаянно драться за формулировку. Вы должны принять ее и изменить ее интерпретацию». Но получившийся в результате документ доказывал весьма ограниченную способность послов последовать столь хитрому совету, хотя впоследствии Милюков обвинял Тома за пресловутую фразу о «гарантиях и санкциях».
Утром 1 мая тщательно отредактированное заявление от имени министра иностранных дел России было разослано в столицы стран-союзниц. Хотя потом Керенский утверждал, что «содержание ноты должно было удовлетворить самых ярых критиков милюковского империализма», ее высокопарная фразеология лишь слегка прикрывала смысл, который она намеревалась передать. Весьма фальшиво она утверждала, что «воодушевление всего народа довести мировую войну до решительной победы становится все более мощным», и подтверждала долг России «соблюдать обязательства, принятые на себя по отношению к союзникам». Нота заканчивалась словами: «Ведущие демократии, вдохновленные таким же стремлением, найдут способ получить эти аннексии и контрибуции, которые необходимы для предотвращения кровопролитных конфликтов в будущем».
Только после того, как нота была отправлена за границу, она вышла в печати в России. Вся без исключения левая пресса приняла ее с возмущением. Центральный комитет большевиков призвал к захвату власти Советами и повторил свое предыдущее заявление, что Временное правительство является полностью империалистическим и «связано по рукам и ногам франко-британским и русским капиталами». Исполком Петроградского Совета провел специальное заседание, которое затянулось почти до утра 3 мая в бесплодных попытках принять определенный курс действий. После полудня члены Совета снова собрались, но представители народа, которые рассматривали ноту как намеренную провокацию, не соглашались на дальнейшие уступки. В полдень к Мариинскому дворцу, где располагалось Временное правительство, подошел маршем Финляндский полк со знаменами, с требованиями отставки Милюкова и с различными антиимпериалистическими и антиправительственными лозунгами. Вскоре к ним присоединились рабочие заводов и фабрик, матросы и остальные полки гарнизона, так что количество вооруженных демонстрантов, по некоторым оценкам, достигало двадцати пяти – тридцати тысяч. Министров во дворце не было, а перепуганные служащие временного штата по телефону призывали на помощь. Генерал Лавр Корнилов, командующий военным округом Петрограда, предложил остановить демонстрацию с помощью армейских частей, не понимая, что в любом случае он столкнулся бы с явным неповиновением. На авансцене событий появились советские лидеры и быстро убедили солдат разойтись; большинство из них мирно вернулись в свои казармы. Остальные присоединились к гражданскому населению, кучками собираясь на перекрестках, ожесточенно споря друг с другом и слушая разных агитаторов. Ораторы из большевиков сумели вызвать еще большее возмущение, обращая его на правительство в целом, тогда как кадетские агитаторы вели контратаку против Ленина, утверждая, что он является германским агентом, который пытается сбросить патриотически настроенного Милюкова. Такое объяснение усвоил и американский посол, когда сообщал своему правительству: «Эта оппозиция раздувается Лениным и его сторонниками, которые, как я думаю, подогреваются и, возможно, даже оплачиваются Германией». На самом деле Ленин пытался сдержать самых ревностных партийных рабочих. Позже он резко критиковал их за преждевременный призыв к свержению правительства, поскольку пока еще большевики были слишком слабы для таких стремительных действий.
Вечером собралось пленарное заседание Петроградского Совета. Преобладающим настроением его членов была непримиримая враждебность по отношению к правительству, и все, что умеренно настроенным делегатом удалось сделать, это успокоить толпу и отвлечь ее от популярного предложения одного из большевистских ораторов немедленно захватить власть. Сразу после совещания члены Исполнительного комитета направились в Мариинский дворец чтобы проконсультироваться с министрами правительства. Последние видели страну на краю неизбежной катастрофы и заявили, что это побуждает каждого человека доброй воли забыть о мелких разногласиях, подобных формулировкам нот и деклараций, и сплотиться ради защиты отчизны и революции. Львов почти угрожал сложить с себя полномочия и предложил передать руководство правительством членам Петроградского Совета, если они считают, что справятся лучше его, отлично зная, что советские лидеры стремятся избегнуть какой-либо ответственности за власть. По вопросу о внешней политике Исполком проявил твердость. Чернов критиковал поведение министра иностранных дел и предложил перевести его в Министерство образования. Церетели настаивал на отправке новой ноты. Милюков ни на что не соглашался. Американский посол уже устно предупредил его, что неустойчивое правительство не может рассчитывать на помощь со стороны Соединенных Штатов. Но в качестве самого убедительного свидетельства того, что союзники настроены в пользу «надежного правительства» (то есть с Милюковым в качестве министра иностранных дел), он показал Чхеидзе письмо, полученное от Рибо, в котором тот указывал, что Франция не намерена отрекаться от своих целей в войне и что, хотя она симпатизирует революции, если Россия не будет постоянно поддерживать союзников, Франция не станет оказывать ей экономическую поддержку. Председатель Совета не испугался угрозы, и в конце концов было выработано компромиссное решение, согласно которому правительство согласилось «объяснить» некоторые двусмысленные пункты первоначального текста ноты.
Тем временем в народе вновь разгорелись волнения, с той лишь разницей, что на этот раз демонстрации в защиту правительства проводили кадеты, стремясь противодействовать настроениям рабочих и солдат, настроенных против Милюкова. Между обеими группами происходили отдельные стычки, но серьезных уличных боев не было. Вскоре после десяти вечера около Мариинского дворца собралась огромная толпа сторонников Милюкова. В ответ на настойчивые требования демонстрантов министр иностранных дел оставил заседание с советскими лидерами и с балкона обратился к толпе с речью. «Видя эти плакаты «Долой Милюкова!», – сказал он, – я боюсь не за Милюкова – я боюсь за Россию!» Затем он ясно обрисовал свою политику по отношению ко всей стране и в заключение краткой речи подчеркнул решимость правительства не предавать своих союзников подписанием сепаратного мира.
Волнения, происходившие 3 мая, оказались прологом к беспорядкам 4 мая. Узнав о проведенной накануне демонстрации в защиту правительства, из всех рабочих районов стекались люди, чтобы пройти маршем в центр столицы, и даже увещевания специальной делегации от Петроградского Совета во главе с Чхеидзе не смогли убедить их отказаться от цели. Во время схваток со сторонниками правительства использовалось оружие, из близлежащих домов раздавались выстрелы неизвестных, за которые каждая сторона обвиняла другую, в результате погибли несколько человек и было много раненых. Перед зданиями посольств союзников собрались меньшие по численности группы. С помощью переводчика Бьюкенен трижды выступал с балкона своего посольства. Ему удалось успокоить наиболее буйных демонстрантов, хотя во время одной из его речей между враждебными группировками разгорелась всеобщая драка. Генерал Корнилов приказал отправить к площади, на которой стоял дворец, войска и артиллерию. Вместо выполнения приказа солдаты обратились за инструкциями к Петроградскому Совету, и, узнав о возражениях этого органа, Корнилов отозвал свой приказ. Тогда Исполнительный комитет, желая избегнуть гражданской войны, выпустил декрет, запрещающий выход на улицы войсковых подразделений без разрешения по меньшей мере двух членов комитета. К досаде Корнилова, эта мера немедленно восстановила порядок. Он открыто признавался в своем желании уничтожить этих «революционных подонков». Возмущенный беспомощностью правительства и не в силах перенести такое оскорбление своему авторитету, вскоре после этого генерал отказался от своего поста и был переведен на Юго-Западный фронт.
Вечером Исполком Петросовета принял 39 голосами против 19 резолюцию, рекомендующую всем членам согласиться с объяснением правительственной ноты, представленным Милюковым. В числе 19 голосовавших против были представители мелких фракций, а также большевики и меньшевики-интернационалисты (антивоенная левая фракция партии). В резолюции заявлялось, что «горячие протесты солдат и рабочих Петрограда уже (sic) показали Временному правительству и народам мира, что революционная демократия России никогда не согласится на возвращение царской внешней политики и что она работает и будет работать ради мира во всем мире». Объяснение правительства, уверяла она Совет, «означает конец возможному интерпретированию ноты от 1 мая в духе чуждом требованиям и интересам революционной демократии». Действительно ли объяснение правительства было составлено с этим намерением или нет, во всяком случае, опубликованное на следующий день заявление правительства было лишено двусмысленности его предыдущих заявлений. В нем утверждалось, что самая спорная фраза в ноте Милюкова относительно «гарантий и санкций» на самом деле означала «ограничение вооружения, международный трибунал etc.». Другой сомнительный пункт – о «решительной победе» над врагом – был объяснен необходимостью процитировать декларацию от 9 апреля, чтобы подтвердить чистоту мотивов правительства в его желании достичь победы. Новое заявление заканчивалось обещанием, что «вышеуказанное объяснение будет передано Министерством иностранных дел дипломатическим представителям союзников». Но в архивах не найдено подтверждения, что эта часть сделки была выполнена. Не желая посылать союзникам другую ноту, считая это «шагом, который угрожает стране серьезными последствиями», Львов заявил, что весь кабинет министров готов уйти в отставку, и был поддержан Милюковым. Последний весьма преждевременно признался одному американскому корреспонденту: «Правительство добилось огромной победы. Наша политика остается неизменной. Мы не пошли ни на какие уступки».
Несмотря на недоверие к правительству, члены Петроградского Совета подавляющим большинством поддержали рекомендацию своих лидеров. Внешне кризис был разрешен; на самом деле он только разрастался в виде запоздалой реакции на волнующие события предыдущих дней. Казалось, только тогда министры поняли, что правительство оторвано от народа и что, если оно хотело почувствовать под собой более надежную почву, чем терпимость презрительно относящегося к нему Совета, минимальной уступкой была бы некоторая либерализация его состава. Очевидным и ясным решением проблемы представлялась необходимость включения в кабинет министров некоторых популярных советских лидеров. Керенский горячо выступал за этот шаг, тем более что его престиж, до сих пор очень высокий как единственного «социалистического» члена правительства, серьезно, если непоправимо, пострадал от недавних событий. Суждения Керенского, что возмутительные заявления министра иностранных дел выражали только его «личное мнение», больше не принимались на веру. Милюков и военный министр Александр Гучков горячо возражали против введения в правительство социалистов, и, чтобы сдвинуть с места решение вопроса, Керенский сам заявил о своей отставке, хотя и опасался, что она будет принята. Ему удалось добиться своего через несколько дней перебранок и непристойной ругани. 8 мая Львов объявил, что правительство намерено расширить свой базис, поскольку, как он выразился, «над Россией нависла опасность гражданской войны и анархии, угрожающая ее свободе». На следующий день Петросовету официально предложили назначить своих представителей в кабинет министров. Неожиданно Исполнительный комитет отклонил это предложение и 23 голосами против 22 решил придерживаться ранее принятой резолюции не участвовать в правительстве.
Происшедшая 13 мая отставка Корнилова произвела огромный эффект, и Гучков, угнетенный развалом армии и не желая «разделять ответственность за смертный грех, если ему придется выступать против своей же страны», в тот же день отказался от поста военного министра. Столкнувшись с необходимостью сделать выбор между коалицией или полной военной и экономической дезорганизацией, – реальность, которую Керенский обрисовал перед советскими лидерами в самых черных красках, – они были вынуждены изменить свою позицию и 44 голосами против 19 проголосовали за вхождение в правительство. Основное предъявленное ими требование заключалось в том, чтобы Милюков был переведен в другое министерство в качестве прелюдии к изменению внешней политики – политике, которая, как они заявили, должна быть «энергичной» и нацеленной на «скорейшее достижение общего мира на принципе самоопределения народов, без аннексий и контрибуций». Особенно выделялась мысль о подготовке переговоров с союзниками с целью обеспечения пересмотра договоров на основе Декларации Временного правительства от 9 апреля. На следующий день был опубликован «призыв ко всем странам», в котором Петроградский Совет объявил войну «чудовищным преступлением империалистов всех стран», но в то же время – весьма парадоксально – возражал против сепаратного мира как «предательства дела рабочей демократии во всем мире».
Очень странно, что большевики заняли позицию, аналогичную позиции меньшевиков. Резолюция партийной конференции большевиков, которая закончилась 12 мая, утверждала невозможность окончания войны «простым прекращением военных действий одной из воюющих стран». Но когда большевики сами столкнулись с обязанностями, которые налагает власть, их пропаганда и практика стали следовать курсом, из которого они не могли получить иного результата, кроме сепаратного мира. Поскольку вряд ли допустимо рассматривать данную резолюцию как противодействие их же агитаторам, возможно, объяснение находится в признании необходимости по меньшей мере устно заявить об изменении стратегии, чтобы избежать обвинения в прогерманских настроениях – что было тогда очень мощным оружием против большевистской ереси. Таким образом, говорилось далее в резолюции, «конференция еще раз выражает протест против подлой клеветы, распространяемой капиталистами относительно нашей партии, о нашем якобы сочувственном отношении к заключению с Германией сепаратного мира. Мы считаем германских капиталистов такими же бандитами, как и российские, британские и французские капиталисты, и кайзера Вильгельма таким же коронованным преступником, как Николай II, а также британского, итальянского, румынского и всех других монархов». Однако, как бы энергично большевики ни обличали войну как войну империалистическую, они, как и меньшевистские и эсеровские лидеры Петроградского Совета, тем не менее публично не желали сделать логичное заключение, которого требовала их предпосылка.
Идея Чернова перевести Милюкова в Министерство образования была горячо поддержана, поскольку давала возможность освободить его от ключевой должности, не требуя его отставки. Семеро членов кабинета министров и Исполнительный комитет кадетской партии безуспешно пытались убедить в этом министра иностранных дел. Он заявил о своей отставке 16 мая, убежденный, что новая политика была «вредной и опасной» для интересов России. «Добровольный» характер его ухода не помешал ему позднее заявить на частной встрече членов Думы: «Я не ушел в отставку, а был изгнан». Не могло быть искусственного различия между «царской дипломатией» и «дипломатией Временного правительства», утверждал он, защищая свою концепцию внешней политики. «Мы с союзниками договорились стремиться к тому, чтобы наши совместные усилия были увенчаны общей победой». Так воинственно закончилась публичная карьера Милюкова.
В тот же день, когда Милюков покинул свой пост, другой человек, уже руководивший когда-то Министерством иностранных дел – Сазонов, – готов был ехать в Лондон, чтобы вступить там в должность посла, которая оставалась вакантной с января прошлого года после смерти графа Александра Бенкендорфа. Сазонов был назначен послом еще царем, но его отправку задерживали несколько месяцев, и только благодаря личной просьбе Милюкова он согласился отправиться без дальнейших проволочек. На железнодорожном вокзале ему была вручена записка от Львова, в которой тот просил отложить отъезд из-за отставки Милюкова. В результате союзническая делегация социалистов, с которыми Сазонов должен был отплыть на британском крейсере, покинула Петроград без него. Подтверждение его назначения Временным правительством с самого начала было грубейшей ошибкой, а сейчас стало политически невозможным, поскольку он всегда был известен как сторонник русской империалистической политики. В результате временный поверенный в делах Набоков, чьи монархические убеждения заставили британское правительство просить о его отзыве, остался на своем посту в Лондоне. Были сделаны три попытки заменить его, но предложенные кандидатуры, барон Александр Мейендорф и князь Григорий Трубецкой, оба – сановники старого режима, которые еще менее могли получить одобрение Петроградского Совета, и М.Н. де Гир, посол в Риме, так и не прибыли занять пост посла. Набоков оставался там до прихода большевиков, и за это время его статус изменился только в том отношении, что его больше не признавала страна, от которой он получил верительные грамоты. А его враги уже не так неприязненно воспринимали его консерватизм, так как с глубочайшим ужасом наблюдали за спектаклем, который разыгрывался в России обезумевшим радикализмом.
Удаление из кабинета министров Милюкова и Гучкова не разрешило жизненно важной проблемы выработки соответствующей моменту внешней политики. Правительство резко возражало против предложения Петросовета оказать давление на союзников, чтобы заставить их пересмотреть цели войны, считая его «абсолютно неприемлемым», и предложило формулировку «без захватнической политики и карательных компенсаций» в качестве замены более откровенной формулы. Также было предложено, чтобы Советы солдатских депутатов помогли восстановить дисциплину в армии, в основном для будущих наступательных действий. В конце концов был выработан компромисс, который каждая сторона понимала по-своему, точно так же, как предыдущая декларация правительства прибегла к сомнительной фразеологии, чтобы «разрешить» разногласия в точках зрения. Такое политическое заявление было опубликовано 18 мая, первый пункт которого, касающийся внешней политики, отвергал сепаратный мир, в то же время обещая добиваться заключения общего мирного договора и принять «предварительные меры к достижению понимания с союзниками на основе декларации, сделанной Временным правительством 9 апреля». Но во втором пункте заявления, в качестве главной задачи правительства, направленной на укрепление боеспособности армии «в оборонительных и наступательных операциях», говорилось, что общий мир рассматривается как отдаленная и теоретическая возможность, так что ее нельзя воспринимать всерьез.
Реорганизованный кабинет министров состоял из десяти «капиталистических» и шести социалистических министров. Последние включали в себя Чернова, Церетели и Михаила Скобелева, все они были известными членами Исполнительного комитета Петросовета. Керенский стал военным министром, а Михаил Терещенко, молодой и богатый сахарный фабрикант, принял портфель министра иностранных дел. Львов остался премьер-министром, еще более номинальным его главой, чем прежде, потому что Керенский, Терещенко и Николай Некрасов, левый кадет и министр связи, образовали неофициальный триумвират, который в основном и определял политику правительства.
Новое коалиционное правительство производило впечатление стабильности, которое пресса в странах-союзницах, мрачно размышляющая о международной борьбе, приветствовала с разной степенью оптимизма, соответствующей политической ориентации газет. Американская пресса в целом, главным образом из-за вильсоновского идеализма, была склонна рассматривать отставку Милюкова как устранение препятствия на пути к международному согласию. Шовинистически настроенная французская пресса, представляющая другую крайность, чуть ли не ежедневно ругала политику Советов и неодобрительно комментировала включение в кабинет шести социалистов и отставку таких верных патриотов, как Милюков, Гучков и Корнилов. Правительства Антанты, которых прежде всего интересовало участие России в войне, из осторожности воздерживались даже от намеков на свое неодобрение такого поворота событий. Их, естественно, обнадеживала возможность наступательных операций, и, если одни игнорировали заявления Временного правительства об общем мире, общий взгляд на союзническое сотрудничество казался довольно благоприятным. Но Петроградской Совет вовсе не собирался отказаться от идеи справедливого и демократического мира. Он принял конкретные шаги к осуществлению своих заявлений, призвав провести конференцию социалистов всех стран с целью изучения вопроса о заключении всеобщего мирного договора. Но когда в результате энергичного сопротивления созыву конференции со стороны правительств Антанты утеряли свой престиж умеренные российские социалисты, большевики стали пользоваться в стране гораздо большим влиянием, и сепаратный мир, которого так страшились союзники, оказался слишком близким и реальным.
Глава 4 Социалисты Антанты и Стокгольмская конференция
Бурные волнения в России по вопросу о мире, побудившие Петроградской Совет призвать к созыву международной конференции социалистов, отозвались, хотя и в меньшей степени, в других воюющих странах. Изматывающая двухлетняя окопная война угнетающе действовала на настроение людей, предельно осложнив их жизнь. К апрелю выступления рабочих в Германии переросли в серьезные забастовки, а в мае взбунтовавшиеся французские войска на время оставили страну практически беззащитной. Невозможно полностью отрицать влияние на эти беспорядки русской революции, хотя они и не были прямым ее следствием. Во всех странах весть о революции позволила социалистам всех оттенков с новой уверенностью поднять свой голос. За время войны уже предпринимались попытки провести социалистическую конференцию, но только побудительная сила революции сделала возможным такой съезд. В двух предыдущих международных встречах, состоявшихся в маленьких городках Швейцарии – Циммервальде (1915) и Киентале (1916), участвовали небольшие объединения левых и центристских социалистов, которые вряд ли могли рассматриваться как типичные представители консервативного большинства своих стран, и лишь последующие события придали их работе значение, которого ей недоставало в то время.
Предварительные меры по подготовке такой конференции были проведены социалистами из нейтральной Голландии. Не дожидаясь официального решения Бюро Социалистического интернационала, члены Исполнительного комитета которого были разбросаны по многим странам, представители голландского комитета по собственной инициативе решили собраться в Стокгольме, поскольку единственный свободный путь между Россией и Западом пролегал через Швецию. Вскоре к голландцам присоединились шведские, норвежские и датские социалисты, и вместе они 22 апреля поместили в газетах призыв всем группам – членам Интернационала, как крупным, так и мелким фракциям, прислать своих делегатов на конференцию, которая должна была собраться 15 мая с целью «изучения международного положения». Большинство социалистов в Англии и во Франции отреагировали на приглашение негативно, и вскоре стало ясно, что о встрече в назначенную дату не может быть и речи.
С тем чтобы обеспечить поддержку социалистов Антанты, голландско-скандинавский комитет, который решил заняться организацией конференции, стал добиваться одобрения идеи от российских социалистов. Многие вожди Петросовета призывали к подобной конференции с первых дней революции, но до сих пор никаких официальных шагов в этом направлении предпринято не было. В апреле в Петроград прибыл датский социал-демократ, чтобы пригласить принять участие в конференции. Последовавшие дискуссии выявили серьезные противоречия в стане русских революционеров. Меньшевики выразили решительное согласие на участие, но большевики, как ни странно, представили свои возражения, объяснив их тем, что Бордбьерг был «прямо или косвенно… агентом германского империалистического правительства». В конце концов в Петроградским Совете была достигнута договоренность, практически оставляющая приглашение без внимания.
8 мая Исполком при воздержавшихся от голосования большевиках подавляющим большинством принял резолюцию из семи пунктов, в которой не содержался прямой ответ на приглашение. Исполком взял на себя полную ответственность за созыв конференции – как будто социалисты нейтральных стран уже не провели никакой предварительной работы. Усилия последних лишь косвенно признавались в седьмом пункте: «Специальная делегация Исполнительного комитета должна быть послана в нейтральные страны и страны Антанты для установления связи с социалистами этих стран и с делегацией в Стокгольме с целью подготовки к конференции».
Петроградской Совет отправил различным социалистическим фракциям Европы и Америки приглашение прислать своих делегатов, чтобы неофициально обсудить вопрос. По государственным каналам связи в Лондон, Париж и Рим были разосланы послания с просьбой к союзникам не препятствовать проезду оппозиционных социалистов в Россию. Понимая, что «прямой отказ вызовет раздражение российских экстремистов и, возможно, огорчит их более умеренных коллег», Ллойд Джордж предложил Франции и Италии отправить ответ, подобный тому, который отправила Британия: «Из-за военных действий подводных лодок сообщение между Западной Европой и Россией строго ограничено, и проезд в этом направлении может быть разрешен только лицам, направляющимся по вопросам государственного значения».
Без поддержки правительств Антанты мелкие социалистические фракции имели очень мало шансов воспользоваться гостеприимным приглашением Петроградского Совета. Но подобные препятствия нисколько не помешали дальнейшему наплыву в Петроград патриотически настроенных социалистов. По иронии судьбы тот же поезд, в котором прибыли из Финляндии эмигранты Троцкий и другие революционеры, 18 мая доставил в Россию двух известных бельгийских социалистов, Эмиля Вандервельда и Генри де Мэна, в чьи планы входила дискуссия о Стокгольмской конференции, а также обычные призывы к российскому патриотизму. Троцкий знал этих бельгийцев еще со времен своего изгнания, и между ними состоялась весьма острая дискуссия, хотя вполне вероятно, как утверждает Троцкий в своих воспоминаниях, она была внезапно прервана не из-за его принципиального нежелания сотрудничать с «социал-патриотами».
На следующей день в Зимнем дворце бельгийских делегатов принял Керенский. Во время встречи с Советом они выразили свои возражения против Стокгольмской конференции из-за предполагаемого участия в ней германских социалистов. Вместе с Луисом де Брукером, коллегой, который приехал немного раньше, бельгийцы совершили пятидневную поездку по России. В Москве, Киеве и на Юго-Западном фронте они произносили множество речей перед рабочими и солдатами. Общее количество их слушателей приближалось к сотне тысяч – рекорд, который далеко превосходил слушателей других миссий Антанты. Им постоянно оказывался самый сердечный прием, но практический эффект от такой добросовестной агитационной работы был совершенно ничтожен. Характер их «социализма» можно определить по замечанию Вандервельда, что программа кадетов представляется ему «крайне радикальной». В то же время и со столь же незначительными результатами подобную поездку совершили от итальянского правительства Артуро Лабриола, бывший синдикалист, и три его товарища.
Разумеется, тогда еще не была очевидна безнадежность таких попыток, поэтому 2 июня в Петроград прибыл еще один представитель социалистов Антанты. Это был британский министр и секретарь лейбористской партии Артур Хендерсон, чье назначение было аналогичным назначению Тома для фрацузского правительства. Хендерсон должен был еще раньше уйти из правительства вместе с двумя другими членами лейбористской партии, но ввиду происходящих волнений среди рабочих военный кабинет счел его присутствие необходимым. Вероятность приезда в Петроград германских социалистов, которые рассчитывали расположить к себе русское общественное мнение, и предполагаемый успех миссии Тома заставили премьер-министра передумать. Он проконсультировался по телеграфу с самим Тома, который посоветовал ему прислать делегацию во главе с Хендерсоном. Введение шести социалистов в российское правительство казалось такой радикальной мерой, что Ллойд Джордж опасался – и, как станет ясно в дальнейшем, совершенно неосновательно, – что Бьюкенен уже не пользуется благоволением новой администрации. Имея перед глазами пример недавно отозванного Палеолога, военный комитет Британии уполномочил Хендерсона, в дополнение к его миссии социал-патриота, принять пост посла, если он сочтет это нужным.
Министерство иностранных дел Британии сообщило Бьюкенену о прибытии Хендерсона, не упомянув о предполагаемой смене дипломатов. Однако оно деликатно предположило, что было бы желательно, если бы через несколько недель он приехал в Лондон, чтобы лично высказать свои советы правительству. Он немедленно телеграфировал, что Хендерсон может рассчитывать на его честное и теплое сотрудничество, и поинтересовался, рассматривается ли его «поездка» в Лондон как окончательный отзыв. Испугавшись слова «отзыв», министерство иностранных дел направило ему весьма уклончивый ответ, заверив посла, что высоко ценит его заслуги. «Насколько можно предвидеть в настоящий момент, – говорилось в конце телеграммы, – мы будем настоятельно желать вашего возвращения в Петроград в свое время». Бьюкенен был раздражен такой уклончивостью и вместе с тем обрадован доказательством преданности своих сотрудников. Те поспешили телеграфировать своим влиятельным друзьям в Лондоне, и некоторые из них заявили о своем намерении уйти в отставку, если Бьюкенена вынудят покинуть свой пост. Через голову посла один из его служащих поспешил встретиться с Сазоновым, получил через него желаемые заверения от Терещенко, нового министра иностранных дел, что он будет сожалеть об отставке Бьюкенена, и послал лично от себя длинную телеграмму важному чиновнику в министерстве иностранных дел, в которой утверждал, что назначение послом Хендерсона будет катастрофой.
Однако по прибытии Хендерсона сотрудники посольства, а возможно, и сам посол, поняли, что он совсем не так страшен, как они думали. Оба вели себя с безукоризненной вежливостью, однако данный в честь Хендерсона обед в посольстве носил напряженный характер из-за жены и дочери посла, которые с трудом скрывали под светским поведением свое праведное возмущение. Хендерсон не стал прибегать к уклончивости и во время первого же разговора с Бьюкененом ясно дал понять, что тому придется уехать. Но чем дольше оставался в России специальный эмиссар Ллойд Джорджа, тем выше он оценивал способности посла и убеждался в собственной малоинформированности в политической ситуации. По стандартам английской парламентской жизни они находились в противоположных точках политического спектра; по советским же стандартам оба являлись преуспевающими представителями капиталистического правительства, и социалистические взгляды одного не очень отличались от консервативных воззрений другого.
Подобно своим предшественникам по бесплодной затее вызвать энтузиазм к продолжению войны среди населения, где он целиком отсутствовал, Хендерсон встречался с членами кабинета министров, с вождями Петроградского Совета и с дипломатами. Он выступал перед революционными массами в Петрограде и в Москве, но близкое знакомство с буйными и немытыми русскими пролетариями только расстроило и смутило его. Хотя он был не слишком силен в географии и не всегда отчетливо представлял себе, где находится, жара, грязь, черный хлеб и бесконечные бесцеремонные вторжения в его гостиничный номер быстро привели его к заключению, что эта страна вредна для здоровья. Он начал сомневаться, стоит ли отсылать домой Бьюкенена. Когда он заговорил об этом с Львовым, тот выразил доверие Бьюкенену и высоко оценил его дипломатические способности, заметив, что этого мнения придерживаются даже социалисты. Возможно, дополнительное соображение Хендерсона о том, что пост посла далеко не всегда равнозначен посту министра, подтолкнуло его к единственно разумному в данных обстоятельствах решению. 14 июня он написал письмо премьер-министру с рекомендацией оставить Бьюкенена на своем посту, которое доставил в Лондон Тома, который тогда уезжал. В письме отмечалось отсутствие «малейшего признака неудовлетворения» послом со стороны Петроградского Совета, за исключением «экстремистов, которые, находясь в своем теперешнем настроении, вероятно, таким же образом восприняли бы любого другого посланника нашей страны, назначенного на этот пост, который стал бы беззаветно исполнять свой долг». По вопросу о Стокгольме Хендерсон испытывал нерешительность. Сначала он присоединился к Тома и Вандервельду в заявлении, которое показывало конференцию «бесполезной и опасной» – бесполезной, потому что «встреча противоположных точек зрения не может вылиться в действие», и опасной, поскольку «она даст повод к недоразумениям и заставит рабочих и крестьян думать, что справедливый и длительный мир возможен еще до того, как будет уничтожен агрессивный империализм». В противоположность Вандервельду, чьи взгляды оставались неизменными, на Хендерсона и Тома произвело впечатление страстное единодушие членов Петросовета, и оба изменили свою точку зрения в пользу созыва конференции. Даже Ллойд Джордж высказывался за ее созыв, опасаясь плохого впечатления, которое могло произвести отсутствие в России социалистов Антанты. Во время встречи с Рибо, которая состоялась у него в Лондоне ближе к концу мая, он сказал ему, что намерен разрешить британским социалистам всех оттенков свободно проехать в Стокгольм и в Петроград. Французский премьер выразил несогласие. Тома прислал Ллойд Джорджу из Петрограда телеграмму, с энтузиазмом заявляя, что «он решил во что бы ни стало ехать в Стокгольм» и что уже сообщил о своем решении Рибо и своим друзьям, французским социалистам. Качен и Муте, которые только что вернулись после своей миссии в России, казалось, тоже заразились идеей конференции в Стокгольме. 27 мая они выступали на общем собрании Французской социалистической партии. Их описание революционной России было таким эмоциональным, что участники собрания проголосовали за то, чтобы отозвать свое предыдущее решение против Стокгольма. Жан Лонге и Пьер Ренодель, два наиболее выдающихся члена партии, были избраны делегатами для поездки в Россию. Всего на неделю позже Итальянская социалистическая партия, которая занимала антивоенную позицию с самого вступления в нее Италии в 1915 году, также высказалась в пользу созыва конференции.
Крупная организация социалистов Англии, которую представляла лейбористская партия, все еще воздерживалась, но более мелкие организации – Независимая лейбористская партия и социалистическая партия, провели 3 июня в Лидсе съезд, закончившийся большим успехом. Настроение делегатов и дух принятой резолюции съезда указывали на горячую поддержку общего мира и одобрение действий Петроградского Совета в этом направлении. Съезд призвал правительство немедленно объявить свое согласие с «внешней политикой и целями войны, заявленными демократическим правительством России». Другая резолюция призывала к установлению советов по русской модели для широкого спектра целей, из которых ни одна не была революционной по характеру. Тем не менее она вызвала громкую шумиху в прессе и опасения, что революция и в Англии поднимает свою грозную голову.
Через несколько дней после съезда в Лидсе трое главных организаторов съезда, Рамсей Мак-Дональд и Фред У. Джоуэт от Независимой лейбористской партии и И.С Ферчайлд от социалистической партии, приготовились ехать в Петроград посоветоваться с вождями Петроградского Совета. Сопровождать их были избраны Джордж Робертс и Уильям Картер, делегаты лейбористской партии, и Джулиус Вест от Фабианского общества. Британское правительство некоторое время не решалось выдавать им паспорта. Запросили мнение Хендерсона и Бьюкенена, и оба подтвердили возможность этого визита по той причине, как выразился Бьюкенен, что это «не может сильно повредить, тогда как деятельность правых российских экстремистов может, мы надеемся, послужить уроком от противного». Полагаясь на этот совет, Ллойд Джордж дал делегации свое благословение, но, уже склоняясь на либеральные позиции, которые выразил Рибо, строго заметил, что не потерпит никаких связей с германскими социалистами ни в Стокгольме, ни где-либо в другом месте.
Делегаты взошли на борт судна в Абердине, Шотландия, и были неприятно удивлены, когда команда отказалась идти в море с грузом «антивоенно настроенных пассажиров». Подтверждая свое заявление, матросы вышвырнули их багаж на набережную. Вскоре выяснилось, что команда была поколеблена не столько идеологическими соображениями, сколько преданностью «кэптану» Тапперу, члену профсоюза моряков и пожарных. Он был ярым противником пацифистов и прогерманистов – или тех, кого он таковыми считал, а в данном случае его антипатия была усилена несправедливым обращением, которому, как ему показалось, он подвергся на съезде в Лидсе. В самый разгар споров о России и о целях войны он поднял не очень актуальный вопрос о компенсации семьям коммерсантов, пострадавших в море – убитых или раненных германцами, и его заставили замолчать криками: «Пусть им платят владельцы судов!» Теперь Мак-Дональд пытался умиротворить его извинениями и предложил план компенсации для моряков, но тщетно. Таппер, который поначалу, казалось, готов был уступить, вдруг передумал. Делегация социалистов вынуждена была остановиться на время в местной гостинице, и патрули из матросов Таппера, днем и ночью охранявшие территорию гостиницы, не давали им выйти на улицу, чтобы поговорить с моряками о своих намерениях.
Междугородние телефонные звонки премьер-министру и другим высокопоставленным чиновникам не принесли результатов, и в конце концов им пришлось вернуться в Лондон. В Россию отправился Вест, который не принимал участия в съезде в Лидсе, и миссис Эмелин Панкхэрст, выдающаяся суфражистка, которая официально не была связана с миссией и намеревалась «разоблачить» ее в Петрограде. В июле Сноуден предпринял уже заведомо безнадежную попытку, запросив у Ллойд Джорджа помощь правительства для приезда миссии Мак-Дональда в Россию. Кабинет министров, назначенный для рассмотрения этого вопроса, доложил, что союз моряков по-прежнему настаивает на своих требованиях. Для правительства это было достаточным предлогом постараться избежать обострения и без того напряженной обстановки, поскольку общественное мнение Британии однозначно высказывалось против этой поездки. Ллойд Джордж, видимо очень довольный исходом дела, отказался от дальнейших действий. Можно не сомневаться, что, если бы эта миссия, подобно предшествующим правительственным миссиям, носила официальный характер, ей не чинились бы такие непреодолимые трудности.
Нечеткость намерений, которое правительства Антанты демонстрировали по вопросу выдачи паспортов, и неопределенное положение различных социалистических организаций Антанты, в основном Британской лейбористской партии, вызвали дополнительную отсрочку даты проведения конференции. На протяжении последней декады мая в Стокгольм стали прибывать делегаты из нейтральных стран, вскоре к ним присоединились социалисты из Центральных государств, чьи правительства с готовностью предоставили средства на их поездку.
Соединенные Штаты стали первым государством, отказавшимся выдавать паспорта своим социалистам. 22 мая на основании директивы президента государственный секретарь Лэнсинг информировал все американские представительства в Европе, что правительство не намерено снабжать паспортами делегатов, которые собираются принять участие в работе конференции. Когда Морис Хиллкуит, Виктор Бергер и Алджернон Ли, избранные делегатами от Американской социалистической партии для поездки в Стокгольм, обратились за паспортами, результат был заранее известен. Лэнсинг отверг их право ехать за границу, назвав конференцию «хитроумно задуманной акцией германских военных». После короткой беседы с Лэнсингом Хиллкуит описал его как «прирожденного интригана и совершенно ненадежного человека». В стремлении придать решению правительства видимость законности, из анналов истории был извлечен старый закон, который более ста лет не применялся в законодательстве. Согласно этому закону, более известному как Акт Логана, для американского гражданина считалось преступлением участвовать в переговорах с иностранным правительством, если дискуссия касалась Соединенных Штатов. Хиллкуит возразил, что социалистические партии Европы не являются правительствами и в любом случае не участвуют в диспутах с Соединенными Штатами – аргумент, который невозможно было оспорить, если бы дело зависело исключительно от логики. Его просьба была вежливо, но непреклонно отвергнута. Тщетно Стокгольмский комитет уверял Вильсона, что конференция руководствуется теми же принципами, которые он постоянно провозглашает в своих речах.
18 июня в Стокгольме неожиданно появились три американских социалиста, Борис Рейнштейн и Макс Голдфарб от социалистической рабочей партии и Д. Давидович от маленькой Еврейской социалистической партии, заявив, что в отсутствие Хиллкуита и его товарищей они будут представлять Соединенные Штаты. Бергер отказал им в праве выступать от имени социалистической партии, но они остались на конференции в качестве представителей партий. Вполне вероятно, что они были беженцами из царской России, которые не затребовали американское гражданство. В любом случае их появление было весьма загадочным и оставалось таковым, потому что у них не было паспортов и они отказались удовлетворить любопытство служащих американского консульства на свой счет.
Всего через несколько дней примеру Америки последовало французское правительство. Неожиданные действия Французской социалистической партии в поддержку Стокгольмской конференции вынудили Рибо принять срочное решение. Сразу по возвращении из Лондона он поднял этот вопрос перед кабинетом министров. Поделиться своим мнением был приглашен маршал Анри Петен, и он до того напугал министров предсказанием морального распада армии, если в конференции примут участие французы, что те единодушно поддержали отказ в выдаче паспортов. 1 июня Рибо объявил в палате депутатов о занятой правительством по данному вопросу позиции. Отвечающий за мелкие фракции социалистов Качен предложил провести секретное заседание по этому вопросу. Его требование было встречено с пониманием, и вопрос обсуждался в течение четырех дней, но премьер-министр не изменил своей позиции. Социалисты не смирились с решением правительства и до конца года пытались на него повлиять.
Уже через несколько дней вслед за своими французскими и американскими союзниками итальянское правительство приняло подобный запрет на выезд социалистов, и вопрос о паспортах оставался неразрешенным только в Британии, где приходилось считаться с мощным рабочим движением. Пресса, этот влиятельный союзник правительства в каждой стране, провела уверенную кампанию против того, что обычно называют «стокгольмский заговор», или, как нью-йоркская «Таймс» сформулировала это на родном языке, «сугубо германской тайной игры». Находящиеся в Стокгольме иностранные корреспонденты добавили в развернувшуюся кампанию свою лепту, искажая цели конференции, и один из них даже хвастался перед коллегой-газетчиком своим, скорее всего, сильно преувеличенным вкладом в исход дела: «Думаю, я покончил с этим вопросом».
Консервативная пресса России отозвалась на позицию союзных правительств восторженным одобрением. Большевики, казалось, тоже приветствовали это известие как подтверждение на практике своей теории о буржуазном империализме. Под влиянием Ленина они занимали стороннюю позицию по отношению к идее Стокгольмской конференции, но не без разногласий даже среди вождей. По мнению одного из самых выдающихся лидеров Льва Каменева, отказ в выдаче паспортов показывал, что конференция перестала быть слепым орудием в руках империалистических правительств. Ленин резко возражал, что любой компромисс с «социал-шовинистами» будет позорным предательством социалистических идеалов, и этот ответ был с готовностью воспринят партией в качестве ее официальной доктрины.
Временное правительство без особого успеха пыталось внутри страны сделать вид, что целиком сочувствует идее конференции, а за границей – продемонстрировать свою резко отрицательную позицию.
Петроградской Совет продолжал действовать как решительный сторонник конференции и 2 июня обратился с новым призывом по поводу Стокгольма ко всем социалистическим и рабочим организациям. Прежние средства достичь демократического мира Петросоветом были быстро пересмотрены, и теперь скорейшим путем к достижению этой цели была провозглашена интернациональная социалистическая конференция. «Ее принципиальной целью, – гласил манифест, – должно быть соглашение между представителями социалистического пролетариата в отношении прекращения политики «национального единения» с империалистическими правительствами и классами, которое исключает возможность борьбы за мир, а также соглашение относительно методов и средств этой борьбы».
Смущенная и растерянная Британская лейбористская партия ожидала возвращения Хендерсона, прежде чем принять окончательное решение в пользу или против конференции. В середине июля он выехал из Петрограда и направился из Абердина в Лондон в сопровождении четырех депутатов Петроградского Совета: Иосифа Гольденберга, Генриха Эрлиха, Николая Русанова и Е. Смирнова, которые надеялись, что их присутствие в Западной Европе подтолкнет сонных социалистов Антанты к действию. Сразу по прибытии Хендерсон отправился на консультации с лидерами лейбористской партии. Ллойд Джордж, недовольный доказательством, что его министр предпочел свое членство в партии государственной должности, назвал его зараженным в результате «серьезного контакта с революционной малярией в России», что неверно определяло настроение Хендерсона в то время. Тем не менее он стал ярым сторонником Стокгольской конференции, но не по революционным соображениям, а по той же причине, по которой Ленин так яростно возражал против нее, видя в ней единственное средство умиротворить Совет и удержать Россию в войне. В то же время премьер-министр и его коллеги стали склоняться к мнению, что идея Стокгольма безнадежно скомпрометирована присутствием «кайзеровских наемников». И это несмотря на совет Бьюкенена, чей патриотизм был выше подозрений. «Будет ошибкой, – докладывал он в министерство иностранных дел, – предоставить германцам свободное поле деятельности в Стокгольме, тем более что здесь это подставит нашу позицию превратному толкованию. Если решения конференции не способны поколебать нашу позицию, я не вижу, каким образом присутствие на ней британских социалистов может нанести ущерб нашим интересам».
Тогда как коалиционные правительства подозревали, что идея Стокгольма была продиктована германским заговором, вражеский Генеральный штаб с тревогой предполагал, что его правительство попало в ловушку союзников, когда те выдали паспорта германским социалистам.
Депутаты Петроградского Совета дали понять Исполнительному комитету лейбористской партии, что проведение конференции в Стокгольме не будет отменено даже в том случае, если британские социалисты откажутся приехать.
Комитет, где во время дискуссии председательствовал Хендерсон, высказался за созыв специального партийного совещания для решения вопроса и за рекомендацию собранию принять приглашение Петросовета, понимая, что любая принятая им резолюция не будет обязательной для его участников. На том же совещании была избрана делегация, которая должна была отправиться в Париж по приглашению Французской социалистической партии. В делегацию вошли Хендерсон, Джордж Уордл (член парламента от лейбористской партии) и непопулярный Мак-Дональд – последний был избран представлять точку зрения меньшинства и с целью уравновешивания консерватизма Уордла. О поездке делегации уведомили Ллойд Джорджа, находившегося в тот момент на конференции в Париже, а узнавшие о ней косвенно члены военного кабинета пришли в большое волнение. Стремясь избегнуть участия правительства в стокгольмской истории, – не говоря уже о скандальных слухах, в которых общество связывало кабинет министров со зловеще известным своим непатриотическим поведением Мак-Дональдом, – вечером 26 июня они пригласили Хендерсона на свое совещание. Ему оказали далеко не теплый прием, но, несмотря на явное неодобрение членами военного комитета, Хендерсон твердо держался своих намерений и даже заявил, что готов уйти в отставку, но не изменить их. В отсутствие премьер-министра кабинет не мог решиться ни принять его заявление, ни запретить поездку. На следующий день трое лейбористов и четыре депутата Петроградского Совета отправились в Париж. Одновременно Ллойд Джордж уехал оттуда в Лондон, оставив в Париже наблюдать за Хендерсоном и его поведением одного из секретарей военного кабинета. После нескольких продолжительных дискуссий с лидерами французских социалистов единственным осязаемым достижением стало принятие нескольких общих резолюций по процедуре, которой должны были следовать на предстоящей конференции. Хендерсон изо всех сил старался убедить французов и русских, что решения конференции не должны быть обязательными, что было воспринято депутатами Петросовета как пересмотр его прежней позиции. Окончательное решение, как и дата открытия конференции, снова было отложено, на этот раз до 9 сентября. Одна из причин дальнейшей задержки заключалась в надежде убедить Американскую федерацию труда прислать своих представителей, но консервативных лидеров федерации так и не удалось поколебать. Они последовательно отвергали все приглашения, как туманно пояснил председатель Федерации труда С. Гомперс, из опасений Исполнительного комитета, что «подобная конференция создаст препятствия на пути демократизации институтов мира и подвергнет опасности благоприятные возможности достижения свободы и независимости всех людей». В менее напыщенном стиле ранее Гомперс назвал идею Стокгольма составной частью «коварной прокайзеровской пропаганды». Депутаты Петроградского Совета приехали в Рим для встречи с лидерами итальянских социалистов, тогда как Хендерсон и его группа вернулись в Лондон, где их недружелюбно встретили пресса, раздраженный премьер-министр и враждебно настроенный военный кабинет. Чувствуя неустойчивость своего положения как члена правительства, Хендерсон имел беседу с Ллойд Джорджем. Премьер-министр пригласил его на совещание кабинета министров, которое должно было состояться в тот же день и где предполагалось обсудить этот вопрос более подробно. Он прибыл в точно назначенное время, но, к большому удивлению, его заставили ждать. После того как он в течение часа оставался на «коврике у входа», как всегда красочно описывается этот знаменитый эпизод, поговорить с ним был направлен один из его коллег. К этому времени Хендерсон, по мягкому выражению Ллойд Джорджа, находился в «состоянии крайнего раздражения». Наконец его пригласили на совещание, где он заявил о своем решительном протесте против столь невиданного обращения. Ему было объяснено, что задержка была вызвана исключительно желанием пощадить его самолюбие во время обсуждения министрами его поведения. Хендерсон воинственно защищал свою позицию и потребовал своей отставки. Предложение, которое показалось весьма соблазнительным перепуганному кабинету, уже начавшему соотносить Стокгольм с прогерманскими махинациями, по крайней мере, на данный момент было оставлено без какого-либо определенного решения.
Вечером Хендерсону пришлось оправдываться перед раздраженной палатой общин. Казалось, членов палаты больше беспокоила неуместность общения члена кабинета министров с Мак-Дональдом, чем вопрос о Стокгольме. Высказать позицию правительства попросили самого Ллойд Джорджа, тем самым вынудив его защищать Хендерсона, одновременное представительство которого в кабинете министров и в лейбористской партии вызывало вопрос о правомерности такого явления. Тем не менее премьер дал понять, что правительство последовательно выступает против Стокгольма и не позволит конференции какой-либо партии определять и диктовать условия мира. «Я никогда не забуду сенсации, которую эта речь произвела в России», – заметил один из британских корреспондентов.
Казалось, вопрос был исчерпан. На совещаниях кабинета министров о нем не упоминали до тех пор, пока 8 июля его не поднял Хендерсон. Спор больше велся относительно выдачи паспортов, чем о достоинствах или недостатках возможной конференции в Стокгольме. Уже не сомневаясь в позиции правительства, Хендерсон предложил отложить открытое заявление о своих возражениях до того, как 10 августа состоится специальная партийная конференция лейбористов. Если предложение участвовать в Стокгольме будет забаллотировано, и, казалось, он этого ожидал, правительство сможет промолчать и таким образом избежать возмущения лейбористов. Предложение было принято, и министры – совершенно ошибочно, как показало дальнейшее развитие событий, – получили отчетливое впечатление, что Хендерсон стал склоняться на антистокгольмскую позицию.
Тем временем Набоков, русский поверенный в делах в Лондоне, все более тревожился относительно разговоров, ходивших в лейбористских партийных кругах, что правительство России не только благоволит к Стокгольму, но и рассматривает вопрос заключения сепаратного мира, если союзные страны откажут в выдаче паспортов социалистам. 3 августа он телеграфировал Терещенко, информируя его об антистокгольмских настроениях в парламенте и в прессе и испрашивая разрешения известить британского министра иностранных дел, что Временное правительство рассматривает конференцию как исключительно партийное мероприятие, которое не может оказать никакого влияния на отношения России с союзниками. 9 августа пришел ответ, уполномочивший Набокова заявить, что, «хотя российское правительство не считает возможным воспрепятствовать русским делегатам принять участие в Стокгольмской конференции, оно рассматривает конференцию как партийное дело, и ее решения не могут наложить запрета на свободу действий правительства». Набоков поспешил полностью процитировать содержание телеграммы британскому министерству иностранных дел. Это было первое официальное заявление, касающееся позиции Временного правительства, и кабинет, до этого склонный верить утверждениям Хендерсона, что и Петроградской Совет, и правительство выступают за конференцию, еще более решительно настроился не только против Стокгольма, но и против Хендерсона.
10 августа, как и предполагалось, была созвана специальная партийная конференция лейбористов. Во время утреннего заседания выступил Хендерсон и в длинной и убедительной речи рассказал о проблеме Стокгольма. О заявлении Терещенко он упомянул лишь мимоходом «Я признаю, что те доказательства, которые у меня имеются, хотя они весьма незначительны, предполагают, что в позиции нового правительства произошли некоторые изменения (недавно кабинет министров был реорганизован) по сравнению с прошлым отношением к вопросу по Стокгольмской конференции». Ллойд Джордж, которому незамедлительно была передана запись этой речи, направил министру другую копию письма Набокова с просьбой зачитать его перед собравшимися, очевидно рассчитывая, что это подтолкнет делегатов проголосовать против Стокгольма на дневном заседании. Хендерсон счел эту процедуру излишней, поскольку уже упомянул о ноте в своей речи, о чем и сказал премьер-министру. Подавляющим большинством делегаты приняли приглашение в Стокгольм – акт, который одновременно выразил вотум доверия Хендерсону. Из-за разногласий по поводу представления на предстоящей конференции мелких фракций социалистов делегаты объявили перерыв в работе сессии до 21 августа.
Итог голосования удивил всех, и в первую очередь, вероятно, самого Хендерсона. В этот вечер он предпочел не показываться в кабинете министров, где Ллойд Джордж еще больше укрепил антистокгольмские настроения, предъявив министрам телеграмму от Альбера Тома, подтверждающую, что Керенский выступает против конференции. Хотя личное мнение Керенского было передано с несомненной точностью, он быстро отверг подлинность сообщения. Его политическое будущее было слишком неопределенным, чтобы он мог позволить себе столь независимое заявление, которое стало бы достоянием гласности; и его возражения против конференции никогда не имели в виду отказ от выдачи паспортов.
На следующее утро Набоков был приглашен в Министерство иностранных дел, где его проинформировали, что будут просить об отставке Хендерсона из-за его неспособности обнаружить предполагаемые изменения в позиции России по отношению к конференции лейбористской партии. «Я стольким рисковал, защищая его перед страной по поводу его поездки в Париж, и вот чем он мне отплатил», – с горечью сетовал Ллойд Джордж. Во избежание нежелательных и неизбежных осложнений он попросил разрешения опубликовать текст письма Набокова. Последний нехотя согласился. Будь он на месте Керенского, его согласие было бы получено с гораздо большим трудом, так как публикация письма вызвала возмущение и ужас в рядах Петроградского Совета. Для Временного правительства было большой удачей, что отношение большевиков к проблеме Стокгольма ослабило реакцию на публикацию наиболее воинственно настроенных рабочих и солдат; в противном случае вполне могли бы повториться грозные майские демонстрации. Вероятно, вожди Петроградского Совета тоже об этом подумали, поскольку предпочли сравнительно спокойно отнестись к инциденту. «Известия» без малейших колебаний обрушились на Ллойд Джорджа и на союзников в целом, но при этом слабая критика поведения Керенского так резко бросалась в глаза, что ведущий большевистский орган задал язвительный вопрос: «Что это? Наглое высокомерие или жалкая растерянность?» Как представитель и апологет правительства, Терещенко сделал заявление, намекающее на то, что значение ноты Набокова оказалось важнее оригинального смысла переписки.
Письмо Хендерсона с прошением об отставке опередило совещание кабинета министров, на котором намеревались ее потребовать. Ллойд Джордж ответил довольно длинным письмом, предназначенным для печати. Почуяв легкую жертву, пресса подвергла отставного министра яростным и не всегда приличным нападкам, среди которых самыми мягкими обвинениями были его предполагаемая двуличность и вероломство. На критику газет Хендерсон не стал отвечать, зато, выступая перед палатой общин 13 августа, он затеял весьма резкий спор с премьер-министром. Его выступление в палате было не так полно освещено в печати, как могло бы быть в ином случае, поскольку его патриотизм оказался сильнее его преданности идеалам интернационального социализма, и он отстранился от дальнейшего обсуждения вопроса о конференции в Стокгольме, исходя из «интересов нации в этом великом кризисе».
Ллойд Джордж тепло поблагодарил Набокова за его участие в деле, поскольку заявление России было получено только благодаря его личной инициативе. Однако Временное правительство вовсе не было этим довольно. Набокову было сделано серьезное замечание и приказано отныне ограничиваться передачей «точного текста наших заявлений по политически принципиальным вопросам» без дополнения собственных замечаний. Терещенко и Керенский пожаловались Бьюкенену, что их послания не были предназначены для публикации. Керенский был настолько встревожен этим инцидентом, что настаивал, чтобы посол попросил свое правительство не отказывать в выдаче паспортов британским социалистам. В специальном интервью корреспонденту манчестерской «Гардиан» Керенский огласил заявление, что Временное правительство горячо сочувствует целям конференции и всегда выражало дипломатическим представителям Антанты свое желание, чтобы они не чинили препятствий тем делегатам, которые собираются присутствовать на конференции в Стокгольме. «Я снова и снова повторяю, – повсюду говорил он, – что любое противостояние со стороны союзных правительств, любые препятствия на пути делегатов играют только на руку Германии». Вероятно, более правдивое заявление об истинных настроениях Временного правительства было выражено помощником военного министра, когда он сказал генералу Ноксу, что лично он – и думает, что большинство министров с ним согласятся, – считает, что Стокгольмская конференция одобряется уже потому, что хоть на время избавляет их от делегатов.
Конференция лейбористской партии вновь собралась 21 августа, весьма озабоченная тем, что правительство неодобрительно относится к идее Стокгольма. По необъяснимым причинам Ллойд Джордж и его помощники теперь были твердо убеждены – или только делали вид, – что все это было задумано Германией с целью добиться переговоров о мире. Союзники предчувствовали победу и, даже рискуя лишиться поддержки России, не желали пересматривать цели войны для удовлетворения своих социалистов, не говоря уже о социалистах из страны противника. Хотя Исполнительный комитет лейбористской партии оказал Хендерсону доверие, этот вопрос только подчеркнул трудности избрания делегатов; так что это была конференция глубокого раскола, где люди собрались, чтобы вторично проголосовать за Стокгольм. В качестве гостей на конференции присутствовали четыре представителя Петроградского Совета, и Русанов вежливо ответил на приветственную речь председателя конференции. Хендерсон опять сделал серьезный доклад по повестке и горячо отстаивал свою позицию. Решение принять участие в конференции в Стокгольме было поддержано, хотя объединившиеся в один блок мелкие по численности фракции выступили против Стокгольма. Избрание делегатов было отложено до конференции социалистов союзнических стран, которая должна была состояться в конце месяца. Огромным большинством была принята резолюция, запрещающая представлять на конференции мелкие организации британских рабочих, – акт, который противоречил и письму, и духу стокгольмского воззвания и показал, что лейбористская партия, хотя ее позиция встревожила более консервативных членов правительства, все еще была «в основном здоровой». Комитет Стокгольмской конференции, русские депутаты и Независимая лейбористская партия – все протестовали против столь несправедливой дискриминации.
Долгожданная конференция социалистов стран союзников состоялась в Лондоне 28 августа, на ней присутствовали шестьдесят восемь делегатов из восьми стран. Соединенные Штаты не были на ней представлены, а делегаты из России были допущены только после того, как их заверили, что дискуссии будут носить лишь консультативный характер. В процессе работы конференции не было достигнуто никаких значительных результатов, кроме принятия еще нескольких бесплодных резолюций по Стокгольму. Аудитория высказалась в пользу отправки делегатов 48 голосами против 13 и 50 голосами против 2 осудила отказ своих своих правительств в выдаче делегатам паспортов. По другим вопросам соглашение редко достигалось из-за странного принципа, что для любой резолюции необходимо единодушное голосование. Обструкционистская тактика большинства французских социалистов – здесь фактического меньшинства – была особенно несносной по отношению к тем, кто был настроен менее консервативно; очевидно, единственной целью их приезда было желание помешать любому решению, которое могло угрожать дружеским отношениям между французским правительством и большинством социалистов. Общее заявление об отношении к Стокгольмской конференции не было принято, и такая же судьба постигла разнообразные заявления о целях войны, предложенные различными национальными группами. Конференция прервала свою работу в конце второго дня, и ее провал был очевиден даже участникам.
Через несколько дней в Блэкпуле состоялся британский конгресс тред-юнионов и подавляющим большинством одобрил резолюцию, которая заявила, что «конференция в Стокгольме в настоящее время не может дать успешные результаты». Это неожиданное расхождение с позицией лейбористов и удар по Стокгольму был смягчен вызывающим тоном заключительной фразы резолюции: «Ни одно правительство не имеет права препятствовать выражению чувств рабочим классом его страны, и мы считаем деятельность нашего правительства в этом вопросе недопустимым нарушением наших гражданских прав».
Эта возмущенная реакция разделялась Французской социалистической партией. Когда 7 сентября пал кабинет министров Рибо, новый премьер-министр сохранил за собой свой пост министра иностранных дел, и социалисты, все еще оскорбленные отпором, который они получили от него из-за разногласий по «паспортному» вопросу, вышли из правительства. Таким образом, стокгольмская проблема стала причиной расторжения union sacre (священный союз), политического перемирия, благодаря которому с начала войны все партии объединились для защиты своей страны. Конгресс социалистической партии в Бордо в начале октября поддержал этот акт и вновь подтвердил свою позицию в пользу проведения Стокгольмской конференции.
Фактически идея Стокгольмской конференции уже была мертва из-за оппозиции правительств союзников, хотя и не была некоторое время достойно похоронена. Социалисты и рабочие организации были слишком слабы, чтобы изменить политику своих правительств при помощи одних лишь нравственных протестов. Четверо депутатов Петроградского Совета, которые достаточно задержались в Западной Европе, отплыли домой разочарованными, но внешне сохраняли оптимизм. Стокгольмский комитет заявил, что за трудности с паспортами вина ложится прежде всего на американское правительство, что тем более горько из-за заявлений о либеральных целях войны, которые делал в прошлом президент Вильсон. Комитет опубликовал более тщательно отредактированное заявление 15 сентября, объявляя о новой отсрочке конференции, но отказываясь признать поражение. «Стокгольмская конференция должна открыть новую эру в борьбе пролетариата против империализма путем воссоздания Интернационала, способного к объединенным действиям», – провозглашал манифест. Несмотря на короткую и неизбежную отсрочку, «для всего организованного пролетариата лозунг остается прежним «Да здравствует Стокгольм!».
Последним заданием, взятым на себя комитетом, было составление проекта мирной программы, документа, который должен был стать руководством для делегатов, когда они в конце концов собрались бы на конференцию. Он стремился выразить принцип «ни победителей, ни побежденных», и после долгих и жарких споров 10 октября была опубликована выработанная платформа. Как можно было предвидеть, ей не удалось удовлетворить социалистическое большинство воюющих государств, и она отразила картину предстоящих проблем, с которыми должна была столкнуться вся конференция.
Если бы союзники выдали своим социалистам паспорта и предоставили им полную свободу действий, им было бы гораздо легче избежать воображаемых ужасов «стокгольмского заговора», чем отказав в них и таким образом вызвав неприязнь небольших, но влиятельных сегментов общественного мнения. Стокгольмское фиаско не только дало четкое представление о характере военных целей союзников, но также стало дальнейшим показателем банкротства 2-го (социалистического) Интернационала и возникновения 3-го (коммунистического) Интернационала. Большевики не могли подобрать для показа русскому народу более яркого примера, чем этот решительный отказ союзников предоставить даже своим патриотически настроенным социалистам возможность изучить почву для общего мирного урегулирования. То, что большевики не угадали этот случай и в основном своим бездействием упустили его, с самого начала отказавшись от идеи Стокгольма, едва ли помогло поддержать умеренных русских социалистов, стремительно теряющих свой авторитет. Меньшевики и социал-революционеры, которые до сих пор преобладали в Петроградском Совете – и, следовательно, определяли курс русской революции, – из-за стокгольмской неудачи понесли невосполнимую потерю престижа и вынуждены были уступить место тем социалистам, которые обещали вместо слов действия. Победа большевиков в ноябре, хотя ее вряд ли можно считать результатом Стокгольма, большей частью объяснялась ответом на вопрос о мире – ответом, от которого Временное правительство, нерасторжимо связанное с военными целями своих союзников, неоднократно уклонялось до тех пор, пока не упустило время.
Предложения воскресить злосчастную конференцию были частыми, но безрезультатными. Еще долго после того, как практический смысл проведения Стокгольмской конференции был утрачен, нравственное значение этого гипотетического предприятия сохраняло свою глубину. Британская лейбористская партия особенно настойчиво выступала за дальнейшую борьбу. Крестовый поход за формулировку условий справедливого мира продолжался всю войну. Для социалистов и многих либералов проблема Стокгольма стала не только символом их беспомощности, но и постоянным напоминанием, что их мнение, однажды благополучно проигнорированное, снова может быть сброшено со счетов, когда наступит реальное время для заключения мира.
Глава 5 Военный министр Керенский: «главный уговорщик»
Чистка кабинета министров в мае, которая привела к образованию второго состава Временного правительства, предвещала значительно меньшие изменения в политике, чем подразумевало перемещение должностных лиц. Недовольный потерей своего поста Милюков тем не менее был рад, что на его преемника можно было положиться в том, что он будет проводить «надлежащую» внешнюю политику, как можно меньше считаясь с требованиями Петроградского Совета. «Собственно, он продолжил мою линию дипломатии, – заявил Милюков о Терещенко, – но не мог открыто это признать». При его руководстве «дипломаты союзников знали, что «демократическая» терминология его посланий была невольной уступкой требованию момента, и воспринимали это снисходительно до тех пор, пока формальные уступки давали выигрыш по существу дела».
Именно так и восприняли союзники длинное заявление нового министра о политике. «Свободная Россия, подобно любой другой стране, совершившей великую обновляющую революцию, руководствуется двумя глубоко идеалистическими мотивами, – заявил Терещенко. – Первый – страстное желание дать справедливый мир всему миру, не обидев ни один народ, не создав после войны ненависти…
которая всегда остается, когда одна нация выходит из борьбы разбогатевшей… (а другая) вынуждена принять унизительные условия мира». Второй мотив был более четким и ясным: «Сознание своих связей с демократиями союзников» и «долга, который эта связь накладывает на нее». «Революционная Россия, – продолжал он, – не может и не должна порвать эти связи, скрепленные кровью; это вопрос революционной чести, которая сейчас имеет для нее самое большое значение». Касаясь тайных договоров, Терещенко заявил, что их немедленная публикация была бы «эквивалентна разрыву с союзниками и привела бы к изоляции России». Покров идеализма был толстым, но смысл заявления понятным: Россия оставалась по-прежнему верной союзу, какими бы противоположными ни были на это взгляды Петросовета.
Спорная нота Милюкова союзникам от 1 мая, которая ускорила правительственный кризис, оставалась без официального ответа в течение почти месяца, за который Лондон и Париж несколько раз пытались формулировать ответы. Тонко понимая ошибки своего предшественника, Терещенко отказывался принять их ноты, пока они не были составлены в новой «демократической» фразеологии. Хендерсон и Тома тщательно работали над нотами, пока не сочли их достойными для общественного ознакомления. Соединенные Штаты так и не дали на нее официального ответа. Вместо этого 22 мая Вильсон отправил послание в типичной для него многословной манере, хотя и искренне выражавшей его чувства. Она подтверждала справедливый и демократический характер войны («Мы сражаемся за свободу, за самоуправление и независимое развитие всех народов») и избегала любого упоминания о непривлекательных аспектах дела союзников, которые больше всего волновали русский народ. Несмотря на тщательно отредактированные общие фразы, и посол Фрэнсис, и Терещенко восприняли послание как ответ на ноту Милюкова, и государственный секретарь Лэнсинг вынужден был объяснить, что замечания президента «ни в коем случае не являются ответом на что-либо, а… совершенно спонтанным и самостоятельным сообщением». Русский министр иностранных дел горячо одобрил идеалистический тон заявления Вильсона, но запросил разрешение изменить несколько пассажей, которые могли быть неправильно поняты, «принимая во внимание состояние нервного возбуждения, превалирующего среди населения России» и «наличие недоброжелателей, которые всегда рады случаю неверным истолкованием сделать свою деструктивную работу». Выдернутые из контекста, такие фразы, как «придет день победить или покориться» и «этот статус (германской империи) должен быть изменен», возможно, и можно было использовать, но они ясно показывали озабоченное состояние ума Терещенко. Его просьба была отклонена, и 10 июня послание было опубликовано без каких-либо изменений.
Британская и французская нота были опубликованы двумя днями позднее. Обе подчеркивали справедливый характер борьбы союзников и выражали признательность за точку зрения русских, которые тоже считают войну не захватнической, а освободительной по характеру. Британский ответ мягко указывал, что «соглашения, которые они время от времени заключали со своими союзниками», «в целом» соответствовали либеральным целям войны, выраженным президентом Вильсоном и поддержанным русскими. «Но если российское правительство настаивает, – заканчивалась нота, – Британия готова «изучить и, если потребуется, пересмотреть эти соглашения». Французское послание было более многословным и не касалось вопроса тайных договоров. Последнее ее предложение, небольшой шедевр на принятом языке дипломатии, делало тонкий намек, не говоря ничего определенного: «Российское правительство может быть уверено, что французское правительство стремится к взаимопониманию с ним не только по вопросу средств продолжения войны, но и в отношении средств для ее окончания, путем изучения и заключения общего соглашения относительно условий, при которых стороны могут надеяться достичь окончательного урегулирования в согласии с идеями, которыми они руководствуются в войне». Страна Советов холодно приняла обе ноты. «Известия», обычно настроенные дружественно по отношению к Вильсону, подвергли его послание особо резкой критике из-за его «туманной и высокопарной лексики», которая, казалось, подразумевала, что желание мира и социалистического братства было результатом интриг Германии. «Это не тот язык, на котором следует говорить с демократической Россией», – заявляла статья «Известий».
Уклончивый ответ на ноту Милюкова только подтвердил в более официальной форме решимость союзников противостоять неукротимому Петроградскому Совету в его назойливых требованиях пересмотра целей войны. Выступая в палате общин 16 мая, Филипп Сноуден резко критиковал эту политику союзников, чем вызвал широкие дебаты, которые длились почти до полуночи. Он предложил внести поправку в финансовый законопроект, приветствовал российскую декларацию о целях войны и призвал британское правительство опубликовать такое же заявление. С этих позиций он продолжил высокую оценку революции и ее демократической политики, которую противопоставил «обнаженному и наглому империализму и политике захватничества», которые, по его мнению, лежали в основе дипломатии союзников. Остальные члены палаты общин поддержали его критику, и лорд Роберт Сесил, помощник министра иностранных дел, откровенно – и даже с вызовом – заявил, что соглашения, заключенные с царским режимом, по-прежнему остаются обязательными, во всяком случае для Британии. Россия, говорил Сесил, «может освободить остальных союзников от каких-либо обязательств, но, пока это не сделано, мы обязаны честно исполнять свои обязательства не только по отношению к России, но и к другим союзникам». Другими словами, он был бы рад, если бы Россия отказалась от выгодных территориальных приобретений в случае победы в войне, но общий отказ – совершенно другое дело. Предложенное Сноуденом изменение было поставлено на голосование и было отвергнуто 238 голосами против 32.
Более короткий, но в чем-то похожий диспут имел место 22 мая во французской палате депутатов. Рибо сделал несколько примиренческих одобрительных замечаний в адрес России, которые в тот момент, казалось, удовлетворили палату. Этот вопрос снова обсуждался 5 июня, и в итоге была принята резолюция о войне, в основном сводящаяся к осуждению германской агрессии. Она призывала к возврату Эльзаса и Лотарингии, к освобождению захваченных территорий и к военным репарациям за нанесенный ущерб. Небольшие по численности различные фракции левых предложили три резолюции, которые гораздо более устроили бы Россию, но большинство делегатов проголосовали против.
Для рядовых членов новых органов власти Советской России формулировки резолюций и дипломатических нот были делом непонятным и не представляющим важности. Их интересовал сам мир, а не вытекающие в процессе борьбы за него итоги. Но для лидеров, особенно для тех из них, которые входили в правительство, манипуляции словами было важным вопросом, которому они отдавались со всей серьезностью. Отягощенные ответственностью, которая налагалась их присутствием во властной структуре, они склонялись вправо, тогда как население склонялось влево. Ближе к концу мая Церетели, Чернов и Скобелев, которые одновременно являлись и представителями советской демократии и членами Временного правительства, загнали в угол британского посла и в течение двух часов читали ему лекцию о войне, о революции и о секретных договорах. Бьюкенен с честью выдержал это тяжкое испытание и смог убедить их в добрых намерениях своего правительства. 26 мая Церетели доложил Петроградскому Совету, что все в порядке и что новая демократическая внешняя политика России находится на пути реализации.
Для находившихся в подобном состоянии самообольщения Церетели и его товарищей оставался лишь один шаг к убеждению, что победоносное военное наступление восстановит престиж России и гораздо раньше приведет к тому справедливому и почетному миру, за который якобы сражаются союзники. Мысль о наступлении выглядела особенно привлекательной для буржуазных элементов населения, которые смотрели на него как на спасительное средство от вируса радикализма, необъяснимым образом поразившего чернь, несмотря на меры, предпринятые для ее излечения. Не религия, а идеи патриотизма должны были стать опиумом для народа.
Керенский оказался самым многословным и шумным из этих самозваных агитаторов за военное возрождение, видя в нем средство достижения идеалов «революционной демократии». Спустя годы глубоко разочаровавшийся Керенский сетовал, что «уставшие государственные деятели Антанты воспринимали вождей революционной России как милых простаков, которые погибали, таская для союзников каштаны из огня мировой войны, совершенно бескорыстно, исключительно во имя своих революционных идеалов, как оно и было». Для этих деятелей было крайне трудно усвоить любое другое впечатление, настолько охотно «милые простаки» России усвоили идею наступления, не испросив прежде каких-либо гарантий в процессе пересмотра целей войны. Лондон и Париж через своих послов приветствовали перспективы возобновленния активных военных действий и подталкивали к ним Временное правительство, однако первый побудительный мотив пришел от России, а не от союзников.
В то же самое время, как Керенский изо всех сил старался угодить союзникам, они вели за спиной России переговоры о мире с Австрией. Планам сепаратного мира не суждено было осуществиться, в основном из-за несогласия Италии отказаться от своих притязаний на определенную территорию, которую ей обещали в качестве вознаграждения за вхождение в число воюющих стран; но тем не менее это подтверждает тот факт, что интересы России свободно обсуждались и в конечном итоге сбрасывались со счетов без ведома Временного правительства. Союзники намеревались поставить Россию перед свершившимся фактом. Как сказал Рибо австрийскому представителю 20 мая, «не стоит ставить ее в известность о наших с вами переговорах, пока они не будут практически закончены».
Хотя русская армия давно перестала быть эффективной, она все еще оставалась внушительной по своему количеству силой, с которой приходилось считаться. Взяв на себя обязанности военного министра, Керенский, став «буфером между офицерами и рядовым составом», как он сам себя охарактеризовал, отдавал всю свою энергию и казавшееся неиссякаемым красноречие труднейшей задаче вдохнуть в войска боевой дух, которого уже не было. Во время объезда войск, когда он пытался внушить им, что Германия является главной угрозой их революции, он заработал от своих политических врагов – как левых, так и правых – язвительную кличку «главного уговорщика», но в своем антигерманском крестовом походе практически не получал от них никакой помощи. Его зажигательное ораторское мастерство, зачастую граничащее с истерикой, всегда заставляло толпу внимательно его слушать и приносило кратковременный успех. Однако, к несчастью для его дела, поверхностный радикализм «революционной фразы» не мог до конца убедить необразованных солдат из крестьян, что война, которую Страна Советов, с одной стороны, осуждала как империалистическую, а с другой, провозглашала защитой революции, была той войной, продолжать которую русские должны были, рискуя собственной жизнью.
Еще более неподходящими пропагандистами были представители союзников России, обосновавшиеся в столице в посольствах и военных миссиях. Они всячески настаивали на необходимости восстановления дисциплины в армии и продолжения войны. Бюро пропаганды британского правительства возглавлял Хью Уолпол, английский писатель. В бесчисленных речах генерал Нокс, тори по политическим убеждениям, отдавал дань уважения революции на своем искаженном русском языке; полковник Торнхилл, его помощник, слыл куда более блестящим оратором, вызывая зависть своих более косноязычных коллег; Бернард Пейрс, британский профессор и авторитетный знаток России, все свое время посвящал речам и служил переводчиком в других случаях. Его друг и коллега, профессор Сэмуэль Харпер из Чикагского университета, вспоминал инцидент, который показывал недоверие, с которым обычный русский солдат относился к представителям имущего класса, и объяснял, почему даже самый искренний агитатор за дело союзников встречал у солдатской массы такой слабый отклик. Однажды Харпер заметил группу солдат, читающих петроградскую газету, иллюстрированное дополнение к которой было посвящено Америке и ее вхождению в войну. Использовав газету как предлог, чтобы завязать с ними разговор, он указал на фотографию Джорджа Вашингтона и пояснил, что Вашингтон был отцом американской революции. Харпер был совершенно растерян, когда один из солдат заметил, что «он выглядит богачом». Но не все подданные союзников оставались такими непоколебимыми патриотами, как Харпер, Пейрс или Нокс. Некоторые поддались революционной атмосфере и поразили своих друзей, «перейдя на сторону большевиков». Среди них оказались несколько иностранных корреспондентов и британский атташе военно-морских сил, капитан Гарольд Гренфел, не говоря уже о многих других, чьи взгляды изменились настолько радикально, что по возвращении домой их стали подозревать в скрытом сочувствии большевикам.
В разгаре агитационной кампании за будущее наступление в Россию прибыли самые крупные и тщательно подготовленные миссии союзников с задачей подстегнуть военные усилия и поддержать Временное правительство авторитетом Соединенных Штатов. Это была делегация, посланная президентом Вильсоном с целью «передать российскому правительству дружбу и добрые пожелания» Соединенных Штатов и «выразить уверенную надежду, что русский народ, развивая политическую систему, основанную на демократии, с твердостью и стойкостью духа присоединится к свободному народу Америки в сопротивлении амбициозным планам германского правительства, которых они пытаются достигнуть военной силой, а также при помощи интриг и обмана». В менее идеалистической лексике государственный секретарь Лэнсинг 11 апреля привлек внимание президента к необходимости подобной миссии для того, чтобы «воспрепятствовать социалистическим элементам России вынашивать планы, которые разрушат деятельность правительств союзников». Вильсон одобрил это предложение и заметил, что уже получал подобные предложения из других кругов. Не теряя времени, Лэнсинг приступил к подбору кандидатов, подходящих для выполнения задания, и телеграфировал послу Фрэнсису с просьбой выяснить, одобрит ли Временное правительство предполагаемую миссию. Кроме того, он попросил Фрэнсиса «исподволь убедиться, целесообразно ли включить в делегацию одного известного еврея» и имеет ли какое-либо значение его вероисповедание. Посол заверил его, что миссия будет принята благосклонно, что против «упомянутого члена комиссии» возражений не будет и что «любой представитель такого элемента одинаково приемлем». Несмотря на деликатное обсуждение вопроса, все-таки решили не включать в миссию представителей еврейского вероисповедания, поскольку в России все еще широко был распространен антисемитизм. Евгений Мейер, позднее нью-йоркский бизнесмен, уже согласился было войти в состав делегации, но его тактично попросили удалиться. Для Временного правительства было бы куда лучше, если бы Мейеру разрешили приехать, потому что искаженные слухи об этом инциденте вызвали такое возмущение в России и в Соединенных Штатах, что князь Львов счел себя обязанным публично заявить, что против включения еврея в делегацию не высказывался ни он, ни какой-либо другой представитель правительства.
Несмотря на искреннее желание представить в делегации из девяти человек различные группы американского общества, при подборе членов делегации принимались в расчет снобизм русской буржуазии, равнодушие масс и активная враждебность ее революционных представителей. Вместе с тем вряд ли стоило ожидать, чтобы типично капиталистическая Америка, на идеологию которой социалистическая доктрина практически не влияла, включит в комиссию достаточное число антивоенно настроенных радикалов, даже если Вильсон и его советники по каким-то причинам вынуждены были смириться с неприятной реальностью, что лишь такие лица могут иметь авторитет у русского народа. Вместо них в делегацию вошло большое число «лучших элементов» населения, среди которых главными представителями были Чарльз Р. Крейн и Сайрус X. Мак-Кормик, преуспевающие предприниматели, Самуэль Р. Бертрон, нью-йоркский банкир. Джон Р. Морт, лидер Христианской ассоциации молодежи, был избран из уважения к религиозным чувствам, тогда как семидесятичетырехлетний Джеймс Дункан, вице-президент Американской федерации труда, и Чарльз Эдвард Рассел, публицист социалистических убеждений, по замыслу должны были представлять американских рабочих. Кандидатуру Дункана предложил Самуэль Гомперс, который сам намеревался ехать, а Рассел должен был казаться довольно странным социалистом для того типа социалистов, который вскоре завоевал господство в России. Он был страстным сторонником войны и позднее, когда отказался сложить полномочия, был исключен из социалистической партии. В то время лидеры нью-йоркских социалистов ограничились выражением резкого неодобрения по поводу замечания секретаря партии, что Вильсону лучше было вообще не посылать социалистов, чем такого, как Рассел.
В качестве представителей армии и флота в комиссию были включены генерал-майор Хью Л. Скотт, начальник штаба, и контр-адмирал Джеймс X. Гленнон, специалист по морской артиллерии. Вполне возможно, что генерал Скотт, который находился уже в таком возрасте, что не мог приносить реальную пользу в качестве начальника штаба, был включен в делегацию в качестве альтернативы его отставки. Возглавлять делегацию был назначен Элиху Рут – очень неудачный выбор, поскольку он был выдающимся, но совершенно бескомпромиссным консерватором. Семидесятидвухлетний Рут, всю жизнь придерживавшийся республиканских взглядов, бывший сенатор от Нью-Йорка и бывший при президенте Теодоре Рузвельте государственным секретарем, он не мог вызвать в русских прилив патриотизма. Его политические настроения были откровенно, хотя, может, и бессознательно, выражены в замечании, которое он сделал своим коллегам во время посещения одной русской деревушки по пути в Петроград: «Я твердый приверженец демократии, но терпеть не могу грязи!»
Хотя исторические перспективы с самого начала показывали безнадежность этой миссии, безусловно, желательно было иметь в ее составе более либерального человека. Непонятно, почему именно Рут был избран для этой трудной задачи. Его друзья впоследствии утверждали, что это назначение послужило только поводом избавиться от него, чтобы избегнуть его услуг в более важном деле, возможно, как члена кабинета министров. Если Рут и сам так полагал, то держал это при себе. Но однажды он дал выход своей горечи по поводу провала миссии, обвинив Вильсона в нежелании достигнуть каких-либо результатов. «Это была идея, рассчитанная на то, чтобы произвести эффект, – жаловался Рут. – Он хотел выразить свое сочувствие и симпатии русской революции. Когда мы передали его послание и произнесли соответствующие речи, он был удовлетворен; больше ему ничего не было нужно». Никаких объяснений двигавших президентом соображений так и не представлено. Два члена кабинета министров, Лэнсинг и Уильям Дж Мак-Эдоу, очевидно, добились его согласия на назначение Рута. Из-за враждебного отношения Рута в прошлом к некоторым домашним реформам «Новой Свободы» Вильсон резко отзывался о нем, но пришел к убеждению, что Рут был «самым восхитительным выбором» и что он был «искренним и пылким в своей симпатии к революции в России». Из членов кабинета министров один Джозеф Дэниелс возражал против кандидатуры Рута, и Вильсон поддержал Лэнсинга и Мак-Эдоу, когда они упрекнули Дэниелса за подчеркивание очевидного – а именно, что в России консерватизм Рута будет главной помехой.
Рут принял это назначение как долг, но без энтузаизма. «Ты не представляешь, до чего мне это не по душе, – писал он другу, – но это подобно тому, как наши ребята идут на войну, здесь не может быть и речи об отказе». В письме жене, которое он отправил по дороге в Россию, он замечает: «Мне будет страшно тоскливо в Петрограде, но только на короткое время». Как либеральные, так и радикальные круги восприняли выбор президента с откровенной критикой. Редактор «Нового мира», газеты, в которой работал Троцкий во время своего недолгого пребывания в Нью-Йорке, заявил, что «вероятно, было бы лучше вообще не направлять в Россию никакой делегации, чем настоящую во главе с мистером Рутом», а профессор Александр Петрункевич, русский преподаватель в Иельском университете, заявил, что американские социалисты, несомненно, предостерегли своих товарищей в России относительно Рута. Это последнее разоблачение вызвало возмущенные требования проверить телеграммы, отправленные в Россию, и могло повлечь преследование социалистов, предположительно участвующих в этом нечестивом деле, но инцидент обошелся без последствий. Раввин Стефен С. Уайз дошел до того, что обратился к президенту с просьбой не назначать Рута, и Сэмуэль Антермейер, известный еврейский писатель и оратор, обвинил Рута на публичном собрании в том, «что он совершенно не сочувствует нашей расе» и «невероятно узок и провинциален в своем представлении о евреях».
Рут ничего не отвечал на эти упреки, но почти все американские газеты и журналы единодушно встали на его защиту. Была еще наделавшая меньше шума, но более важная по значению, чем делегация Рута, специальная железнодорожная комиссия, которая отбыла в Россию из Вашингтона, когда стали затихать разногласия по поводу кандидатуры Рута. Этой комиссией руководил Джон Ф. Стивенс, который был главным инженером на строительстве Панамского канала; помимо него в комиссию вошли еще четыре известных инженера и железнодорожные специалисты. Эта комиссия, первоначально предложенная Советом по национальной безопасности, с энтузиазмом была поддержана послом Фрэнсисом. Сначала Стивенс должен был войти в группу Рута, но затем его перевели возглавить железнодорожную комиссию.
По понятным причинам Рут был недоволен направлением одновременно двух комиссий для работы с Временным правительством и 6 мая отправил Лэнсингу письмо, предлагая группу Стивенса прикрепить к его делегации в качестве технических советников. Просьба была вежливо отклонена, Руту сообщили, что его делегация является, по существу, политической и что вряд ли возможен какой-либо конфликт авторитетов. Однако в России действительно произошли некоторые неприятности, поскольку Рут проявил интерес к вопросам транспорта, и Стивенс резко заявил ему, что его миссия «неодобрительно» относится к вмешательству «посторонней группы».
Группа Стивенса прибыла во Владивосток в последних числах мая и сразу приступила к инспектированию Транссибирской магистрали. Хотя сам Стивенс был нездоров, а согласие внутри интернационального состава миссии оставляло желать лучшего, ее работа продолжалась до того момента, как в ноябре было свергнуто Временное правительство. В то время в Россию готовилась приехать для более серьезной работы большая группа в составе около трехсот железнодорожных специалистов, инженеров и переводчиков. Ситуация осложнилась, тем не менее Фрэнсис посоветовал им ехать, поскольку не был уверен в жизнеспособности правительства большевиков и уж никак не ожидал, что они заключат сепаратный мир. Как и планировалось, партия прибыла во Владивосток, но там сразу перебралась на судно, направлявшееся в Японию, где она и оставалась несколько месяцев в бездействии, ожидая прояснения политической ситуации в России. Впоследствии, в 1918 и 1919 годах, эти люди участвовали в интервенции союзных государств в Сибирь.
Только 18 мая специальная дипломатическая миссия наконец покинула Вашингтон и отправилась в длительное путешествие в Петроград через северную часть Тихого океана и через Сибирь. Миссия была укомплектована большим штатом военных адьютантов, секретарей, клерков и ординарцев, «политически влиятельными и хорошего характера», но только в последнюю минуту и с величайшими трудностями удалось втиснуть в состав делегации людей со знанием русского языка. Среди членов миссии не было ни одного, кого можно было бы назвать авторитетным знатоком России; правда, недалеко от Чикаго на борт судна ненадолго поднялся профессор Харпер и прочитал членам делегации короткую лекцию о текущем положении в России. Сам он не был включен в состав делегации, предположительно, потому, что разные источники сообщили Лэнсингу, что профессор не так популярен в России, как предполагалось ранее. Но Харпер все же отправился в Россию через Атлантический океан в качестве неофициального представителя и все летние месяцы тесно сотрудничал с Фрэнсисом.
Миссия Рута отплыла из Сиэтла на старом перестроенном крейсере и прибыла во Владивосток 3 июня. Городские власти горячо приветствовали делегацию, но поспешно пересадили ее в бывший специальный царский поезд, чтобы избегнуть возможных демонстраций со стороны местных радикальных элементов. Скорее всего, эта опасность была преувеличенной, поскольку попытка настроить население против делегации встретила слабую поддержку. Подстрекателями, предположительно, были социалисты из Нью-Йорка, изгнанные при царе и недавно вернувшиеся на родину. Десятидневная поездка по Транссибирской магистрали до столицы России прошла довольно спокойно. По пути поезд останавливался во многих городах, где во время теплых приветствий местных сановников и толп населения с обеих сторон произносились пылкие речи. Но эти короткие встречи, вносившие разнообразие в монотонное путешествие, носили исключительно демонстративно-церемониальный характер, их нельзя было принимать всерьез, как порой воспринимали их ораторы. В Петрограде делегация была размещена в роскошном Зимнем дворце, чьи полные вина подвалы были предоставлены в распоряжение гостей. Рут выяснил, что в его комнате часто бывала когда-то Екатерина II, «чья мораль», вспоминает он в письме жене, «отличалась от морали королевы Виктории».
Со следующего дня, 14 июня, сплошной чередой пошли официальные приемы, конференции, интервью членов делегации, что стало главным занятием американцев во время их пребывания в Петрограде. Первый прием был устроен в Министерстве иностранных дел, но более официальный прием был организован 15 июня Временным правительством, где, представляя членов делегации, Фрэнсис воспользовался случаем блеснуть своим ораторским искусством, то и дело вспоминая «четвертое июля». Аудитория выслушала его со сдержанной вежливостью, впрочем, было замечено «несколько скрытых усмешек», когда он заявил, что в Америке нет классовых различий. Речь Рута была полна обычных банальностей, прибереженных для подобных случаев, и Терещенко в таком же стиле отвечал со стороны России. Другой министр, очевидно возмущенный далекими от реальности речами, воскликнул, адресуясь к русскому морскому адъютанту, приписанному к миссии: «Молодой человек, пожалуйста, скажите американцам, что мы устали от этой войны. Объясните им, что мы истощены долгой и кровопролитной борьбой». Адьютант пришел в ужас от неожиданной выходки и отказался переводить. Если впечатление, созданное всеми современными источниками, верно, то такого рода искренность не произвела бы ни на Рута, ни на его коллег ни малейшего впечатления, если только этот министр не был человеком с причудами или большевиком, и тогда, возможно, им было бы любопытно узнать, что оппоненты войны находятся не только среди дискредитированных ораторов. Однако поскольку контакты американцев с русской публикой были весьма ограниченными, то они и не могли сделать такое открытие. Рассел, обычный оптимизм которого временами ему изменял, коротко заметил в своей дневниковой записи от 21 июня, что «если у этой миссии есть какая-либо иная задача, помимо стремления приятно выглядеть и обильно есть, то пока еще она не проявилась». Каждый член комиссии выискивал в России аналоги тех групп населения родной страны, которых они представляли в Америке. Адмирал Гленнон посетил российский флот, базировавшийся на Балтийском и Черном морях; генерал Скотт инспектировал фронт и совершил поездку в Румынию; Мотт беседовал с представителями церкви; Дункану и Расселу удалось помимо официальных функционеров обнаружить несколько истинно «пролетарских» групп. Разговоры с соответствующими министрами выявляли военные, морские и финансовые нужды России. Но главными источниками информации, особенно для Рута, Крейна, Мак-Кормика и Бертрона, были правительственные чиновники, дипломаты, бизнесмены и представители среднего класса, которые и тогда являлись декоративными, поскольку не пользовались поддержкой массового населения. Многочисленные речи, из которых Рут предпочитал тему священного долга демократической России защитить ее недавно завоеванную свободу от захватнических амбиций Германии, находили отклик у избранной аудитории, и без того понимающей эту необходимость. И вместе с тем даже в Петрограде низшие классы едва знали о присутствии в стране американской миссии, не говоря уже об остальной России. За исключением нескольких выпадов со стороны левой прессы, ее присутствие игнорировалось, и публикуемые в буржуазной печати речи Рута и других привлекали лишь поверхностное внимание. Подтвержден единственный зарегистрированный случай выступления одного из членов миссии перед Петроградским Советом, он был разрешен только ради удовлетворения любопытства американских корреспондентов. Выступление этого оратора, а именно Рассела, несколько раз откладывалось под несущественным предлогами, к примеру, одним из главных препятствий являлся его статус представителя правительства, а не американского социалиста. Патриотические замечания Рассела вызвали резкие возражения со стороны оратора Петроградского Совета, которые переводчик до такой степени закамуфлировал и смягчил, чтобы не оскорбить американца, что тот ушел с убеждением, что Петросовет твердо стоит за дело союзников. Этот вывод, как цинично заметил один из наблюдателей, «был таким же близким к реальности, как американская миссия… русской революции». Тем не менее большинство членов миссии, казалось, сознавали существование Петроградского Совета, а некоторые из них даже смутно отдавали себе отчет в его важной роли в политической жизни России. Лишь Дункан и Рассел пытались встретиться и поговорить с вождями Петросовета, однако никто не имел прямых контактов с большевиками, о которых им практически ничего не было известно помимо того, что они являются германскими агентами. Генерал Скотт считал, что сейчас благоприятный момент для того, чтобы «казнить около сотни таких германских агитаторов… как Ленин и Троцкий, или по меньшей мере выслать их», но ему не удалось получить поддержку своего предложения у Керенского. Это только подтвердило мнение генерала, что Керенский был радикалом и что «радикализм опасно преобладает в правительстве».
Если Рут не понимал действительного состояния общественного мнения в России, то, следовательно, проявил политическую проницательность, еще 17 июня предложив Государственному департаменту единственное средство, которым можно было бы изменить это мнение, – широкомасштабную пропагандистскую кампанию. Он потребовал немедленно выделить 100 тысяч долларов и предположил, что на проведение кампании потребуется минимум 5 миллионов. В том же послании он охарактеризовал русских как «школьный класс, состоящий из ста семидесяти миллионов человек, которые только начинают учиться, как быть свободными». «Им нужно поставлять обучающие материалы, которые применяются в детском саду», «они простодушные, добрые, хорошие люди, но с помраченным и ослепленным рассудком», добавлял он. Это высокомерное, хотя и беззлобное, отношение к русским выражало типичное мнение некоторых членов делегации – мнение, которое один русский явно антибольшевистской ориентации назвал «во многом похожим на отношение миссионеров, снисходивших до племени погрязших в невежестве дикарей на каком-нибудь острове в Тихом океане, которые стремились принести им благословение цивилизации белых людей и с огромным удовлетворением делали лестное для себя наблюдение, что Господь создал их из другой глины, чем эти бедные создания, которых они обращали в свою веру».
Только 27 июня Лэнсинг прислал ответ на депешу Рута, лишь в конце телеграммы осторожно заметив, что «вопрос подвергается тщательному изучению». Тем временем Мак-Кормик, Бертрон и Рут вложили больше 30 тысяч долларов собственных средств в расходы поначалу пропагандистской кампании. Речь Рута от 15 июня была отпечатана тиражом миллион экземпляров за счет Британии и Франции, а на дополнительные средства были напечатаны полмиллиона экземпляров речей Вильсона. Германия тратит «по меньшей мере миллион долларов ежемесячно для того, чтобы овладеть сознанием русских», предупреждал Рут в одном из своих призывов о поддержке. Бертрон послал от себя телеграмму Мак-Эдоу. В ответ на эти телеграммы было сообщено, что уже потраченные ими на пропаганду средства будут признаны, но что вопрос о дальнейшем выделении средств все еще «внимательно изучается».
9 июля, не получив еще ответа, делегация покинула Петроград, отправляясь в обратное путешествие. Рут был раздражен задержкой ответа на свои послания и считал, что, находясь в Вашингтоне, сможет подтолкнуть правительство к действиям. В телеграмме Лэнсингу от 10 июля он выразил удовлетворение достигнутыми миссией результатами. Стабильность правительства вскоре, в июле же, была подвергнута серьезному испытанию, и все же Рут заключал, что «ситуация определенно более обнадеживающая и стабильная, чем в момент нашего прибытия». За время обратного пути делегаты составили предварительный вариант официального отчета о виденном, который отражал их общее заключение, что миссии «удалось до определенной степени повлиять на положение в России нравственным авторитетом ста миллионов населения Соединенных Штатов… и придать силу и уверенность тем элементам российского населения, которые борются за порядок и результативное ведение войны».
Прибыв в Вашингтон, делегаты думали, что их сразу примет президент. Но он явно не торопился, и, когда наконец делегацию пригласили в Белый дом, он казался слегка нездоровым и избегал говорить о предполагаемой пропагандистской кампании. Позднее Рут признался в своем подозрении, что Вильсон даже не читал их депеш. Вместе с тем президент проявил хорошую осведомленность о положении в России и пригласил Рута посетить его позднее. В последних числах августа Вильсону был представлен еще один доклад с тщательно разработанным планом пропагандистской кампании. Во время окончательного разговора с Рутом, Мак-Кормиком и Моттом в Белом доме, состоявшегося 30 августа, стало очевидным недоверчивое отношение президента к идее кампании. Эта идея, хотя и без подробностей, была вновь поднята через несколько месяцев, и снова была предпринята попытка провести видоизмененную пропагандистскую кампанию в России – уже под юрисдикцией Комитета общественной информации. Однако момент, когда еще можно было рассчитывать с помощью устного и печатного слова предотвратить захват власти большевиками и заключение сепаратного мира, оказался уже упущен.
В то время, когда в России находилась американская миссия, в Соединенные Штаты прибыла российская делегация во главе с профессором Борисом Бахметьевым, помощником министра торговли и промышленности, который должен был занять пост посла до назначения постоянного дипломатического представителя. Этот пост оставался вакантным с апреля, когда из-за сочувствия царскому режиму посол Георгий Бахметьев (однофамилец Бориса Бахметьева) ушел в отставку. Набоков, который занимал в Лондоне аналогичное положение, отказался покинуть свой пост, но, по-видимому, настолько отдалился от своих монархических взглядов, что даже критиковал Временное правительство за то, что оно не использовало все возможности для достижения идеологической близости между двумя странами. Они ничего не сделали, жаловался он, лишь заменили в Вашингтоне одного Бахметьева на другого.
Это суждение чрезмерно резко, поскольку в состав русской миссии входил не только новый посол, но и большое число правительственных и военных должностных лиц, которые, если и не были затронуты демократической горячкой, по меньшей мере старались произвести такое впечатление. Фактически этот визит имел целью выразить «признательность Временного правительства за инициативу, предпринятую могущественным союзником в официальном признании демократического режима, установившегося в России». На деле столь представительная делегация преследовала более важные цели, чем просто обмен любезностями. Соединенные Штаты уже предоставили крупный кредит на закупку военной техники, и приблизительно сорок пять человек из составлявших делегацию были торговые посредники, технические и финансовые специалисты, представители армии и флота, которые должны были эффективно распределить полученные средства и те, на которые втайне рассчитывали в будущем.
15 июня делегация прибыла в Сиэтл и отправилась в Вашингтон. Ее встречали Лэнсинг и другие правительственные чиновники, которые повезли русских по городу, где на улицах миссию горячо приветствовало население. На следующий день Бахметьев был принят президентом и сделал для прессы большое заявление, в котором подчеркнул общие цели двух стран, выразил уверенность в прочности Временного правительства и пообещал, что Россия будет сражаться плечом к плечу со своими союзниками до тех пор, пока «не будут уничтожены германские автократические принципы». 23 июня делегаты были приняты палатой представителей конгресса, где выступление Бахметьева часто прерывалось алодисментами. Палата была особенно удовлетворена его горячими заверениями, что Россия не рассматривает возможность заключения сепаратного мира. Подобный же прием был устроен делегации 26 июня на заседании сената. Бахметьев не повторил буквально свою речь, произнесенную в палате представителей, но смысл ее был тот же, он еще раз заверил, что «Россия с негодованием отвергает даже мысль о сепаратном мире». Обе палаты конгресса единодушно приняли резолюцию с пожеланиями успехов новой республике и выражающую «серьезную надежду конгресса, что демократия и самоуправление принесут народу России то огромное процветание, прогресс и свободу, которые они принесли американскому народу». 5 июля Бахметьев нанес президенту официальный визит и в соответствии с дипломатическим протоколом вручил ему свои верительные грамоты. Он произнес короткую речь в духе своих прежних, и Вильсон отвечал в своем обычном стиле, воздавая дань институтам свободы, высоко оценив Временное правительство за его усилия добиться того, чтобы Россия «заняла принадлежащее ей по праву место среди великих свободных наций земного шара».
Российская делегация направилась в Нью-Йорк, где ее с энтузиазмом встречал народ, забрасывая серпантином. Новый посол много выступал с речами, излучая патриотизм и оптимизм. Триумфальный тон взаимных поздравлений был подпорчен только раз, когда недружелюбно настроенные демонстранты прервали массовый митинг на Медисон-сквер-гарден, где выступал Бахметьев. Были силой удалены несколько особо ретивых господ, и спустя десятиминутный перерыв митинг продолжился. После напряженного раунда торжеств члены делегации приступили к более серьезной работе. Посол возглавил переговоры относительно военных займов и наблюдал за заключением членами делегации сделок по закупкам. К моменту ноябрьской (Октябрьской) революции из выделенного полумиллиарда долларов кредита было израсходовано чуть меньше половины.
Делегации Рута и Бахметьева более ясно, чем миссия союзнических социалистов, показали властные притязания лидеров либеральной буржуазии и их непреклонную веру в добрую волю, патриотизм и демократический идеализм как средства удержать русский народ в войне, которую он уже ненавидел. Например, когда Бахметьев заверял своих слушателей, что только небольшая группа прогермански настроенных экстремистов выступает против политики Временного правительства, он вовсе не намеренно искажал ситуацию, а только совершенно добросовестно выражал «здоровое» мнение каждого честного патриота из числа союзников, будь то радикал, как Керенский, или консерватор, подобный Руту. Каждый, кто решался выразить противоположное мнение – а были и такие предсказатели грядущего мрака, – немедленно подпадали под подозрение в пораженческих настроениях, если не в более предосудительных взглядах.
Несколько иной по характеру миссией, потому что она прошла практически без публичных фанфар, стала поездка в Соединенные Штаты делегации морских офицеров во главе с адмиралом Александром Колчаком, командующим Черноморским флотом, который позднее, во время Гражданской войны, стал вождем Белого движения. Во время визита миссии Рута адмирал Гленнон и его коллеги совершили поездку в Севастополь, где располагалась Черноморская морская база, и встретились с Колчаком, который только что оставил свой пост под давлением взбунтовавшихся матросов. Будучи убедительным оратором, Гленнон сумел успокоить матросов, но ему не удалось устранить их протесты против Колчака. Русский адмирал вместе с американцами вернулся в Петроград и, очевидно, произвел очень благоприятное впечатление, поскольку Гленнон пригласил его навестить Соединенные Штаты. Предложение главным образом было жестом доброй воли с неопределенной мыслью использовать знания и опыт Колчака в американской морской экспедиции за овладение турецкими проливами. Сначала Временное правительство отнеслось к этой идее весьма прохладно, но когда сам Рут обратился по этому вопросу к Керенскому, неохотно было дано разрешение. Ходили слухи, что Колчака назначат командовать флотом Соединенных Штатов, и американского военно-морского атташе в Петрограде забросали прошениями русские морские офицеры, которые стремились сменить внушающую им отвращение революционную обстановку на службу за границей. Фрэнсису и Колчаку с целью замять скандал пришлось публично опровергнуть эти слухи как неверные.
Адмирал с группой из четырех офицеров покинул Россию ближе к концу июля, и некоторое время они провели в Англии, инспектируя там средства морской авиации. Делегация отплыла на британском крейсере в Канаду и уже оттуда направилась в Нью-Йорк и Вашингтон в качестве гостей американского правительства. Колчак встречался с Бахметьевым, Лэнсингом и другими официальными лицами и выяснил, что предполагаемая морская экспедиция отменена – если о ней вообще когда-либо серьезно помышляли. Он провел несколько недель, работая и осматривая коллекции в военно-морском колледже в Ньюпорте, а затем наблюдал за маневрами в Атлантическом океане на борту военного корабля «Пенсильвания». Разочарованный отсутствием полезной деятельности, Колчак решил вернуться в Россию. Он нанес прощальные визиты и был представлен президенту. Один из офицеров его группы остался в Соединенных Штатах, трое остальных вместе с Колчаком отплыли из Сан-Франциско на японском пароходе вскоре после ноябрьского захвата власти большевиками. Адмирал оставался на Дальнем Востоке до тех пор, пока осенью 1918 года ему не представилась возможность принять активное участие в антибольшевистском движении в Сибири.
Появление и отъезд различных миссий не вносили никаких изменений во внутреннее положение России. Под эффектными лозунгами «Мира, земли и хлеба!» и «Вся власть Советам!» программа большевиков стала проникать в сознание масс, несмотря на то что, за исключением наиболее политизированных элементов рабочего класса, население по-прежнему относилось с недоверием к самой партии. Керенский и Терещенко вяло продолжали свою кампанию за пересмотр союзниками военных целей.
В середине июня во Францию возвратился Тома с посланием к Рибо, в котором выражалась просьба о созыве конференции союзников с целью «представить на пересмотр соглашения, касающиеся окончательных целей войны» – конференции, «которая должна была собраться сразу же, как только для этого сложатся благоприятные условия». Такая же нота была передана британскому правительству. Поскольку нота точно не определяла дату конференции и обещала твердую преданность делу союзников, Англия и Франция спокойно проигнорировали этот призыв выступить в роли кающихся грешников.
В то же самое время Керенский пытался окольными путями связаться с президентом Вильсоном и просить его вступиться за Россию в споре с союзниками относительно целей войны. Линкольн Стеффенс, известный американский журналист, наиболее известный своими «разоблачениями» темных дел крупного бизнеса, в то время находился в Петрограде и был убежден Фрэнсисом и Крейном (членом миссии Рута) по возвращении в Америку передать президенту послание Керенского. Вместе с миссией Бахметьева Стеффенс вернулся в Сиэтл. Там посол, которого предупредили о радикальной репутации журналиста, отвел его в сторону и предложил ему добираться до Вашингтона другим путем. Стеффенс с готовностью согласился не компрометировать респектабельность миссии и уехал. 26 июня его принял в Белом доме Вильсон и задумчиво выслушал изложенную Стеффенсом просьбу Керенского аннулировать тайные договоры. «Керенский просит вас рассеять подозрения относительно захвата и завоевания столь ярко и громко, чтобы вид и звук этого достиг самых отдаленных деревень России и стал известным любому крестьянину, солдату, матросу и рабочему России и всей Азии», – приводил позже Стеффенс слова из своего доклада. Вильсон ответил, что ему ничего не известно о тайных договорах. Это означало, как пояснял Стеффенс, что ему ничего не известно о них официально, и поэтому от него нельзя было ожидать, чтобы он попросил Британию и Францию отказаться от договоров, в которых не участвуют Соединенные Штаты. Либо искусно отделяя Вильсона – частное лицо от Вильсона – публичного деятеля, либо другими приемами, но президент США благополучно отмел всякие попытки просветить его на этот счет и, видимо, с чистой совестью утверждал перед комитетом сената в 1919 году, что впервые узнал о зловещих тайных договорах на мирной конференции в Париже.
Тем временем приготовления Керенского к наступлению близились к завершению. В тот самый день, когда состоялся разговор между Вильсоном и Стеффенсом, он отбыл на тот участок Юго-Западного фронта, где планировалось наступление русских. Там состоялось его совещание с военными атташе союзников, и британские представители обещали поддержку боевыми действиями со стороны британской армии, находившейся во Франции, – помощь, которая не подоспела, когда наступил момент выполнить обещание. В основном военная техника и боеприпасы, которые предполагалось использовать во время наступления, были поставлены Англией и Францией, хотя большая их часть оказалась очень плохого качества. В наступлении принимали участие британский вооруженный мотоэскадрон под командованием Оливера Локер-Лэмпсона и другие небольшие соединения британских войск.
Наступлению предшествовали несколько дней артиллерийской бомбардировки. Продвижение вперед началось 1 июля при столь неблагоприятных для успеха условиях, что офицеры сомневались, будут ли войска слушаться приказов. Только на несколько войсковых подразделений можно было полностью положиться, остальные же открыто бунтовали. Преимущество неожиданного наступления и довольно низкое моральное состояние австрийских войск позволили достигнуть некоторых небольших успехов, которые официальные коммюнике раздули до уровня крупных побед. «Сегодня – великий триумф революции», – провозгласил Керенский и далее подчеркнул, что 1 июля «русская революционная армия с колоссальным энтузиазмом предприняла наступление». Пресса союзников с такой же напыщенностью преувеличивала масштаб российского продвижения. Когда через неделю стало ясно, что именно Россия, а вовсе не Центральные государства, оказалась в серьезном положении, цензура союзников пропустила лишь косвенные намеки на реальный размер катастрофы. Американская пресса была менее связана в этом смысле и имела возможность печатать отчеты германцев о сражении, но французская пресса, крепко связанная различного рода запретами и ограничениями, без дальнейших комментариев тихо оставила тему «победоносного наступления».
Главный штаб Германии, военные действия которого против революционной России до сих пор сдерживались из политических соображений, с готовностью перебросил подкрепление для контрнаступления. Результатом стало катастрофическое поражение русских. Лишь горстка войск осталась сражаться, остальные в беспорядке бежали, по пути грабя и мародерствуя и проявляя насилие всех видов, демонстрируя полное отсутствие дисциплины. Уже 4 июля возмущенный генерал Нокс возвратился в Петроград и в телеграмме в Лондон выразил мнение, что российская армия была «непоправимо уничтожена как сражающийся организм».
Позднее в том же месяце германцами были предприняты атаки на Северном и на Западном фронтах меньшего масштаба. Русские были легко отброшены назад, не сумев удержать даже сомнительного преимущества первоначального успеха. Генерал Корнилов, чьи войска добились самых впечатляющих успехов до начала катастрофы, телеграфировал Керенскому: «Я заявляю, что отечеству угрожает опасность, а потому, без чьей-либо просьбы, требую немедленной остановки наступления по всем фронтам с целью сохранения армии и реорганизации ее на основе строжайшей дисциплины, чтобы не приносить в жертву небольшое количество отважных героев, которые заслуживают права дожить до лучших дней». Настроенный пессимистически главнокомандующий генерал Брусилов настойчиво твердил о чистке, считая, что это поможет восстановить боеспособность армии. Он сообщал Керенскому: «Я считаю, что чистка армии может быть произведена только после чистки тылов и после того, как пропаганда большевиков и ленинистов будет объявлена преступной и подлежащей наказанию как высшее предательство». Брусилов разделял заблуждение, преобладающее среди гораздо более политизированных людей, чем он, что большевистские агитаторы были причиной, а не следствием социального потрясения. Однако идеи большевиков приобрели популярность среди армии не потому, что их сторонники отравляли ничего не подозревающих жертв опьяняющим вином марксизма, а потому, что только одна большевистская партия бескопромиссно выступала против продолжения войны.
Окончательный распад фронта совпал с сильнейшими беспорядками в Петрограде, известными под названием «июльские дни», которые представляли серьезную угрозу дальнейшему существованию Временного правительства. Революционные настроения огромной части рабочих и солдат в столице настолько превалировали над настроениями остального населения, что большевикам становилось все труднее удерживать своих самых рьяных сторонников от открытого выступления, которое могло направить партию на путь революционного авантюризма, тогда как она еще не была уверена в успехе. В первые же дни наступления на фронте появились зловещие признаки волнения в тылу. Отчасти разгар кризиса объяснялся уходом из правительства четырех министров-кадетов, который последовал 15 июля. Неспособность кадетов влиять на решения кабинета уже некоторое время вызывала у них недовольство и раздражение, и вопрос об автономии Украины стал лишь кульминационной точкой в длинной серии обид на их менее консервативных коллег по кабинету, что и стало основным поводом для их решения выйти из состава правительства.
Утром 16 июля объявил об открытом неповиновении один из пулеметных полков. С целью утихомирить солдат были посланы большевистские агитаторы, и казалось, им это удалось. Но взбунтовавшиеся пулеметчики, которые не прекращали митинговать, успокоились лишь на время. Поддержанные другими воинскими частями и тысячами рабочих, неорганизованные массы вооруженных демонстрантов заполонили улицы. Захваченные врасплох большевистские вожди, понимая, что уже опоздали сдержать стихию, могли только неуверенно одобрить открытое выступление своих разгоряченных сторонников. По городу на бешеной скорости носились автомобили, полные солдат; Таврический дворец окружили толпы народа, требуя, чтобы Петроградской Совет взял власть в свои руки, хотят этого или нет его робкие лидеры; повсюду начались грабежи, количество убитых и раненых, в основном за счет беспорядочной пальбы, дошло до нескольких сотен. Та часть гарнизона, которая отказалась присоединиться к демонстрации, держалась в стороне и от правительства. Если бы действия бунтовщиков были согласованными, вскоре они могли бы захватить ключевые министерства и государственные здания. Но лишь один Чернов попал в опаснейшее положение, и от вероятной гибели его спасло только немедленное вмешательство Троцкого, который успокоил толпу матросов, собиравшихся увезти министра в автомобиле.
К 18 июля произошло брагоприятное для правительства изменение ситуации, и далеко не последней причиной этого стала своевременная публикация Министерством юстиции весьма сомнительных доказательств того, что Ленин и его последователи являются германскими агентами. Это произвело желаемое действие на народное мнение, и некоторые из нейтральных до сих пор подразделений гарнизона заявили о своей поддержке правительства. Силы восставших были ослаблены переводом наиболее агрессивных большевиков-матросов с ближайшей морской базы в Кронштадт. Был занят дворец Кшесинской, где большевики устроили свою штаб-квартиру; помещение редакции «Правды» было опечатано, газета закрыта, а оборудование уничтожено. Были арестованы Троцкий, Каменев и другие партийные вожди, тогда как Ленин и Зиновьев скрылись, чтобы избежать подобной участи.
При всей решительности действий консервативная реакция была непродолжительной и не сопровождалась серьезными репрессиями и казнями. Правые, многие из которых были не против жестокой расправы с большевиками, были недовольны подобной снисходительностью. Такие же сожаления выражали и представители союзников. «Если бы в этот момент Временное правительство обвинило Ленина, Троцкого и других вождей большевиков, предало суду и казнило их, – говорит Фрэнсис, – возможно, России не пришлось бы пройти через другую революцию, и она была бы избавлена от террора и голода, погубивших миллионы ее сынов и дочерей». Нокс предложил правительству программу жестких и решительных мер, которая предусматривала восстановление смертной казни в армии и на флоте, наказание «агитаторов» за подстрекательство к восстанию и бунту, введение военной цензуры, создание в Петрограде и в других крупных городах милиции из патриотически настроенных солдат и образование рабочих батальонов из солдат местных гарнизонов. Терещенко сказал Бьюкенену, что согласен на все, кроме первого условия. Как стало ясно позднее, именно это условие и было единственным из предложенной программы, которое приняло правительство.
Даже если бы самые суровые меры были осуществимы с политической точки зрения, то Керенский все равно был не тем человеком, который мог жестоко расправиться со своими противниками. Хотя Троцкий называл его «математическим центром русского бонапартизма», Керенский не обладал достаточным темпераментом, чтобы стать диктатором, и имущие классы, всегда стремящиеся найти «всадника», который мог бы защитить их интересы, в конце концов были вынуждены искать кандидата в другом месте.
Глава 6 Премьер-министр Керенский: от Корнилова до Ленина
Как известно, последствием «июльских дней» и развала армии – хотя и косвенным – явилась вторая реорганизация Временного правительства. Решительно настроенный против радикальной земельной программы, которую предлагал Чернов, Львов 20-го подал заявление об отставке. Она была принята с готовностью, поскольку давно уже прошло то время, когда Временное правительство могло себе позволить иметь во главе номинальную фигуру. Его пост занял Керенский, таким образом легализовав ситуацию, которая существовала на деле. Кадеты отказались войти в кабинет министров в том случае, если он не возьмет на себя «задачу спасения страны от внешней угрозы и внутреннего распада». Советы не менее упорно настаивали на проведении земельной реформы, и Керенский, которому становилось все труднее улаживать конфликты, подал в отставку вместе с многими своими коллегами. Как он и ожидал, его отставка не была принята из-за отсутствия другой кандидатуры, способной занять его место, и ему была предоставлена полная свобода в определении состава кабинета. 6 августа было объявлено о создании нового правительства «спасения революции», с небольшими изменениями в наиболее важных министерствах. Несмотря на уход Церетели, количественное большинство теперь составляли социалисты. Но характер их социализма был таковым, что Милюков совершенно верно заявил: «Фактическое большинство членов кабинета министров, безусловно, является убежденными сторонниками буржуазной демократии».
Продолжительный правительственный кризис, последовавший непосредственно за беспорядками в Петрограде и германским контрнаступлением, вызывал серьезную озабоченность союзников. Терещенко попытался успокоить их тревоги в объяснительной ноте. «Преступная пропаганда безответственных элементов была использована вражескими агентами и спровоцировала мятеж в Петрограде, – сообщал он западным министерствам иностранных дел. – В то же время часть боевых соединений, соблазненная той же пропагандой, забыла о своем долге перед страной и дала возможность неприятелю прорвать наш фронт». Министр иностранных дел постарался избавить свое послание от малейших признаков пессимизма, настойчиво подтверждая решимость русского народа бороться против своих внутренних и внешних врагов. Образ вражеских агентов, вооруженных разрушительной пропагандой, подорвавшей социальную структуру целой страны, имел определенную привлекательность для тех, кто не мог или не желал осознать реальность революционного кризиса, поэтому простое объяснение Терещенко проблем страны в дипломатических коридорах союзнических государств было принято сразу и без критики.
Но согласие относительно причин ужасного состояния России не помешало началу охлаждения к правительству Керенского, времени, которое Набоков охарактеризовал как период «неуверенности, смешанной с раздражением». Это изменившееся отношение ясно проявилось уже во время конференции союзников, которая началась в Лондоне 7 августа. На ней присутствовало множество ведущих государственных и военных деятелей Британии, Франции и Италии. Хозяева конференции, англичане, «не позаботились» пригласить российских представителей, хотя Россия как один из первоначальных членов Тройственного союза все еще обладала гораздо большим престижем, чем Италия. Когда Набоков испросил разрешения на встречу с Артуром Бальфуром, министром иностранных дел, ему было сообщено, что Бальфур будет слишком занят работой конференции. Временно назначенный посол решительно высказал чиновнику свое мнение о надуманности предлога такого рода, принимая во внимание, что его страну даже не уведомили о конференции, и ему тут же вручили приглашение. Не имея времени облачиться в соответствующий официальный костюм, Набоков прибыл к месту проведения конференции на Даунинг-стрит как раз в тот момент, когда Ллойд Джордж открыл заседание, заявив «резкий протест» в адрес Керенского «за продолжение в России раскола и анархии». К неудовольствию Набокова, поинтересовались его мнением на этот счет, и после некоторого обсуждения Альберу Тома было поручено подготовить соответствующее послание. Тот настолько дипломатично и тонко составил это послание, что ноты протеста были едва заметны в общем поздравительном тоне Керенскому по поводу нового кабинета министров. Нота выражала «твердую уверенность в способности кабинета управлять страной, установить строгую дисциплину, совершенно необходимую для всех армий, а больше всего для армий свободных народов». Временному правительству внушалось, что только благодаря дисциплине русская армия обеспечит «свободу народа, национальную честь и реализацию целей войны, общих для всех союзников». Со своей стороны послы союзников в Петрограде также постоянно досаждали Керенскому разговорами о необходимости дисциплины. Он воспринимал их критику со все растущим раздражением, и однажды, выслушав Бьюкенена, поинтересовался, каково было бы мнение посла, если бы он стал учить Ллойд Джорджа, как руководить Англией.
Пресса союзников вторила этой критике в адрес Временного правительства, хотя лишь самые реакционные издания осмеливались открыто нападать на Керенского. Американская пресса продолжала восхвалять его за демократичное и идеалистическое руководство, но в Англии и во Франции все чаще выражалась надежда, что новый премьер-министр твердо возьмет дело в свои руки и, по словам партийной газеты тори «Сатердэй ревю», он «спасет Россию свистом шрапнели». Одновременно парижская «Рапель» жаловалась, что невежество народных масс России благоприятствует осуществлению германского заговора в лице Ленина и других шпионов, действующих как революционеры, и таким образом вызывает необходимость появления «своего рода диктатора, красного царя, способного победить и анархию, и Австрию с Германией». Иллюзия, что Керенский был именно этим человеком, длилась только до того, как на сцене появился гораздо более одаренный кандидат в лице генерала Корнилова, чей относительный успех в окончившемся катастрофой июльском наступлении привел его в Верховное командование армии. В течение краткого отрезка времени генерал Михаил Алексеев считался подходящим на роль «сильного человека» в основном благодаря рекомендации Набокова, и Ллойд Джордж пригласил его посетить Англию. Но вскоре про Алексеева забыли, предпочтя ему нового Верховного главнокомандующего. Происходя из простых казаков, Корнилов, невысокий жилистый человек с монголоидными чертами лица, плохо разбирался в политике, но был страстным патриотом. Этот «человек с сердцем льва и мозгом овцы», как охарактеризовал его генерал Алексеев, не был ярым реакционером, и тем не менее люди консервативных взглядов, наделенные тонким инстинктом – промышленники, землевладельцы, офицеры, кадеты и дипломаты союзников, – почуяли запах контрреволюции задолго до того, как объект их внимания сам его осознал, и обратились к нему за поддержкой. Он заявил, что просто стремится «привести народ к победе и к справедливому и почетному миру» путем восстановления дисциплины на фронте и подавлении «анархии» в тылу. Не разбираясь в партийной принадлежности своих противников, Корнилов считал и большевиков, и умеренных социалистов одинаково склонными к разрушительным действиям, которые могли опозорить честь и доброе имя России в глазах всего мира. Понятно, что на человека с такими взглядами в советских кругах смотрели с настороженностью и недоверием. Развернутая в консервативной прессе кампания по созданию ему имиджа человека из народа мало способствовала приращению народных симпатий.
Почти с самого начала Керенский с опасением относился к новому Верховному главнокомандующему, но примирился с его назначением, понимая необходимость принятия в отчаянной ситуации решительных мер. Но только во время задуманной им конференции, которая состоялась в конце августа в Москве, стало ясно, что заигрывание Корнилова со средними классами заходит слишком далеко, чтобы его благодушно игнорировать. Конференция была одним из типичных для Керенского образований, по существу «ассамблеей людей доброй воли», в которой должен был быть представлен каждый слой русского общества с целью найти пути и средства объединения их в поддержку правительства. Задуманная как мероприятие, имеющее целью поднять престиж правительства, конференция не имела никаких юридических обоснований. Ее историческое значение остается не в том, чего она достигла, – ибо она ровным счетом ничего не достигла, – но в красочном отражении драмы революции. Признаки классового конфликта, присущего всем революционным ситуациям, проявлялись постоянно, даже если выражались мирным способом. В общем количестве депутатов, которое составляло около двух тысяч пятисот человек, старательно соблюдалось пропорциональное равенство левых и правых сил, и громовые аплодисменты, которыми встречали фаворитов одной стороны, непременно уравнивались бросающимся в глаза молчанием ее противников. Если иметь в виду громадное численное преобладание в составе населения России простого народа, то этого рода «равенством» он был поставлен в настолько худшие условия, что большевики назвали конференцию контрреволюционным сборищем и отказались в ней участвовать. Тем не менее их присутствие остро ощущалось, когда вопреки возражениям Московского Совета в первый же день работы конференции большевики призвали провести общую стачку городских рабочих. И даже это убедительное свидетельство их политического влияния на рабочий класс страны было пропущено большинством делегатов, считавших большевиков кучкой фанатичных мечтателей, которых невозможно принимать всерьез.
Конференция начала свою работу 25 августа в великолепном помещении Большого театра, явив собой блестящее и внушительное собрание наиболее известных либеральных представителей России. Делегаты расселись по правую и по левую сторону от прохода, приблизительно подчеркивая свою политическую ориентацию, тогда как в центре сцены сидел Керенский, символизируя свою старательно культивируемую роль независимого участника собрания. Бывшие императорские ложи были предоставлены дипломатическому корпусу союзников и нейтральных стран. В качестве председателя конференции Керенский открыл заседание двухчасовой речью в типичном для него блестящем ораторском стиле, однако она была настороживающе бессодержательной. Угрозы против экстремистов как правых, так и левых, сетования и упреки, старательно взвешенные, чтобы не дать повода к нежелательным нападкам, чередовались с призывами к объединению и заявлениями о предчувствии страшной катастрофы. Говоря о недавно предложенным Поупом мире, Керенский подтвердил свою преданность делу союзников, и вся аудитория, за исключением группы меньшевиков-интернационалистов Мартова и нескольких большевиков, присутствующих в качестве представителей профсоюзов, встала и, обернувшись к дипломатическим ложам, приветствовала представителей союзников бурными аплодисментами.
Корнилов прибыл в Москву на следующий день и был встречен как коронованная особа. Женщины состоятельных сословий вставали перед ним на колени и забрасывали цветами. Один из известных представителей кадетов закончил обращенную к нему приветственную речь такой мольбой: «Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас короной!» По улицам города были расклеены листовки с его биографией, озаглавленной: «Корнилов – народный герой». Они были отпечатаны за счет британской военной миссии и, по словам Керенского, привезены в Москву в вагоне генерала Нокса. Затем «народный герой» отправился помолиться у иконы Иверской Божией Матери, которую обычно посещали цари во время своих визитов в Москву. Вечером он встретился с Керенским, который настаивал, чтобы речь, которую Корнилов должен был произнести на следующий день, была посвящена исключительно военным проблемам. Генерал отказался, но подготовленный одним из его помощников текст выступления не содержал прямой критики правительства. Во время открытия второго дня заседания Корнилов так тихо занял свое место, что его не заметили. Поэтому он вышел и специально вернулся в свою ложу чуть позже, и на этот раз его приветствовала овацией вся правая половина зала, тогда как левые не встали и хранили мрачное молчание. Когда Корнилов встал, чтобы произнести речь, снова раздались аплодисменты. Он нарисовал ужасающую картину военной ситуации, в которой оказалась Россия, и дал понять, что неприятелю практически открыта дорога на Петроград. Для левых сил это высказывание было самым важным из всех его замечаний. Было ли это бесстрастным и честным анализом или зловещей угрозой? Как бы то ни было, представители советской демократии уже были уверены, что от генерала и его сторонников нельзя ждать ничего хорошего для будущего революции.
После короткого, но драматичного появления Корнилова заседания утратили интерес для наблюдателей союзников, и с тех пор выделенная им ложа обычно пустовала. Один за другим вставали с места делегаты и высказывали свое мнение или мнение организации, которую они представляли. Во время третьего заседания Керенский прочитал короткое ободряющее послание президента Вильсона: «Я позволил себе направить членам великого совещания, в настоящий момент собравшегося в Москве, сердечное приветствие ее друзей, народа Соединенных Штатов, выразить его уверенность в окончательном триумфе идеалов самоуправления над всеми врагами России, как внутренними, так и внешними, и вновь подтвердить его готовность оказать материальную и моральную помощь, которую он сможет оказать правительству России в продвижении общего дела, ради которого бескорыстно объединились оба народа». Обе части аудитории приветствовали аплодисментами эту политически безобидную декларацию, хотя вряд ли можно было сказать, что она «зажгла» аудиторию, как заявлял в своей телеграмме корреспондент американской прессы.
28 августа Керенский закрыл конференцию, оптимистично подведя итоги в своей довольно бессвязной и непоследовательной речи. Его голос то возвышался то визга, то падал до хриплого шепота, и закончил он такой истерикой, что сидящие рядом министры не на шутку встревожились, каждую минуту ожидая его нервного припадка. «Пусть сердце мое превратится в камень, – завывал он, – пусть все струны веры замолкнут, пусть завянут все цветы в венце человека… Я выброшу ключи от моего сердца, которое любит людей; я буду думать только о государстве». Ошеломленная аудитория разразилась судорожными аплодисментами, желая вывести премьер-министра из его состояния самогипноза. Он рассеянно спустился со сцены, после чего его снова вызвали, с тем чтобы он официально закрыл работу конференции.
Далекие от достижения «лучшего взаимопонимания» и «большего уважения друг к другу», к чему призывал Керенский во время работы конференции, ее результаты выразились в усилении напряженности, подозрительности и в хождении самых различных слухов. Революционные силы стали переходить от размышлений к непосредственным действиям. Уже под предлогом резерва для финского фронта были переведены на выгодные позиции недалеко от Петрограда несколько надежных кавалерийских дивизий, сформированных из кавказцев и казаков и многозначительно названных Дикой дивизией, под командованием генерала Крымова. Надеялись, что восстание большевиков оправдает их марш на столицу, но, просчитавшись в этом, различные «патриотические» организации города готовы были провести фальшивую демонстрацию с тем, чтобы «спасти» правительство от большевиков. Роль Керенского в этот период была настолько двусмысленной, что большевики почуяли предательство и позднее обвинили его в участии в заговоре, так что его жизни стала угрожать серьезная опасность. Его действия, конечно, не заслуживали безоговорочного доверия, но каковы бы то ни были его заслуги как главы правительства, он так и не восстановил свою популярность после дела Корнилова. Если бы он действовал решительно и твердо, заговор не смог бы осуществиться.
Сведения о деятельности правительств союзников в связи с корниловским движением носят более компрометирующий характер, чем о поведении Керенского. Официально союзники придерживались строгого нейтралитета; неофициально поведение их представителей в России и тон их самых влиятельных органов печати не оставляли сомнений в том, какие соображения владели руководящими кругами Британии и Франции. В их поддержке Корнилова можно увидеть слабые признаки будущей интервенции союзников в Россию – следует подчеркнуть, что эта поддержка была направлена не против «угрозы большевизма», как стало позднее, а против демократического правительства дружественного союзника за целых два месяца до момента, когда власть захватили большевики. Особенно тесный контакт с Корниловым поддерживали военные миссии союзников и неоднократно заверяли его в своей моральной поддержке. По существу, участником заговора можно считать самого генерала Нокса, настолько подозрительными были его действия в отношении Корнилова. В конце августа он уехал в Англию и там упорно требовал, чтобы военный кабинет поддержал Корнилова. Также вполне вероятно, что Нокс послужил посредником в переговорах о том, чтобы в войска Корнилова влился эскадрон бронемашин Локера-Лэмпсона, поскольку вряд ли можно предположить, что их командир сделал бы это по собственной инициативе и без ведома и одобрения британских властей. Этот эскадрон, который оставался в России после участия в июльском наступлении, был снабжен русскими мундирами и во время броска на столицу оказался одним из немногих надежных войсковых подразделений.
Лорд Милнер, один из самых известных деятелей британского военного кабинета, лично заверил Корнилова в своей поддержке в письме, которое было передано генералу в конце августа Федором Аладиным, политическим авантюристом, который состоял членом бывшей Думы. Аладин привез с собой крупную сумму денег и вскоре стал известен как один из самых главных сторонников Корнилова, в случае успеха его движения претендующий на пост министра иностранных дел. Возглавляемая им миссия в Россию, профинансированная британским правительством и доставленная Королевским флотом, еще в марте была предложена Бьюкененом в направленной им в министерство иностранных дел Англии телеграмме. Признав, что он всей душой сочувствует Корнилову, посол, однако, отказался принять участие в попытке переворота. 5 сентября его навестил директор одного из крупнейших петроградских банков в качестве делегата организации, которую поддерживали несколько влиятельных финансистов и промышленников. Будучи активными сторонниками Корнилова, они просили предоставить в его распоряжение британские броневики, а также помощь посла для бегства из страны, если вся затея потерпит неудачу. Вероятно, никто из них не знал, что к этим броневикам уже проявлен огромный спрос, тем не менее Бьюкенен отказал официальному предложению банкира и сказал ему, что Корнилов поступит умнее, если позволит большевикам выступить первыми. Он держал подробности заговора про себя – в противовес, признается он, своему долгу посла в дружественной стране – и несколькими днями позже многозначительно заметил в дневнике: «Ничего не поделаешь, остается только ждать развития событий и надеяться, что Корнилов окажется достаточно сильным, чтобы за несколько дней расправиться с любым противником».
За исключением социалистической и крайне либеральной, вся пресса союзников с рвением вступила в хор сторонников Корнилова. Высокомерная лондонская «Таймс», которую одно издание критиковало как орган «врагов демократии в военном кабинете», возглавила кампанию в Англии, объясняя свою позицию описанием разложения русской армии. «Когда враг грохочет кулаком в ворота, необходимо положить конец комитетам и дебатам, митингам лжерабочих и ленивых солдат, болтовне об утопии!» – заявляла она. С одобрением приводились слова неназванного путешественника из России о том, что Советы были «самозвано заявившими о себе организациями идеалистов, теоретиков, анархистов (и) синдикалистов… в основном иностранцев еврейского типа, среди которых практически нет ни рабочих, ни солдат, а про некоторых из них известно, что им платит Германия». «Окончательно связав свою судьбу с этими болтливыми и обструкционистскими организациями, – издевалась «Таймс», – Керенский безвозвратно порвал с генералом Корниловым и со всеми, кто на его стороне». На Керенского возлагали вину в этом разрыве, а несколько газет, которые взяли на себя смелость критиковать генерала, противопоставляя его Петросовету, подверглись серьезной обструкции. Говоря о миллионах людей, уже ввергнутых в «бездонную пучину русской анархии», «Сатердэй ревю» выражала надежду, что Корнилов, «который стоит за порядок и дисциплину, может ввязаться в бой ради спасения России и Антанты и победить». Манчестерская «Гардиан», возможно, самая влиятельная из английских демократических изданий, энергично осуждала эту точку зрения: «Корнилов не является предназначенным судьбой военным спасителем России на благо союзникам. Хочет он того или нет, он участвует в восстании против тех, кто единственно может сохранить ее сегодня и возродить завтра. Он ее и наш враг. Только его поражение и приведение к подчинению способно принести пользу и ей, и нам».
Французская пресса горячо поддерживала Корнилова, только «Темп», более осторожная, чем ее современники, воздержалась от могущих скомпрометировать ее заявлений, не чувствуя за собой надежной позиции для отступления. «Журналь де деба» заявлял, что Корнилов, далекий от мысли совершить контрреволюцию, был единственным человеком, действующим «в интересах общественной безопасности», что он хотел только «силой обуздать сопротивление обезумевшего Совета», тогда как Керенский «упорствует в надежде на убеждение». «Фигаро» превозносила Корнилова как «самого уважаемого и благородного человека из всех русских», а еженедельный журнал «Опиньон» резко заявлял: «Твердо установленная военная диктатура способна положить конец разлагающему влиянию византийских политиканов… и показать утопическим краснобаям опасность их тенденций». Орган социалистической партии «Юманите» был одной из нескольких парижских газет, которые упорно поддерживали и Керенского, и Петроградский Совет.
Американская пресса, обычно более демократически настроенная, чем английская и французская, по поводу Корнилова резко разделилась и выражала гораздо меньше сочувствия Керенскому, чем прежде. Нью-йорская «Таймс», прямо не связывая себя ни с одной стороной, говорила, что мало доверяет премьер-министру. Гораздо более откровенно заявляла сан-францисская «Кроникл»: «России нужен диктатор, и похоже, что Корнилов больше чем кто-либо другой подходит на эту роль», и портлендская «Орегониан» оправдывала эту попытку тем, что генерал, отчаявшись в надеждах, «почувствовал себя обязанным выхватить вожжи правления в Петрограде из рук орд болтливых теоретиков и политиканов». С другой стороны, еженедельный журнал «Нью репаблик», представляющий мнение кучки либералов, жестоко критиковал «бурбонов», которые активно поддерживали Керенского до тех пор, пока он выступал против большевиков, а теперь покинули его, «освобожденные от жестокой необходимости поддерживать социализм где бы то ни было».
Только когда шумный, но благонамеренный Владимир Н. Львов, обер-прокурор Священного синода в прежнем кабинете министров, вызвался быть посредником между Корниловым и Керенским, последний полностью осознал все значение заговора против его правительства. Львов – не путать с бывшим премьером князем Георгием Е. Львовым – стремился избегнуть открытого разрыва между соперниками в надежде, что военная диктатура может быть установлена и без этого ненужного конфликта. Когда в первых числах сентября он обратился с этой целью к Керенскому, премьер-министр позволил ему думать, что дает ему полномочия прийти к соглашению с Корниловым, когда на самом деле он стал невольным разведчиком во вражеском лагере. Львов встретился с генералом и получил три требования, которые передал Керенскому: объявление Петрограда на военном положении, роспуск кабинета и передача всей власти директорату, возглавляемому самим Верховным главнокомандующим. Керенский сделал вид, что согласен на эти требования, и вечером 8 сентября Корнилов уехал, полностью уверенный, что его наступление на Петроград не встретит никакого сопротивления со стороны правительства. Но утром получил от Керенского короткую телеграмму с приказом сложить с себя командование. Окончательный разрыв был совсем близко. Корнилов отказался подчиниться приказу и обратился к массам с призывом о поддержке, на который могло отозваться лишь ограниченное число русских, поскольку он был изложен благочестивым и патриотическим языком ушедшей эпохи. В частности, в нем говорилось: «Ужасное убеждение в неизбежном крушении страны побуждает меня в это страшное время призвать всех русских спасти их погибающую землю. Все, у кого в груди бьется русское сердце, все, кто верит в Бога и в Церковь, молятся Ему о величайшем чуде – о спасении нашей родины».
С первого взгляда казалось – Корнилову достаточно было отдать приказ, и его войска займут практически незащищенную столицу. Его поддерживали большинство генералов и офицеров более низкого ранга. Все министры ушли в отставку, некоторые из-за недоверия Керенскому, другие потому, что были сторонниками Корнилова. В отсутствие более или менее надежной информации столицу захлестывали самые дикие слухи о местонахождении войск, восставших против правительства. Дипломатическому корпусу было рекомендовано переехать в более безопасное место, но после дискуссии в британском посольстве представители союзников решили остаться. Кое-кто из малодушных советских лидеров, не будучи уверенными в мягком обращении со стороны приверженцев Корнилова, готовился спешно покинуть столицу. В течение некоторого времени Керенский был диктатором без власти – один в «ужасающей пустоте», как выразился Чернов. Даже ближайшие сторонники подталкивали его сложить полномочия в пользу генерала Алексеева. 10 августа, в самый пик кризиса, появилась делегация Петроградского Совета, предложив ему свою поддержку только при условии жестокого подавления Корниловского мятежа. Но рабочие и солдаты не стали ждать, когда правительство позволит им подготовиться к сопротивлению. На время забыв политические разногласия, большевики, меньшевики и социал-демократы образовали совместный Комитет борьбы с контрреволюцией. Была создана рабочая милиция, вооружение которой было предоставлено военной организацией большевистской партии. Петроград и его окрестности превратились в вооруженный лагерь, каждая фабрика и завод – в крепости, каждый дом – в баррикаду. Вместо того чтобы пассивно выжидать нападения противника, в приближающиеся к городу войска были посланы агитаторы, которые должны были подорвать их боевой дух. Железнодорожным рабочим было приказано разобрать рельсы, портить двигатели паровозов, словом, любыми способами препятствовать продвижению войск. Было произведено множество арестов, так что находящиеся в городе социалисты, тайно поддерживающие Корнилова, были лишены возможности приступить к действию. Опасаясь гражданской войны, послы союзников предложили себя в качестве посредников для улаживания конфликта. Этот поступок отвечал желанию военного кабинета Британии, который 12 сентября решил информировать Керенского, «что британское правительство, крайне озабоченное возможностью гражданской войны, требует прийти к соглашению с генералом Корниловым – не только в интересах самой России, но и в интересах союзников». Сначала Керенский был склонен приветствовать вмешательство со стороны, но, когда появились перспективы его победы, к послам был направлен Терещенко с тем, чтобы поблагодарить и отклонить предложение. Ясно, что любое правительство, уверенное в своей стабильности, не могло принять предложение, которое ставило легально сформированные органы власти и повстанцев на одну доску Послы, которых уже яростно критиковали наиболее радикальные газеты, поместили подчеркнуто резкое опровержение своей связи с Корниловым. Вместе с тем это заявление было тщательно отредактировано, чтобы ни в коем случае не ободрить Керенского, а подчеркнуть, что для них по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с Германией: «В интересах гуманности и стремясь предотвратить непоправимый вред, они (послы) предлагают свои благонамеренные услуги с единственной целью – служить интересам России и делу союзников». Жозеф Нуленс, новый французский посол, который прибыл в июле на место Палеолога, не считая свои попытки помочь достижению соглашения неблагоразумными, позднее критиковал Временное правительство за его «непростительный сговор» с «самыми отъявленными врагами общественного порядка» в «безжалостном» подавлении восстания.
Супруга и дочь британского посла работали в Красном Кресте, и один казачий офицер в полном мундире обратился к ним как-то раз с просьбой достать лекарства, бинты и другие медицинские средства для войск Корнилова, когда те войдут в город. Полностью сознавая компрометирующий характер своего поступка, обе с готовностью согласились, потому что, объясняет мисс Бьюкенен, «в душе мы были на стороне Корнилова, и, кроме того, нельзя было отрицать крайнюю привлекательность молодого казака-офицера с его тонкой талией, ярко-голубыми глазами и превосходными манерами». Но уже тогда, когда красивый офицер уверял сочувствующих дам в предстоящей победе Корнилова, войска генерала под влиянием советских агитаторов стремительно разлагались. Но помимо этой разрушительной деятельности, сам план и организация «переворота» были настолько непродуманными, что ставили под угрозу всю идею. Без должной координации из штаба и в условиях противодействия со стороны железнодорожных рабочих продвижение на столицу шло разрозненно и хаотично. Некоторые соединения были отправлены не в том направлении; другие были остановлены из-за разобранных рельсов или блокированных путей. Войска не могли продвигаться маршем, поскольку не были обеспечены провизией. На них дождем сыпались прокламации Петроградского Совета, и офицеры тщетно пытались воспрепятствовать проникновению к солдатам агитаторов, которые сеяли в их умах сомнения и подозрения. В результате солдаты отказывались подчиняться, затем стали создавать свои комитеты, арестовывать офицеров и переходить на сторону Временного правительства. Опасность контрреволюции была ликвидирована без единого выстрела.
Генерал Крымов, чья грозная Дикая дивизия была разбросана по веткам и станциям восьми железных дорог, застрелился, когда крах переворота стал очевидным. Должность Верховного главнокомандующего взял на себя Керенский, назначив начальником своего штаба генерала Алексеева. Этот выбор имел целью облегчить судьбу заговорщиков, с которыми Керенский намеревался обойтись снисходительно. «Не говорите в таком тоне, – оборвал он солдата, который предлагал жестоко наказать участвующих в заговоре генералов. – Сейчас ваш долг – повиноваться офицерам, мы сами сделаем все, что сочтем необходимым». 14-го были арестованы Корнилов и его старшие офицеры – едва ли не с извинениями – и помещены под охрану сочувствующих им войск, прибывших из Центральной Азии. Стремясь подольше отсрочить судебное разбирательство, назначенная комиссия затягивала предварительное расследование, тогда как Петроградский Совет настойчиво требовал твердых и решительных действий. После ноябрьской (Октябрьской) революции генералы легко сбежали из своего кажущегося заключения и скрылись на юге, где приложили силы к организации антибольшевистских армий.
Фиаско Корнилова явилось для союзников глубочайшим разочарованием не только потому, что они поддерживали контрреволюционный переворот против правительства демократического союзника, но и потому, что они сами возлагали надежды на эту «сильную личность»; Корнилов же на деле оказался значительно слабее своего противника – жалкого «болтуна» из Петроградского Совета. Германская пресса, привыкшая к нападкам на автократию Гогенцоллернов и милитаризм, не замедлила воспользоваться случаем, чтобы подчеркнуть этот характерный пример двуличия союзников. Отвечая за сильно скомпрометировавшие себя парижские газеты, «Темп» смущенно признавалась, что, хотя «действительно, часть французской прессы поддерживала Корнилова», германские газеты сильно преувеличивают размер этой поддержки. «Темп» отстаивала свою непричастность к этому греху, в качестве доказательств ссылаясь на признание «Берлинер тагеблатт», что ею не было сделано определенного выбора между Керенским и Корниловым. Манчестерская «Гардиан», одна из газет, которую имела в виду «Таймс», когда осуждала британскую прессу за ее антикорниловскую позицию, ответила на обвинение вежливо, но в сокрушительной манере: «В процессе своей долгой и выдающейся карьеры («Таймс») допустила множество ошибок и глупостей, но ни одна не была столь велика и бескорыстна, как эта». Столь открытая поддержка Корнилова, продолжала «Гардиан», сама по себе «имела бы сравнительно небольшие последствия, если бы не недоразумения и возмущение, которые она неизбежно вызывала в России, и весьма опасный повод, которым, несомненно, воспользуется германская пропаганда. Если нас хотели заставить думать, что позиция «Таймс» на самом деле правдиво выражает взгляды нашего министерства иностранных дел, не говоря уже о военном кабинете, вопрос был бы, конечно, бесконечно более серьезным. Это означало бы, что во главе нашей страны стоит человек, не обладающий даром проницательности, чье понимание самых острых событий, влияющих на одного из наших самых главных союзников, искажено узкими и реакционными взглядами».
«Гардиан» верно, если не буквально, предсказала реакцию в России. Левые издания незамедлительно обрушились на союзников с жестокой критикой. Газета большевиков в Петрограде, приведя пункт за пунктом дискредитирующие газеты противников примеры, яростно осудила зарубежных и внутренних подстрекателей «империалистического заговора против русской революции» и «наемных писак продажных органов прессы, пытающихся скрыть свою работу под громкими и лживыми фразами о «большевистской опасности». «Но всем известно, – продолжала газета, – что правительственные круги выполняют волю англо-французских капиталистов, фарисейски направленную против большевиков, тогда как они неловко скрывают сбежавших преступников и свой лживый сенсуализм относительно «неустойчивой ситуации в России». Естественно, послы союзников нашли эти нападки оскорбительными. Бьюкенен заявил протест по поводу одной московской большевистской газеты, мнение которой он считал особенно предосудительным из-за ее упоминания о незаконном использовании британских броневиков, и получил от Терещенко заверения, что газета будет закрыта. Это дело было поручено недавно назначенному военным министром генералу Александру Верховскому, который просто возбудил судебный иск против редактора. Такое снисходительное отношение крайне возмутило Терещенко и, к великому огорчению и удивлению Бьюкенена, стало причиной серьезных разногласий внутри правительства.
Не успели затихнуть нападки на союзников по делу Корнилова, как тут же с новой силой возродились в связи с делом Гурко. Генерал Василий Гурко был начальником штаба при Николае II; поскольку с установлением нового режима он обещал соблюдать лояльность, его назначили на менее ответственный пост. Генерала арестовали в начале августа, так как у него нашли письмо, написанное им бывшему императору, в котором он заявлял о своей прежней преданности делу монархии. Временное правительство, очевидно не зная, что с ним делать, решило отправить его за границу. Через посольство Британии ему достали британский паспорт, и 19 сентября генерал выехал из Петрограда в Архангельск, где был принят адмиралом Кемпом на борту британского судна. Во избежание возможных неприятностей с местным Советом, Гурко оставался на адмиральской яхте до прибытия английского парохода. Позднее генерал был принят королем Георгом в Букингемском дворце – новость, которая не могла прибавить симпатии союзникам в глазах русских. Поэтому вполне оправданно, что британский морской атташе в Петербурге, ссылаясь главным образом на дело Корнилова, заметил: «В своих самых диких полетах фантазии (большевики) не могли мечтать о более полезных союзниках, чем посольства стран Антанты».
Всего через несколько дней после того, как была ликвидирована угроза Корниловского мятежа, произошло еще одно восстание русских, хотя и совершенно иного типа, и на этот раз на иностранной территории.
Это было до сих пор малоизвестное восстание русских войск во Франции – или, точнее, подавление этого восстания. И хотя печальному инциденту недоставало политического значения генеральского переворота, его последствия были гораздо более тяжелыми. После жестокого подавления мятежа в одной из бригад, которые должны были отправляться в Салоники в августе 1916 года, две бригады, находившиеся на французской территории и состоящие приблизительно из шестнадцати или семнадцати тысяч солдат, храбро сражались в нескольких кампаниях. Но понесли невероятно большие потери, особенно от воздействия газа, с которым русским не приходилось иметь дела. Отрезанные от родины, они еще быстрее утратили боевой дух, чем их товарищи в России. Не без оснований они поняли, что являются попросту пушечным мясом, проданным во Францию в обмен на военную технику. Первая бригада состояла в основном из рабочих Московской и Самарской губерний и проявила признаки мятежного духа гораздо раньше третьей бригады, в которой преобладали солдаты из крестьянства.
Мартовская (Февральская) революция, конечно, очень ускорила распад воинской дисциплины. Хотя войска принесли присягу верности новому режиму, только треть от их числа, в основном из третьей бригады, поддерживала его политику продолжения войны. Понеся жестокие потери во время августовского наступления, первая бригада, фактически игнорируя своих офицеров, образовала Совет солдатских депутатов и отказалась воевать. Командующий был смещен и заменен генералом Занкевичем, русским наблюдателем, прикомандированным к французской армии. Два штатских назначенца Временного правительства, Эжен Рапп, представитель русского военного министра в Париже, и Сергей Святиков, ответственный за расследование возможной тайной деятельности за границей царской полиции, явились в войска и попытались вернуть их на путь долга и патриотизма. Подобные попытки были предприняты русскими эмигрантами во Францию и четырьмя депутатами Петроградского Совета, прибывшими в Западную Европу с миссией относительно Стокгольмской конференции. Эти попытки были явно неудачными – и по тем же самым причинам, которые помешали миссиям союзников добиться какого-либо успеха в России. В настоящий момент для французских властей присутствие русских войск было помехой, и, чтобы предотвратить заражение собственных войск мятежными настроениями, в июне они были переведены в лагерь, расположенный в Ла-Куртене, в восьмидесяти километрах южнее Лиможа в Центральной Франции. В новом лагере русских, словно больных инфекционной болезнью, полностью изолировали от всяких контактов с посторонними. Внутренние разногласия обострились чуть ли не до кровопролития, и между двумя бригадами едва ли день проходил без стычки. В начале июля большую часть третьей бригады, к которой добавили несколько сотен патриотически настроенных солдат из первой бригады, вывели из лагеря и направили в расположенный неподалеку городок Феллетен. Здесь они на время расположились лагерем, тогда как военные французские власти, не очень довольные их прежней деятельностью, решали, как с ними поступить. Святиков принял в Париже двух делегатов от первой бригады и выслушал претензии бунтовавших солдат. Он посоветовал русскому Военному министерству начать их немедленное возвращение на родину, а чтобы это не выглядело как награда за мятежное поведение, вернуть в Россию и бригаду, оставшуюся верной присяге. Французское правительство горячо одобрило эту идею, и ее посол в России предложил Терещенко, чтобы одну бригаду отправили на родину в августе, а вторую в октябре. Временное правительство возразило, ссылаясь на трудности с транспортом и снабжением, предлог, который посол Нуленс – скорее всего, верно – истолковал как желание скрыть другие причины. По его мнению, министры не желали возвращения солдат, которые могли сравнивать техническое оснащение обеих армий, что было бы наверняка не в пользу российской. Такое объяснение подсказал послу скорее его патриотизм, чем сообразительность. Но представляется более правдоподобным, что Керенский все еще надеялся восстановить дисциплину в войсках, как находящихся за границей, так и дома, и не хотел примириться с неудачей у самого порога своего французского союзника. Занкевичу соответственно приказано было принять самые строгие дисциплинарные меры, вплоть до восстановления смертной казни.
Войска в Ла-Куртене отказались отправляться в Салоники, и в начале августа им был предъявлен ультиматум, по которому в течение сорока восьми часов они должны были полностью подчиниться и присоединиться к бригаде в Феллетене. В предвидении, что солдаты откажутся выполнить условия ультиматума, еще до истечения его срока, лагерь стали окружать усиленные французские войска с пулеметами, артиллерией и кавалерией. Около полутора тысяч человек сдались, но остальные в количестве более восьми тысяч отказались покинуть лагерь и сдать оружие. Поскольку ни французские, ни русские власти не были готовы использовать превосходящие силы, находившиеся в их распоряжении, ситуация оставалась неизменной в течение всего августа. Срезав солдатам продовольственный рацион, власти могли принудить их сдаться без боя, но эта мера не была принята из опасения, что тогда солдаты станут грабить фермы и деревни. Тем временем осада была подкреплена дополнительными французскими военными соединениями и несколькими тысячами русских солдат, набранных из самых надежных элементов третьей бригады, а также артиллерийским подразделением, только что прибывшим из Салоник.
В начале сентября из предосторожности было эвакуировано гражданское население всей области. 14 сентября Занкевич предъявил повстанцам второй ультиматум, потребовав их безоговорочной капитуляции к утру 16-го. Те, кто решит остаться в лагере, заявил генерал, будут считаться «изменниками родины и революции» и немедленно расстреляны. «Изменники» обратились с призывом к своим русским товарищам не стрелять в земляков. Ни ультиматум генерала, ни призыв солдат не дали никаких результатов. Ни один солдат не сдался, и патриотически настроенные войска не торопились отказываться выполнять неприятное поручение. Обе стороны вырыли траншеи и задолго до истечения ультиматума, то есть до десяти часов утра, сделали окончательные приготовления к бою. Он начался легкой артиллерийской бомбардировкой и редким ружейным огнем. Повстанцы, у которых боеприпасов было гораздо меньше, чем у противника, поддерживали свой боевой дух, распевая Марсельезу и другие песни. Несмотря на численное и боевое преимущество, осаждающие не предприняли атаку. К рассвету следующего дня сдалось около двухсот солдат, остальные и не думали сдаваться. Однако позднее утром, после бомбардировки гаубицами, они выпустили из лагеря семьсот или восемьсот лошадей, что показывало, что они не надеются долго продержаться. В полдень были подняты белые флаги, и огромное большинство повстанцев покорно вышли из лагеря. Около ста пятидесяти человек, более смелых или, может быть, более фанатичных, чем товарищи, отказались смириться с неизбежным и забаррикадировались в госпитале и в офицерской столовой. 18 сентября русские пехотинцы бросились навстречу пулеметным очередям и заняли стратегические пункты лагеря. К следующему утру с помощью постоянного огня из арторудий сопротивление было окончательно сломлено и были захвачены все, кроме нескольких солдат, скрывшихся в лесах.
Принимая во внимание примененное тяжелое вооружение, потери были на удивление небольшими, хотя, если верить рассказам местных жителей, число жертв исчислялось сотнями и даже тысячами. Потери со стороны повстанцев составляли девять убитых и сорок девять раненых, тогда как среди нападавших было только трое раненых, среди них двое смертельно. Пленников разделили на три категории в зависимости от тяжести их вины. Около восьмидесяти солдат, которых считали предводителями мятежа, были заключены в тюрьму. Вторая группа в количестве пятисот солдат была переведена в близлежащий лагерь, а остальных оставили под строгой охраной ремонтировать и убирать помещения в Ла-Куртене. Через неделю две команды отказались подчиняться приказам и покорились только после того, как им пригрозили немедленным появлением французских солдат. Были арестованы три солдата, и подобно другим пленникам их дальнейшая судьба осталась неизвестной. Некоторые наверняка были казнены, хотя точное количество казненных неизвестно.
Еще несколько месяцев, проведенных в сравнительном безделье в Ла-Куртене, нисколько не оживили патриотизма русских войск. Около двух тысяч пятисот солдат приняли предложение Занкевича работать за небольшую зарплату. Остальные оставили это предложение без внимания и продолжали оставаться упорными, хотя и невоинствующими приверженцами революции. Ноябрьская (Октябрьская) революция принесла им новую надежду на возвращение на родину, поскольку большевики немедленно начали переговоры по этому вопросу. Французское правительство заявило, что возобновленные боевые действия подводных лодок в настоящее время препятствуют возвращению солдат. Но подводные лодки не помешали им перевезти в декабре три тысячи наиболее непокорных солдат в Северную Африку, чтобы освободить в Ла-Куртене место для вновь прибывших американских войск. Остальные партиями по двадцать – тридцать человек были отправлены в различные районы Франции в качестве рабочих. Большая часть русских солдат в Салониках тоже отказались воевать, и огромное большинство присоединилось к своим товарищам в Северной Африке. Остальные были отправлены на французский фронт вместе с другими оставшимися верными присяге русскими войсками, где дальнейшие проблемы с дисциплиной в некоторых соединениях показали, что от революционной заразы не так-то просто избавиться. Большинство нарушителей были переведены в рабочие батальоны, а остальные сражались во французской армии до конца войны. Позднее, во время Гражданской войны многие из них присоединились к белым армиям барона Петра Врангеля и генерала Антона Деникина. Североафриканский русский контингент и русские солдаты во Франции, пожелавшие вернуться на родину, в 1919 году были отправлены назад, а в 1920-м отставших обменяли на французов.
Во время войны строгая французская цензура препятствовала проникновению в печать каких-либо слухов о восстании русских солдат. Поэтому чуть ли не единственной доступной информацией была та, которая содержалась в коротком заявлении, опубликованном Временным правительством 30 октября 1917 года. Оно вызвало больше вопросов, чем ответов, и еще большее неудовлетворение среди русского населения в связи с жестоким обращением с их товарищами со стороны «французских империалистов». И все же по сравнению с эффектом от дела Корнилова эта история дала меньше оснований для недовольства. Позорный провал контрреволюционного переворота, нисколько не укрепивший положение Керенского и Временного правительства, как предпочитала думать основная часть прессы союзников, дал мощный толчок движению большевиков. «Авантюра небольшой группы, – жалуется Керенский, – в воспламенном воображении масс превратилась в заговор всей буржуазии и всех правящих классов против демократии и рабочего класса». Если рабочие и солдаты действительно сделали слишком поспешное заключение, то поведение Керенского вовсе невозможно объяснить. Большевикам оставалось лишь пожать то, что посеял Корнилов. Вскоре они приобрели большинство в Советах Петрограда и Москвы, как и во многих других городах, и стали быстро завоевывать симпатии всего населения страны. В начале октября председателем Петроградского Совета был избран Троцкий, которого 17-го выпустили из тюрьмы. В ожидании новой реорганизации кабинета министров правительством управлял директорат из пяти человек. Министры из числа членов Совета, включая Чернова и Скобелева, отказались работать до тех пор, пока из кабинета не будут исключены кадеты.
Сообщая о ситуации в стране российским представителям за границей, Терещенко выражал огромную надежду на будущее. В настоящее время, заявлял он, вся страна сплотилась в единый союз ради общей цели, и правительство не только укрепило свои позиции в результате недавнего испытания, но и полно решимости «любой ценой продолжать войну» и «приложить всю нашу обновленную энергию к задаче реконструирования армии». Такие заявления были скорее предназначены для сведения министерств иностранных дел союзников, каждому из которых обязательно направлялись их копии, чем для российских дипломатов. Но государственных деятелей Британии и Франции больше уже не трогали обещания и заявления. Они давно уже разочаровались в Керенском и в революции, ведь те упорно отказывались следовать курсу, который был им предписан в Лондоне и в Париже. Происшедшую в России революцию всячески одобряли и поддерживали до тех пор, пока не стало ясно, что солдаты почему-то не проявляют должного энтузиазма в войне с германцами. Как коротко выразился один известный англичанин в Петрограде, «эти проклятые русские не имели права устраивать революцию во время войны». Американское правительство, хотя и удрученное летними событиями, оставалось по-прежнему преданным Керенскому и незапятнанным сомнениями и цинизмом своих союзников. В то время как сам Лэнсинг склонялся к пессимизму – во всяком случае, так он говорил позднее – и жаловался, что Керенский слишком сильно скомпрометирован «радикальными элементами революции», Государственный департамент, обнадеженный блестящими отчетами о миссии Рута и оптимистическим простодушием сообщений из России Фрэнсиса, казалось, вовсе не упал духом. Благонамеренно и добросовестно Лэнсинг передавал в Россию вдохновляющие послания от Американской федерации труда и Торговой палаты. «Сердца американских рабочих и демократов бьются в унисон с сердцами русских людей, воздавая должное их настроениям и стремлениям», – со всей серьезностью заверял президент Американской федерации труда Гомперс. Дальнейшее заявление, что «демократии всего мира объединились в борьбе не на жизнь, а на смерть против автократии, империализма и милитаризма», мало что значили для среднего русского гражданина, который, если когда и слышал о Гомперсе, гораздо скорее вспоминал о нем как о решительном противнике Стокгольмской конференции, чем о друге рабочего класса. Не меньше утешали и заверения Торговой палаты, что Россия в своей борьбе против «автократического милитаризма Германии» и «в распространении демократических идеалов по всему миру» может рассчитывать на поддержку «сотен тысяч американских бизнесменов».
В противовес альтруистическому тону заявлений американцев британское правительство ухватилось за возможность оказать прямое давление и, в соответствии с решением военного кабинета во время дела Корнилова занять твердую позицию по отношению к России, инструктировало Бьюкенена проконсультироваться со своими коллегами и представить Временному правительству коллективную суровую ноту протеста по поводу его нерешительного поведения. Посол отредактировал предложенный текст ноты и ждал удобного момента, чтобы обратиться к Керенскому.
9 октября, сразу после того, как был сформирован новый кабинет министров, британский, французский и итальянский послы были приняты в Зимнем дворце, в штаб-квартире нового правительства. Фрэнсис не поехал с ними, поскольку не получил из Вашингтона инструкций на свои неоднократные запросы. Сделав несколько предварительных замечаний, Бьюкенен приступил к зачитыванию написанной на французском ноте. Стараясь скрыть свое раздражение от выпавшей на его долю неприятной миссии, он сохранял сухой и жесткий тон, который, как показалось Нуленсу, придавал «вполне безобидным жалобам» союзников «характер безапелляционного приказа». Эти «безобидные жалобы», как дипломатично выразился французский посол, были сформулированы весьма резко, если принять во внимание, что они были адресованы союзнику по оружию. «Российскому правительству следует, – говорилось в ноте, – действиями доказать свою решимость использовать все надлежащие средства для установления дисциплины и должного воинского духа в сражающихся войсках и одновременно обеспечить функционирование коммунальных служб и восстановить порядок на фронте и в тылу». Более того, Россию предупреждали, что «вскоре правительства союзников могут столкнуться с мнением, которое поднимет вопрос о целесообразности поставок в Россию оружия, военной техники и прочего военного снаряжения, с упреком по поводу того, что они не сохранены для Западного фронта, где воля к победе проявляется без всяких колебаний».
Керенский воспринял это обращение почти как личное оскорбление и отвечал на русском – переводил Терещенко, – что Россия будет воевать до конца, несмотря на уродливое наследие царского режима и сомнения союзников относительно целесообразности поддержки военным снаряжением. В заключение он язвительно напомнил своим слушателям, что Россия все еще остается великой державой. Едва Терещенко успел перевести последнее предложение, как Керенский резко встал, чтобы уйти, взмахом руки показав, что аудиенция окончена. Его поведение оскорбило послов, и потом Бьюкенен выговаривал Терещенко, что Керенский не имел права столь бесцеремонно обращаться с представителями союзников. Керенский же немедленно отправился в американское посольство, желая выразить благодарность послу за то, что тот не принимал участие в протесте. Но Фрэнсис только что уехал на встречу с министром иностранных дел и вернулся, как только узнал о визите Керенского, но опоздал принять незаслуженную им благодарность премьер-министра. Керенского тем более задела эта нота, что союзники, теперь так озабоченные отсутствием порядка в стране, горячо поддерживали того самого человека, которого он считал ответственным за анархию и распад – генерала Корнилова. Ему было бы еще досаднее, если бы он знал, что человеком, чей отчет и рекомендации военному кабинету Британии явились поводом для ноты протеста, был генерал Нокс, возможно, самый влиятельный сторонник Корнилова вне России. Временное правительство направило официальный протест через своих представителей в Лондоне, Париже и Риме с вежливым требованием, чтобы инцидент, связанный с нотой, держался в полной тайне, чтобы избежать «опасного раздражения» общественного мнения России. Лэнсингу через Бахметьева сообщили, что отстранение Соединенных Штатов от союзников очень высоко оценено. Британский и итальянский послы получили инструкции извиниться, но Нуленс, который настаивал на том, чтобы его правительство поддержало эту ноту, отказался извиняться.
Новый кабинет министров Керенского, чей состав был объявлен всего за день до происшедшего 9-го неприятного инцидента с нотой, был мерой временной и оказался слабее трех своих предшественников. Действовать кабинет не начинал, ожидая одобрения Демократической конференции – собрания представителей неимущих классов российского общества, – которая незадолго до этого открылась в Петрограде. Но делегатам не удалось прийти к какому-либо четкому согласию относительно состава нового правительства, и Керенский приступил к отбору министров по своему разумению. Присутствие в правительстве нескольких кадетов было явно непопулярным. Петроградский Совет не замедлил обвинить его в том, что это «правительство гражданской войны». Керенский призвал к поддержке в надежде, что «все граждане объединятся… ради общей работы во имя основных и самых важных вопросов нашего времени – защиты страны от внешнего противника, восстановления закона и порядка и надежного управления страной до созыва Учредительного собрания». Утверждая, что правительство будет продолжать «решительное сопротивление всем попыткам навязать России чужую волю», он обещал, что русский представитель на предстоящей конференции союзников будет стремиться «в дополнение к достижению соглашения с нашими союзниками относительно наших общих целей войны составить с ними соглашение на основе принципов, провозглашенных русской революцией».
За Демократической конференцией 20 октября последовал созыв более консервативного, но не столь бесполезного собрания – так называемого Предпарламента или Временного совета Российской Республики, который должен был функционировать как совещательный орган до созыва постоянно откладываемого Учредительного собрания. Вопреки совету Ленина в его работе приняла участие делегация большевиков, но покинула его во время первого же заседания, после чего Троцкий бросил грозное обвинение правительству, которое, как он выразился, «под диктовку кадетских контрреволюционеров и империалистов союзников, не проявляя здравого смысла, не имея ни сил, ни плана, затягивает кровопролитную войну, приговаривая к бессмысленному уничтожению сотен тысяч солдат и матросов и готовя капитуляцию Петрограда и удушение революции». В своем докладе в Вашингтон Фрэнсис презрительно отозвался о «шестидесяти (большевиках, которые) вскочили с места, осыпаемые насмешками членов Временного совета», но их уход был актом силы, а вовсе не слабости. Избавившись от мешавшего ему левого крыла, делегаты посвятили последующие дни рассмотрению путей и средств восстановления боеспособности армии. Как обычно, эти дискуссии были обречены на безрезультативность не только из-за отсутствия согласил в самом совете, но в основном потому, что рядовые массы солдат совершенно не были настроены на продолжение войны.
По контрасту с феноменальным успехом большевистской антивоенной пропаганды, что следует скорее приписать изнуренности народа войной, чем достоинствам самого большевистского учения, патриотическая контрпропаганда при всех ее усилиях практически не достигала цели. Буржуазную прессу, где печатались патриотические проповеди, по-прежнему не читали те, кому они были предназначены, тогда как широко распространяемая большевистская газета «Окопная правда» привлекала на фронте огромное количество читателей. И то небольшое влияние, которое представителям союзников удалось оказать на правительство, в течение осени практически было сведено к нулю.
Почти одинокими в своей вере, что пересмотренная тактика принесет надежду на возрождение боевого духа, были полковник Уильямс Бойс Томпсон и майор Реймонд Робинс, члены официальной неполитической миссии американского Красного Креста в России. Эта миссия, состоявшая приблизительно из двадцати человек во главе с доктором Франклином Биллингсом, известным чикагским врачом, прибыла еще летом. Не обладая опытом руководства и не зная условий жизни России, он предоставил руководить практической деятельностью Томпсону, богатому финансисту и медному магнату, на чьи деньги в основном и обеспечивалась работа миссии. В начале сентября Биллингс вернулся в Соединенные Штаты, отчасти из-за пошатнувшегося здоровья, оставив главой миссии Томпсона. Робинс, его главный помощник, социальный служащий, бывший одним из главных сторонников Теодора Рузвельта, по своим общественным взглядам и политическим симпатиям был либералом, тогда как Томпсон – консерватором. В начале поездки они относились друг к другу с большим недоверием. Робинс недоумевал, что делает в миссии милосердия «этот реакционер с Уолл-стрит», а Томпсон выразил изумление по поводу присутствия в миссии «выскочки и смутьяна, рузвельтовского крикуна». Во время длинного и монотонного путешествия в Петроград у спутников было время оттаять и постепенно проникнуться друг к другу симпатией, поскольку оба разделяли страстное желание постичь суть событий в России и увидеть неприкрашенную действительность. В Петрограде они обратили внимание на постоянно крепнущее влияние Петросовета и поняли, что усталость народа от войны нельзя объяснить только германской или большевистской пропагандой. Коллеги стали еще больше презирать «мнение семи процентов», как Робинс охарактеризовал точку зрения малой части населения, оцененную им в семь процентов, которая всегда управляла Россией и надеялась делать это и впредь. Эта жалкая кучка предпочитала усилению революции германское господство, что для двух патриотически настроенных американцев очень походило на предательство. Во время организации работ по доставке зерна из Украины в Петроград Робинс получил доказательства силы Петросовета и слабости Временного правительства. Его правительственный мандат оказался ничего не значащим клочком бумаги, тогда как председатели местных Советов быстро решали все его проблемы с транспортом.
Убежденный в значении Петроградского Совета при определении дальнейшей политики России, время от времени, а к середине сентября ежедневно, Робинс выступал перед группами крестьян и рабочих в Петрограде и в его окрестностях. Его аргументы не сильно отличались от тех, которые до него использовали эмиссары союзников, но он более точно избрал состав своих слушателей. Он старался убедить их в том, что Германия представляет угрозу для революции и, что если новый строй не защитить, на штыках Германии в страну возвратится прежний режим. Но хотя Робинс был блестящим оратором, эффект от его выступлений оказался незначительным. Один человек не мог достичь больших результатов, для этого необходима была широкомасштабная пропаганда. На проведение такой кампании, говорил он Томпсону, может потребоваться вначале минимум миллион долларов, а затем по три миллиона в месяц на протяжении полугода. Томпсон уже совещался с Керенским относительно возможности провести такую кампанию. Тот проявил заинтересованность и направил Томпсона к Екатерине Бреховской, «прабабушке революции», известной по своей революционной деятельности при царском режиме. Она сочла план реальным, и Томпсон решил выделить на начало кампании один миллион долларов из собственного капитала, уверенный, что Вашингтон поддержит такой важный проект практически неорганиченными средствами. На встрече, где присутствовали Керенский, Робинс и Томпсон, Бреховская организовала Комитет гражданского образования в свободной России с участием своего старого революционного товарища Николая Чайковского, Давида Соскиса, личного секретаря Керенского, и генерала Константина Неслуковского из российского Генерального штаба.
Томпсон предоставил комитету свои деньги. Были основаны газеты, закуплена типография и открыто несколько бюро новостей, кроме того, организованы солдатские клубы, которые снабжались газетами и книгами. В окопы, казармы и деревни отправились сотни агитаторов, мужчин и женщин. При таком размахе даже миллиона долларов хватило ненадолго. В конце августа Томпсон отправил телеграмму Генри П. Эвидсону, директору американского Красного Креста, которого попросил представить его план пропагандистской кампании нужным лицам в вашингтонской администрации. Через десять дней Лэнсинг прислал такой же уклончивый ответ, каким в свое время ответил на послание миссии Рута. В сентябре сама Бреховская обратилась к Вильсону под предлогом приветствия одним свободным человеком другого и попросила выделить денежную помощь. Во избежание недоразумений Томпсон попросил Дэвидсона объяснить Вильсону, что конкретно она имела в виду. Три недели президент хранил молчание, и когда наконец пришел его ответ, то в нем ничего не говорилось о финансовой помощи, зато он был полон его излюбленных слоганов, выражающих универсальные моральные принципы: «Интеллектуальное развитие и моральное соответствие являются самыми мощными элементами в национальном прогрессе»; нация «должна олицетворять высокие идеалы гражданского совершенствования каждого человека» и быть «сильной благодаря могуществу права и бесстрашной в защите правды и справедливости…».
К этому времени в Соединенные Штаты из Петрограда прибыл эмиссар Томпсона, X. Гросвенор Хатчинс, вице-президент нью-йоркского «Банк оф коммерс». Грандиозный план Томпсона настолько его вдохновил, что ему казалось, что от него зависят судьбы мира. Он поспешил в Вашингтон и широко распространил идею этого плана во влиятельных столичных кругах, но в Белом доме ему не удалось найти слушателей. Несмотря на самые различные уловки и хитрости, включая попытку привлечь на свою сторону полковника Эдварда М. Хауса, неофициального советника президента, к Вильсону невозможно было попасть, тогда как от Томпсона и его друзей одна за другой приходили телеграммы, умоляющие принять немедленные меры. В конце сентября Дэвидсону удалось наконец встретиться с президентом, и он показал ему одну из телеграмм Томпсона, в которой тот просил выделить миллион долларов через десять дней, а с начала октября по три миллиона в месяц. Вильсон был неприятно поражен. «Три миллиона в месяц! – воскликнул он. – Что это с вашим другом? Не сошел ли он с ума?»
Хатчинсу удалось заинтересовать Джорджа Крила, который в качестве директора Комитета общественной информации мобилизовал общественное мнение Америки на всемерную поддержку войны. Наконец 23 октября, через пять недель после приезда Хатчинса, президент согласился принять его, а также Крила и одного из его помощников, Эдгара Сиссона. Вильсон уже принял решение направить в Россию Сиссона в качестве представителя комитета Крила, но с весьма туманными инструкциями относительно смысла его задания. Хатчинс рассказал о плане пропагандистской кампании, и, хотя президент выслушал его со своей обычной вежливостью, было ясно, что он уже твердо решил, что с Россией следует поддерживать идеалистические отношения, сводящиеся к заверению ее в «нашем дружелюбии, бескорыстии… и желании быть полезными» в ожидании, что неприятные моменты вроде большевизма и сепаратного мира разрешатся сами собой. Он блестяще говорил о русской психологии, но, выслушивая «общие рассуждения этнологического характера», Хатчинс понял, что аудиенция закончилась.
Спустя четыре дня Сиссон отбыл в Россию, увозя с собой только часть суммы, которую Томпсон считал необходимой. С ним было также письмо Томпсону от президента, который хвалил его за «великое дело», совершаемое им во имя «борьбы России за свободу», но общий смысл письма сводился к тому, что больше он не желает иметь к этому отношения. На самом деле это письмо было написано Крилом, который в то время был недоволен Томпсоном. Ему казалось, что «непримиримый консерватор» дома и «требовательный радикал» в Петрограде «был не тем человеком, который мог проповедовать американские убеждения». К моменту прибытия Сиссона в Петроград большевики были у власти уже почти три недели. Вильсон, Крил и сам Сиссон, как позднее он говорил, считали, что он едет «в качестве друга в дружественную страну»; не было оснований «считать большевизм даже тучкой на российском горизонте». Истратившего тысячи долларов на телеграммы Вильсону, в которых описывалось действительное положение дел в России и запрашивались средства на борьбу с большевизмом, Томпсона можно оправдать, как язвительно замечает его биограф, если принять во внимание широко известное замечание относительно «бесконечной способности человеческого ума сопротивляться знаниям».
Вряд ли Томпсона успокоил лицемерный жест Вильсона и его похвалы. Не получив финансовой поддержки, он был вынужден сократить свою амбициозную программу. Робинс продолжал агитационные поездки, но, поскольку он реально понимал ситуацию, его оптимизм несколько угас. «Идея войны умерла для русского солдата», – признал он в своем дневнике 22 октября. Тем не менее он всячески помогал Томпсону в его последней отчаянной попытке предотвратить неминуемый захват власти большевиками. Оба знали, что ключи от власти в руках у Петроградского Совета. Если убедить Временное правительство согласиться на контроль Совета и раздать землю крестьянам, полагали они, положение еще можно будет спасти. Когда они обратились с этим предложением к Керенскому, он заявил, что готов был пойти на эти меры, если бы не союзники. Это их деньги поддерживали его ненадежное правительство. «Как союзники не могут понять Россию? – раздраженно воскликнул он. – Ради достижения своих целей они вынуждают меня три четверти времени говорить о западноевропейском либерализме, в то время как передо мной стоит задача продержаться еще хоть сутки. Жаль, что говорить о русском славянском социализме мне остается только одну треть времени». Было ясно, что он предоставлял Томпсону заручиться согласием союзников на задуманные им шаги.
3 ноября в номере гостиницы, где остановился Томпсон, состоялась встреча, на которой присутствовали британский, французский и итальянский военные атташе, Томпсон, Робинс, генерал Неслуковский и Соскис, который представлял Керенского. Послов сочли слишком консервативными, поэтому на встречу не пригласили. Томпсон открыл совещание коротким описанием своего плана кампании. Затем Робинс сказал о необходимости раздачи земли. Генерал Нокс пришел в ужас от этой мысли. Кто возместит землевладельцам потери? И если выполнять эту безумную затею, то на каких условиях? Томпсон считал, что сейчас не время задерживаться на подробностях. «Распределите землю, а вопрос компенсации обсудите потом!» – воскликнул он. Нокс оставался недовольным; его политический инстинкт восставал только от озвучивания идеи. «Раздайте сейчас землю в России, – предостерег он, – и через два года нам придется раздать ее в Англии». Генерала не интересовали ни Петроградский Совет, ни земельная реформа. Желая излить переполнявшее его возмущение относительно ситуации в России, пользуясь присутствием представителей русских, он разразился длинной тирадой о некомпетентности, бестолковости и вообще бесполезности Временного правительства. То малое, что он оставил невысказанным, восполнил генерал Анри Ниссель, представитель Франции, который закончил свои рассуждения о плохой боеспособности России прозрачным намеком на достойную презрения трусость русских солдат. При этом явном оскорблении Соскис и Неслуковский пришли в ярость и покинули совещание. Затем в спор снова вступил Нокс. Томпсон только зря тратит деньги на Керенского; нужно было поддерживать Корнилова. Военная диктатура, заявил он, вот решение: людям просто необходим кнут. Робинс подчеркнул, что он может получить диктатуру совершенно иного типа. «Эта компания – Троцкий, Ленин и большевизм – этот мыльный пузырь? – презрительно фыркнул Нокс. – Военные знают, что делать с этой дрянью. Мы поставим их у стенки и расстреляем». Хотя Робинс выразил сомнение в осуществимости этого способа, поскольку большевиков и сочувствующих им было, по-видимому, несколько миллионов, продолжившийся более двух часов спор показал яснее, чем прежде, невозможность достичь какого-либо согласия.
По оценке генерала Уильяма В. Джадсона, американского военного атташе в России, деятельность Томпсона и Робинса задержала приход большевиков приблизительно на полтора месяца. Неоспоримых доказательств данного утверждения недостаточно, но, каким бы ни было влияние союзников в этом направлении, своим саботажем ожидаемых дискуссий о целях войны во время этого критического периода они, возможно, делали столько же для уничтожения результатов работы пропагандистов за продолжение войны в России, как и целая армия большевистских антивоенных агитаторов. Ведь единственное, что поддерживало умеренных российских социалистов в их преданности делу союзников, были заверения правительства, что в ближайшем будущем будет созвана конференция союзников по пересмотру целей войны. Все лето Керенский и Терещенко пытались убедить Британию и Францию в необходимости немедленно созвать эту конференцию. После провала Стокгольмской конференции замена любого рода, какой бы она ни была неадекватной, с точки зрения русских была жизненно важной. Но единственно действенное оружие, которое находилось в их распоряжении, то есть угроза заключить сепаратный мир, если союзники не уступят их требованиям, так и не была озвучена и даже не рассматривалась. Даже после того, как с трудом было получено согласие союзников на конференцию, причем без подтверждения, что на ней действительно будут обсуждаться цели войны, дата ее проведения постоянно откладывалась. Наконец было определено, что она состоится в конце ноября в Париже. В качестве министра иностранных дел Терещенко почти автоматически становился официальным представителем России, а кандидатуру генерала Алексеева предложили как делегата от военных. Исходя из ничем не подтвержденного вывода, что для участия в работе конференции будет приглашен депутат Петроградского Совета, Исполнительный комитет Совета избрал для поездки в Париж Скобелева, бывшего министра труда, дав ему поручение заявить о «мире без аннексий и контрибуций». Для него были подготовлены сложные инструкции, по характеру очень похожие на общеизвестные «четырнадцать пунктов» Вильсона. Но во многих отношениях советские предложения шли гораздо дальше вильсоновских. Такие рекомендации, как превращение в нейтральные территории Панамского и Суэцкого каналов, возврат германских колоний, восстановление Греции и Персии, автономия для турецкой Армении и полный отказ от репараций, вряд ли способны были встретить положительную реакцию в Париже – да и в любом другом месте. Кадетская газета язвительно спрашивала: «Что станет делать Скобелев, если союзники бесцеремонно отвергнут его условия? Пригрозит им еще одним призывом к народам всего мира?» Насмешка была более чем обоснованной. Если бы Скобелев и его товарищи-социалисты сумели добиться удовлетворительного ответа, их положение не оказалось бы таким безнадежным, каким стало вскоре, когда социалисты более активных убеждений выхватили власть из ослабевших рук Временного правительства.
Отрицательный ответ Запада на советские претензии не замедлил себя ждать. Набокову решительно заявили о нежелательности приезда Скобелева. «Мы не понимаем, в каком качестве намеревается ехать в Париж представитель Советов, – заявило британское министерство иностранных дел. – Ясно одно – он не будет допущен на конференцию союзников». Фрэнсис излишне тревожился по поводу конференции и сказал Лэнсингу, что ее стоит по меньшей мере отложить, чтобы не усиливать в России антивоенные настроения. Последний ответил, что дискуссии будут сосредоточены на вопросах «энергичного и успешного ведения войны» и что, если понадобится, посол уполномочен об этом заявить. Следовало успокоить и заверить румынское и сербское правительства, что их интересы не будут принесены в жертву российским радикалам. Румынский премьер-министр дошел до того, что призвал провести в Бухаресте специальное совещание представителей всех союзников, чтобы они выразили протест своим правительствам в отношении присутствия советского делегата. Бьюкенен считал неблагоразумными отказ от обсуждения условий мира и возражения против присутствия Скобелева на конференции, поскольку союзников это ни к чему не обязывало, а только «сыграло бы на руку» социалистам. Более того, заявил он своему правительству, он уверен, что Терещенко сможет поставить Скобелева на место. Советом посла пренебрегли, и 29 октября, а затем и 31 октября Эндрю Бонар Лоу, канцлер казначейства, коротко заметил в палате общин, что конференция будет рассматривать вопросы ведения войны, а не военные цели. Представитель французского министерства иностранных дел также ясно заявил 31-го, что на конференции будут присутствовать только «члены правительств», поскольку вопрос о целях войны не будет рассматриваться.
29 октября перед Предпарламентом с длинной речью по поводу внешней политики правительства выступил Терещенко. Это было патриотическое обращение, энергично взывающее к присутствующим в полном составе послам союзников. Он осудил претензии Петроградского Совета на отдельное представительство на конференции и критиковал данные Скобелеву инструкции. Когда через два дня умеренные социалисты получили возможность ответить, позиция Терещенко подверглась горькой критике. Серьезно озабоченный слабой поддержкой своей политики в Предпарламенте и враждебным тоном левой прессы, он пожаловался Бьюкенену на злосчастное заявление Бонара Лоу в палате общин. Оно очень огорчило его, сказал он послу, и, хотя естественно, что главным предметом дискуссий на конференции будут вопросы ведения войны, было совершенно неуместно информировать русскую демократию о запрете на вопросы о целях войны. 4 ноября Бьюкенен, вместе с министром иностранных дел, собирался выехать, чтобы присутствовать на конференции и доложить об обстановке в России. Терещенко предупредили, что, если он попытается тоже ехать, его поезд будет остановлен, поэтому решили отложить дату отъезда на четыре дня, чтобы дать время успокоиться. К 8 ноября большевики были уже у власти, и вместо того, чтобы отправиться в Париж, Терещенко оказался в тюремной камере.
Во время последних недель существования Временного правительства престиж России был крайне низким. Направленная в последних числах октября в Британию просьба оказать помощь военными кораблями в отпоре вторжению Германии в Балтийское море встретила отказ. Вероятно, он был вызван соображениями стратегического характера, но тем не менее Бьюкенен многозначительно заметил Терещенко, что вряд ли Россия может ожидать, что союзник станет рисковать ради нее своим флотом, когда русская армия, значительно превосходящая своего противника в количественном отношении, практически не принимает участие в войне. Представляя себе возмущение, которое вызовет в России новость об отказе в помощи, Керенский не стал скрывать своего разочарования. Он в состоянии понять позицию Британии, сказал он Бьюкенену, но трудно ее объяснить все растущему количеству людей, которые жалуются на слабую поддержку России союзниками. Посол не намеревался извиняться и перевел разговор на грехи русских, заявив премьер-министру, что время для полумер уже упущено и необходимо любыми средствами установить железную дисциплину. Большевизм был корнем всех зол, от которых страдает Россия, и, если Керенский вырвет его, он войдет в историю не только как главный деятель революции, но и как спаситель своей страны. Хотя перспектива такой славы и была привлекательной, Керенский возразил, что подождет, пока первыми не выступят большевики, чего он ожидал в ближайшие несколько недель. Бьюкенен выразил надежду, что правительство не упустит возможности уничтожить большевизм (то есть большевиков), как упустил ее в июле. Дипломатические круги все еще жили в мире иллюзий, думая, что возможное вооруженное восстание дает повод уничтожить чудовище большевизма и в результате этого каким-то таинственным образом восстановить боеспособность армии. Возможность того, что большевики могут победить и образовать собственное правительство, всерьез никем не рассматривалась.
В последнюю неделю существования Временного правительства Керенский столкнулся с неким подобием мятежа в своем же кабинете министров, когда военный министр генерал Верховский, который больше не мог обманывать себя относительно возможности восстановления армии, обратился к тайному комитету Предпарламента и дошел почти до оправдания заключения мира как единственного средства спасти отечество. Об этом стало известно, и на Верховского ополчилась вся патриотически настроенная пресса. Он «вскочил на подножку колесницы товарища Троцкого», кричал один печатный орган. Владимир Бурцев, старый социал-революционер, чья газета серьезно поддерживалась французскими субсидиями, лживо утверждал, что военный министр выступает за сепаратный мир и в качестве причины столь неожиданного изменения его позиции намекал на присутствие германского золота. Провинившегося министра насильно отправили на каникулы под видом «отпуска», и власти распространили официальное заявление, опровергая, что он выступал в защиту сепаратного мира.
Как показало принесение в жертву Верховского, Керенский упорно придерживался надежды, что со временем Россия возродится, если только союзники наберутся терпения. В интервью, данном 1 ноября корреспонденту Ассошиэйтед Пресс, он спокойно опроверг слухи о выходе России из войны. Но, выражая свое недовольство давлением союзников, он признал, что Россия изнурена войной и «имеет право требовать, чтобы теперь союзники взяли на свои плечи самое тяжелое бремя». Вопрос, в настоящее время волнующий русское общественное мнение, добавил он, – это где находится британский флот, когда к берегам Балтики приблизился флот Германии? Первые сообщения об этом интервью, появившиеся в Соединенных Штатах, были сильно искажены и создавали впечатление, что Россия почти вышла из войны. Авторы комментариев пошли еще дальше и в нескольких газетах уверенно утверждали, что Россия уже отказалась от борьбы. И Государственный департамент и российское посольство немедленно опубликовали опровержения. Все отчеты, которые получаются из Петрограда, заявил Лэнсинг, «показывают, что премьер Керенский и его правительство далеко не обескуражены и по-прежнему одушевлены сильной решимостью мобилизовать все ресурсы России для общей борьбы и доведения войны до победного конца». Тем не менее в своем послании Фрэнсису от той же даты Лэнсинг выразил гораздо меньше оптимизма и запросил копию оригинального интервью, потому что «по пристальном прочтении создается общее неблагоприятное впечатление». Имея в виду враждебные комментарии прессы по поводу интервью, особенно в Англии, Керенский приказал опубликовать пояснительное заявление, в котором подчеркнул, что Россия «будет продолжать исполнять свой долг».
Тогда как Керенский и Терещенко, которых связывали не очень дружеские отношения, до самого кануна своего свержения были поглощены доказательством преданности правительства союзникам, большевики активно готовились к захвату власти. Их намерения не составляли тайны, и нервничающая, но вместе с тем чрезмерно самоуверенная консервативная пресса утверждала, что любые попытки восстания против власти будут подавлены. Внешне Керенский тоже сохранял уверенность и постоянно твердил Бьюкенену, что хочет начала восстания, чтобы подавить его. Скрывавшийся в Финляндии с конца июля, Ленин, замаскировавшись, 20 октября вернулся в Петроград. Через три дня на подпольном собрании Центрального комитета партии большевиков он заявил, что политическая ситуация созрела для восстания и что откладывание начала может быть смертельным. Последовала яростная дискуссия, и только после многочасовых споров Ленину удалось привлечь на свою сторону большинство членов ЦК. Когда решение о восстании было принято, только Зиновьев и Каменев продолжали предостерегать против него, считая его опасным и преждевременным шагом. Ленин подверг суровой критике «штрейкбрехерство» своих старых товарищей и призвал к их исключению из партии. Хотя позднее стало ясно, что сделанный им анализ обстановки оказался точным, в то время и другие партийные лидеры разделяли сомнения и колебания, которые только Зиновьев и Каменев решились высказать открыто. Тем не менее победила воля Ленина, и под руководством Троцкого Петроградский Совет организовал Военно-революционный комитет, который должен был взять на себя практическое руководство восстанием. Первоначально в этот комитет вошли сорок восемь большевиков, четырнадцать левых социал-революционеров и четыре анархиста. Во все отделения Петроградского гарнизона были посланы представители комитета, чтобы заручиться их поддержкой или в крайнем случае обещанием сохранять нейтралитет. Именно в этом деле, а не в выработке актуальных подробностей военной стратегии, комитет доказал свою действенность. Основной ударной силой, которой располагали большевики, была Красная гвардия, состоявшая приблизительно из двадцати тысяч вооруженных рабочих. Они обучались военному делу со времени восстания Корнилова, и хотя по сравнению с обученными войсками выглядели довольно жалко, падение власти и авторитета Временного правительства доказал тот факт, что ни одно войсковое подразделение не встало на его поддержку.
Видя эти агрессивные приготовления, которые, разумеется, невозможно было полностью скрыть, правительство приняло контрмеры. Из окрестностей Петрограда были призваны войска, считавшиеся надежными; полк юнкеров утром 6 ноября захватил редакции большевистских газет; другие подразделения юнкеров охраняли стратегически важные учреждения, мосты и сооружения; крейсеру «Аврора», стоявшему на Неве в опасной близости к Зимнему дворцу, приказано было выйти в море. Военно-революционный комитет ответил на это требование мгновенно и результативно. Уже через нескольких часов большевистская пресса снова стала работать, а команда «Авроры», получив приказ комитета, отказалась выполнить приказ правительства.
Днем Керенский появился перед Предпарламентом, чтобы заручиться поддержкой своему режиму. Он разразился гневной тирадой в адрес большевиков, уделив особое внимание «этому разыскиваемому, но неуловимому государственному преступнику Ульянову-Ленину», и потребовал выразить ему, Керенскому, безусловное доверие. После долгого перерыва для обсуждения вопроса делегаты собрались вновь и незначительным большинством предоставили Керенскому это ничего не значащее доверие. Но при этом строго обусловили свою поддержку руководству Керенского требованием «немедленного декрета, который передаст землю администрации земельных комитетов, и решительных действий во внешней политике, предложив союзникам заявить об условиях мира и начать переговоры о мире». Таким образом, в той же резолюции, которая резко осуждала готовящееся восстание, они требовали выполнения двух пунктов, взятых из программы большевиков. Керенский был весьма оскорблен этим непрошеным советом и пригрозил уйти в отставку. Но то, что в свое время было бы эффективным политическим орудием, теперь стало пустым жестом. Неохотно поддерживаемое меньшевиками и эсерами и подвергавшееся открытым насмешкам кадетов и других представителей правых, Временное правительство, подобно царскому режиму, на смену которому оно пришло, было пустым фасадом, неподготовленным к противостоянию с решительным натиском на его власть.
В тот же день посол Фрэнсис нанес свой обычный визит в Министерство иностранных дел. Обсудив текущие дела, Фрэнсис подошел к окну и заметил на площади тысячи правительственных войск.
– Сегодня ночью я ожидаю выступление большевиков, – нервно сказал Терещенко.
– Если вы сможете его подавить, надеюсь, что оно произойдет, – ответил Фрэнсис.
– Думаю, мы сможем его подавить, – с кажущимся спокойствием ответил министр иностранных дел, а затем вдруг добавил: – Надеюсь, оно все-таки произойдет, подавим мы его или нет, – я устал от этой неопределенности и состояния подвешенности.
«Я полностью понимал, – впоследствии рассказывал Фрэнсис, – ужасное напряжение, под которым жил этот молодой человек… Утеряв доверие к своему шефу Керенскому (о чем мне в то время не было известно), он, несомненно, чувствовал, что главная ответственность за спасение родной страны от ужасной судьбы, которая ей угрожала, легла на его плечи». Посол ушел с ощущением надежды и попросил водителя автомобиля проехать мимо солдат. Им было приказано встать во фрунт, и они дружно ответили на приветствие посла. «Я хотел произвести впечатление на этих людей, – говорит Фрэнсис, – тем фактом, что за Временным правительством, которому угрожала опасность, стоит Америка и ее посол».
Судя по событиям последующих дней, этого впечатления оказалось недостаточно, чтобы побудить войска сражаться за правительство. На самом деле весь Петроградский гарнизон проявил странное нежелание сражаться, и только жалкая кучка юнкеров, казаки и женский батальон остались защищать Зимний дворец, последний бастион режима Керенского.
Глава 7 Союзники и большевизм
Решительное выступление большевиков началось поздно вечером 6 ноября и ранним утром 7-го. Отряды Красной гвардии захватили железнодорожные вокзалы, мосты, телефонные и телеграфные станции, почтамты и Государственный банк. Эти стратегические объекты были заняты без пролития крови, поскольку сопротивление было слабым или вовсе отсутствовало. К рассвету столица практически перешла в руки большевиков. Оставалось захватить только Зимний дворец, где Керенский провел тревожную бессонную ночь; дворцом тоже можно было легко овладеть, если бы не преувеличенное представление большевиков о силах правительства. Керенский с минуты на минуту ожидал подкрепления, но много раз обещанная поддержка так и не пришла. В отличие от своих офицеров казачьи войска предпочли сохранять нейтралитет, и на все запросы об их местонахождении отвечали, что, мол, «оседлывают коней».
Около десяти утра, когда стало ясно, что казаки так и будут седлать коней и что помощи от них ждать нечего, Керенский решил ехать на фронт в поисках верных ему войск. К этому моменту поездка стала весьма рискованным предприятием, поскольку улицы патрулировали отряды красногвардейцев, а правительственные автомобили за ночь были выведены из строя. Один из адьютантов Керенского обратился к секретарю американского посольства Шелдону Уайтхаусу с просьбой уступить свой автомобиль, который не только являлся средством передвижения, но и обеспечивал почти полную безопасность проезда, поскольку был под американским флагом. Уайтхаус приехал к штаб-квартире военных, располагавшейся напротив Зимнего дворца, чтобы уточнить обстановку. Керенский подтвердил необходимость в автомобиле, и после некоторого колебания Уайтхаус решил, что, поскольку он все равно реквизирован, не стоило слишком возражать. Он только попросил убрать флаг, но, когда его просьбу отклонили, удовлетворился вялым выражением «протеста». Керенский передал через него просьбу Фрэнсису не признавать советское правительство и обещал вернуться в течение пяти дней с достаточными военными силами, чтобы подавить восстание. Когда Керенский с несколькими офицерами благополучно отбыли, Уайтхаус отправился в посольство рассказать об этой истории. Посол одобрил поступок своего секретаря, но, опасаясь распространения в обществе разговоров о своеобразном отъезде Керенского, приказал своим служащим никому об этом не говорить.
Днем был распущен Предпарламент, и Ленин впервые публично выступил перед Петроградским Советом. Одной из самых неотложных задач рабочих и крестьян, сказал он, является необходимость положить конец войне, для чего наилучшим способом будет свержение капитализма. «Открытое и немедленное предложение нами мира международной демократии повсюду найдет горячий отклик среди международного пролетариата», – предсказал Ленин. Для него русская революция главным образом была начальной стадией мировой революции, но ему предстояло убедиться, что западный пролетариат не был настолько классово сознательным, как утверждала теория Маркса. Блокада Зимнего дворца сжималась все сильнее, революционеры ожидали матросов из Кронштадта, чтобы объединенными усилиями попытаться его захватить. Настроение защитников дворца было крайне угнетенным; часть гарнизона дезертировала еще накануне, и лишь малая часть оставшихся солдат настолько была озабочена судьбой правительства, что готова была умереть за него. В девять часов отчетливый выстрел крейсера «Аврора» дал сигнал началу бешеной оружейной и пулеметной стрельбе, которая продолжалась около часа. Затем стали периодически стрелять пушки из Петропавловской крепости, и, хотя во дворец попало только два снаряда, эффект на настроение осажденных был произведен. К полуночи первые группы матросов и красногвардейцев сумели проникнуть в огромное здание. Сначала их удавалось разоружить, но по мере того, как через многочисленные входы стали врываться толпы нападающих, защитники оказались в подавляющем меньшинстве. Ни одна из сторон не проявляла жажды крови, и к двум часам ночи дворец был полностью занят ценой шести убитых со стороны большевиков, а со стороны правительственных войск потерь, видимо, вообще не было. Министров заставили пройти по мосту среди враждебно настроенной толпы и заключили в Петропавловскую крепость. Период их заключения был недолгим; через несколько дней они были выпущены, поскольку революция пока еще снисходительно относилась к своим противникам.
В посольствах союзников и в других консервативных кругах с ужасом внимали и верили необоснованным слухам об убийствах, грабежах и насилии. Взволнованная леди Бьюкенен уговорила генерала Нокса войти в логово большевиков, чтобы попытаться спасти захваченный в плен женский батальон от якобы уготованной им «судьбы хуже смерти». Он отправился на посольском автомобиле в Смольный, когда-то бывший роскошным Институтом благородных девиц, где теперь расположился штаб большевиков, и потребовал от секретаря Военно-революционного комитета немедленно освободить женщин-солдат. После некоторого затягивания необходимый приказ был отдан и немедленно исполнен. Это был первый контакт официального лица союзников с новой советской властью, которому надолго пришлось остаться и последним.
Вскоре после падения Зимнего дворца в Смольном был созван II Всероссийский съезд Советов. Первое заседание прошло примечательно, главным образом из-за демонстративного выхода меньшевиков и эсеров, которые удалились в городскую думу и организовали бесплодный марш протеста к осажденному Зимнему дворцу. На втором заседании, 8 ноября, встал Ленин и после продолжительной овации зачитал два исторических декрета: один о мире и второй о земле. Первый декрет предлагал «всем воюющим народам и их правительствам безотлагательно начать переговоры о справедливом и демократическом мире», немедленно установив перемирие с минимальным сроком действия в три месяца. Подчеркнутой идеей справедливого мира декрет напоминал тон заявлений предыдущего правительства умеренных социалистов. Но в обещании начать публикацию всех секретных договоров, в которых участвовала Россия, и в заявлении об их предстоящей аннуляции уже просматривалось резкое изменение курса внешней политики. Таким же новым было противопоставление народов различных стран их правительствам: «Адресуя это предложение мира ко всем правительствам и народам всех воюющих стран, временное рабоче-крестьянское правительство России в особенности обращается к классово сознательным рабочим трех наиболее передовых стран мира – Англии, Франции и Германии». Несмотря на нескрываемое враждебное отношение к капитализму и капиталистическим правительствам, общий тон заявлений большевиков был умеренным и даже примиренческим, возможно, в надежде, что если не все, то некоторые из воюющих сторон ответят в дружеском духе. Но если это предположение является верным, то большевикам пришлось разочароваться, поскольку ни союзники, ни Центральные государства не удостоили их ответом.
Съезд бурным одобрением встретил декрет о мире, а также декрет о земле, который отменял частную собственность на землю и передавал земельную собственность помещиков и церкви в распоряжение местных земельных комитетов для распределения ее среди крестьян. Кроме того, был одобрен новый состав правительства, названный Советом народных комиссаров, председателем которого был избран Ленин, а комиссаром иностранных дел – Троцкий. Легкость, с которой в Петрограде был установлен новый режим, вовсе не означала, что большевистская власть была автоматически установлена во всей стране. В Москве этот переход власти совершился только после недели кровопролитных боев; в более отдаленных районах это заняло гораздо больше времени, хотя в некоторых местах антибольшевистские силы оказали такой же жестокий отпор, как и в Москве. Керенскому, который отправился в Псков в поисках верных ему войск, удалось заручиться поддержкой небольшой группы, состоящей из около семисот казаков под командованием генерала Петра Краснова. Эта крохотная горстка военных направилась в Петербург, ожидая по дороге пополнения. Но никакого пополнения не последовало, и 12 ноября казакам пришлось отступить, не ожидая, пока их атакуют численно превосходящие силы красногвардейцев. Как и в предыдущих случаях, и без того низкий боевой дух контрреволюционеров еще больше подрывался пропагандистами, которые ухитрялись проникнуть в их среду и склонили к дезертирству множество казаков. 14 ноября было установлено перемирие, Краснова арестовали, а Керенский бежал, переодевшись матросом. Позднее с помощью Брюса Локарта, специального эмиссара Ллойд Джорджа в России, ему удалось скрыться в Англии. Морской офицер, адьютант Керенского, 16-го сумел пробраться в Петроград и по поручению Керенского встретился с американским послом. Он рассказал ему о поражении Керенского и утверждал, что Краснов и Керенский полагают, что большевистской армией командуют германские офицеры, очевидно, из-за использования «германской тактики». Фрэнсис не смог помочь адъютанту в его просьбе скрыться в Соединенных Штатах, и вскоре после этого тот был арестован.
После краха безрезультатной попытки сопротивления Керенского советский режим в течение нескольких месяцев не сталкивался с серьезной внутренней угрозой, и, дав мир солдатам, землю – крестьянам, фабрики – рабочим, большевики основали свою власть на твердом фундаменте массовой поддержки. В странах союзников значительные события 7 ноября, которые впервые в истории привели к власти правительство, открыто заявившее о своей преданности принципам марксистского социализма, были встречены с ужасом и возмущением, но с неполным осознанием огромного значения этого переворота. Первоначальный шок был смягчен широко распространившимся мнением, что большевики обязаны своей победой лишь случайному стечению обстоятельств и будут отстранены от власти, когда «разум» и «здравомыслие» вновь займут свое законное место в руководстве жизнью человечества. Новая революция была гневно осуждена с таким же предсказуемым единодушием, с каким горячо приветствовалась предыдущая революция. Консервативные органы печати видели в падении Временного правительства поучительный пример провала политики затягивания и нерешительности. Лондонская «Таймс» в типичном для нее духе обвиняла во всем Керенского и заявляла, что последние события в России не были удивительными: «Когда конституционно установленная власть явно неспособна подтвердить свои слова делами, когда ежедневно попустительствуют анархии, когда толпе опрометчиво предоставляют вооружение, тогда конец не заставит себя ждать». Большевиков ошибочно и не без признаков антисемитизма описывали как «фанатиков и анархистов», чей лидер Ленин и «несколько его сообщников являются авантюристами германо-еврейской крови и оплачиваются германцами, чья единственная цель заключается в использовании невежественных масс в интересах своих хозяев в Берлине». Влиятельная «Сатердэй ревю», для которой и Керенский, и Ленин были одинаково ненавистны, видела истоки революции в «интернациональном социализме» и в «интригах Женевы и Стокгольма» и предостерегала своих читателей, что Англия «не должна быть сбита с пути докторами-демагогами, которые отравляют Европу».
Для лондонской «Дейли телеграф» Ленин и его когорта были «архитекторами руин», партией «легкомысленных мечтателей», которые «насилием установили нечто (называемое)… правительством, которому никто и не думает подчиняться, кроме как под прицелом оружия». Но выражалась надежда, что в результате этого насилия может произойти «запоздалое сплочение здоровых и патриотических сил нации и армии с целью положить конец хаосу, при котором возможны такие события». Нескольким журналам, из которых лучшим примером можно назвать лондонский «Нейшн», удалось дать более последовательное объяснение революции. «Истинной причиной возвышения Ленина, – утверждал журнал, – было вето, наложенное западными странами на Стокгольмскую конференцию и откладывание созыва конференции союзников по вопросу целей войны, которую Россия предложила провести еще в мае…» «Практический выход России из союза будет наказанием за отсутствие нашего сочувствия и недостатки в умении управлять государством», – заключал «Нейшн».
Французская пресса была, конечно, яростно антибольшевистской, и мнение «Журналь де деба», что «торжествуют все, кто представляет собой накипь русской революции», было единодушно поддержано парижскими газетами. «Эксельсиор» призывала к использованию против узурпаторов власти «железа и огня», в то же время доверительно утверждая, что эта проблема практически уже устраняется и была всего лишь «преходящим инцидентом». «Виктуар» предостерегала, что «эти жалкие люди могут подписать с Германией перемирие и обесчестить свою страну, покинув союзников в разгар борьбы», а редактор «Ревю» мрачно заявил, что этот новый взрыв «русской анархии» «глубоко поразил всех упрямцев, напоминая о здравом смысле и логике истории». Новый посол России во Франции Василий Маклаков, который заменил прежнего царского дипломата Александра Извольского, начал свою карьеру с весьма зловещих предзнаменований, прибыв в Париж в самое утро большевистской революции. Подобно почти всем другим представителям среднего класса, он выразил мнение, что успех большевиков будет временным, поскольку они изолированы в Петербурге. «Нарыв лопнул», – заявил он и предложил провести «радикальную хирургическую операцию» как необходимое средство для излечения России.
Американское общественное мнение, насколько его отражала пресса, не показывало признаков отказа от общей враждебности союзников по отношению к новой революции. Нью-йоркская «Таймс», как и ее английская тезка, большую часть вины возлагала на Керенского за его компромиссы с «анархией». «Вероятно, – говорила «Таймс», – что Россия наконец восстала; но пока она не встала на дыбы, к здоровым силам не прислушивались». «Видит Бог, что большевики так же опасны для законного правительства, как Гогенцоллерны и Габсбурги, а возможно, и более опасны, – с благочестивым ужасом восклицала хьюстонская «Кроникл». – Мы должны не только подрывать идею божественного права королей, но и подавлять толпу». «По всей вероятности, – говорил еженедельник «Индепендент», – германская интрига была главнейшим фактором в осуществлении пацифистского переворота, который вверг Россию в хаос». Разъяренная нью-йоркская газета «Русское слово» проклинала большевиков за их «предательство», заявляя, что «горстка сумасшедших и фанатиков» не могла захватить целиком всю страну. Она предсказывала, что русский народ не пойдет за «обезумевшим Петроградом», где будут возрождены кровавые сцены Парижской коммуны 1871 года. «Но эта современная коммуна, – с надеждой говорила газета «Русское слово», – будет разбита пушками и пулеметами».
Революция застала посла Бахметьева во время поездок, когда он пытался поддержать в глазах американцев престиж Временного правительства. Только за день до переворота он уверял жителей Мемфиса, что его соотечественники «сердцем и душой поддерживают Временное правительство» и будут «сражаться до конца» вместе со своими союзниками. Оптимизм посла не был поколеблен и противоречивыми сведениями из России, и он наивно утверждал, что «о намерениях и духе России в целом нельзя судить по известиям из Петрограда». Множество неофициальных «авторитетных лиц», таких как профессора, банкиры и туристы, бывавших в России, в один голос твердили, что превосходство большевиков только временное явление и что Россия останется среди участников войны. Возможно, более точным барометром действительного значения этой новости для дела союзников была нью-йоркская биржа, где ведущие акции за один час возбужденной работы упали на восемь – одиннадцать пунктов, и такое же резкое снижение претерпели российские боны (царские облигации) и обменный курс. Президент Вильсон быстро отказался от принятой им тактики молчания по поводу международных проблем своих союзников и нанес большевикам косвенный удар в речи перед конгрессом Американской федерации труда, собравшимся 12 ноября в Буффало, в которой он сравнил заблуждающихся людей, которые оставались равнодушными к германской угрозе, с «легкомысленными… мечтателями из России». В тот же день один вашингтонский корреспондент сообщил, что правительство и дипломатические круги предсказывают полное ниспровержение большевиков и обсуждают, станет ли новым лидером Керенский, Корнилов или какая-то неизвестная персона.
Большинство газет во всех союзнических странах пересказывали различные слухи и истории, полученные из Стокгольма и Копенгагена, какими бы фантастическими они ни были, предпочитая их более точным, но тревожным сообщениям из Петербурга. Керенский объявлялся то побежденным, то победителем, то жертвой самоубийства, то говорилось, что он заключает компромиссное перемирие, и все это на протяжении нескольких дней; одновременно в газетах уделялось внимание и другим известным российским политикам. Официальных заявлений было мало, хотя и необходимо отметить, что американский Государственный департамент, и российское посольство сохраняли уверенный тон. Только 17 ноября в Вашингтоне были выражены сомнения в победе Керенского, но окончательное падение правительства Ленина для них все равно оставалось лишь вопросом времени.
Частично этот затянувшийся оптимизм объяснялся сообщениями посла Фрэнсиса и американского посланника в Швеции Н. Морриса, которым не стоило так доверять, поскольку они, главным образом, основывались на слухах и отражали их собственные представления о желательном развитии событий. Хотя Фрэнсис и не был самым консервативным из послов, кажется, он воспринимал большевиков с особенной неприязнью. Информируя письмом американского консула в Москве о событиях в столице, он упомянул, что сформирован кабинет министров во главе с Лениным и Троцким. «Возмутительно! – заметил он. – Но я надеюсь, что такие усилия будут предприняты, ибо чем более ситуация абсурдна, тем сильнее должны быть средства для ее устранения». Посол дал своим служащим строжайшее распоряжение воздерживаться от любых поступков, которые могут быть восприняты как признание нового правительства, и выразил свое неудовольствие тем, что военные атташе союзников попросили командующего Петроградским военным округом защитить посольства. И устно, и письменно Фрэнсис предостерегал генерала Джадсона от любых контактов с «большевистскими официальными лицами, которые пытаются управлять из Смольного». Союзники считали невозможным признать советский режим, хотя Троцкий, как новый министр иностранных дел, стремился установить с ними дружеские отношения и поинтересовался у эксперта Временного правительства по протоколу, должен ли он первым пригласить послов к себе или они должны прийти к нему сами. Когда ему объяснили, что новый министр должен официально в письменной форме известить их о своем назначении, он ответил, что, хотя такая процедура и была нормальной при прежнем режиме, настоящим условиям она не соответствует. Одна газета сообщала, что Троцкий якобы отправился к Бьюкенену, но ему было отказано в приеме, на самом деле он не делал попыток наладить контакты до конца месяца, да и тогда только в виде письма. Поначалу Троцкий почти не видел разницы между дипломатией и революционной агитацией. Когда один товарищ спросил его, чем он будет заниматься, он ответил: «Я выпущу несколько революционных прокламаций к народам мира, а потом закрою лавочку». Ответ был намеренно пренебрежительным, но являлся весьма характерным для состояния умов советских лидеров, которые не могли подчиниться прежним обычаям и процедурам перед лицом великого события, которое они считали началом мировой революции.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться Троцкому, принявшему руководство Министерством иностранных дел, были такими же, как и у его коллег по новому кабинету министров. Старая бюрократия с единодушной враждебностью относилась к своим новым хозяевам. Только среди низших государственных служащих большевики нашли сочувствующих или по меньшей мере тех, кто не желал присоединиться к саботажу должностных лиц и высокопоставленных служащих. Кабинеты и конторки были заперты, ключи спрятаны. Деньги на текущие расходы нужно было получать из Государственного банка практически под дулом оружия. Когда Троцкий появился в Министерстве иностранных дел и приказал перевести декрет о мире на иностранные языки, помещение покинули шестьсот служащих. Его помощника Михаила Урицкого буквально вышвырнули из архива, когда он пытался достать секретные договоры. Когда их наконец достали, Троцкий пообещал немедленно их опубликовать. Эти документы являются «еще более циничными в своих условиях, чем мы предполагали», заявил он. Договоры начали печататься с 23 ноября в «Известиях», которые стали официальным органом правительства. Предваряя первую публикацию, Троцкий заявил, что тайная дипломатия является «необходимым оружием в руках имущего меньшинства… предназначенным для обмана большинства, чтобы заставить его служить своим интересам», а ее уничтожение – «самым важным деянием честной, народной и по-настоящему демократической внешней политики». И далее: «Открывая всему миру политику правящих классов, какой она представляется в тайных дипломатических документах, – заключало заявление, – мы предлагаем рабочим лозунг, который всегда будет основой нашей внешней политики, – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В течение нескольких месяцев продолжали публиковаться тайные договоры в «Известиях» и в «Правде», но, за исключением коротких выдержек, появившихся в некоторых газетах больших городов, из союзнической прессы только манчестерская «Гардиан» и нью-йоркская «Ивнинг пост» полностью перепечатали эти важнейшие документы. Многие газеты вообще обошли их вниманием, некоторые намекали, что это фальсификация, а остальные преуменьшали важность разоблачения; однако несколько газет, среди которых была нью-йоркская «Таймс», дошли до того, что обвинили большевиков в «позорном деянии», имея в виду предание ими договоров гласности, хотя союзников, как говорится, поймали с поличным.
Тем временем большевики не забыли о своем декрете о мире. 21 ноября советское правительство разрешило братание с неприятельскими солдатами на всех фронтах и приказало главнокомандующему генералу Николаю Духонину связаться с «военными властями армий противника и предложить немедленно прекратить боевые действия с целью начать переговоры о мире». В тот же день Троцкий официально информировал послов союзников о существовании нового правительства и привлек их внимание к декрету о мире, который следовало рассматривать как «официальное предложение перемирия на всех фронтах и немедленное открытие переговоров о мире». Он корректно уверял каждого посла в «глубоком уважении», с которым советское правительство относится к народу своей страны, но гораздо более бесцеремонно добавлял, что этот народ «так же стремится к миру, как и все другие народы, истощенные и обескровленные этой беспримерной бойней». Представителям нейтральных стран были разосланы циркуляры с требованием передать предложение о перемирии неприятельским правительствам «Массы трудящихся нейтральных стран, – говорил Троцкий, – глубоко страдают в результате этой преступной мясорубки, которая, если ей не будет положен конец, угрожает втянуть в свою воронку те немногие народы, которые пока еще стоят в стороне от войны».
Послы союзников собрались на общую встречу для обсуждения ноты и приняли решение игнорировать ее. Каждый посол согласился просить свое правительство не отвечать на нее, поскольку «представившее ноту правительство» было «установлено при помощи силы» и не было «признано русским народом». Выступая от имени британского правительства лорд Сесил заявил, что эта акция, «предпринятая экстремистами в Петрограде… если (она) будет одобрена и поддержана русским народом, практически поставит страну вне границ обычных представлений Европы», но что он не думает, что «русский народ поддержит эту акцию или одобрит призыв… открыть вдоль всей линии фронта мирные переговоры с неприятелем через траншеи».
Находившийся в верховной ставке русских в Могилеве генерал Духонин и виду не подавал, что получил инструкции обратиться к врагу с предложением о перемирии. Когда 22-го с ним связались по прямому проводу, на все вопросы он отвечал уклончиво, но в конце концов признал свое нежелание подчиняться приказам. Только правительство, «которое поддерживает армия и страна, может иметь достаточный вес, чтобы повлиять на врага», заявил он. Генералу тут же было объявлено об увольнении за «отказ выполнять приказы правительства и за продолжение курса, который принесет трудящимся всего мира неисчислимые страдания». Ему было приказано оставаться на посту до прибытия нового главнокомандующего, прапорщика Николая Крыленко, ветерана большевистской пропаганды. Ленин и Крыленко срочно выпустили прокламацию с обращением к солдатам, объясняющую причину смены главнокомандующего и уполномочивающую отделения на фронте выбрать своих представителей для переговоров о перемирии. Как бы предостерегая от расправы с Духониным, войскам косвенно рекомендовалось не прибегать к эксцессам: «Вы не допустите, чтобы контрреволюционные генералы погубили великое дело мира. Вы окружите их охраной, которая не допустит самосуд, недостойный революционной армии, вы проследите, чтобы эти генералы не избегли суда, который их ждет».
23 ноября Крыленко отправился в ставку и спокойно приступил к устранению генералов, которым нельзя было доверять, и к укреплению влияния большевистского режима на фронте. Духонин ответил энергичным протестом, но, поскольку он был лишен открытой поддержки военных союзников и дипломатических представителей, положение его было изолированным и опасным. Главы многочисленных военных миссий союзнических стран, аккредитованных при ставке (за исключением Соединенных Штатов), 23 ноября направили ему официальную ноту, протестуя против предложенного перемирия и призывая вспомнить договор от 5 сентября 1914 года, согласно которому союзные государства договорились не заключать сепаратного мира. В заключение нота предупреждала, что любое нарушение этого договора «повлечет за собой самые серьезные последствия». Этим опрометчивым шагом союзники не только сделали открытое заявление через голову насильно захватившего власть правительства, но и явно угрожали ему, что всеми было понято как возможность призвать Японию напасть на Россию с тыла. Бьюкенен, чье дипломатическое чутье превалировало над его антибольшевистской позицией, счел этот шаг неблагоразумным и вредным. Сообщалось, что в Вашингтоне, где не знали о готовящемся протесте союзников, восприняли известие о нем с большой долей скепсиса, считая его «частью германской пропаганды с целью ввести весь мир в заблуждение и возбудить в России возмущение против союзников». Духонин приказал отпечатать ноту на листовках и распространить среди войск.
Троцкий стремительно отреагировал на эту слабую попытку патриотической пропаганды, выпустив гневное заявление, адресованное всем воинским подразделениям и местным советам, обвинив союзников в «наглом вмешательстве во внутренние дела нашей страны с целью привести нас на грань гражданской войны». Солдат призывали продолжить борьбу за немедленное перемирие: «Народы Европы не позволят своим империалистическим правительствам нанести вред русскому народу, который не повинен ни в каких преступлениях и желает только установить мир и утвердить братство людей. Дайте всем нам понять, что солдаты, рабочие и крестьяне России свергли правительства царя и Керенского не для того, чтобы стать пушечным мясом для империалистических союзников».
Призыв Троцкого, хотя и помог зажечь солдат ненавистью к тем, кто продолжает войну, не оказал заметного воздействия ни на союзников, ни на Духонина. 24 ноября шефы миссий союзников снова обратились к главнокомандующему, выразив просьбу «сделать все возможное, чтобы прояснить обращением ко всем политическим партиям, как и к армии, что честь и патриотизм требуют от них принятия всех мер для сохранения и укрепления на фронте порядка и дисциплины». Жорж Клемансо, который всего за неделю до этого стал новым премьер-министром Франции, в своей телеграмме просил французского военного представителя сообщить Духонину, что Франция отказывается признать советское правительство и что от Верховного главнокомандующего ожидают «категорического отказа от всех преступных переговоров» и «удержания российской армии на фронте против общего врага». В ноте военным властям большевиков генерал Джадсон, американский военный атташе в Петрограде, приводит текст опубликованной в Соединенных Штатах статьи, информирующей, что России не будет оказываться помощь до «формирования прочного правительства», и предостерегает, что, хотя официальный Вашингтон не подтвердил положения статьи, смысл заверения передан, безусловно, точно. Хотя полковник Томпсон попытался смягчить этот удар, заверив, что поставки по линии Красного Креста будут продолжаться и впредь, «Известия», отражая усилившуюся напряженность в отношениях России с Западом, раздраженно заметили в редакционной статье, что «североамериканские плутократы», кажется, «готовы обменивать локомотивы на головы русских солдат». «Русский народ заинтересован в экономических и политических отношениях с союзниками, но не желает платить за них кровью, к удовлетворению Клемансо и нью-йоркских королей военной индустрии». Джадсон поспешил заверить большевиков, что его письмо вовсе не означает, что американское правительство выражает предпочтение успеху «какой-либо одной политической партии или элемента над другими». И хотя очевидность показывает, что «ни одна значительная фракция русского политического спектра не желает немедленного сепаратного мира или перемирия, – сказал Джадсон, – у России есть полное право «поднять вопрос об общем мире».
Какой бы смягчающий эффект ни имело второе заявление Джадсона, он был быстро сведен на нет двумя другими нотами, адресованными Духонину: одна от подчиненного Джадсона, лейтенанта-полковника Монро Керта, а другая – от генерала Лаверне, главы французской военной миссии при ставке. Нота Лаверне только повторяла замечания Клемансо; Керт же, действуя по инструкции французов, впервые сделал Соединенные Штаты участником общего протеста союзников против предлагаемого перемирия. Однако его протесту приходилось основываться скорее на нравственных соображениях, чем на официальных, поскольку Соединенные Штаты не были участником договора 1914 года. В ответ на эти дополнительные протесты со стороны союзников Троцкий заявил, что больше невозможно мириться с таким положением дел. «Советское правительство, – заявил он, – не может позволить дипломатам и военным агентам союзников по любой причине вмешиваться во внутреннюю жизнь страны и разжигать гражданскую войну. Дальнейшие шаги в этом направлении немедленно спровоцируют самые серьезные осложнения, ответственность за которые Совет народных комиссаров заранее с себя снимает».
Эти взаимные обвинения задерживали заключение перемирия, которое, не будучи официально оформлено договором, на деле уже некоторое время существовало. 26 ноября был установлен контакт с германцами на фронте, и через два дня был объявлен официальный приказ прекратить огонь. В отдельных посланиях послам и военным атташе Троцкий снова пригласил союзников принять участие в предварительном обсуждении, назначенном на 2 декабря. Помимо этих приглашений, посланных Троцким в качестве министра иностранных дел, как революционный агитатор он выпустил манифест, обращенный к народам воюющих стран. Переговоры о перемирии отложены на пять дней, заявил он, с тем чтобы предоставить союзникам еще одну возможность присоединиться к обсуждению вопроса. До сих пор единственный их ответ состоял в том, что они отказались признать советское правительство. «Правительство победившей революции не нуждается в признании капиталистических дипломатов, но мы спрашиваем народы: выражает ли реакционная дипломатия их интересы и чаяния? позволят ли они такой дипломатии упустить величайшую возможность мира, предложенную русской революцией?.. Мы хотим общего мира, но, если буржуазия стран-союзниц принудит нас заключить сепаратный мир, ответственность ляжет на них».
Правительства союзников могли позволить себе промолчать, поскольку европейские народы, даже если они действительно созрели для революции, как полагали большевики, ничего или очень мало знали об этих увещевательных прокламациях. Только Британия в каком-то смысле ответила на повторное приглашение к переговорам о перемирии. Посольство опубликовало в Петрограде заявление, утверждающее, что союзников «поставили перед свершившимся фактом» о большевистских переговорах о перемирии и что «посол Великобритании вряд ли может отвечать на ноты, адресованные ему правительством, которое не признано его собственным правительством». Более того, указывало посольство, «правительства, которые, подобно правительству Великобритании, получили власть непосредственно от избравших их народов, не имеют права решать столь важные проблемы, пока их точно не проинформируют, будет ли решение, которое они намерены принять, встречено полным одобрением и поддержкой их избирателей». Этот ответ был явным уклонением от решения насущного вопроса – согласятся или нет союзники присоединиться к переговорам о мире, и обмен подобными заявлениями только еще больше ухудшил отношения между союзниками и Россией.
Генерал Джадсон, преимущественно по собственной инициативе, 1 декабря навестил Троцкого в Смольном, желая смягчить обострившуюся дипломатическую ситуацию. Хотя между ними, вероятно, имелось взаимное недоверие, встреча прошла вполне в дружеской атмосфере. Генерал подчеркнул неофициальный характер своего визита и заявил, что «время для протеста и угроз советской власти миновало, если и вообще когда-то имело место». Разговор велся по поводу перемирия, и Троцкий согласился всеми силами затягивать переговоры и иметь в виду интересы союзников по таким вопросам, как перемещение войск и обмен пленными и боевыми трофеями. Первая беседа советского лидера с официальным представителем одного из союзников встретила живейший интерес как в России, так и за границей. Там большинство комментариев были негативными, поскольку сам факт такой беседы отчасти воспринимался как признание правительства большевиков, и в письме, адресованном Фрэнсису, Государственный департамент не замедлил сделать замечание Джадсону по поводу нарушения им запрета на прямые контакты с советским режимом. И хотя Фрэнсис заранее полностью одобрил визит Джадсона, он быстро присоединился к остальным дипломатическим и военным представителям, выразив свое осуждение и сообщив в Вашингтон, что этот шаг был предпринят без его ведома и одобрения. Злополучный Джадсон, один из немногих официальных лиц союзников, который не позволял своей антибольшевистской настроенности отражаться на своих суждениях, был отозван уже через несколько недель.
Улучшение отношений, которое могло произойти в результате беседы между Джадсоном и Троцким, не произошло. Как раз в это время Британия участвовала в дискуссии относительно двух большевиков, Петра Петрова и Георгия Чичерина, которые были задержаны в Лондоне за свою пропагандистскую деятельность. Троцкий хотел использовать их в советском Министерстве иностранных дел, особенно Чичерина, который и при царском режиме был служащим Министерства иностранных дел. Бьюкенен проигнорировал обращение Петроградского Совета по поводу их освобождения, и в отместку ему было заявлено, что отныне ни одному британскому гражданину не будет позволено покинуть страну, пока двум пленникам не позволят вернуться в Россию. Более того, Троцкий пригрозил арестовать посла якобы за его контрреволюционную деятельность по поручению неких белых генералов, позднее пытавшихся собрать белые армии на юге России. Бьюкенен посоветовал правительству смягчить свою позицию. «В конце концов, – признал он, – в аргументах Троцкого есть своя логика, ибо, если мы заявляем о своем праве арестовать русских за мирную пропаганду в стране, которая намерена продолжать войну, он имеет такое же право арестовать англичан, которые ведут военную пропаганду в стране, стремящейся к миру». Лондон согласился пойти на компромисс, и вскоре советское заявление было аннулировано, и двое русских вернулись на родину.
Не имея возможности предотвратить переговоры о перемирии с Германией и вместе с тем серьезно озабоченные перспективой потери второго фронта в борьбе против общего врага, растерянные союзники, на которых со всех сторон сыпались противоречивые советы, никак не могли решить, какую тактику избрать в отношениях со своим странным союзником, с этой непонятной Россией, чьи вожди воспринимались многими влиятельными людьми, как внутри, так и вне правительства, гораздо более опасными для традиционных нравственных ценностей западной цивилизации, чем германские автократы, против которых предположительно и велась война. Все соглашались в том, что большевизм – учение зловредное и что неодобрение и непризнание исповедующего зловредные взгляды правительства, хотя номинально оно является союзническим, было бы правильным и с нравственной, и, возможно, с политической точки зрения. Но до тех пор, пока сепаратный мир не стал реальностью, политическая мудрость такой тактики подвергалась бесконечным сомнениям и разногласиям.
Некоторое время союзники возлагали надежды на генерала Духонина, считая, что он сможет противостоять мирным планам большевиков. Но надежды рассыпались в прах, как только генерал был снят с поста Верховного главнокомандующего, и, хотя в своих многочисленных страстных манифестах он продолжал взывать к армии и ко всему народу, он не имел реальной возможности как-либо повлиять на ситуацию. Известные социал-революционеры отправились в Могилев, считая его возможным центром противостояния большевикам, но, разочаровавшись, вскоре вернулись в Петроград. К великому исходу присоединились военные миссии союзников, выехав 1 декабря в Киев. Через два дня в ставку наконец прибыл Крыленко и обнаружил, что местный гарнизон уже взбунтовался. Все были настроены против Духонина, особенно после известия о бегстве Корнилова и других генералов. Разъяренные солдаты собрались перед личным вагоном Крыленко, где содержался отставной главнокомандующий. И хотя Крыленко почти искренне желал сохранить жизнь своему пленнику, неистовствующая толпа ворвалась в вагон и вытащила генерала наружу. Там его жестоко избивали, пока он не потерял сознание, а затем какой-то матрос дважды выстрелил в него, и генерал скончался.
Откровенная неспособность военных миссий союзников помешать большевикам заключить перемирие побудила Бьюкенена рекомендовать резкую смену тактики. 27 ноября он убеждал Лондон, что не имеет смысла заставлять воевать истощенный народ против его желания. «Если мы будем цепляться за то, что причитается нам по праву, и настаивать, чтобы Россия выполнила данные ею обязательства по договору 1914 года, мы будем только играть на руку Германии, – предупредил он. – Каждый день, который мы удерживаем Россию в войне против ее желания, только восстанавливает ее народ против нас». Сейчас вряд ли кто стал бы оспаривать мудрость этого утверждения. Но в то время идея «получить все, что причитается нам по праву», имела страстных приверженцев, твердо убежденных, что решительная позиция против большевизма и против сепаратного мира заставит русский народ вернуться к патриотизму и справедливости. Большевизм считался явлением греховным, с которым нельзя было мириться, и праведно мыслящие государственные деятели союзников так же естественно выступали против него, как возражали против притонов для курения опиума или публичных домов.
Предложение Бьюкенена было очень своевременным, поскольку 29 ноября в Париже должна была состояться долгожданная конференция союзников, на которой Керенский надеялся добиться пересмотра целей войны. На следующий день помощник министра иностранных дел Бальфур прочитал обращение посла собравшимся представителям, но помимо Бальфура только полковник Хаус из Соединенных Штатов выразил согласие с предложенной им тактикой. Клемансо выдвинул свои возражения, а барон Сидни Соннино, министр иностранных дел Италии, был настроен еще более враждебно. Когда Маклакова, который все еще сохранял свой анахронический статус посла России во Франции – и продолжал эту работу до тех пор, пока Троцкий официально не сообщил ему об отставке за участие в парижском совещании, – спросили о его мнении, он присоединился к Клемансо и Соннино и предложил направить в Россию резолюцию, заявляющую, что союзники «приступят к пересмотру целей войны вместе с Россией, как только появится правительство, которое понимает свой долг перед страной и намерено защищать интересы своей страны, а не врага». Хаус, который считал Соннино «ультрареакционером», энергично выступал за пересмотр целей войны, но открыто увязывал эту идею с заявлением, которое нанесло бы намеренное оскорбление советскому правительству. Объявить об изменении целей войны было необходимо не только из-за событий в России, нужно было также принимать во внимание растущие мирные настроения в Западной Европе. Это стало ясно в самый день открытия конференции благодаря публикации в лондонской «Дейли телеграф» письма лорда Генри Лэндсдауна, пожилого государственного деятеля безупречно консервативных взглядов, который высказал предположение о допустимости проведения переговоров о мире. Хаус предложил конференции ограничиться хотя бы кратким заявлением о том, что союзники ведут войну не с целью агрессии или контрибуции. Его предложение встретило слабую поддержку, и Ллойд Джорджу с трудом удалось добиться объединения предложенных Хаусом и Маклаковым резолюций в одну. И снова американский представитель выдвинул возражения, и тогда Соннино взял на себя труд составить приемлемое заявление. Результат его попыток был одобрен всеми делегатами, за исключением Хауса, который решительно заявил, что Соединенные Штаты никогда не подпишут документ, идущий вразрез с прогрессивными идеями, о которых так часто заявлял в своих речах Вильсон. Его выступление заставило конференцию отвергнуть данную резолюцию, и наконец делегаты договорились, что каждая страна пошлет ноту по своему собственному усмотрению, но главное, в ней непременно будет заявлено, что союзники готовы пересмотреть свои военные цели вместе с Россией, как только у нее появится основанное на прочном фундаменте правительство, с которым они смогут сотрудничать.
Итоги конференции подчеркнули продолжающееся отдаление России от Запада, которое стало так заметно с момента победы большевистской революции. Хаус отправился в Соединенные Штаты, более чем когда-либо убежденный, что необходимо сформулировать определенный и либеральный базис для мирного договора и что, поскольку союзники отказались взять на себя инициативу, его сможет сформулировать Америка, технически находящаяся в положении «присоединившейся» страны. Позднее эту брешь в моральном вооружении демократов заполнило знаменитое послание Вильсона из «четырнадцати пунктов». Но еще в тот момент президент подчеркнул, что думает об этой проблеме, тесно увязывая с ней «русский вопрос». «Я не могу не думать, – сказал он в своем послании к конгрессу 4 декабря, призывая объявить войну против Австрии, – что если бы они (либеральные цели войны) с самого начала были ясными, то можно было бы привлечь на сторону союзников симпатии и энтузиазм русского народа, были бы устранены все подозрения и недоверие и образовался бы настоящий и прочный союз. Если бы они верили в эти цели в момент революции и если бы их и далее поддерживали в этой вере, то можно было бы избежать прискорбного переворота, который помешал их продвижению к законному и прочному правительству свободных людей».
А тем временем представители этого незаконного и непрочного правительства, которое, по намекам Вильсона, в настоящий момент определяло судьбы своего народа, пыталось сделать свое правление если не более законным, то более прочным, приступив к переговорам о перемирии с Центральными государствами в Брест-Литовске, который находился в российской Польше, где после отступления русских в июле 1916 года германцы устроили свою штаб-квартиру на Восточном фронте. Переговорный процесс в Брест-Литовске, который дал мир России только в марте, для множества официальных и неофициальных представителей союзников в Петрограде стал периодом тревог, разочарования и неопределенности. Они пребывали в добровольной изоляции, на которую их обрекали собственное отвращение к советскому правительству и запрет их правительств идти даже на малейшие контакты, необходимые для повседневного исполнения дипломатических обязанностей. Эта неловкая ситуация была отчасти устранена благодаря услугам неофициальных агентов, которые служили связующим звеном между Смольным и посольствами и от которых можно было отказаться в любое время, когда бы ни потребовала этой жертвы дипломатическая крайность.
Главными эмиссарами в этих конфиденциальных контактах были Раймонд Робинс для Соединенных Штатов, Брюс Локарт для Великобритании и капитан Жак Садул для Франции. Эти люди обладали инициативой и широким кругозором, качествами, которых так явно не хватало послам, и, хотя к советскому режиму они относились весьма критически, здравый смысл позволял им воспринимать революцию как свершившийся факт и судить о ходе событий с наибольшей объективностью. Вследствие частых встреч с Лениным и Троцким они прониклись восхищением идеализмом и твердостью воли двух лидеров, какой бы жестокой их борьба ни оказалась на практике, и единодушно отвергали поспешное утверждение, что большевики состояли на оплате Германии или подчинялись интересам германской политики. Троцкий был «четырежды проклятым сукиным сыном, но величайшим после Христа евреем, – заметил Робинс. – Если Генеральный штаб Германии действительно купил Троцкого, то зря потратил деньги».
Садул прибыл в октябре с французской военной миссией, возглавляемой генералом Анри Нисселем. Социалист и близкий друг Альбера Тома, который и рекомендовал его в миссию, он познакомился с Троцким еще во время пребывания того в Париже. Партнерство Робинса и Томпсона было прервано в конце ноября, когда Томпсон покинул Россию, сильно озабоченный слепотой политики союзников и с надеждой, что если в Петрограде этого не исправишь, то в западных столицах что-то еще можно сделать. Он прибыл в Лондон слишком поздно, чтобы встретиться с полковником Хаусом, но благодаря своему другу Томасу У. Ламонту, известному нью-йоркскому финансисту, встречался и разговаривал со многими официальными лицами Британии, включая премьер-министра. Томпсон объяснял, что вместо того, чтобы с отвращением и брезгливостью отворачиваться от русского народа, следует сочувственной политикой побудить его сотрудничать с союзниками, насколько он в силах. Противостояние правящему режиму в России только толкает страну в объятия Германии. «В настоящее время они – ничьи большевики, – заявил он Ллойд Джорджу. – Не позволим же Германии сделать их своими большевиками, пусть они станут нашими большевиками!» Совет Томпсона произвел на Ллойд Джорджа сильное впечатление, и он решил изменить политику, и в качестве первого шага отправил в Россию представителя, который должен был выразить намерение установить с новым правительством неофициальные отношения.
Затем Томпсон отправился в Соединенные Штаты, увозя с собой просьбу премьер-министра рассказать Вильсону об их разговоре и попытаться получить от него конкретные предложения по улучшению отношений между Россией и союзниками. У Томпсона было обнадеживающее чувство, что его советы наконец приобретают вес в дипломатических кругах союзников и что встреча с президентом таким же образом повлияет на американскую политику. Он быстро разочаровался в своих надеждах, когда попытался получить интервью в Белом доме. Через своего чиновника Вильсон сообщил ему, что не желает разговаривать с человеком, который потратил миллион долларов на политические цели. Томпсон не прекращал попыток оказать на Вильсона влияние, и постепенно консерваторы стали воспринимать его как апологета большевиков, столь энергично он добивался поддержки и возможного признания советского правительства, считая это лучшим средством отдалить заключение сепаратного мира. Прошел слух, что миллион Томпсона был потрачен на большевистскую пропаганду, и никакие опровержения не могли заставить людей поверить в настоящие цели Томпсона. С другой стороны, большевики в России использовали злосчастный миллион долларов Томпсона как эффективную пропаганду с целью дискредитировать Бреховскую и ее фракцию эсеров за то, что она приняла деньги от американского капиталиста. «И эти политические проститутки, которые продают русский народ за деньги союзников, – гневно восклицала «Правда», – осмеливаются обвинять большевиков в том, что они получают деньги от Германии! Воистину, трудно пасть ниже. Предатели социализма барахтаются в навозной жиже».
Бывшую квартиру Томпсона в Петрограде занял Эдгар Сиссон, чье прибытие совпало с отъездом Томпсона. В его распоряжении оказались 250 тысяч долларов на цели «образования», и он немедленно принялся организовывать новую пропагандистскую службу с отделениями в Петрограде и в Москве. Переведенная на русский речь Вильсона от 4 декабря в количестве пятидесяти тысяч экземпляров была расклеена в Петрограде на газетных щитах, а еще триста тысяч экземпляров были отпечатаны в виде листовок. В своей работе Сиссон был тесно связан с Робинсом, пока резкие разногласия по поводу России и большевизма не привели к разрыву их дружеских отношений. Сиссон относился к советскому режиму с неизменной враждебностью, тогда как Робинс, подобно Томпсону, убедился в том, что союзники не могут надеяться восстановить Восточный фронт, если будут противостоять тем, кто на горе или на счастье правят Россией. Он понимал, что на данный момент большевики прочно держатся у власти и что легкомысленные предсказания об их скором свержении не более чем пустая болтовня. Более того, если не заручиться сочувствием нового правительства, запасы Красного Креста могли быть конфискованы как контрреволюционная собственность. Вскоре после ноябрьской (Октябрьской) революции Робинс, настроенный достигнуть примирения, навестил Троцкого, чтобы поговорить о будущем статусе Красного Креста. Приверженцев Керенского явно недолюбливали в кабинете Троцкого, но Робинсу удалось умиротворить его, говоря о Временном правительстве как о трупе, а труп следует «захоронить, а не сидеть рядом с ним».
Троцкий проявил готовность к сотрудничеству, лично разрешив отправить запасы, находящиеся в тридцати двух товарных вагонах, из Петрограда Красному Кресту в Румынию. Затем по просьбе Робинса он проследил за тем, чтобы из Мурманска в Петроград были доставлены четыреста тысяч банок концентрированного молока для раздачи голодным, и конфисковал пятьдесят четыре вагона с контрабандным сырьем, которые были готовы к отправке в Финляндию, а оттуда через Швецию должны были оказаться в Германии. Для Робинса этот факт был убедительным доказательством того, что советские лидеры не были прихвостнями германцев. Он поддерживал с Лениным и Троцким дружеские отношения и оказался таким ценным источником информации для Фрэнсиса, что посол, несмотря на свою явную антипатию к большевикам, испросил у Государственного департамента разрешение отозвать приказ, запрещающий Робинсу посещать Смольный.
Локарт, третий член неофициального триумвирата союзников, появился на сцене гораздо позже Садула и Робинса. С 1912 года он служил в британском консульстве в Москве и осенью 1917 года был отозван в Лондон под предлогом пошатнувшегося здоровья, но на самом деле с целью избегнуть скандала в связи с громкой любовной историей. Возможно, единственный человек в Англии с опытом дипломатической работы, который не понаслышке знал о недавних событиях в России, Локарт стал естественным кандидатом на место специального агента в России, которое после разговора с Томпсоном решил учредить Ллойд Джордж. Он встречался со многими людьми политической или общественной значимости и всеми силами боролся с глубоко укоренившимся убеждением, что советские лидеры были платными агентами Германии. Его успехи в этом отношении были незначительными, и, хотя с ним благосклонно соглашались, что было бы безумием не установить контакта с людьми, которые сейчас правили Россией, какими бы ни были их политические взгляды, в отношении к России преобладали ненависть к большевизму и опасение, что он может проникнуть и в Англию.
Молодой, самоуверенный, временами даже нахальный, Локарт произвел на Ллойд Джорджа благоприятное впечатление во время их первой встречи, и ему тут же сообщили, что его решено направить в Петроград. Данные ему инструкции – помимо задания установить неофициальные отношения с большевиками – были довольно неясными. Если советские лидеры готовы были принять Локарта как неофициального представителя, британское правительство обещало предоставить такие же уступки Максиму Литвинову, только что назначенному русским послом в Англии. Благодаря содействию посредников Локарт добился встречи с Литвиновым, который, не сумев после мартовской (Февральской) революции получить паспорт для отъезда в Россию, оставался в Англии. Литвинов написал рекомендательное письмо Троцкому, в котором назвал Локарта «чрезвычайно честным человеком, который понимает наше положение и сочувствует нам», чье временное пребывание в России будет «полезным с точки зрения наших интересов».
Локарт и его небольшая группа прибыли в Петроград только в конце января 1918 года. Во время долгого и трудного путешествия он встретился и имел короткую беседу с возвращавшимися в Англию Бьюкененом, Ноксом и другими служащими посольства. Из-за болезни посла и прибытия новой миссии, которой предстояло получить полномочия, британское правительство отозвало большинство своего петроградского штата и оставило посольство на руки своего временного поверенного.
Недели, прошедшие между началом переговоров о мире и отзывом Бьюкенена, были омрачены несколькими инцидентами, доказывающими плохие отношения между Россией и Западом. Одним из самых известных – хотя и неоправданно – было дело Калпашникова. Этот русский офицер, служащий в американском Красном Кресте, был посажен в тюрьму за предполагаемые связи с генералом Алексеем Калединым и его Белой армией на юге России. По странной прихоти судьбы в том же году Калпашников приезжал в Соединенные Штаты по линии российского Красного Креста, чтобы получить несколько автомобилей скорой помощи, и по возвращении домой его попросили исполнить обязанности переводчика при допросе Троцкого, тогда бывшего британским заключенным в Галифаксе. Калпашников согласился, и в результате вождь красных недоброй памятью запомнил его участие в том неприятном эпизоде. Автомобили прибыли в Петроград слишком поздно, чтобы быть использованными на фронте, и их должны были переправить вместе с другими машинами и запасами в Яссы, в Румынию, чтобы использовать там. В начале декабря в американское посольство поступил приказ полковника Генри Андерсона, главы миссии Красного Креста в Румынии, отправить машины в Ростов, в столицу донского казачества. Приказ выполняли Фрэнсис вместе с Калпашниковым, но Робинс заподозрил, что машины предназначалась штаб-квартире Каледина, в то время находящейся в Ростове. Андерсоном руководило желание не допустить, чтобы материалы попали в руки германцев, поскольку Румыния, жизнь в которой во время войны была не легче, чем в России, тоже рассматривала возможность заключения сепаратного мира. Какими бы подозрительными ни казались обстоятельства большевикам, вскоре приказ отправить товары в Ростов был отменен, и отгрузка была переориентирована на Яссы. Таким образом, Андерсона нельзя было обвинить в каких-либо сношениях с Калединым на основании этого единственного доказательства. В то же время положение Калпашникова давало более широкий простор для подозрений, ему не дали закончить отправку состава в Яссы, арестовали и заключили в Петропавловскую крепость.
Робинс отправился в Смольный, чтобы все объяснить, и обнаружил, что вместе с Андерсоном и Фрэнсисом и его самого подозревают в участии в заговоре. Но так как он был американским гражданином и обладал значительным влиянием, его арест сочли нежелательным, тем более на основании весьма шатких улик. К счастью для Робинса и его незапятнанной репутации, которая создалась у него в Смольном, у Калпашникова было обнаружено письмо к Андерсону, в котором он жалуется на нежелание Робинса оказывать помощь, и вскоре к нему опять стали относиться благосклонно. Троцкий невероятно раздул это дело – куда больше, чем оно стоило, – обвинив Фрэнсиса в соучастии в предполагаемом заговоре. «Этому сэру Фрэнсису придется прервать свое золотое молчание, которое он хранит с момента революции», – гремел он, выступая в Александровском театре с речью, обращенной к большевистской аудитории. Послам союзников предстояло понять, «что с того момента, как они вмешиваются в нашу внутреннюю борьбу, они перестают быть дипломатическими представителями и становятся частными лицами, контрреволюционными авантюристами, и они могут быть уверены, что на них обрушится карающая рука революции!». Фрэнсис представил детальное опровержение всех обвинений, и, хотя они не убедили советское правительство, его оставили в покое. Калпашников же как гражданин России принял на себя главный удар официальной ярости и был оставлен в тюрьме. В мае он был освобожден, вероятно, из-за отсутствия доказательств, и в сентябре того же года ему удалось выехать из России по фальшивым документам.
Большевики верно оценили заинтересованность союзников в Каледине, которой позднее суждено было вырасти в открытую поддержку Белой армии, которая тогда только формировалась на территории России, но неудачно выбрали дело Калпашникова для разоблачения этой заинтересованности. Соединенные Штаты, в целом относящиеся к советскому режиму менее враждебно, чем Британия и Франция, официально тоже придерживались тактики непризнания, но в то же время считали необходимым придерживаться политики невмешательства во внутренние дела России. Американские представители в России, было «авторитетно заявлено» 26 декабря в Вашингтоне, будут «старательно избегать любого вмешательства во внутреннюю политику страны» и «предоставят русскому народу самому выработать меры своего спасения, свободные от любого американского вмешательства». И тем не менее в телеграмме, отправленной двумя неделями раньше, Лэнсинг просил американского посла в Лондоне проконсультироваться с «соответствующими британскими и французскими властями» относительно займа Каледину и напоминал ему «о необходимости действовать срочно и убедить тех, с кем вы будете говорить, ни в коем случае не допустить утечки информации о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность выказать сочувствие движению Каледина, тем более предоставить ему финансовую помощь». Вильсон в ярком примере раздвоения его представлений о российской проблеме высказал свое «полное одобрение» посланию относительно Каледина. Но карьера генерала резко оборвалась в феврале, когда осознание безнадежности своего военного положения заставила его совершить самоубийство. Хотя надежды, которые возлагали на него Лэнсинг и другие лидеры союзников, оказались иллюзорными, другие лидеры белых были готовы и стремились заполнить эту брешь в движении против большевиков тем увереннее, что могли рассчитывать на моральную и материальную поддержку из-за границы.
Другой знаменитый случай в отношениях между Россией и союзниками произошел всего через несколько недель после дела Калпашникова и фактически был эпизодом необъявленной маломасштабной войны между Россией и Румынией. Это было дело Диаманди. Румынский министр Константин Диаманди был взят под стражу за враждебное отношение и арест нескольких подразделений русской армии в Румынии. После установления перемирия с Германией большая часть русских формирований на Юго-Западном фронте попыталась отступить через румынскую территорию. Оказавшись между недружелюбно настроенными румынами и австрийцами и столкнувшись с растущей угрозой сепаратистского движения Украины, организованного вокруг Центральной рады в Киеве, русские солдаты, вынужденные жить за счет этой страны или умирать с голода, постоянно попадали в неприятные инциденты со своими бывшими товарищами по оружию. Арест Диаманди 13 января 1918 года был ответной мерой со стороны России, которая побудила выступить с немедленным протестом весь дипломатический корпус, находившийся в Петрограде.
На следующий же день Фрэнсис, ставший после отъезда Бьюкенена дуайеном дипкорпуса, привел своих коллег из союзнических и нейтральных посольств в количестве девятнадцати человек в Смольный для заранее оговоренной встречи с Лениным. Тот любезно принял их, молча выслушал зачитанный американским послом коллективный протест, а затем предложил обсудить этот вопрос. Фрэнсис сдержанно ответил, что, когда речь идет о нарушении дипломатического иммунитета, какие-либо обсуждения невозможны. Несмотря на решительный тон его замечания, встреча затянулась еще на час, так как один из послов начал читать Ленину лекцию о незаконности этого поступка и пригрозил покинуть Россию, если Диаманди не будет выпущен на свободу. Ленин заявил, что его не столько беспокоят тонкости международных законов, сколько судьба русских солдат, но пообещал сообщить о своем решении вечером, после совещания Совета народных комиссаров. На следующий день министр был освобожден, предположительно, после обсуждения этого вопроса на совещании. В тот же день «Правда», вероятно желая сохранить лицо, необоснованно заявила, что Фрэнсис согласился заявить протест Диаманди после его освобождения относительно обращения Румынии с русскими солдатами. Это голословное утверждение вызвало естественное возмущение Диаманди, которое улеглось, когда Фрэнсис опроверг его. 24 января Диаманди было дано десять часов на то, чтобы выехать из страны, а румынский золотой резерв, вывезенный ранее во время войны в Москву для сохранности, было приказано «сохранить как собственность румынского народа и не допускать к нему румынскую олигархию». Видимо, эти деньги были конфискованы в пользу России в качестве частичного восполнения потери Бессарабии, когда через несколько недель она была официально аннексирована Румынией.
Конечно, на протяжении долгого времени эти дипломатические инциденты при всей их болезненности не оказывали серьезного отрицательного влияния на отношения между Россией и союзниками; скорее они явились симптомами более серьезной болезни, которая по-прежнему отравляет отношения между Востоком и Западом. В качестве коренных причин этого конфликта многими рассматривается большевизм (или коммунизм); те же, кто придерживаются противоположной точки зрения, считают его причиной капитализм. Однако проблема дремала до тех пор, пока ноябрьская (Октябрьская) революция вдруг не объявила, что существовавший доныне капитализм не может считаться официальной доктриной великого народного государства. Но даже это фундаментальное различие не означало неизбежный раскол. Пока шла война, в глазах союзников германская угроза была опаснее угрозы большевизма, хотя так думали далеко не все их лидеры. И большевистская Россия, какую бы разрушительную силу она ни исповедовала по отношению к ранее установленному порядку, несомненно, по-прежнему была бы партнером по общей борьбе, хотя и вызывающим некоторую настороженность, если бы только ее лидеры продолжали участвовать в войне. Но в данных обстоятельствах логичным и необходимым выбором был мир. Союзники оказались перед серьезной проблемой: милостиво согласиться на него или решительно отвергнуть и вследствие этого оттолкнуть от себя русский народ.
Несмотря на различные и зачастую противоречивые советы, возобладал второй подход Последовал двухлетний период интервенции, принесшей народу России огромные страдания; и если в начале интервенция оправдывалась предлогом борьбы с Германией, то потом стало ясно, что она преследует лишь одну цель – уничтожение большевизма. Но утверждать, что интервенция была результатом заговора капиталистического мира, рассчитанного на уничтожение экономической ереси в самом ее зародыше, – значит чрезмерно упрощать политику союзников, которая в то время основывалась на сиюминутной импровизации, без четкой и рациональной стратегии. Соединенные Штаты, будучи такой же мощной капиталистической страной, как Британия и Франция, постоянно отставали от своих более агрессивных антибольшевистских партнеров, являясь их неохотным и строптивым пособником.
Новые правители России, бывшие сначала международными, а затем ставшие русскими революционерами, всеми доступными средствами и с тонко развитым чувством справедливости пытались подорвать капиталистический порядок, где бы он ни существовал, и, хотя их оптимистическим надеждам не суждено было осуществиться, действенность большевистской пропаганды, с точки зрения интервентов, служила достаточным оправданием – если они вообще думали о необходимости «оправдания» того, что казалось таким справедливым и праведным делом, – для вооруженного нападения на страну, где впервые проявилась эта агрессивная и разрушительная доктрина. Такими были, в частности, бессознательные оправдания нью-йоркской «Таймс», когда задолго до появления вопроса об интервенции она утверждала, что Россия погублена «германским социализмом» и что обе страны были рассадником «отвратительной заразы» вроде «социализма, анархии, нигилизма и коммунизма», которая распространилась на «свободные и благополучные народы, где стала бичом и угрозой».
Помимо предпринятого большевиками идеологического наступления, советский декрет от 14 января (ратифицированный 3 февраля), которым новая власть отказалась признавать за собой долги, сделанные предыдущим режимом, ясно дал понять богатым собственникам, независимо от того, пострадали ли они в результате этого лично или нет, характер наступившей реальности. Послы союзников и нейтральных стран немедленно заявили коллективный протест, подчеркнув, что они «оставили за собой право в свое время потребовать от российского правительства восполнения всех убытков, который эти декреты могут причинить их народам». Финансовая секция коалиции союзников, собравшаяся тогда в Лондоне, приняла резолюцию, заявляющую, что обязательства России не могут быть отринутыми «без подрыва самих основ международного права».
«Правда» доверительно утверждала, что для союзников этот декрет будет не меньшим ударом, чем победы Германии на Западном фронте, и как только французский народ поймет, как его обманули, убеждая приобретать боны, для Клемансо и Пуанкаре пробьет час возмездия. «Мелкие французские буржуа способны простить миллионы жертв, павших на полях сражений, но не простят своего материального разорения». Другие декреты большевиков, в основном касающиеся национализации различного рода собственности, были дружно опротестованы всем дипломатическим корпусом, за исключением одного Фрэнсиса, который считал, что такие декреты относятся к внутренним делам страны и не могут быть опротестованы «в предложенной форме».
Вопрос об интервенции возник всего через несколько недель после ноябрьской (Октябрьской) революции. На конференции союзников в Париже Клемансо завел разговор с Хаусом относительно осуществимости такой акции, но продуманная тактика возникла только после тайного англо-французского соглашения от 23 декабря 1917 года, в котором Россия была поделена на «сферы влияния». Обсужденное главным образом лордом Милнером и Клемансо и подписанное в Париже соглашение не предусматривало практического исполнения до конца войны, но даже на этой ранней стадии отражало экономические и политические интересы обеих стран. Англии предназначались территории казачества и Кавказ, тогда как французская зона включала в себя Бессарабию, Крым и Украину. Действия союзников во время последовавшей интервенции подтверждают этот раздел, установленный в конце 1917 года, и подлинность соглашения, которое до сих пор остается тайным, поскольку официально не опубликовано.
Даже после того, как дипломаты союзников убедились в необходимости интервенции, они растерялись перед трудностями оказания прямого давления на советский режим. Япония, чье присутствие в коалиции союзников не слишком их радовало, имела на территорию России более легкий доступ, чем Британия и Франция, поэтому, естественно, тоже стала государством, получившим мандат на интервенцию. И ее лидеры не постеснялись проявить незаконный интерес к «поддержанию порядка» в Сибири. Британия, с некоторой неохотой, и Франция, с большим энтузиазмом, предложили дать Японии разрешение на интервенцию в Сибирь под предлогом великой стратегии, нацеленной на ускорение капитуляции противника. Как могли японские войска в Сибири, отделенной восемью тысячами километров железной дороги от ближайшего расположения германских войск, внести какой-либо серьезный вклад в окончательную победу, никогда внятно не объяснялось. Наиболее рациональное объяснение плана, отражающего вовлеченные в него интересы, из которых некоторые кардинально отличались от официально заявленных целей, можно найти в ноте, посланной Лэнсингу французским послом в Вашингтоне в начале января 1918 года, запрашивающей одобрения Америки на «желательность некоторых объединенных действий» в Сибири. Целью, сказал посол, является «защита Сибири от большевистской «заразы», обеспечение возможности использования Транссибирской и других железных дорог «в интересах союзников» и сохранение огромного количества военных материалов, находящихся на складах Владивостока». Вильсон с прохладой отнесся к идее прямой интервенции, и Лэнсинг сообщил послу, что этот план «оскорбит русских, в настоящий момент сочувствующих целям и желаниям, которые лелеют Соединенные Штаты и их воюющие союзники, и может привести к объединению против них всех фракций в Сибири».
Позднее в этом же месяце британцы попытались уговорить американцев, указав на благоприятные изменения ситуации в России. Тогда как всего несколько недель назад «вся страна представляла собой картину необратимого хаоса», сейчас на юге и юго-западе России «возникают местные организации людей, которые с помощью и одобрением могут сделать что-нибудь, чтобы предотвратить немедленное и полное попадание России под контроль Германии». Обращаясь к аргументу, который использовал Лэнсинг против интервенции в Сибирь, нота однозначно заявляет, что вся получаемая информация «показывает, что русские будут приветствовать некую форму иностранного вмешательства во внутренние дела», более того, что русские сочтут Японию, получившую мандат от других воюющих союзников, «без какой-либо идеи об аннексии или будущего контроля», гораздо предпочтительнее Германии, «которая наведет в России порядок, только превратив ее в Германию». Тем не менее Америка не изменила своего мнения и по тем же причинам британцам сообщили, что «любое иностранное вмешательство во внутренние дела России было бы сейчас в высшей степени несвоевременным».
В то время как Вильсон все еще выступал против вооруженной интервенции, заинтересованность Японии в Сибири возрастала слишком стремительно, чтобы ее можно было бесконечно игнорировать исключительно по идеалистическим причинам, особенно когда она получила поддержку Франции и Британии. С начала декабря среди разнообразных слухов и сообщений стали преобладать известия о появлении во Владивостоке японских войск и военных кораблей – известия, которые министерство иностранных дел Японии опровергало как «нелепые и бессмысленные». Вероятно, эти часто появляющиеся известия являлись своеобразными «щупальцами» правительства, стандартным дипломатическим приемом, имеющим целью проверить реакцию общественного мнения, прежде чем приступить к серьезным действиям. Поскольку Соединенные Штаты открыто занимали позицию против интервенции, в декабре японский посол в Вашингтоне поспешил заверить Лэнсинга, что его правительство не намеревается отправлять войска во Владивосток, хотя первыми это предложили Лондон и Париж.
Через несколько дней после этого разговора в гавань Владивостока вошел японский крейсер под обычным предлогом, который выдвигается в подобных случаях, – для защиты японских граждан и их собственности. Два прибывших ранее японских судна и военный корабль британцев представляли солидную иностранную военную силу, сосредоточенную в гавани. Американскому послу в Токио были даны инструкции заявить в этой связи протест, как дипломатично выразился Лэнсинг, «присутствие более одного военного японского корабля во Владивостоке в настоящее время вполне может быть неправильно понято и вызвать чувство недоверия к намерениям союзнических правительств, чего Япония так же не желает, как и Соединенные Штаты». Вероятно, высадка японцев произошла вскоре после того, как на это согласился Вильсон. Его ближайшие советники единодушно считали, что японская интервенция в Россию будет серьезной ошибкой и, как в начале марта Хаус информировал Бальфура, может стать причиной «серьезного понижения, если не потери нашей нравственной позиции в глазах наших народов и всего мира в целом и притупления высокого энтузиазма американского народа в отношении борьбы за праведное дело». Решительную позицию Вильсона сильно ослабили усиливающееся давление Британии и Франции, а также рекомендации различных американских представителей, рассеянных по всему земному шару, которые почти единодушно выступали против большевиков и в защиту интервенции. В апреле 1918 года под предлогом жестокого обращения русских с японскими гражданами на берег высадились несколько рот японских войск, за которыми последовали небольшие соединения британских моряков. Это был первый ручеек интервенции, который вскоре превратился в захлестнувший Россию весьма полноводный поток, когда чехословацкие войска, направлявшиеся из Владивостока на Запад, вступили в конфликт с советскими властями и зажгли пожар гражданской войны, которому предстояло полыхать до 1920 года. Этот инцидент вкупе с преувеличенными слухами о том, что большевики вооружают германских и австрийских военнопленных для каких-то гнусных целей, летом 1918 года вынудил американское правительство неохотно согласиться на «ограниченную интервенцию».
Одновременно с военным вмешательством и попытками установить дружеское сотрудничество с новой властью, которые предпринимали в Петрограде Робинс, Локарт и Садул, существовал третий аспект политики союзников – субсидирование антибольшевистских военных авантюристов, которые могли привлечь на свою сторону людей в отдаленных регионах России. Фактически это было невоенной формой интервенции. Тогда как заявленной целью было создание в России организованной силы, способной противостоять германцам, на деле задачей этой формы «борьбы с Германией», как отлично понимали все представители союзников в России, было создание центров борьбы с властью большевиков.
На Дальнем Востоке самым известным из антибольшевистских лидеров был казачий атаман Григорий Семенов, который действовал недалеко от границы с Маньчжурией и которого вскоре стали считать кровожадным бандитом, получающим поддержку от Японии. Британию и Францию, отчасти тоже финансировавших его даже на этой ранней стадии, более интересовала перспектива организовать в Южной России нечто вроде опорного пункта российского «патриотизма», и их агенты, насколько это было возможно, действовали в пределах российских территорий, предназначенных для их стран англо-французским соглашением от 23 декабря 1917 года. Соединенные Штаты лишь косвенно участвовали в этой деятельности, и если возникала необходимость в помощи, как в случае с Калединым, она оказывалась в виде займов, предоставляемых другим странам союзников. В этот ранний период, предшествующий подписанию Брест-Литовского мира, широкую известность получили генералы Каледин, Алексеев и Корнилов и такие ушедшие в тень политические лидеры, как Милюков и Родзянко. Именно от имени этих «демократов» американский консул в Москве требовал оказать им моральную и материальную поддержку. Несомненно, положено начало, сообщал он в Вашингтон, «для объединения в тесный действенный союз людей, стремящихся к возрождению России, от которого можно ожидать результативных действий против большевиков и против Германии». К концу декабря Британия и Франция обещали солидную финансовую помощь на «восстановление порядка в России и продолжение войны против Центральных государств», хотя фактическое поступление средств задержалось из-за трудностей доставки. Советское правительство с крайним подозрением относилось к поведению союзников, но для предъявления обвинений не располагало достаточно вескими доказательствами. Не имея возможности назвать конкретные имена, даты и места, за исключением дела Калпашникова, обычно при критике представителей союзников в стране за их предполагаемую контрреволюционную деятельность пресса использовала самые общие фразы. В частности, «Известия» предупредили послов, что они «должны раз и навсегда отказаться от своих преступных попыток повлиять на внутреннюю жизнь России с помощью коррупции, интриг, заговоров, лжи и клеветы». Французскую военную миссию воспринимали особенно недоброжелательно из-за ее агрессивной антибольшевистской позиции. Генералу Нисселю было выделено на пропагандистскую работу несколько сотен тысяч долларов, и французские офицеры поддерживали постоянные контакты с Калединым и Украинской радой. 18 декабря 1917 года Троцкий навестил французского посла, выразив ему претензии по поводу действий этих офицеров. Нуленс утверждал, что им дано распоряжение не вмешиваться во внутренние дела России, кроме того, они были прикомандированы к румынской, а не к русской миссии. Встреча прошла довольно дружелюбно, и в течение какого-то времени пресса сохраняла умеренный тон. Но через две недели Троцкий направил Нисселю суровую ноту, обвиняя французскую миссию в разжигании гражданской войны и требуя особой информации о ее деятельности в России. Лидер красных не был удовлетворен представленными объяснениями и приказал отозвать офицеров из Южной России и закрыть бюро пропаганды и радиотрансляторы. Ниссель обещал подчиниться этим требованиям и в качестве козла отпущения уволил одного из своих подчиненных. Установилось короткое и ненадежное перемирие, продолжившееся до открытой военной интервенции в Россию, предпринятой союзниками.
Сложившиеся между Россией и ее номинальными союзниками откровенно неприязненные и напряженные отношения не подавали никаких надежд на улучшение по мере того, как советский режим продолжал опрокидывать все предсказания иностранцев о его неминуемом коллапсе, однако отношения с неофициальными представителями союзников были весьма дружественными. До тех пор пока Робинсу, Локарту и Садулу удавалось убеждать свои правительства, что большевизм не безнадежно прикован к германской колеснице и что Россию еще можно спасти для дела союзников, они еще могли оказывать какое-то влияние на сохранение тактики сотрудничества с новой властью, видя в этой тактике альтернативу продолжающейся враждебности. Но только финал напряженной и длительной драмы, развернувшейся в Брест-Литовске во время переговоров о мире с германцами, мог означать успех или провал их попыток сформировать действенную политику союзников по отношению к России.
Глава 8 Сепаратный мир
«История повелевает, – писал Троцкий, – чтобы представители самого революционного режима, который только известен миру, сели за стол дипломатических переговоров с представителями самой реакционной касты среди правящих классов». Делегация большевиков, которая в конце ноября выехала из Петрограда, чтобы приступить к переговорам о перемирии с Центральными государствами, была, вероятно, самой необычной, которая в новейшее время появлялась на мирной конференции. Ее возглавлял Адольф Иоффе, интеллектуал с аскетической внешностью, позднее ставший первым советским послом в Берлине. Более соответствовали типичному представлению о революционере Каменев, уже вернувший к себе расположение вождей после своего отступничества во время ноябрьской (Октябрьской) революции, Григорий Сокольников и Лев Карахан; последний являлся секретарем делегации. В делегации присутствовали два представителя левых эсеров, заключивших временный альянс с большевиками, одной из них была Анастасия Биченко, ставшая известной после совершенного двенадцать лет назад убийства царского сановника. Кроме того, что она представляла свою партию, она была живым подтверждением усвоенной большевиками марксистской идеи о равенстве полов. Но куда большее любопытство вызывали четверо представителей простого народа: матрос, солдат, рабочий и крестьянин. Включенные в состав делегации с единственной целью создать на переговорах соответствующую революционную атмосферу, они, казалось, получали истинное удовольствие от своего значительного положения, хотя и не всегда понимали, что происходит. Крестьянин случайно встретился делегации на вокзале, и все вдруг сообразили, что им недостает «человека от сохи». В состав делегации входили военные и морские офицеры в качестве советников, а также обычная группа служащих переводчиков. Условия перемирия, которые готовы были предложить германцы, не содержали карательных или каких-либо других унизительных положений, поэтому все надеялись закончить с этим делом в течение нескольких часов, после чего должна была последовать официальная мирная конференция. Главнокомандующий германской армией был крайне заинтересован в немедленном прекращении военных действий, что дало бы возможность перевести на Западный фронт войска, стоящие сейчас против России. В военном штабе Германии планировалось стремительное наступление, последний мощный натиск, который должен был окончательно уничтожить силы союзников, пока на помощь к ним не пришли огромные людские и материальные ресурсы Соединенных Штатов. Американские войска уже стали партиями прибывать в Европу, несмотря на хвастливые заявления германцев, что их тактика неограниченного задействования подлодок не даст появиться в Европе ни одному заокеанскому солдату. Для Центральных государств победа должна была наступить скоро – или никогда. Австрия, Болгария и Турция были почти совсем истощены, и от них уже нельзя было ожидать эффективной военной поддержки; все зависело от германской армии, по-прежнему являвшейся великолепно отлаженной военной машиной и впервые с 1914 года потенциально способной сконцентрировать на Западе равные или даже превосходящие силы. Однако настроение гражданского населения, подвергающегося все большим лишениям из-за блокады союзников, оставляло желать лучшего. И тогда как мирными настроениями населения еще можно было пренебрегать, рабочие доставляли правительству серьезные проблемы, ибо признаки недовольства в их среде к январю переросли в крупные забастовки. Происшедший летом в Киле бунт моряков еще больше встревожил правительство и неблагоприятно отразился на моральном состоянии нации.
Моральный дух народов союзнических стран был ненамного выше, тогда как в предстоящий год ему предстояло продемонстрировать твердость и силу воли. После катастрофического разгрома в октябре при Капоретто Италия была близка к полному поражению, и, хотя ей удалось поразительно быстро восстановить военную силу, популярность войны – никогда не бывшей высокой среди населения – была на самом низком уровне. Почти совсем обескровленные Франция и Англия, чье состояние было не лучше, уже не имели людских ресурсов. Почти повсеместно ощущалась истощенность войной, но политическая ситуация несколько улучшилась. Вставший в ноябре во главе правительства Клемансо влил новую энергию в военные усилия французов. В Англии у власти по-прежнему пребывал Ллойд Джордж, при незначительном давлении оппозиции. Но даже присоединение к коалиции Соединенных Штатов не могло восполнить потерю России. Зима 1917/18 года оказалась для союзников критической; впервые за тянувшуюся больше трех лет войну инициатива перешла к Германии.
Таково было положение в главных воюющих сторонах, когда 3 декабря 1918 года начала свою работу первая сессия русско-германской конференции по перемирию. Прежде всего конференция приняла советское предложение о полной гласности в освещении заседаний, что было для русских тактическим успехом, о котором германцам пришлось очень сожалеть, так как большевики воспользовались им для длиннейших речей, содержащих пропаганду, не относящуюся к теме конференции. Затем выступил Иоффе, представив советскую точку зрения на условия мира, основанную на известной уже формуле «без аннексии и контрибуций» и на праве всех наций на самоопределение. Он предложил заключить общий, а не сепаратный мир, но когда генерал-майор Макс Хоффман, глава германской делегации, потребовал ответить, уполномочена ли Россия говорить от имени своих союзников, Иоффе был вынужден признать, что приглашения принять участие в работе конференции, направленные союзным правительствам, остались без ответа. Русские предлагали установить перемирие сроком на полгода, немедленно прекратить продвижение германских войск на Восточном фронте и эвакуировать германские войска с островов Рижского залива. Германия предпочитала более короткий срок перемирия и отказалась рассматривать вопрос об эвакуации, поскольку это требование исходило от побежденной стороны. Только второй пункт советского предложения был принят без возражений, поскольку все войсковые соединения, которые должны были быть перемещены на Западный фронт, уже находились в пути или получили об этом приказ.
В конце третьего заседания, происходившего 5 декабря, договорились отложить работу конференции на неделю, чтобы дать русским делегатам возможность проконсультироваться со своим правительством и предоставить воюющим союзникам еще один шанс присоединиться к переговорам. В Брест-Литовске для связи остался Карахан, а его коллеги отправились в Петроград. На следующий день Троцкий сообщил послам союзников о некоторых подробностях переговоров и призвал их правительства определить свое отношение к мирной конференции – «то есть выразить их согласие или отказ от участия в переговорах о перемирии и о мире, и в случае отказа открыто, ясно, определенно и честно заявить всему миру, во имя чего народы Европы должны истекать кровью во время четвертого года войны».
Как и предыдущие, это заявление было проигнорировано союзниками, хотя двумя днями позже Бьюкенен поручил опубликовать в небольшевистской прессе длинное заявление, которое косвенно затрагивало вопрос переговоров о перемирии, прямо не отвечая на многочисленные призывы к участию в них союзников. В этом заявлении еще раз привлекалось внимание к запрету на заключение сепаратного мира по договору 1914 года, которое нарушило советское правительство. Тем не менее, утверждал посол, «мы не намерены вынуждать не желающего воевать союзника продолжать вносить свой вклад в общие усилия напоминанием о наших правах, предусмотренных в этом договоре». Союзники не могли направить в Брест-Литовск своего представителя, но были «готовы, как только будет установлено стабильное правительство, то есть признанное всем русским народом, изучить с этим правительством цели войны и возможные условия справедливого и прочного мира». Остальная часть заявления Бьюкенена была посвящена защите доброго имени своей страны от частых нападок со стороны большевистской прессы. Особенно его встревожила революционная прокламация, выпущенная всего за день до этого и обращенная к мусульманам России и Востока, видимо, он опасался волнений, которые она могла вызвать в Индии. Еще больше встревожили возможные последствия этой пропаганды британского министра иностранных дел, который проявил необычайное усердие, стараясь скрыть прокламацию от населения стран союзников. Заявление посла, представляющее точку зрения союзников, естественно, встретило резкую критику в большевистских газетах. Троцкий произнес речь, заявив, что посол выразил свою привязанность к России на пяти колонках газеты и что, хотя очень приятно узнать о его теплых чувствах, важны не слова, а поступки.
Подстрекательные речи большевиков тревожили не только союзников. Германии также приходилось испытывать на себе это скрытое вмешательство в ее внутреннюю жизнь, где оно могло вызвать гораздо более серьезный хаос, чем в более отдаленных территориально западных демократиях, и сыграть значительную, хотя и косвенную роль в возможном падении империи. Вскоре после назначения Троцкого министром иностранных дел он создал специальное информационное бюро под руководством Карла Радека, большевика-австрийца. Один из отделов этого бюро занимался международной революционной пропагандой, и заведовать им был поставлен Борис Райнштейн, который приехал в Россию в числе трех неофициальных американских делегатов на Стокгольмскую конференцию. Он отвечал за издание «Ди Факел», пропагандистской газеты, специально предназначенной для населения Германии, и нескольких других подобных газет в Венгрии, Богемии, Румынии и Хорватии. Ему в помощь были даны Альберт Райс Уильямс и Джон Рид, два американских писателя, сочувствовавших большевистской идее. Рид, который стал одним из основателей и лидеров американского коммунистического движения и чье тело покоится у Кремлевской стены в Москве после того, как он умер там в 1920 году от тифа, в январе 1918 года был назначен советским консулом в Нью-Йорке (пост весьма сомнительный, поскольку Америка не признала советское правительство).
Во время перерыва в переговорах о перемирии советская пропаганда начала серьезное наступление против Центральных государств. Хоффман решительно отверг изложенную на конференции просьбу русских разрешить доступ в Германию «большевистской пропаганде и литературе», но великодушно предложил свою помощь в «их экспорте во Францию и в Англию». Ему также приходилось противостоять требованиям советских представителей разрешить братание солдат. Но не успели делегаты вернуться из Брест-Литовска, как первый номер «Ди Факела» уже был на пути к фронту, а его тираж впоследствии достиг полумиллиона экземпляров в день. Весь тираж был отправлен специальными поездами в различные центральные города и передан солдатским комитетам. Оттуда газета распространялась по всем населенным пунктам вдоль линии фронта и в небольших количествах передавалась германским солдатам, обычно тайком, поскольку офицерским составом предпринимались отчаянные усилия не пропускать в армию эти опасные материалы.
Находящиеся в России германские военнопленные подвергались более систематической обработке. Эти войска настолько пропитались революционной идеологией, что перед тем, как им было разрешено вернуться в Германию, их заключили на тридцать дней в «лагеря политического карантина», чтобы «дезинфицировать» и снова привить патриотические ценности.
Разумеется, союзники горячо одобряли большевистские идеи, когда они работали против Центральных государств. Эдгар Сиссон, находившийся в России по поручению Комитета общественной информации, внес свою долю средств на печатные станки, которыми пользовалось бюро Радека, и, несмотря на свое враждебное отношение к большевикам, выделил Робинсу значительную сумму для использования советским правительством в пропагандистской работе. Германские протесты и угрозы не могли преградить путь потоку агитационной литературы. Еще 6 декабря Хоффман жаловался Карахану на «бецеремонное вмешательство во внутренние дела Германии, угрожающее успешному продолжению переговоров и выявившее незнание действительного состояния дел в Германии».
Несмотря на это неопровержимое доказательство отсутствия согласия и сотрудничества между Германией и большевиками – доказательство, которое приобретало все большую весомость по мере продолжения переговоров о мире и возникших в их процессе острых разногласиях, – общественное мнение союзников продолжало настаивать на существовании германско-большевистского заговора. Нью-йорская «Таймс» приводила анонимное сообщение из Парижа, в котором утверждалось, что французское правительство имеет «абсолютные доказательства» того, что Ленин был послан в Россию германской шпионской системой и «является креатурой службы прусской пропаганды». Лондонская «Морнинг пост» называла Крыленко «германско-еврейским шпионом», а Ленина – Иудой Искариотом по фамилии Зедербаум. «Учитывая безусловное разоблачение Ленина как платного германо-австрийского ставленника, – заявляла «Пост», – мы не очень удивлены известием, что после перемирия он сможет найти убежище в Германии». Парижская «Фигаро», ссылаясь на крупного финансиста, только что вернувшегося из Петрограда с «ошеломляющими подробностями» о потоке германского золота, которое по-прежнему поступает в Россию, утверждала, что «в руки и карманы приспешников Ленина… ежедневно направляются миллионы рублей». «То, что большинство большевистских лидеров оплачиваются Германией, – заключала «Фигаро», – ясно как день».
И не только пресса формировала общественное мнение относительно большевиков. Очевидно, правительства союзников тоже поработали над этой версией. Секретный меморандум американского Государственного департамента от 1 декабря, признавая трудности в получении «какой-либо связной информации о карьере Ленина», уверял о существовании «достаточных доказательств, что значительные средства, которые он потратил со времени (своего появления в Петрограде), являются германского происхождения и что «мало сомнений, что он является германским агентом», как и «убежденным и неистовым агитатором социализма».
При подобной убежденности, процветавшей среди служащих посольств в Петрограде, нет ничего удивительного в появлении огромного количества фальшивых документов, которые должны были удовлетворить потребность в более конкретных доказательствах тайного сговора. Один из таких документов был опубликован после «июльских дней», но о нем сразу забыли, как только он сделал свое дело. С приходом к власти большевиков всех представителей союзников в Петрограде буквально засыпали поддельными документами в расчете на то, что доверчивый покупатель схватит их, уплатив солидное денежное вознаграждение. Эдгар Сиссон не доставил разочарования поставщикам такой продукции: ценность фальшивок поразила его, и он поспешил переправить их в Соединенные Штаты, где позже они были опубликованы правительством. Эти документы якобы доказывали получение большевиками приказов непосредственно от верховной военной ставки Германии, и хотя некоторые из них могли быть примерами подлинной переписки между российским и германским правительствами, вряд ли они могли служить доказательством «заговора». Самые поразительные и внушительные по объему «документы Сиссона» были довольно неуклюжей фальсификацией, почти все из них были отпечатаны на одной пишущей машинке. Вначале они были предложены двум британским служащим секретной службы в России – Джорджу Хиллу и Сидни Рейли, которые отказались их взять после того, как экспертиза определила подделку. Сиссон получил их от Евгения П. Семенова, антибольшевистского журналиста, предположительно поддерживавшего контакты с некими анонимными персонами советского Министерства иностранных дел.
Сиссон уехал из России в начале марта, а в сентябре эти материалы были переданы в газеты. Поскольку появление компрометирующих сведений о вождях революции по времени идеально совпадало с военной истерией, вопрос о подлинности документов практически не поднимался. Однако некоторые неблагоприятные отзывы заставили власти озаботиться поддержкой экспертов, прежде чем допустить их официальную публикацию. Поэтому документы были изучены историками Сэмуэлем Харпером и Дж. Фрэнклином Джеймсоном, и все документы, кроме нескольких, были объявлены подлинными, говорилось в предисловии к публикации. К сожалению, оба ученых создали дополнительное, но совершенно неверное впечатление, что они согласны со всеми экстремистскими выводами Сиссона относительно порочности большевиков, которыми он потчевал своих читателей во вступлении. Британское министерство иностранных дел, следуя советам своих экспертов, продолжало скептически относиться к этим материалам, и американский Государственный департамент, видимо, тоже не проявлял готовности помочь их публикации. Но он был вынужден подчиниться решению Вильсона, которого Крил убедил в подлинности документов. Этот инцидент остается, как выразился один из антибольшевистских комментаторов, памятником «того паралича критических способностей, который кажется неотъемлемым от состояния войны».
Если верить документам Сиссона, то неизбежно следует вывод, что мирная конференция в Брест-Литовске была от начала до конца фарсом, поставленным Берлином и проведенным только для видимости. Но переговоры о перемирии, которые возобновились 13 декабря, нисколько не соответствовали этой версии, напоминающей сказки из «Тысячи и одной ночи». Русские делегаты приехали с намерением принять условия перемирия – а позднее и договора, – поскольку не видели разумной альтернативы подавляющему военному превосходству Германии, а не потому, что большевики были куплены германским золотом или подчинялись приказам из Берлина. Договор о перемирии был официально подписан 15 декабря с небольшими изменениями по сравнению с первоначальным предложением Германии. Перемирие должно было длиться до 14 января и подлежало автоматическому продлению, если за неделю до этого срока от какой-либо стороны не будет получено извещение о прекращении перемирия. Германцы допустили промах только в «пункте о братании». Было разрешено «организованное общение между войсками» в количестве «не более двадцати пяти невооруженных человек с каждой стороны» в нескольких пунктах в пределах каждого участка русского фронта. Кроме того, был разрешен обмен газетами и новостями, хотя все бумаги подстрекательского характера конфисковывались германскими офицерами. Братание производилось главным образом по ночам, с тайными встречами в уединенных местах; там выдавалась и большевистская литература.
Об успешном заключении перемирия было объявлено в манифесте «К трудящимся, угнетенным и измученным народам Европы!». «Спустя почти три с половиной года непрерывной борьбы, не видя иного выхода, – с пафосом говорил Троцкий, – рабоче-крестьянская революция в России открыла путь к миру». Но капиталистические правительства не хотят мира: «Они стремятся отсрочить час своего окончательного банкротства. Желают ли народы и дальше терпеливо служить кликам биржевых дельцов во Франции, в Великобритании, в Италии и в Соединенных Штатах?» Очевидно, народы желали, потому что ожидаемый отклик из названных стран не поступил. Миф об интернациональном классово-сознательном пролетариате, который вырывается из цепей капитализма на свободу, с трудом умирал в России, и по мере того, как приближалась первая сессия конференции по заключению договора о мире, призывы к мировой революции продолжали раздаваться с прежним пылом.
Союзники, по-прежнему игнорировавшие призывы большевиков к общему миру, не могли оставаться безразличными к последствиям сепаратного мира. 14 декабря Ллойд Джордж в публичной речи подчеркнул значение выхода России из войны. «(Выход) усиливает Гогенцоллернов и ослабляет силы демократии, – сетовал он. – Ее (России) действия не ведут, как она воображает, к всеобщему миру. Это только продолжит мировую агонию и неизбежно ввергнет страну в зависимость от военного превосходства Пруссии». Через несколько дней в палате общин, прослеживая ход войны, Ллойд Джордж признал: «Бесполезно было бы делать вид, что осуществились надежды, которые мы питали в начале года… крушение России оставляет ощущение разочарования». Выступая перед слушателями в Бедфорде, Уинстон Черчилль, британский министр военного снабжения, торжественно заявил о стремлении союзников к победе, несмотря на отступничество России, и его речь была встречена с полным одобрением. «Россия окончательно повержена Германией, – откровенно признал он. – Ее гигантское сердце разбито не только мощью Германии, но и германскими интригами; не только германской сталью, но и германским золотом». «Именно это прискорбное событие, – продолжал он после объяснения этой модной интерпретации прихода к власти большевиков, – продлившее войну, лишило французскую, британскую и итальянскую армии награды, которую они могли получить этим летом; это событие, и только оно одно, подвергло нас опасностям, утратам и страданиям, которых мы не заслужили, которых мы не можем избежать, но перед которыми мы не склоним головы». Для Черчилля эта война была борьбой до конца во имя «Британской империи, демократиии и цивилизации», и он не собирался иметь ничего общего с «условиями показного договора о мире, которые делают Германию еще более сильной, чем прежде». При всем благородстве языка резкий тон заявления Черчилля подтвердил мнение большевиков о преобладании собственных интересов союзников и не мог быть воспринят с радостью патриотически настроенными идеалистами любой из стран-союзниц, однако он, несомненно, выразил те чувства, с которыми большая часть населения по-прежнему относилась к войне.
22 декабря баварский принц Леопольд открыл приветственной речью официальные переговоры о мире в Брест-Литовске. Помимо германской, на ней присутствовали большие делегации, представляющие Австро-Венгрию, Турцию и Болгарию. Состав русской делегации оставался почти без изменений, кроме появления в ней Михаила Покровского, чьи произведения должны были в течение многих лет представлять советскую концепцию в изучении истории. Изложенные Иоффе принципы русских предложений о мире тесно придерживались идеалистического характера, свойственного большевистскому декрету о мире от 8 ноября, и по-прежнему скорее исходили из идеи общего мира, чем сепаратного: «нет» – насильственной экспроприации территорий, занятых во время войны, «нет» – военным контрибуциям и «да»– политической свободе всех народов. Барон Рихард фон Кульман, германский министр иностранных дел, и граф Оттокар Чернин, австрийский министр иностранных дел, готовы были принять эти предложения в том случае, если «государства Антанты тоже согласятся вести переговоры о мире на таких же условиях». Хоффмана не устроила формулировка, «потому что это чистая ложь». Россию никогда не уполномочивали говорить от лица своих союзников, и, пока этого не произошло, он не видит смысла делать вид, что заключение общего мира находится в области достижимого. Возражения Хоффмана были отметены без особых трудностей, но Болгария, которая вступила в войну из откровенного стремления присоединить к себе аннексированные территории, вызвала новую проблему. Глава ее делегации упорно отказывался от предложенных русскими условий, даже когда его заверили, что их принятие лишь формальность, и уступил, только получив по телеграфу приказ из Софии от царя Фердинанда.
Русские радостно встретили зачитанную в Рождество Черниным декларацию о принципиальном согласии Центральных государств на их формулировку условий мира. Они наивно верили, что Германия действительно вернет России захваченные территории Польши, Литвы и Курляндии. На следующий день Хоффман вывел их из заблуждения относительно подобных намерений, когда за завтраком заметил Иоффе, что Центральные государства не считают эти территории захваченными насильно, поскольку эти части бывшей Российской империи откололись от нее и «по своей воле» решили присоединиться к какому-либо другому государству. Иоффе, который выглядел так, «как будто его ударили по голове», немедленно созвал неофициальное совещание для обсуждения этого поразительного понимания Германией политики мира «без аннексий». Глубоко разочарованным и возмущенным русским не удалось сдвинуть Германию с ее позиции, и в конце концов они пригрозили прервать переговоры и уехать в Петроград. Чернин отчаянно искал форму компромисса, поскольку австро-венгерская монархия крайне нуждалась в мире. Незадолго до этого Иоффе признался ему в надежде, что большевики «еще способны возбудить революцию и в вашей стране», и Чернин так комментировал это замечание в своем дневнике: «Думаю, вряд ли нам понадобится помощь добряка Иоффе в приближении революции в нашей стране; сам народ это сделает, если Антанта откажется прийти к соглашению». Не получив поддержки от Кульмана, неистовый Чернин пригрозил заключить с русскими сепаратный мир и отправил своего военного советника сделать такое же заявление Хоффману. Германский генерал, реалистично оценивающий военное положение России, не видел причин для волнения Чернина и холодно ответил, что он считает идею блестящей, поскольку это высвободит двадцать пять германских дивизий, которые в настоящее время поддерживают австрийскую армию на Восточном фронте.
Таким образом, блеф Чернина был бесцеремонно разоблачен, и он растерянно умолк. Переговоры были прерваны 28 декабря, чтобы дать русским возможность приступить к ставшему безнадежным разработанному ими ритуалу приглашения своих «союзников» к участию в конференции. За исключением большого количества технических экспертов, которые остались в Брест-Литовске, делегаты вернулись в свои столицы, чтобы ждать возобновления следующей встречи, назначенной на 9 января. Разочарованные, но поумневшие Иоффе с коллегами прибыли в Петроград, когда было опубликовано давно ожидаемое воззвание Троцкого «к народам и правительствам стран-союзниц», отчасти являвшееся приглашением к переговорам, отчасти – революционным манифестом. Признавая предложение Центральных государств в «высшей степени непоследовательным» и считая его планом «беспринципного компромисса между целями империализма и сопротивлением рабочей демократии», Троцкий назвал сам факт этого предложения «великим шагом вперед», резко контрастирующим с принятой союзниками политикой произнесения «общих фраз относительно необходимости продолжения войны до конца». «Если правительства союзников, – предупреждал Троцкий, – в слепом упрямстве, которое характеризует упаднические и умирающие классы, снова откажутся участвовать в переговорах, то рабочий класс их стран встанет перед железной необходимостью выхватить власть из рук тех, кто не может или не желает дать мир народам… Мы обещаем полную поддержку, – говорил он в заключение, – рабочему классу каждой страны, который восстанет против своих национальных империалистов, против шовинистов, против милитаристов под знаменем мира, братства людей и социалистической перестройки общества».
Несмотря на то что Ллойд Джордж, Клемансо и Вильсон занимали достаточно прочное положение, чтобы всерьез воспринимать предостережение Троцкого о предстоящем глубоком возмущении народных масс, если они и дальше будут презрительно отмалчиваться в ответ на эти призывы, союзники больше не могли выступать перед мировым общественным мнением в роли поборников свободы и демократии и при этом упорно хранить молчание относительно целей, которые они преследуют в войне. Немаловажно заметить, что в публичных заявлениях, пропитанных тоном морального превосходства, в которых провозглашался справедливый и мирный характер целей союзников, недостатка не было. Тем не менее за этими декларациями не чувствовалось ничего по-настоящему определенного, и ход русской революции – тщетные мольбы Петроградского Совета, неудавшаяся Стокгольмская конференция, триумф большевиков, публикация секретных договоров и Брест-Литовская конференция, – к растущему разочарованию либералов, социалистов и идеалистов, демонстрировал огромную разницу между обещаниями и свершениями.
Новый министр иностранных дел Франции Стефан Пичон выразил типичные представления по этому вопросу, когда 27-го заявил палате депутатов в ответ на резкую критику социалистами правительственной политики, что Франция не может принять мир, основанный на status quo после тех страданий, которые она вынесла ради «дела справедливости и свободы». Он насмешливо отозвался о призыве большевиков к мирным переговорам и повторил формулу, которую так решительно отверг Хаус на конференции союзников в Париже: когда Россия обретет правительство, признанное всем населением, Франция будет готова присоединиться к нему в «изучении целей войны и определении условий справедливого и прочного мира». Тем временем, сказал Пичон, «мы чувствуем свой долг поддерживать контакты со всеми здоровыми силами в России, со всеми этническими группировками, среди которых еще существуют чувства независимости и верности, инстинкт защиты законности и потребность в порядке и свободе».
Ллойд Джордж в речи, произнесенной перед конгрессом тред-юнионов 5 января 1918 года, пошел еще дальше и подчеркнул, что союзники «не вели агрессивную войну против германского народа» и не стремились к «дезинтеграциии его государства и страны». Он обоснованно критиковал вражеские государства за умолчание и неопределенность в высказываниях о своих целях в войне, но в своей собственной формулировке целей союзников не был совершенно ясным и искренним. В частности, говоря о секретных договорах – хотя он избегал называть их таковыми, – он ограничился лишь заявлением о том, что «новые обстоятельства, такие как крушение России и сепаратные переговоры России о мире, изменили условия, при которых были заключены эти договоры», и что Британия была и всегда будет «полностью готова обсудить их со своими союзниками». В других местах речи о России неизменно говорилось как лишь о жертве замыслов Германии, без предъявления встречных обвинений и клеветы: «Какие бы фразы она ни использовала для обмана России, она (Германия) и не думала отдавать ни одну из своих прекрасных провинций или городов России, в настоящее время захваченных ею. Под тем или другим названием – а название вряд ли имеет значение – эти русские провинции отныне на деле будут доминионами Пруссии». Премьер-министр стремился ответить своей речью на растущее беспокойство британских рабочих, чьи лидеры незадолго до этого подготовили свое заявление о целях войны. При всем том, что речь Ллойд Джорджа была не очень перегружена подробностями, содержала меньше штампов по сравнению с большинством заявлений по этому вопросу, которые во время войны делали лидеры воюющих стран, и вполне удовлетворила соотечественников, ее, однако, было явно недостаточно, чтобы заставить Центральные государства занять оборонительную позицию в этой войне идеологий, проводя параллель с более очевидной военной борьбой. Эта задача могла быть выполнена только Вудро Вильсоном, не связанным с союзниками секретными договорами, с его искренностью строгого нравственного идеалиста, убежденного в том, что демократия является делом всей мировой цивилизации. 8 января эта задача была превосходно выполнена американским президентом в его исторических «четырнадцати пунктах» во время речи, произнесенной перед объединенным заседанием конгресса, который один из его биографов восторженно, но не очень точно описал как «самый эффективный пример пропаганды, когда-либо изобретенный человеческим мозгом». Это был очень важный документ, мощное, хотя и молчаливое орудие наступления, которое через каких-то десять месяцев привело Германию к краху. Обращение Вильсона, вызванное предстоящим возобновлением совещания в Брест-Литовске, обдумывалось им давно, сразу после рекомендаций Хауса по его возвращении из Парижа. Большинство исследований, на которых были основаны эти характерные предложения, проводились группой ученых под названием «Инкваиэри», организованной Хаусом с целью сбора данных для будущей мирной конференции. План выступления был утвержден 5 января во время встречи Вильсона с Хаусом, но, когда на следующий день было получено известие о сделанном Ллойд Джорджем заявлении, президент сначала хотел отказаться от своей речи, не считая ее необходимой. Однако Хаус сумел разубедить его в этом, и речь была произнесена без значительных изменений.
Не зная о намерении Вильсона, которое тот скрывал до своего появления перед конгрессом, Сиссон обратился к Крилу в попытке заручиться помощью президента в использовании разногласий между Россией и Германией в пользу союзников. 3 января Сиссон телеграфировал из Петрограда: «Если президент вновь заявит об антиимпериалистическом характере войны и о необходимых условиях демократического мира всего в тысяче слов, короткими фразами, почти лозунгами, я могу в огромных количествах сбыть их в Германию в переводе на немецкий, а русский перевод смогу с успехом использовать и в армии, и где угодно». Сиссон передал эту телеграмму открытым текстом, без шифровки, уверенный, что ее содержание ускорит прохождение через русскую и британскую цензуру. Она достигла Вашингтона в рекордно короткое время, и Крил сразу же доставил ее в Белый дом. Хотя этот призыв еще более убедил Вильсона в том, что для его речи наступил подходящий момент, было бы нелепым утверждать (как говорят), что знаменитое заявление появилось в результате телеграммы Сиссона. «Если бы от меня потребовали заявить, – говорит Сиссон, – что это я предложил для нее формулировки, что я знал, какими они будут, или о том эффекте, который она должна была произвести на народы, я показался бы нелепым, как претенциозный историк… который начал свой рассказ, вложив в уста генерала фразу: «Солдаты, исполните свой долг! Глаза всего мира устремлены на вас, готовых начать это первое сражение в Столетней войне!»
В своем призыве к президенту Сиссон не был одинок. Еще за несколько недель до этого Бахметьев высказал Хаусу соображения о целесообразности дружественного заявления о России, а Фрэнсис телеграфировал Лэнсингу 29 декабря и еще раз 3 января, настойчиво подталкивая Вильсона выразить великодушие по отношению к русским заявлением о целях союзников. 5 января Бальфур также рекомендовал произнести идеалистическое заявление, хотя под его советом крылось нечто более важное. «Премьер-министр уверен, – писал он, – что такое заявление будет звучать согласованно с направлением предыдущих речей президента, которые так тепло были приняты общественным мнением Англии и других стран».
В своей речи Вильсон с сочувствием говорил об искренности и серьезности русских делегатов и их противостоянии германским предложениям о «завоевании и господстве», правда, ошибся, когда сказал, что переговоры прерваны. Далее он продолжал с симпатией говорить о русских людях, которые «были обессилены и беспомощны… перед мрачной силой Германии», но чей «дух не был порабощен» и которые «не уступят ни в принципах, ни в поступках». «Их представления о справедливости, гуманности и благородстве, – говорил Вильсон, – были заявлены с откровенностью, с широтой кругозора, с великодушием натуры и сочувствием ко всем людям земного шара, чувствами, которые должны вызвать восхищение каждого друга человечества… Они призывают нас высказать, чего мы желаем, в чем наши цели и наш дух отличаются от их целей и духа; и я думаю, что народ Соединенных Штатов хотел бы, чтобы я ответил им крайне ясно и искренне». После нескольких дополнительных замечаний были изложены «четырнадцать пунктов» вильсоновской программы мира. Шестой пункт, относящийся к России, призывал освободить всю ее территорию, оказать любую помощь, «которая может ей понадобиться и которую она пожелает получить», урегулировать все касающиеся ее вопросы, чтобы предоставить ей «беспрепятственную и свободную возможность для независимого определения своего политического развития и национальной политики», и уверить ее в «искреннем приглашении войти в общество свободных народов под управлением социальных институтов, самостоятельно ею выбранных».
В Соединенных Штатах эта речь была встречена с единодушным одобрением, едва ли один голос прозвучал против. В Англии, Франции и в Италии хвалебный хор не мог полностью скрыть испытываемые в более консервативных кругах определенные опасения, что высказывания Вильсона затруднят обретение справедливых и выгодных результатов тяжело заработанной победы. Большевики в России не настолько враждебно относились к союзникам, чтобы не признать дружелюбного тона речи Вильсона и особенно ее значимости в качестве антигерманской пропаганды.
Ленин казался искренне довольным, хотя было очевидно, что он считал Вильсона не своим единомышленником, а лишь справедливым и терпимым классовым противником. Сиссон передал текст речи в пресс-бюро Смольного, чтобы ее напечатали в официальных органах. «Правда» поместила большую часть речи, но снабдила ее своими нелицеприятными замечаниями, тогда как «Известия» не только напечатали речь полностью, выразительно ее подав, но и добавили благожелательный комментарий редактора. Антиправительственная пресса постаралась пропустить разделы, где дружественно говорится о России, поскольку это прибавляло доверия к большевикам. В форме открыток, листовок и памфлетов Сиссон со своими коллегами издали почти два с половиной миллиона экземпляров речи на русском и около миллиона экземпляров на немецком языках. Это помимо огромного количества изданий, появившихся благодаря другим средствам, как и тех, которые распространялись большевистским бюро пропаганды среди военнопленных и в германских войсках.
На ежегодной конференции Британской лейбористской партии, проведенной в Ноттингеме в январе, была единодушно принята резолюция, приветствующая «заявления, сделанные британским премьер-министром и президентом Вильсоном, поскольку они соответствуют целям в войне британского рабочего движения и направлены на достижение почетного и демократического мира». От союзных правительств в дополнение потребовали «сформулировать и как можно скорее опубликовать совместное заявление об их целях в войне в соответствии с вышесказанным». Этот весьма теплый прием идеалистических заявлений Вильсона и Ллойд Джорджа был показательным в отношении резкого изменения по сравнению с патриотической атмосферой встречи в прошлом году. Теперь делегаты, поддерживающие продолжение войны, оказались в меньшинстве, мнение же большинства едва отличалось от мнения Независимой лейбористской партии. Обязательства России были подчеркнуты в специальном «Обращении к русскому народу», которое, если говорить более точно, было обращением к народам Центральных государств, потому что призывало их принять первоначально выдвинутые Петроградским Советом принципы мира «без аннексий и контрибуций» и самоопределения народов. Резолюция предупреждала: «Не позволяйте своим правительствам довести британский народ, как они довели русский народ, до ужасного выбора между продолжением войны и отказом от единственных принципов, которые могут спасти земной шар».
На конференцию был приглашен Литвинов, посол непризнанной России, которому великодушно предоставили возможность объяснить позицию большевиков. В своем выступлении он сочетал революционную пылкость с искусной защитой российской политики. Касаясь Брест-Литовска, он сказал: «Даже если в результате переговоров не будет достигнут мир, революция в Германии – и позвольте мне надеяться, в каких-либо других странах – становится одной из самых ближайших перспектив». И далее: «Русские участвовали в неравной борьбе против империалистов всех стран, – заключил Литвинов. – Они начали работу за общий мир, которую в одиночестве не смогут закончить. Они потерпят неудачу, если не получат ответа рабочих всех стран – как рабочих Центральных государств, так и рабочих из стран союзников. Могу только посоветовать британским рабочим: не медлите. Я надеюсь и верю, что вы не позволите принести в жертву еще тысячи и миллионы людей». Эти смелые замечания вызвали бешеные аплодисменты многих делегатов. Но от антивоенной позиции до революционной оставался еще долгий путь, и еще более долгий – от убеждения к действиям. Консервативная пресса встревожилась. «Дейли экспресс» вопила, что Литвинов произнес «самую угрожающую речь, когда-либо произнесенную послом дружественной страны», позабыв указать, что ни он официально не был послом, ни Россию нельзя было рассматривать как дружественную страну. Министерство иностранных дел дало указание Локарту предупредить советское правительство, что такое поведение не может быть терпимым.
Второй делегат, чья речь была тепло встречена, был Камиль Хьюсманс, который присутствовал как представитель все еще надеющегося провести конференцию Стокгольмского комитета. Комитет прислал телеграфом обновленный призыв собрать интернациональный социалистический съезд, и конференция приняла к сведению это предложение с резолюцией, призывающей к «интернациональному съезду в какой-либо нейтральной стране, предпочтительно в Швейцарии, на котором может быть представлено выработанное мнение рабочего класса всех стран, чтобы сделать все для приведения к гармонии желаний рабочих классов всех воюющих стран». Вскоре после этого возмущенный профсоюз моряков и кочегаров запретил Хьюсмансу уехать в Париж для консультаций с французскими социалистами – это был тот самый профсоюз, который в июне прошлого года сумел воспрепятствовать миссии Мак-Дональда в Россию.
Сдвиг в настроении британского рабочего движения был так же заметен на межсоюзнической рабоче-социалистической конференции, которая прошла в Лондоне в следующем месяце. Были представлены делегаты всех стран-союзниц, кроме Соединенных Штатов и России. Советское правительство неодобрительно отнеслось к этому мероприятию, находя его очередным собранием социалистов буржуазного толка, и отказалось выдать паспорта меньшевикам и эсерам, пожелавшим принять участие в конференции. Американские социалисты не были приглашены из опасения вовлечь в участие Американскую федерацию труда. Но Гомперс и его приверженцы, более шовинистически настроенные, чем правительство, все равно отказались от участия под предлогом, что не получили приглашение вовремя. Основные споры на конференции развернулись вокруг меморандума лейбористской партии относительно целей войны, который в конце концов был принят с изменениями. Пространный документ повторял сделанное три года назад заявление о том, что война была «чудовищным продуктом антагонизма, который раздирает капиталистическое общество, и агрессивной политики колониализма и империализма, против которых никогда не уставал бороться международный социализм и в котором каждое правительство несет свою долю ответственности». Меморандум получил широкую известность, хотя, может, и не заработал то доверие, которого заслуживал. Своим идеологическим содержанием он, безусловно, был обязан формуле, впервые озвученной Петроградским Советом, но конференция допустила серьезную политическую ошибку, поскольку ни разу не упомянула о российских проблемах.
А тем временем «российская проблема» с каждым днем обострялась все сильнее по мере того, как на мирной конференции «волки в овечьей шкуре», как назвала германцев «Правда», все более беззастенчиво обнаруживали свои захватнические планы. Несмотря на смелое заявление Иоффе о прекращении работы конференции, никто не сомневался, что русская делегация вновь приедет в Брест-Литовск. В отсутствие военной мощи стратегия большевиков предусматривала тактику затягивания переговоров. Все еще верили в вероятность революции в Германии; и если подведут другие факторы, с помощью союзников можно было сформировать ядро революционной армии. Но «для затягивания процедуры переговоров, – говорил Ленин, – нужен был человек, который сможет их затягивать». При всей своей компетентности Иоффе был уже исчерпан. Соответствовал этой цели только Троцкий, не имеющий соперников диалектик, и по требованию Ленина он принял на себя руководство мирной делегацией. Он принял возложенные на него новые обязанности со смешанными чувствами. Его уверенный вид тщеславного человека скрывал внутреннюю застенчивость. «Признаюсь, – говорит он, – я чувствовал себя так, как будто меня вели в камеру пыток. Пребывание среди незнакомых и враждебно настроенных людей всегда возбуждает во мне страх».
Перед отъездом в Брест-Литовск Троцкий попытался заручиться от Робинса и Садула заверениями в помощи союзников в случае разрыва с Германией. Какое-то время Садул очень активно агитировал не только Нуленса, но и других официальных представителей союзников сделать заявление, обещающее русским военную поддержку. Ответ, который он получал, был однотипным: большевики являлись германскими агентами, и в любом случае их дни сочтены. Этого было достаточно, чтобы отвергнуть любую разумную договоренность. Робинсу удалось на время посеять неуверенность в душе американского посла и получить его подпись на двух документах, которые должны были быть использованы только в случае русско-германского разрыва. Первый документ, озаглавленный «Предполагаемое сообщение комиссару иностранных дел», обещал американскую помощь и возможное дипломатическое признание, «если по окончании действия настоящего перемирия России не удастся заключить демократический мир по вине Центральных государств и это вынудит продолжать войну». Второй документ – предполагаемое обращение к Государственному департаменту, в основном предлагающее то же самое и оправдывающее продолжение неофициальных отношений со Смольным.
Попытка России перевести переговоры на нейтральную почву, желательно в Стокгольм, были решительно отвергнуты Германией, и 9 января конференция возобновила свою работу. На этот раз четверо декоративных представителя «народа» остались в Петрограде. Помимо Троцкого прибыл новый делегат Радек, который отметил свой приезд, вышвырнув пачку прокламаций из окна поезда прямо в толпу германским военным, собравшимся на вокзале. Троцкий больше не настаивал на чепухе относительно братания между делегациями и начал с того, что «ограничил» своих коллег от каких-либо контактов, помимо официальных, с представителями Центральных государств.
Кульман открыл первое пленарное заседание резким заявлением, что, поскольку России не удалось добиться участия ее союзников в работе конференции, предыдущая формула, согласованная с Центральными государствами, «утратила силу». Чернин, давая официальный ответ на просьбу большевиков перенести заседания в нейтральную страну, подчеркнул значение интриг, в которые не замедлят пуститься Англия и Франция. Троцкий насмешливо контратаковал: «Идея германского командования (о проведении конференции в Брест-Литовске) состояла в том, чтобы изолировать русскую делегацию от народных масс. Идеалы русской революции и ее программы мира вынуждены искать выражения в герметически закупоренном пространстве. Генералы и дипломаты, недоступные этим идеям, должны создать защитный занавес, способный скрыть огонь русской революции от германских рабочих и от всей Европы». И заключил: «С военной точки зрения вы сильнее, но вынуждены прятать мотивы своей политики от народа. Мы слабее, но наша сила пропорционально возрастает, так как мы проводим открытую политику, и в этом причина того, что мы удерживаем власть».
В Троцком Кульман нашел себе достойного противника. Целыми днями они сидели за столом переговоров друг против друга. Один произносил полуреволюционные обращения, полные брани и едкого сарказма, другой, ни на минуту не забывая, что Германия является хозяином положения, а Россия – порабощенной страной, искусно использовал свое превосходство для политической выгоды. Кульман угадывал в резкости и ярости Троцкого желание довести переговоры «до внезапного и окончательного конца, швырнув через зеленый стол несколько ручных гранат». Хоффман, встревоженный зажигательными призывами большевиков к германским войскам и нетерпеливо желая «дать русским новый удар хлыстом», наконец добился согласия своих коллег «вернуть переговоры к фактам» и удалиться от «теоретических дискуссий», в которые она превратились. Воспользовавшись речью Каменева 12 января, на взгляд Хоффмана продемонстрировавшей «поразительное высокомерие», он напомнил большевикам о нескольких простых истинах. «Русская делегация, – сказал он, – разговаривает с нами так, как будто она присутствует на территории наших стран в качестве победившей и может диктовать нам условия. Я хотел бы указать, что факты как раз противоположны; что победившая германская армия находится на вашей территории». Более того, «русская делегация требует для оккупированных территорий приложения права на самоопределение народов в таком виде и в такой степени, в которых ее правительство не использует его даже для своей собственной страны. Ее правительство основано исключительно на силе, и притом на силе, которая безжалостно подавила всех, кто думает иначе».
Хотя для Кульмана этот взрыв не был неожиданным, Чернин, привыкший в подобных делах к большей дипломатичности, был встревожен жесткостью позиции силы Хоффмана. Планы Германии относительно России и так уже подвергались суровым нападкам со стороны либеральной и социалистической прессы в самой Германии, и несдержанность генерала давала новые основания для критики. Но это было еще ничего по сравнению с важностью такого взрыва для пропаганды союзнических стран, где общественное мнение, подогреваемое в течение войны рассказами об ужасах германского милитаризма и агрессии, получало конкретный пример прусского милитаристского образа мысли в действии. Чтобы сделать эту историю еще более мрачной, Хоффман несколько раз стукнул кулаком по столу, словно подчеркивая значение своих слов. В своем ответе Троцкий прочитал делегатам вводный курс основ марксизма, сводящийся к морали, что в классовом обществе любое правительство основано на силе. Германское правительство применяет репрессии для защиты крупных собственников, тогда как советское правительсто делает то же самое, но для защиты рабочего класса. «Вещь, которая удивляет и вызывает неприязнь правительств других стран, – сказал он, – это то, что мы арестовываем не забастовщиков, а капиталистов, которые подвергают рабочих локауту; что мы не расстреливаем крестьян, которые требуют землю, а арестовываем помещиков и офицеров, которые пытаются расстреливать крестьян».
После тирады Хоффмана Кульман не участвовал в дискуссии, и последующие заседания проходили в привычном порядке теоретизирования и полемики. Троцкому удалось снова захватить инициативу и пригвоздить к позорному столбу перед мировым общественным мнением Центральные государства, осуществляющие дьявольскую политику силы. Кульман, который далеко не так, как союзники, опасался большевизма, упустил прекрасную возможность возразить и представить свою страну защитницей цивилизации – последним барьером между агрессивной красной угрозой и Западом. Наконец германцы попытались применить новую политическую тактику, предоставив слово представителям Украинской рады, которые приехали в Брест со своими идеями об аннексии территорий. Пригрозив заключить сепаратный мир с буржуазной Украинской республикой, германцы надеялись принудить Троцкого к согласию. Лидер большевиков отлично представлял уязвимость своей позиции в этом отношении и 18 января попросил отсрочку на несколько дней, чтобы посоветоваться в Петрограде с другими партийными вождями. Он уже задумал смелый план окончания войны, избежав подписания формального договора о мире, и написал о нем Ленину. «Мы заявляем, что заканчиваем войну, но мирный договор не подписываем, – объяснял он в своем письме. – Они не смогут на нас напасть. Но если все же нападут, наше положение будет не хуже теперешнего, когда у них есть возможность объявить нас агентами Англии и Вильсона после его речи и начать боевые действия». Ленин телеграфировал, что этот план представляется ему «спорным» и спросил: «Есть ли возможность отложить принятие окончательного решения до завершения работы специальной сессии Центрального Исполнительного комитета, который будет проведен здесь?» Германцы согласились на просьбу Троцкого, хотя и изложили свои требования в недвусмысленных выражениях, и 18-го вечером он уехал в Петроград, увозя с собой карту, где Хоффман очертил синей линией будущие границы России, порядком обкорнав ее территории.
Пока Троцкий добирался до столицы, было распущено Учредительное собрание – жалкий остаток легальной оппозиции советскому режиму, – причем при обстоятельствах скорее разочаровывающих, чем героических. При Временном правительстве выборы в эту организацию постоянно откладывались. Большевики извлекали выгоду из затягивания, обвиняя Керенского в намеренном препятствовании изъявлению воли народа, но после ноябрьской (Октябрьской) революции сами столкнулись со сложной проблемой дальнейшей судьбы Учредительного собрания. Ленин, который всегда с презрением относился к буржуазной демократии, выступал за отсрочку выборов, но верх взял Исполнительный комитет партии. В результате выборов, которые начались 25 ноября и продолжались несколько дней, решающее большинство в собрании получили эсеры благодаря авторитету, которым они пользовались в сельской местности, тогда как большевикам, чье влияние было сильнее в крупных городах, особенно в Петрограде и в Москве, удалось занять второе место. Поразительно мало голосов было подано за кадетов и меньшевиков. Большевики отчасти справедливо жаловались, что, поскольку раскол в рядах эсеров произошел уже после того, как были выпущены избирательные бюллетени, избиратели, которые хотели бы поддержать левое, пробольшевистское крыло эсеров, не получили такой возможности.
18 января делегаты Учредительного собрания рассаживались в Таврическом дворце; вооруженные до зубов матросы и красногвардейцы подчеркивали неопределенность статуса будущего собрания. Посол Фрэнсис, которому не удалось убедить своих коллег посетить собрание, оказался в одиночестве и тоже отсутствовал. «Если бы мы пришли, – говорит Фрэнсис, – присутствие дипломатического корпуса, представляющего союзников России, могло бы произвести на собрание успокаивающее действие». Как всегда, посол был склонен преувеличивать нравственный престиж своего учреждения. Даже сравнительно консервативное собрание не было позитивно настроено по отношению к делу союзников. И действительно, была принята резолюция «от имени народа Российской Республики», выражающая «твердую волю народа немедленно положить конец войне и заключить справедливый и общий мир». Союзников призвали «совместно определить конкретные условия демократического мира, приемлемые для всех воюющих сторон».
Встреча тянулась час за часом, ораторы всех фракций сорвали себе голосовые связки, их часто прерывали мяуканьем и замечаниями с галерки, где собрались рабочие, матросы и солдаты большевистских убеждений. Около часу ночи делегация большевиков встала с мест и прочла заявление, представляющее точку зрения партии и объявляющее о ее выходе из собрания; казалось, после этого в собрании начнется настоящая кулачная схватка. Через некоторое время зал покинули и левые эсеры, что дало возможность оставшимся делегатам гораздо легче протащить резолюцию. Ближе к пяти часам на трибуну поднялся начальник военной охраны, положил руку на плечо председателя и попросил его распустить собрание, потому что охрана устала. Председатель попытался проигнорировать его и продолжить свою речь; но в зале стали гаснуть лампы, и было решено отложить работу до полудня. До начала второго заседания появился советский декрет о роспуске Учредительного собрания, поскольку он являлся только помощью «буржуазной контрреволюции в ее попытках свергнуть власть Советов». Народ равнодушно воспринял известие о насильственном разгоне Учредительного собрания, и делегаты тихо вернулись в свои города и веси.
Избавившись от этой незначительной угрозы своей власти, советские вожди перенесли внимание на более серьезную опасность, исходящую из Берлина. Роспуск собрания, признает Троцкий, неблагоприятно повлиял на положение России, потому что в Германии это читалось как стремление «любой ценой положить конец войне». Троцкий продолжает: «Тон Кульмана сразу стал резче и жестче». Возмущенная реакция прессы союзников на это событие только укрепила убежденность Троцкого в настоятельной необходимости провести «поучительную демонстрацию», чтобы доказать европейскому пролетариату реально существующую смертельную вражду между Гогенцоллернами и большевиками. Ленин воспринимал его идеи по-прежнему скептически.
– Невозможно желать ничего лучшего, – сказал он Троцкому, – если бы Хоффман оказался недостаточно силен, чтобы направить против нас свои войска. Но на это мало надежды. Он может найти для наступления специально набранные полки из богатых баварцев. Да и сколько их понадобится ему? Вы сами говорите, что траншеи опустели. Что, если германцы возобновят войну?
– Тогда, – отвечал Троцкий, – мы будем вынуждены подписать мир, но каждый поймет, что у нас не было иного выхода. Одним этим фактом мы нанесем решительный удар по сплетням о нашей тайной связи с Гогенцоллернами.
– Конечно, в этом есть своя выгода, – заявил Ленин. – Но это слишком опасно. Если бы этим способом мы могли обеспечить победу революции в Германии, тогда нам следовало бы так поступить. Германская революция гораздо важнее нашей. Но когда она произойдет? Никто не знает. И в настоящий момент нет ничего важнее нашей революции. Ее необходимо защитить любой ценой.
Бухарин, к которому присоединилась группа «левых коммунистов», среди которых были Радек, Покровский и Коллонтай, пошел еще дальше позиции Троцкого, поддерживая «священную войну» против германских агрессоров. Ленин не очень успешно предостерегал против этого «опьянения революционной фразой». Радек, вставший для речи на одном из заседаний партийных вождей, яростно посмотрел на Ленина и сказал:
– Если бы в Петрограде набралось пять сотен смельчаков, мы посадили бы вас в тюрьму.
– Некоторые люди действительно могут оказаться в тюрьме, – холодно ответил Ленин, – но если вы взвесите возможности, то поймете, что гораздо вероятнее, что это я вас туда отправлю, а не вы меня.
В своих знаменитых «двадцати одном тезисе» Ленин бесстрастно оценил достоинства плана Бухарина и Радека и решительно отверг его в пользу подписания мира. «Революционная война в настоящий момент, – утверждал он в десятом тезисе, – поставит нас в положение агентов англо-французского империализма постольку, поскольку мы будем поддерживать дело последнего. Англичане предложили нашему Верховному главнокомандующему Крыленко сто тысяч рублей в месяц за каждого нашего солдата, если мы продолжим участвовать в войне. Даже если мы не примем от них ни пенни, задерживая германские войска, мы все равно будем им помогать». Ленинское замечание относительно сделанного Крыленко предложения, возможно, произнесено для вящей убедительности, так как Локарт, единственный, кто мог иметь полномочия сделать такое предложение по поручению британского правительства, прибыл в Петроград только в конце месяца. Точно так же и правительства других союзников не желали себя компрометировать. У Робинса не было ничего нового для доклада. В кабинете Троцкого Садулу была передана карта Хоффмана, которую его попросили показать Нуленсу и Нисселю. «Мы не будем подписывать этот мир, но как нам быть? – спросил Троцкий. – Вести священную войну? Да, мы ее объявим, но каковы будут результаты? Настал момент решать союзникам».
Нежелание союзников решительно обещать поддержку, очевидно, подтвердило подозрения Троцкого, что они приступают к тайным переговорам с Германией за счет России. В своей речи перед III съездом Советов 26-го он заявил, что Англия дала «свое молчаливое согласие на условия, предложенные Кульманом» и была «готова пойти на компромисс с Германией за счет России». И далее: «Условия мира, которые предлагает нам Германия, – это условия Америки, Франции и Англии. Таким образом мировые империалисты намерены рассчитаться с русской революцией». Он продолжал с презрением говорить об Украинской республике. Британский офицер капитан Джеральд Фитц-Уильямс, тогда находившийся в Киеве с несколькими французскими офицерами, при помощи крупных взяток пытался склонить Раду на сторону союзников, и Троцкий в ответ на эту «циничную поддержку» заметил, что Рада «следует тем же курсом буржуазных правительств маленьких Балканских государств, которые одновременно берут взятки и от России, и от Австро-Венгрии». «История покажет, – с поразительной точностью предсказал он, – что Рада выкинет злобный трюк по отношению к тем, кто поддерживает ее из-за враждебного к нам отношения».
Центральный комитет большевиков девятью голосами против семи наконец решил принять формулу Троцкого «ни войны, ни мира», если все другие способы потерпят неудачу, а тем временем попытаться насколько возможно затянуть переговоры с германцами. Троцкий обещал Ленину, что, если германцы пойдут в наступление, он согласится с необходимостью подписания мира. Некоторые территории России будут захвачены, но Ленин считал, что эксперимент не так уж опасен и в любом случае не так авантюрен, как предложенная революционная война. «Ради добрых отношений с Троцким, – усмехнулся он, – стоит потерять Латвию и Эстонию». Возвратившись в Брест-Литовск, Троцкий застал представителей Центральных государств в раздраженном состоянии. Они стремились поскорее достичь окончательного решения и положить конец этому откровенно затянувшемуся «матчу соревнования умов». Чтобы уравнять досаждающее присутствие делегатов Украинской рады, Троцкий привез с собой двух украинских большевиков, поскольку Красная армия тогда (29 января) начала оккупацию Киева и свержение буржуазного правительства. Он саркастически заявил, что делегаты Рады представляют лишь свое обиталище в Брест-Литовске, так как больше не имеют права представлять какую-либо территорию Украины. «Судя по поступающим ко мне сообщениям из Украины, – пишет Хоффман, – к сожалению, заявление Троцкого было не совсем лишено оснований». Но исчезновение Рады не помешало Центральным государствам продолжить переговоры о сепаратном мире с несуществующим украинским правительством. Как выражается Хоффман, «эти затруднения были временными; в любой момент мы могли силой поддержать это правительство и создать его заново». Мирный договор с Украиной, подписанный 9 февраля в обмен на некоторые территориальные уступки, давал Центральным государствам крайне необходимое зерно и другие продукты, помимо людских ресурсов. Таким образом англо-французские попытки подкупить Раду потерпели крах. Как философски заметил Фитц-Уильямс, «план не удался, поэтому его следует назвать плохим. Если бы он удался, его назвали бы хорошим».
Большевистская пропаганда не переставала вестись весь январь. В этом же январе эпидемия забастовок и рабочих демонстраций, которые прошли в Берлине, в Вене и в Гамбурге, казалось, действительно предвещала великое пробуждение пролетариата Центральной Европы. В качестве председателя Петроградского Совета Зиновьев называл забастовщиков «братьями» и приветствовал их «славную борьбу против германского и мирового империализма». «Рабочие и солдаты Петрограда, – заявил он, – встретили эту новость с изъявлением неописуемого восторга… Вы показали, что австро-германский рабочий класс не позволит палачам и грабителям навязать Советской социалистической республике мир насилия и аннексии». К несчастью для этой идиллии революционной солидарности, власти жестоко расправились с бастующими, и к 3 февраля все движение было обуздано и сокрушено. Призывы большевиков по радио к германским солдатам стали более смелыми, солдат призывали убивать офицеров, Верховного главнокомандующего и даже кайзера. Император Вильгельм был взбешен этими подстрекательскими заявлениями и по просьбе фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга телеграфировал Кульману: представить России ультиматум сроком действия в двадцать четыре часа, потребовав в качестве условия мира сдачу прибрежной Балтии (Эстонии и Литвы) в дополнение к территориям, на которые уже были заявлены претензии. Министр иностранных дел Германии, надеясь вот-вот договориться с Троцким, твердо отстаивал свою позицию и пригрозил покинуть переговоры, если этот приказ не будет аннулирован.
Кульман победил в этом соревновании воли только для того, чтобы обнаружить, что он напрасно рисковал своим положением. 10-го Троцкий поразил конференцию, заявив о выходе России из войны и об ее отказе подписать мирное соглашение. «Мы не можем, – заявил он, – поставить подпись русской революции под этими условиями, которые миллионам людей принесут угнетение, несчастья и ненависть. Правительства Германии и Австро-Венгрии решили насильственно захватить земли и население. Так пусть они сделают это открыто. Мы не можем одобрить насилие. Мы выходим из этой войны, но чувствуем себя вынужденными отказаться от подписания мирного договора». До этого последнего предложения делегаты слушали его со спокойным удовлетворением, уверенные, что обвинения Троцкого в адрес империализма носят только характер риторического вызова, после чего он склонится перед необходимостью. Но когда он закончил говорить и положил на стол подписанное заявление о позиции России, делегаты противной стороны могли только изумленно смотреть на него. «Мы все были оглушены», – просто говорит Хоффман.
В тот же вечер русская делегация отправилась домой в прекрасном настроении, как если бы одержала дипломатическую победу. Кульман и Чернин, совершенно не представляя себе своих дальнейших действий в ситуации, не имеющей аналога в истории, вместе с тем испытали огромное облегчение, что им не нужно объявлять об ультиматуме, поскольку уже полностью сознавали моральный ущерб, который потерпела их миссия в Брест-Литовске. Ответ, который дал канцлер Георг фон Гертлинг на «четырнадцать пунктов» Вильсона, звучал крайне невыразительно перед лицом неприкрытых притязаний Германии на аннексирование территорий. Всего за неделю до этого Верховный военный совет союзников выпустил совместную декларацию, привлекая внимание к «контрасту между заявленными идеалистическими целями, с которыми Центральные государства появились на переговорах о мире в Брест-Литовске, и раскрытыми теперь планами захвата и грабежа». Дипломаты с удовлетворением приняли мир de facto, поскольку германские войска уже заняли те территории, о которых спорили. Кульман не пожелал «бежать за большевиками с пером в руке», поскольку насильно вырванная подпись на мирном договоре «будет иметь малую практическую значимость». Сначала подобная политика большевиков казалась выигрышной, но Верховный главнокомандующий энергично взялся за дело и добился одобрения канцлера и кайзера на разрыв перемирия и возобновление военных действий.
Большинство вождей большевиков в Петрограде оставались неисправимыми оптимистами. Даже те, кто допускал возможность наступления Германии, позволяли себе роскошь думать, что нравственное состояние ее войск подорвано пропагандой и что в тылу вот-вот поднимутся рабочие массы. 14-го в речи перед Центральным комитетом партии Троцкий оправдывал свои действия и закончил на типичной для него ноте революционной хвастливости. «Если нам придется столкнуться с молчаливым согласием между империалистами Центральных государств и даже между ними и союзниками, если нам придется столкнуться с заговором мирового империализма против русской революции, – кричал он, – своей тактикой в Брест-Литовске мы установили и вновь подтвердили связь с нашими естественными союзниками, рабочими Франции, Англии, Германии, Австрии и Америки… Но мировая революция, восстание пролетариата Западной Европы и Америки разрушит этот заговор». Затем были приняты резолюции, одобряющие работу русской делегации на мирной конференции и призывающие к созданию «Красной армии рабочих и крестьян».
На следующий день состоялась первая встреча Локарта с Троцким, вылившаяся в двухчасовую беседу, во время которой рассматривались все аспекты англо-российских отношений. Локарт не делал никаких обещаний – большинство его телеграмм в Лондон остались без ответа, – но Троцкий произвел на него впечатление «исключительно честного и искреннего человека в его ожесточении против Германии», «готового умереть, сражаясь за Россию, если при этом его будет видеть достаточно большое количество зрителей». Вернувшись из Смольного, Локарт узнал, что Робинс оказался втянутым в спор с Иваном Залкиндом, заместителем комиссара иностранных дел. Глубоко возмущенный Робинс решил потребовать от Залкинда извинений за грубость или уехать из России. Позвонил Ленин и пообещал, что заместитель комиссара будет уволен со своей должности, но что как старого члена партии его используют в какой-нибудь другой должности. Будет ли Робинс возражать, если Залкинда назначат большевистским эмиссаром в Берне? Робинс улыбнулся и сказал: «Благодарю вас, мистер Ленин. Раз уж я не могу послать этого сукина сына ко всем чертям, «сжечь»[3] его – это самое лучшее, что вы можете с ним сделать». Таким образом Ленину удалось смягчить Робинса, не признавшись в том, что Залкинд уже рассматривался кандидатом на дипломатическую миссию в Швейцарию одновременно с Петровым – в Англию и Каменевым – во Францию. Но вместо этого Петров сменил Залкинда на его должности в комиссариате иностранных дел, а Чичерин, который замещал Троцкого на время его пребывания в Брест-Литовске, вскоре после этого был назначен главой комиссариата иностранных дел. Троцкий считал, что его назначение, как он сказал Ленину, «будет означать для Германии радикальное изменение нашей политики и усилит ее уверенность в нашей готовности на этот раз действительно подписать мирный договор».
В конце того же месяца Каменев и Залкинд прибыли в Англию. Первый вез послание с просьбой к союзникам помочь отразить нападение германцев при условии, что эта помощь не будет предусматривать интервенцию японцев на Дальнем Востоке. Несмотря на неофициальное соглашение, достигнутое между Британией и Россией, разрешающее квазилегальный статус Литвинову в Лондоне и Локарту в Петрограде, в Абердине, куда Каменев и Залкинд прибыли 23-го, их встретили весьма враждебно. Их обыскали, а принадлежавшие Каменеву мешок с дипломатической почтой, деньги, багаж и остальные личные вещи были изъяты. Это необычное отношение через несколько дней стало предметом критики ответственных за него правительственных властей в палате общин со стороны Мак-Дональда.
В Лондоне, где все время пребывания за Каменевым следили детективы, он имел частные беседы со множеством лиц, включая двух служащих министерства иностранных дел, один из которых принял его протест по поводу нарушения дипломатического иммунитета, а второй – отчет о мирных переговорах. Один из членов парламента открыто заявил ему, что ни французское, ни британское правительство не признают его дипломатический статус и что ему придется вернуться в Россию. Он, кажется, произвел впечатление своей внешностью на собеседников. Один назвал его «злобным медвежонком», а другой сказал, что он выглядит как «Христос, каким его изображали итальянские художники XVII века».
Просьба Каменева о помощи осталась в Лондоне незамеченной. Не имея возможности проехать в Париж, в самом мрачном настроении он отправился в Петроград. Но его злоключения только начинались. На финской границе он был арестован властями и освобожден только после того, как в июле было достигнуто соглашение между советским правительством и посольством Германии, действовавшим от имени Финляндии, которое предусматривало обмен Каменева и других пленных большевиков на граждан Финляндии, задержанных в Петрограде.
Тем временем Германия рассеяла все иллюзии большевиков, утром 18-го начав наступление. Немцы не встретили никакого сопротивления; несколько русских соединений, которые еще не разошлись по домам, или сдались, или бежали. В приказе, отданном своим войскам, принц Леопольд, командующий Восточным фронтом, утверждал, что цель Германии – не аннексия, а восстановление порядка и подавление анархии. «Россия больна и пытается заразить нравственной инфекцией все страны мира, – утверждал он. – Мы должны сражаться против беспорядка, привитого Троцким, и защитить поруганную свободу. Германия счастлива быть воплощением чувств других народов, почитающих порядок». Таким образом, даже самую циничную агрессию можно было оправдать под видом осуществления «священного крестового похода» против большевизма. Для Хоффмана угроза большевизма стала уже навязчивой идеей, и приказ возобновить военные действия прозвучал для него как сладкая музыка. Его беспокоило, как бы большевики не превратили «всю Европу в свинарник», потому что Россия была «не более чем гигантской кучей мясных мух, омерзительной кишащей массой». Генерал был удовлетворен неожиданной легкостью наступления. «Это самая комичная война из всех войн, которые я знал, – почти вся она ведется при помощи железной дороги и автомобилей, – записал он в дневнике 22-го. – Мы сажаем горстку пехотинцев с пулеметами… на поезд и отправляем их на следующую станцию; они ее захватывают, берут в плен большевиков, получают пополнение другими солдатами и отправляются дальше. Этот способ ведения войны имеет по меньшей мере привлекательность новизны».
Ленин проводил совещание с двумя лидерами левых эсеров, когда из Брест-Литовска пришло сообщение о том, что Германия разрывает перемирие. Троцкий также присутствовал на совещании, и Ленин молча протянул ему телеграмму. Как и прежде, Троцкий выступил за затягивание подписания договора о мире, чтобы дать возможность германцам по-настоящему развернуть наступление. Но Ленина больше беспокоил вопрос, согласятся ли германцы на первоначальные условия мира, а не то, следует ли России и дальше отказываться от подписания. «Теперь мы не можем терять ни одного часа! – воскликнул он. – Проверка сделана. Хоффман хочет и может сражаться. Дальнейшая отсрочка невозможна. Это чудовище движется стремительно». Центральный комитет большинством в один голос настоял на дальнейшем откладывании подписания мирного договора. Когда германцы продемонстрировали, что их наступление вовсе не блеф, им была отправлена радиотелеграмма, предлагающая принять прежние условия мира. Но главнокомандующий, аппетит которого сильнее разгорался при возможности захватить большую территорию России, не торопился отвечать. Германские войска продолжали наступление сообразно своим планам, и «социалистическое отечество» было объявлено в опасности. Правительство готовилось к революционной войне против «орд буржуазно-империалистической Германии». Союзники тоже оказались подвергнуты острым нападкам, их обвиняли в саботаже усилий Советов по достижению мира (имелась в виду помощь союзников Духонину, Каледину, Алексееву, Раде и Румынии). «У всех нас, включая Ленина, – говорил Троцкий, – создалось впечатление, что германцы договорились с союзниками уничтожить Советскую Россию и что мир на Западном фронте должен быть построен на останках русской революции».
Каким бы «порочным» ни был источник помощи, тем не менее ее нетерпеливо ожидали от союзников, потому что оборонительная война даже во имя самой справедливой идеи не могла вестись на голом энтузиазме. Троцкий сказал Локарту, что он постарается склонить правительство в пользу войны, если союзники пообещают военную поддержку, но Лондон не ответил на информацию Локарта. Робинс продолжал раздавать неопределенные обещания американской помощи, пока Троцкий с раздраженным юмором не заметил ему: «Полковник Робинс, ваше правительство прислало вас сюда с огромным мешком с надписью: «Американская помощь». Вы каждый день приходите с этим мешком в мой кабинет, ставите его на пол около своего стула и во время разговора все время протягиваете к нему руку, а мешок очень солидный. Но из него ничего не появляется».
Несмотря на молчание Лондона, Парижа и Вашингтона, послы в принципе договорились предложить помощь. По настоянию Садула Нуленс позвонил Троцкому и сказал ему, что советское правительство может «рассчитывать на военную и финансовую помощь Франции». Французская и британская военные миссии предложили сотрудничать с красногвардейцами в разрушении железной дороги, по которой германцы вскоре могли войти в Петроград. 22-го Троцкий сообщил Центральному комитету о предложении Франции и высказался за него при условии, что большевики будут совершенно независимы в своей внешней политике. Бухарин, продолжая оставаться активным сторонником революционной войны, выступил против подобных договоренностей с империалистическими правительствами. Ленин на заседании не присутствовал, но прислал записку: «Прошу добавить мой голос в пользу получения денег и вооружения от разбойников англо-французского империализма». Предложение прошло с преимуществом всего в один голос. В длинном коридоре Смольного после совещания Бухарин со слезами говорил Троцкому: «Мы превращаем партию в кучу навоза».
Перед лицом угрозы вторжения германцев в Петроград посольства готовились к спешной эвакуации. 27-го служащие американского, японского и китайского посольств выехали в Вологду. Днем позже большинство оставшихся посольств, включая посольства Англии и Франции (итальянцам было отказано в паспортах, поэтому они задержались на несколько дней), попытались покинуть Россию по Финляндской железной дороге. Только британцам удалось пробраться через линию фронта финских белых и красных; остальные, тщетно прождав две недели в своих спецвагонах, присоединились к американцам в Вологде. Это поспешное бегство оказалось излишним, поскольку в конце концов германские войска остановились в ста тридцати километрах от Петрограда, захватив балтийские провинции, Украину и оставшуюся часть Польши. Наконец они ответили на предложение большевиков ультиматумом, по сравнению с которым прежние мирные условия казались великодушными. Их ультиматум был получен только 23-го, а согласие на его условия должно было быть отправлено в пределах сорока восьми часов.
У Ленина не хватало терпения возиться с патриотическими заблуждениями бухаринской клики. «Время положить конец революционным фразам и приступить к настоящей работе, – заявил он Центральному комитету. – Если это не будет сделано, я выхожу из правительства. Для того чтобы вести революционную войну, нужна армия, которой у нас нет. В сложившихся обстоятельствах нам остается только принять эти условия». Во время голосования шесть членов комитета поддержали Ленина, четверо воздержались (включая Троцкого) и четверо проголосовали за войну. Эти четверо затем вышли из партии. Вечером Ленину пришлось присутствовать на еще более трудном заседании Исполнительного комитета Советов. Но после продолжавшегося всю ночь заседания его неумолимая логика завоевала абсолютное большинство голосов в пользу подчинения германским условиям. Когда большевики уходили с заседания, слышались выкрики левого крыла эсеров: «Предатели… Жиды… Германские шпионы!»
24-го русская делегация во главе с Сокольниковым отправилась на уже знакомую сцену переговоров в Брест-Литовске. По дороге они часто задерживались из-за разобранных красногвардейцами рельсов, что было сделано против германских войск, так что делегация прибыла на место только через четыре дня. Подчеркивая тот факт, что мир был им навязан, русские приняли вид мучеников и отказались обсуждать условия мира. «Если бы император Германии потребовал в качестве столицы Москву и Урал – в качестве своей летней резиденции, русские подписали бы это не моргнув глазом», – комментировала «Мюнхенер пост». В Петрограде возникла кратковременная паника, когда от Карахана была получена телеграмма с просьбой предоставить поезд и вооруженную охрану, которую восприняли как свидетельство, что германская сторона прервала переговоры. Но ситуация прояснилась, как только была получена отправленная раньше, но задержавшаяся в пути телеграмма, и 3 марта был подписан договор о мире, по поводу чего Сокольников заявил в заготовленном сообщении, что это был мир, «принимаемый Россией вынужденно, скрипя зубами». «Это мир, – продолжал он, – который якобы освобождает расположенные на границе России провинции, но на самом деле превращает их в германские провинции и лишает их права свободного самоопределения, предоставленного им рабоче-крестьянским правительством России… Это мир, который возвращает землю землевладельцам и снова отдает рабочих в рабство владельцам фабрик. Но мы ни на минуту не сомневаемся, – заявил Сокольников, – что этот триумф империалистов и милитаристов над интернациональной пролетарской революцией – факт временный и преходящий».
У России были отобраны богатейшие провинции, территории, содержащие треть ее населения, треть возделанных земель и половину промышленности. Для союзников это было уроком и предостережением, который по наглядности превосходил любую антигерманскую пропаганду. И, судя по реакции прессы, союзники отлично его усвоили. «Политика германского правительства в отношении России, – говорила «Нью репаблик», – только подтвердила убежденность западных демократий в необходимости положить конец этому международному мародерству, и если одна война способна внушить германцам недопустимость таких действия, то война будет продолжаться». Для филадельфийской «Прессы» отношение Германии к России доказало, что было бы «совершенным безумием полагаться на слово Германии в отношении чего-либо», а «Дейли телеграф» в Лондоне сурово упрекала большевиков и пацифистов-союзников за то, что они все еще «мягко говорят о германской сдержанности и о ее мнимых предложениях мира». Газеты призывали «с тревогой задуматься надо всем, что подразумевается под этим трагическим эпизодом разрушения России, и сделать отсюда ясные и поучительные выводы». Парижская «Темп», назвав этот мирный договор «преступным», с удовлетворением заметила, что суждения союзников о нем были «твердыми и очевидными». Вместе с тем наиболее консервативные органы печати, среди которых была и «Темп», не смогли воздержаться от обвинений в тяжелом положении России и большевиков, и германцев. Бостонская «Ивнинг транскрипт» с большим ожесточением говорила о лидерах большевиков, чем об «агрессии и грабеже» Германии. Ответственность за предательство в Брест-Литовске возлагалась на «пару извращенных фанатиков, которые… смогли поднять невежественные массы России против Керенского и Корнилова и убедить миллионы этих людей, что их германские собратья слишком благородны, чтобы воспользоваться преимуществом безоружных людей. Никогда, повторяем мы, в истории не совершалось подобного предательства». Для парижской «Матен» было ясно, что большевики «сдали свою страну Германии в надежде спасти социалистическую революцию, для которой продолжение войны грозило смертельной опасностью». Лондонская «Таймс» намекала, что большевики должны были ожидать столь жестких условий мира, поскольку именно они «распустили русскую армию и оставили свою страну беззащитной перед неумолимыми захватчиками». Еженедельник «Спектатор», хотя и подтверждал волю союзников «продолжать войну, чтобы освободить мир от германской тирании», указывал, что это делается «не для защиты трусливых и продажных большевиков», а в противовес тем, чьи «преступления и безрассудства могла прекратить только война».
Договор был подписан, но не ратифицирован. «Левые» коммунисты, в воинственном «революционном» патриотизме которых даже самые рьяные националисты старого режима не нашли бы достаточных оснований для критики, накинулись на ленинскую «бесстыдную» политику в недавно основанном журнале «Коммунист» и готовились до последней капли крови стоять против того, что они назвали предательской сдачей Германии. Триумвират дипломатических представителей союзников также пытался помешать ратификации, обещая полную поддержку со стороны их правительств. На самом деле их влияние на политику союзников было крайне ограничено. Только Локарт имел прямой контакт с правительством, да и то в результате сбоев несовершенной телеграфной связи и, что гораздо более важно, неодобрительного отношения к его поведению со стороны министерства иностранных дел. Один из служащих министерства жаловался, что Локарт относится к Троцкому «как будто он Бисмарк или Талейран», а другой требовал от Бальфура «отозвать этого дерзкого молодого человека».
Робинс и Садул были лишены даже этого сомнительного преимущества, которое получил англичанин. Ни один из них не пользовался доверием своего посла, и Садул особенно часто ссорился с консервативным Нуленсом. Впервые Локарт встретился с Лениным 29 февраля и был поражен его «невероятной силой воли, его непреклонной решимостью и отсутствием эмоций», хотя на первый взгляд он казался «скорее провинциальным бакалейщиком, чем вождем». Ленин не ожидал соблюдения мира германской стороной и сказал Локарту, что, если немцы попытаются установить в России буржуазное правительство, большевики будут сражаться, даже если им придется отступить к Уралу. «Мы можем позволить себе временно уступить капиталу, – сказал Ленин. – Это даже необходимо, ибо, если капитал объединится, мы будем уничтожены уже на этой стадии нашего развития. К счастью для нас, объединение не в природе капитала. Поэтому до тех пор, пока существует германская угроза, я готов пойти на сотрудничество с союзниками, что будет временно выгодно и для них, и для нас». Но, предсказал он, «ваше правительство никогда не увидит вещи в этом свете. Это реакционное правительство. И оно будет сотрудничать с русскими реакционерами».
Локарт не был готов согласиться с такой циничной оценкой британской политики и продолжал энергично убеждать министерство иностранных дел более дружественно относиться к советскому правительству. Особенно его взволновали сообщения о японской интервенции. Для большевиков вторжение Японии было не лучше нападения Германии. Локарт предостерегал Бальфура, что, если союзники позволят японцам войти в Сибирь, перспективы сотрудничества с Россией перейдут в разряд безнадежных. «Я уверен, – писал он, – что вы не имеете представления, какие настроения возбудит японская интервенция. Даже кадетская пресса, которую нельзя упрекнуть в сочувствии к большевикам, во весь голос объявила интервенцию преступлением против России и сейчас проповедует поддержку любой партии, которая будет противостоять Германии и спасет революцию». Шаблонный ответ, что «Япония придет не как враг, не как завоеватель-Германия, а как союзник и друг» не мог успокоить даже Локарта, не говоря уже о большевиках.
«По логике событий рабочий класс сейчас является единственной силой в России, которая не приветствует германскую интервенцию», – еще раз телеграфировал Локарт в Лондон 10 марта. «Как и на Украине, здесь появились несколько буржуазных союзов, которые замышляют создать правительство под германцами. Если своим попустительством японской интервенции в настоящий момент мы уничтожим единственную силу в России, которая будет сражаться с Германией, мы должны будем принять все последствия». Тем не менее Бальфур, очевидно, не находил, что ободрение японцев в их дальневосточной авантюре означает вмешательство во внутренние дела России. «Я постоянно внушаю мистеру Локарту, что мы не желаем вмешиваться во внутренние дела России, – раздраженно замечал министр иностранных дел. – Похоже, ему совершенно не удается донести эту точку зрения до большевистского правительства».
Посольства союзников в Вологде жадно прислушивались к диким антибольшевистским слухам и почти каждый день просили оставшихся в Петрограде служащих подтвердить или опровергнуть известия о новых случаях нарушения закона и насилия со стороны большевиков. По временам Троцкий раздражался на глупость послов; затем снова со смехом предлагал прописать им капли для успокоения нервов. Возвратившись с Локартом из поездки в Вологду, он воскликнул: «Если бы мы положили всех представителей союзников в котелок и сварили бы их, из этого варева невозможно было бы выжать ни капли здравого смысла!» В первой половине марта, ввиду опасной близости германцев, большевики начали переводить правительство из Петрограда в Москву, бывшую более двух веков назад, вплоть до правления Петра Великого, исторической столицей России. Троцкий, который в этот период взял на себя обязанности военного комиссара, вместе с Локартом и другими членами британской военной миссии выехал из Петрограда как раз в тот момент, когда в Москве состоялся Всероссийский съезд Советов, который должен был принять решение ратифицировать или отвергнуть Брест-Литовский договор, то есть постановить – быть миру или войне.
Неудача, постигшая Локарта в попытке получить от своего правительства гарантии или хотя бы неопределенные обещания помощи России, не помешала Робинсу и Садулу продолжать добиваться того же от своих правительств. Не больше повезло и Садулу с Нуленсом, он не получил ответа на свои обращения в Париж за военной помощью. Садул специально съездил в Вологду, чтобы встретиться с Фрэнсисом и заручиться от того обещанием помощи, в которой отказал его собственный посол. Робинс вместе с посольством уехал из Петрограда, но вернулся и 5-го встретился с Троцким. Робинса спросили, по-прежнему ли он возражает против ратификации договора, и, когда он дал ожидаемый ответ, Троцкий сказал ему, что наступил момент для определенного обещания помощи со стороны американского правительства. Если он сможет его получить, Троцкий обещал поехать в Москву и там добиться отказа от ратификации договора. Но Робинс знал, что Троцкий всегда выступал против мира. «А как же Ленин?» – спросил он. «Ленин согласен», – сказал Троцкий. «Он так и скажет?» – «Да». – «Письменно?» Троцкий поколебался, но затем пообещал, что они оба подпишут письменное заявление, если он вернется сегодня днем. Робинс вернулся к назначенному времени со своим секретарем и переводчиком Александром Гумбергом, который перевел на английский язык документ, подготовленный Троцким и Лениным. Он касался двух основных вопросов, связанных с новым разрывом с Германией: во-первых, уточнял, какую конкретно помощь предоставят союзники, а также – Соединенные Штаты; во-вторых, какие меры союзники, а именно Соединенные Штаты, предпримут, чтобы предотвратить вторжение японцев в Сибирь. Зачитав вслух английский перевод заявления, Робинс спросил у Ленина: «Данный перевод точно передает ваше понимание смысла этого документа?» – «Да», – ответил Ленин. «Тогда, – продолжал Робинс, – если правительство Соединенных Штатов положительно ответит на этот документ, будете ли вы выступать против ратификации Брест-Литовского договора о мире на Всероссийском съезде Советов в Москве?» – «Да», – повторил Ленин.
Сообщение был немедленно зашифровано и отправлено в Вологду для передачи в Вашингтон. Но по несчастному стечению обстоятельств единственный американский офицер, знакомый с шифром, только что уехал из Вологды, и только через три дня, когда Робинс сам приехал туда, важное сообщение было передано в Государственный департамент. Тем временем из Петрограда это сообщение было отправлено в военное министерство. Фрэнсис сообщал о своей интерпретации положения в словах, показывающих его одобрение усилий Робинса. «Я не могу сейчас слишком сильно поддерживать безрассудство вторжения японцев, – заявил он во второй телеграмме. – Существует вероятность того, что съезд в Москве ратифицирует мирный договор, но, если я получу от вас заверения в необоснованности японской угрозы, я считаю, что съезд отвергнет этот унизительный мир. Советское правительство – единственная сила, которая может противостоять германскому наступлению и, следовательно, его следует поддержать, если оно искренне и непримиримо настроено против Германии». Затем посол повторил свое предположение, что Ленин и Троцкий являются агентами Германии, что, безусловно, должно было затруднить благоприятный ответ на советское предложение. Робинс, уверенный в удовлетворительном ответе Госдепартамента, попросил Ленина отложить открытие съезда, которое должно было состояться 12 марта, по меньшей мере на сорок восемь часов. Ленин ничего определенного ему не ответил, но на следующий день в «Известиях» появилось сообщение, что по просьбе Ленина открытие съезда состоится 14 марта.
На IV съезд Советов собрались делегаты из всех уголков России – около двухсот делегатов, – чтобы вынести окончательный приговор условиям мирного договора. Перед началом первого заседания Ленин спросил Робинса, какой ответ он получил от своего правительства. «Никакого», – ответил Робинс. «А что ответили Локарту?» – «То же самое». Он отважился спросить, можно ли отложить дебаты, но Ленин ответил, что они пойдут своим чередом.
Вечером 14 марта, вскоре после того как собрались делегаты, председатель зачитал короткое послание, которое по совету полковника Хауса прислал президент Вильсон. Оно выражало сочувствие русскому народу «в этот момент, когда германская мощь ворвалась, чтобы прервать и свести на нет всю борьбу за свободу», тем не менее в следующей фразе выражался отказ на деле проявить это сочувствие: «К сожалению, в настоящее время правительство Соединенных Штатов не имеет возможности оказать прямую и эффективную помощь, которая была бы желательна». Послание было встречено аплодисментами, но так же горячо была одобрена и резолюция, принятая Исполнительным комитетом Советов, которая не могла быть воспринята президентом с удовлетворением. Хотя Вильсона поблагодарили за его любезное послание, «всем народам, погибающим и страдающим от империалистической войны», были переданы «горячие симпатии» съезда Советов и непреклонная убежденность в «твердой вере, что недалеко то счастливое время, когда рабочие массы всех стран сбросят ярмо капитализма и установят социалистическое общество».
Обсуждение мирного договора началось на следующее утро, продолжалось весь день и возобновилось 16-го. Большинство выступающих были против ратификации, но, судя по аплодисментам, которыми встречали защитников обеих точек зрения, трудно было решить, какая сторона победит. Ленин выступил только вечером на последнем заседании. Робинс сидел на ступеньках, ведущих к возвышению, и Ленин пригласил его подойти. «Что вам ответило ваше правительство?» – спросил он. «Ничего. А что ответили из Лондона Локарту?» – «Ничего, – сказал Ленин. – Теперь я выскажусь за мир. Договор будет ратифицирован».
В течение полутора часов Ленин говорил в своей спокойной, убедительной манере, с неопровержимой логикой доказывая бесполезность дальнейшего сопротивления. Он назвал договор «Тильзитским миром», имея в виду мир, который Пруссия была вынуждена подписать с Наполеоном в 1807 году, и так же как германский народ отомстил за себя, говорил Ленин, так и русский народ сможет ниспровергнуть этот договор. Он был последним оратором. Проголосовали: за ратификацию 784 делегата, против – 261, воздержались 115.
Двумя днями позже премьер-министры и министры иностранных дел союзников – Соединенные Штаты воздержались – выпустили совместное заявление, в котором отказывались признать договор, поскольку он являлся «политическим преступлением, совершенным против русского народа». Германия была объявлена «разрушителем национальной независимости, неумолимым врагом прав человека и ценностей цивилизованных народов», а о решении союзников продолжать борьбу было сказано, что оно имеет целью уничтожение «политики грабежа и создание вместо нее мирной политики организованной справедливости».
Спустя менее восьми месяцев после этого заявления союзниками были проведены удачные военные операции, которые принесли им победу, а вместе с ней положили конец и новоявленному «Тильзитскому миру». По перемирию, подписанному 11 ноября 1918 года, Германия была вынуждена отказаться от Брест-Литовского договора, и 13 ноября советское правительство, которому угрожали белые армии, получавшие от союзников деньги и вооружение, объявило договор аннулированным.
Когда 28 июня 1919 года Версальский мирный договор подписывали бледные и нервные представители Германии, возможно, генерал Хоффман вспомнил предсказание неукротимого Карла Радека, маленького сгорбленного большевика, который получал такое удовольствие, во время мирной конференции выпуская дым своей черной сигары прямо ему в лицо. «В конце концов, – сказал он германцам, – союзники навяжут вам свой Брест-Литовский мир».
Примечания
1
Центральными государствами автор называет противников Антанты: Германию, Австро-Венгрию и пр. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
19 июля 1914 г. по старому русскому календарю. В книге всюду использован новый стиль летоисчисления.
(обратно)3
Игра слов: по-англ. «сжечь» в произношении созвучно с «Берн».
(обратно)
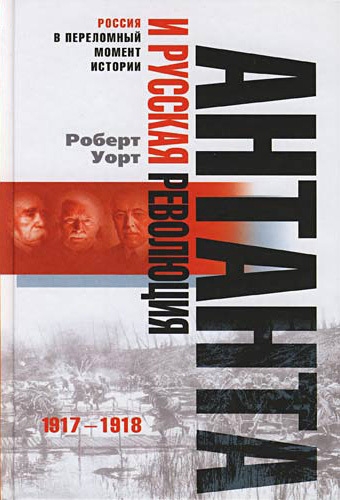


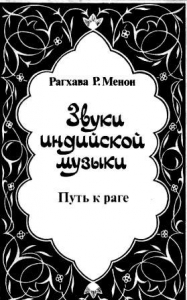






Комментарии к книге «Антанта и русская революция. 1917-1918», Роберт Уорт
Всего 0 комментариев