В огне и тишине
ЭХО ПАМЯТИ
…Жаркое лето сорок второго. Опаловое безоблачное небо. Раскаленное солнце. Густой, тягучий запах спелых хлебов с горькой и тревожной примесью гари. Над полями перламутрово-прозрачное марево, вздрагивающее от дальних утробных раскатов канонады. Над голубыми мазками лесополос угрюмо-неподвижные аспидные холмы дыма далеких пожаров.
Странным ощущением тревоги, беспокойного, пугающего предчувствия насыщена атмосфера, пронизано все вокруг. Притихли, притаились густо запудренные пылью деревья, не слышно щебета птиц, словно вымерли кузнечики в степи, молчат неугомонные собаки, беззвучно купаются в пыли, поглядывая одним глазом в небо, хлопотливые хохлатки и их пестроперые кавалеры. Тревожная, пугающая, саднящая тишина. Под Кущевской и Шкуринской четвертый день с неистовой яростью бросаются на фашистские танки конники кубанского кавалерийского корпуса, разбивают горючие бутылки о бронированные шкуры гремящих огнем чудовищ, рвут гусеницы гранатами, спрыгивают с коней прямо на танковые башни и в исступлении лупят карабинами и саблями по стволам танковых пулеметов, срывают гимнастерки и скомканные заталкивают их в смотровые щели наводчиков и водителей…
На двенадцать километров устлана степь черными, грязно-зелеными и рыжими лохмотьями людских и лошадиных трупов, смердят горящие танки, приторно и чадно тлеют догорающие на корню хлеба и неустанно, неумолчно, одуряюще молотят и молотят выстрелы, мечутся молнии пламени, ревут моторы, леденит душу ржание лошадей. Четвертые сутки фон Клейст не может протаранить тоненькую преграду на пороге Кубани. Давит, напирает, жмет. И этот напор, содрогаясь от напряжения, ощущает вся Кубань…
Эхо памяти высвечивает картины, на которых горят скирды необмолоченной пшеницы, тлеют бурты зерна на токах и взорванных элеваторах, сиротливо кособочатся раскомплектованные и брошенные тракторы и комбайны, тянутся через степи стада коров, свиней и овец — на юг и восток, скрипят повозки, нагруженные всяческим скарбом, устало, но поспешно идут и идут куда-то к горам, к морю, на Кавказ изнуренные, иссушенные солнцем, серые от пыли и усталости беженцы (их официально называют эвакуированными). А там — пылающие переправы и мосты, падающие с них в воду люди, лошади, распадающиеся в падении повозки. Взрывы в Краснодаре, запятнанные черно-багровыми кляксами бомбовых взрывов дороги. Ярко, болезненно, до спазм остро вспыхивают в памяти картины, на которых беззаветно и безымянно сражаются и умирают наши бойцы, обнимая, отстаивая и накрывая собственным хрупким, беззащитным телом каждый бугорок, каждый клочок, каждую пядь родной земли.
Растекается по кубанскому приволью болотно-зеленая, смертельно ядовитая жижа гитлеровской оккупации, и вспухают, расплываясь по ней, кровавые пятна расправ, истязаний и изуверств над советскими людьми. И уже загораются, занимаются пожары народного гнева, полыхают грозные зарницы партизанской войны.
Организатором партизанской и подпольной борьбы трудящихся Кубани против немецко-фашистских оккупантов была краевая партийная организация. Руководствуясь постановлением ЦК партии от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск», она создала 86 партизанских отрядов, направила в них 3455 коммунистов, четырех секретарей крайкома и 147 секретарей райкомов и горкомов партии. Партийная прослойка составляла более половины бойцов и командиров партизанских отрядов.
Крайком партии обеспечил своевременный и организованный переход партизанских отрядов на боевое положение. Для руководства партизанской борьбой на Северном Кавказе и в Крыму постановлением Государственного комитета обороны от 3 августа 1942 года при военном совете Северо-Кавказского фронта был создан Южный штаб партизанского движения (ЮШПД). Его возглавлял член военного совета Северо-Кавказского фронта, первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. И. Селезнев. В сентябре решением Краснодарского крайкома партии ЮШПД был переименован в Краснодарский краевой штаб партизанского движения, а также было образовано семь партизанских соединений — Краснодарское, Майкопское, Нефтегорское, Армавирское, Новороссийское, Славянское, Анапское, — объединившие около 6500 партизан.
Поднимая на борьбу против оккупантов жителей городов и станиц, партизаны и подпольщики не дали гитлеровскому командованию использовать в своих целях многие промышленные предприятия и сырьевые ресурсы края, не позволили врагу воспользоваться кубанской нефтью, превратить Кубань в поставщика сельскохозяйственных продуктов для своей армии.
Родина по достоинству оценила славные боевые дела кубанских партизан и подпольщиков. Орденами и медалями СССР награждены 978 человек. Двум советским патриотам — партизанам Евгению и Геннадию Игнатовым, погибшим при выполнении боевого задания, посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Пока вскипали смертельные схватки на кавказских дорогах и тропках, пока вражеское железо рвало и терзало советскую землю и советских людей, шла напряженная, хотя и невидимая работа НКВД по цементированию тыла и фронта, по очистке этих зон от вредных и опасных вкраплений. И это понятно: ни наступление, ни оборона не терпят непорядка, червоточин в монолите армии и тыла. Сложная, многогранная, порой совершенно необычная и даже как будто не свойственная чекистам работа требовала особой выдержки, хладнокровия, трезвого расчета и отчаянной храбрости. Обеспечивая спокойный собственный тыл и смело оперируя по тылам врага, чекисты давали возможность Советской Армии успешно вершить свои боевые дела.
…Проходят годы, уходят поколения, а сменяющие их так и не успевают узнать и до конца понять трагедию и славу времени, унесенного в памяти старших. А новые поколения, исходя из принципа, что большое видится на расстоянии, стремятся по-своему охватить, осмыслить и дать толкование масштабным событиям, домысливая детали и частности, из которых только и могли складываться эти события. И тогда вместо живой жизни и многогранной исторической правды предлагается сухая схема или фантастический суррогат из подлинных фактов и вымысла. И чем дальше в прошлое уходят события, тем больше вольностей и искажений в трактовке того, что было. Все это и заставило меня взяться за перо.
В книге рассказывается о самых разных событиях, происходивших на передовой, в нашем тылу и в тылу врага на территории Краснодарского края и в Крыму в 1942—1943 годах.
Не питаю надежды, что все, рассказанное мною, будет каким-то откровением для прошедших войну, да и для многих тех, кто начитался и насмотрелся фильмов о войне. Но жизнь настолько многообразна и неисчерпаема, что проявления всех качеств, свойств, способностей и возможностей человека в ней по существу бессчетны. О некоторых ситуациях мне и хотелось поведать на страницах этой книги.
Моя военная судьба сложилась так, что многое, описанное здесь, пришлось испытать на себе. Другая часть рассказанного явилась результатом знакомства с некоторыми материалами партийного, государственного архивов Краснодарского края, органов госбезопасности, а также личных встреч с героями очерков в военные и мирные годы.
Эта особенность подбора материала и написания книги объясняет и ее название «В огне и тишине», в котором мне хотелось выразить и связь событий, и связь времен.
В. Андрющенко
ПЛАЦДАРМ
В мае 1942 года, принимая индийского деятеля Субхаса Чандру Боса, Гитлер прямо сказал, что у Германии нет иной возможности достичь Индии, как через труп России.
Что же планировали в гитлеровской ставке? Кроме оккупации Советского Союза, ближневосточные «клещи»: удар Роммеля из Ливии в Египет, марш немецкой группировки через Болгарию и Турцию на Сирию и — самое главное! — выход из Закавказья в Иран и Ирак.
В осуществлении этих планов особая роль отводилась взятию Новороссийска. По свидетельству Альберта Шпеера, в тот момент, когда группы армий «А» летом 1942 года двинулись на город, Гитлер на одном из оперативных совещаний сказал:
— Сначала мы должны выйти на шоссе. Тогда будет открыт путь на равнины южнее Кавказа. Там мы сможем спокойно переформировать войска и создать базы снабжения. Тогда через год-два мы начнем наступление на подбрюшье Британской империи.
Итак, дивизиям вермахта надо было всего-навсего «выйти на шоссе».
Гитлеровцы все еще страшно и яростно атаковали. Но уже становилось ясно, что в цемзавод «Октябрь» им не проникнуть. Жестокая, неподдающаяся стойкость обороны ошеломила наступающих. Немецкие части уже были истрепаны и обескровлены круглосуточными свирепыми боями за каждую площадку, стену, груду бетонных развалин другого цемзавода — «Пролетарий», а также недостроенного театра, но тем не менее в каком-то остервенении лезли и лезли в узкую щель между горами и морем, надеясь прожечь, промолоть, протереть себе путь на то самое вожделенное Сухумское шоссе, о взятии которого так легко и просто говорил фюрер.
С этого, казалось, до красноты раскаленного участка старший лейтенант Джербинадзе ежедневно передавал в свою часть: «Сообщаю: гарнизон сарайчика отбил атаки и прочно удерживает занимаемые позиции». Здесь, вгрызаясь в скальный грунт и обрастая бетоном, несокрушимо встала наша 318-я дивизия, пришедшая сюда в первых числах сентября из резерва Северо-Кавказского фронта.
Больше месяца длилась Новороссийская оборонительная операция. В ходе ее были немеркнущие подвиги моряков-артиллеристов 2-го артдивизиона на защите перевала Волчьи Ворота, воинов 103-й стрелковой бригады в районе Верхнебаканской, канониров 394-й батареи береговой артиллерии старшего лейтенанта А. Э. Зубкова, наконец, сокрушительный удар по двум немецким и одной румынской дивизиям в районе станиц Эриванской и Шапсугской и другие смертельные схватки за каждый рубеж, за каждую высоту и щель.
Пять немецких дивизий в этих боях потеряли только солдат и офицеров около 14 тысяч. Недаром юмором висельника отдает захваченное нашими разведчиками под Новороссийском донесение немецкого офицера:
«У меня осталось десять человек. Срочно пришлите пополнение, не могу же я с десятью солдатами покорить Кавказ и Черное море».
С 27 сентября 1942 года немецкие войска под Новороссийском перешли к обороне и больше уже не пытались здесь наступать. Всю силу ударов своей мощной группировки фельдмаршал Клейст обрушил на туапсинском направлении и на перевалах Большого Кавказа.
В середине августа 1942 года начальник Управления НКВД по Краснодарскому краю майор Константин Григорьевич Тимошенков вызвал в Южный штаб партизанского движения, располагавшийся в Сочи, старшего лейтенанта госбезопасности Бесчастнова[1] и приказал принять командование только что созданной опергруппой.
В задачи опергруппы входили: осуществление спецмероприятий в Краснодаре, борьба с бандами и диверсантами в районе Кабардинки и Новороссийска, разведка и оперативная работа в тылу врага, координация действий с партизанским штабом, отрядами, а также разведотделами и ОКР «Смерш», действовавших в этом районе советских армий, частей и подразделений.
После обстоятельной беседы Тимошенков повел Бесчастнова на представление к члену военного совета Северо-Кавказского фронта, начальнику краевого штаба партизанского движения, первому секретарю Краснодарского крайкома партии Петру Иануарьевичу Селезневу.
Когда Тимошенков представил Бесчастнова, член военного совета сразу заговорил о задании:
— Группа у вас, Алексей Дмитриевич, особая. И задание особое. Задачу на ближайшие дни Тимошенков уже, надеюсь, обрисовал.
— Так точно, товарищ комиссар. Численность, состав, маршрут, дислокация и оперативное задание — все есть.
— Добро. Теперь, стало быть, на будущее. Вся Кубанская равнина и большая часть предгорий захвачены врагом. Бои идут за Новороссийск и Туапсе. В ближайшие недели вступят в дело наши партизанские отряды.
Селезнев подошел к настенной карте, отдернул шторку, положил ладонь между Новороссийском и Туапсе. Переходя на «ты», неторопливо продолжал:
— Тебе для ориентировки надо знать: краевой штаб партизанского движения объединяет семь территориальных соединений, или, как мы их назвали, кустов. Твоя группа придается одному из них — ты будешь действовать в составе Новороссийского куста. Там пятнадцать партизанских отрядов. Вот с ними и организуй работу. Возглавляет куст секретарь крайкома партии Степан Евдокимович Санин.
— Мы с ним знакомы…
— Тем лучше. Заместитель у него по разведке и связи ваш работник, чекист Ечкалов. Ты, наверное, его знаешь. Знаком?
— Знаком.
— Ну, ты под строевика не очень подстраивайся. У тебя другая служба, стало быть, и стиль другой. В своем деле ты под Новороссийском — генерал. Свои распоряжения и указания Санину буду давать через тебя. Кстати, там ты встретишь еще двух секретарей крайкома: Егорова Алексея Александровича — он командир группы партизанских отрядов Анапского куста и Сущева — он занимается Новороссийском. В Новороссийске найди коменданта города Холостякова. Это тебе на первый случай — опора.
Селезнев взглянул на часы и, явно торопясь, продолжил:
— Своих людей направь во все партизанские отряды, тщательно проинструктируй. Бдительность и еще раз бдительность! Работа с личным составом. Тщательная проверка каждого человека. Сам понимаешь, что означает прозевать, не выявить проникшего в отряд врага… — Строго закончил: — Вашему делу не мне вас учить. Но напомнить обязан: твой диапазон — стерильность партизанских отрядов, выявление и, по возможности, наказание изменников Родины и прислужников врага на оккупированной территории, ликвидация лазутчиков, одиночных диверсантов и шпионов в нашем тылу, поимка дезертиров, бандитов и… разведка, разведка и еще раз разведка. Вот так. Скидок не будет. У каждого из нас теперь десятикратная нагрузка. И держимся! И выстоим! Не в таких переплетах бывали, верно? К слову, тебе сколько лет?
— Двадцать девять.
— О молодежь! Ну, желаю успехов!
Бесчастнов где-то добыл видавший виды громыхающий трехтонный ЗИС. В его растерзанный кузов людей набилось, как сельдей в бочке. На решение вопросов продовольственного и вещевого довольствия времени не отвели. Отправились в путь кто с чем и кто в чем.
Тесно прижавшись друг к другу, мы долго тряслись и подпрыгивали на зубодробительной дороге, давили всей массой друг друга, имитируя морские волны в ритм поворотам грузовика на зигзагах приморского шоссе. Проскочили окутанный дымом пожаров, оглушенный грохотом и ревом бомбежки Туапсе, где-то под Михайловским перевалом повалялись на пыльной жухлотравой обочине, погрызли добротной крепости черных сухарей, запили студеной, до зубной ломоты, водой из горного родника и — снова в путь. Несчетно останавливались под деревьями, под нависшими скальными карнизами, выскакивали из машины, прятались в придорожные кюветы, ровики и воронки от взорвавшихся бомб и крепко, солоно высказывались в адрес фашистских самолетов, нахально патрулировавших дорогу и не жалевших мелких бомб, мин и пулеметных очередей не только на машины или что-то еще более серьезное, но и на отдельного пешехода и даже неосторожную козу, рискнувшую приблизиться к дороге.
В Геленджик прибыли ночью. И тут тоже — дым пожаров, яркие мечи прожекторов в небе, надсадный гул ночного воздушного разбойника, взахлеб, наперегонки грохочущие зенитки и конвульсии земли под тяжкими утробными взрывами бомб.
Бесчастнов уже прибыл в Геленджик на своей персональной эмке. Командир разбил нас на четыре подгруппы, назначил старших, поставил конкретные задачи.
Одна группа должна была отправиться в Архипо-Осиповку, вторая остаться в Геленджике, третья заняться обследованием лесов и гор в районе Кабардинки, где по имевшимся сведениям бродили и прятались дезертиры и другой сомнительный люд. Я попал в самую большую группу, куда влились чекисты, пришедшие из северо-западных предгорных, занятых врагом районов, и которую возглавил сам Бесчастнов. Нам предстояло отправиться в Новороссийск.
…Новороссийск уже был под артобстрелом. Гитлеровцы наводнили город и его окрестности парашютистами-диверсантами, сигнальщиками-наводчиками, сеятелями паники, провокаторами, толкающими растерявшихся, неустойчивых жителей на мародерство, грабежи и погромы складов и магазинов. Основные бои шли еще в районе Верхнебаканской, Волчьих Ворот и Южной Озерейки, но и в городе уже слышались одиночные выстрелы, вспыхивали короткие перестрелки.
Наш командир группы быстро разыскал на девятом километре Санина, Ечкалова, Сущева, а с их помощью — в городе Холостякова. Связался с местными чекистами Никифором Ивановичем Бурдой, который грузил и отправлял в Геленджик имущество горотдела, занимался эвакуацией сотрудников; Александром Лукичом Жешко — оперуполномоченным горотдела; Николаем Егоровичем Падкиным; Виктором Даниловичем Вороновым — старшим следователем горотдела УНКГБ; Михаилом Филипповичем Козюрой — старшим оперуполномоченным горотдела; Георгием Мефодиевичем Буруновым.
Меня Бесчастнов направил в помощь новороссийскому чекисту Константину Степановичу Ковалеву, который валился с ног, обеспечивая бесперебойную работу хлебозавода. Обсыпанный мукой, с красными от напряжения и бессонницы глазами, Ковалев метался от печей к замесной, от замесной — в мучной склад, оттуда — к хлебовозкам. Когда я представился, он прохрипел мне в лицо сорванным голосом:
— Хлеб давай, понял? Хлеб! Бойцам! На передовую! Понял?
— Так чем вам помочь?
— Мешки с мукой таскать можешь? Давай! И проследи, чтоб шоферы и ездовые на хлебовозках не ловчили. Чтоб по очереди… чтоб порядок, понял? Дуй! И чтоб вода… Люди у печей падают. Гляди. И — хлеб! Главное — хлеб. Давай! А я сбегаю — тут у меня под присмотром тоннель, а в нем тыщи полторы народу. Детишки, старики… В общем, сбегаю гляну. А ты — даешь, понял?
И Ковалев бросился за ворота. Я вертелся, не замечая времени. К концу дня двигался, как автомат, почти не соображая. И теперь в памяти вспыхивают какие-то отрывки — одни ярче, другие тусклее.
Перед закатом откуда-то вдруг появился Ковалев, прохрипел, притянув к себе за плечо:
— Людей выводи. Форсунки — на полную мощность, заслонки открой, подтащи к топке столы, скамьи — все, что хорошо горит, поливай соляркой и поджигай. Когда здание загорится — брось вон туда, видишь, где бочки с соляром, брось туда гранату и — ходу.
Он сунул мне теплую и шершавую ребристую лимонку, а сам метнулся в задымленный, грохочущий взрывами и автоматными очередями ближайший переулок. Город я знал смутно, ориентировался плохо. Спасибо, старик-пекарь Василий Карпович, местный старожил, поняв мое замешательство, предложил себя в проводники. С его помощью мы выбрались в район цемзаводов и тут нашу группу остановил майор. Узнав у меня, что за люди в группе, чертыхнулся, потом решительно приказал:
— А, один хрен: токарь-пекарь по металлу! Бери своих орлов, и штурмуй во-он тот дом. Там штук пять фрицев. Парашютисты. Перебей или забери. Давай!
— А оружие? — схватил я не по-уставному за рукав рванувшегося куда-то в сторону майора.
Он непонимающе глянул на меня:
— Оружие? Какое оружие? Ах, оружие! Оружие в бою добывай, политрук. Понял? В бою!
И майор исчез в развалинах какого-то здания. Нас было пятнадцать человек. И на всех — мой ТТ, семь винтовок и четыре гранаты, да у паренька — ученика пекаря — неизвестно где добытый немецкий вальтер с тремя патронами.
Немецкие диверсанты щедро сыпали автоматными очередями, надежно укрывшись за толстыми кирпичными стенами.
Выручил опять старик-пекарь. Он хорошо знал район, и пока мы редкими винтовочными выстрелами отвлекали на себя гитлеровцев, он с подмастерьем пробрался проходными дворами в тыл врагам и расщедрился на них двумя гранатами. Получилось удачно. Мы добыли четыре шмайсера и одного подбитого диверсанта. Троих автоматчиков мои пекари уложили на месте.
Раненого диверсанта наскоро допросили. Немецкий я знал плохо, но все-таки понял, что вражеским частям дан приказ сегодня же захватить город, отрезать, окружить и уничтожить оставшиеся в нем наши войска, а тем временем передовой ударной группе без остановок двигаться вперед, выйти на Сухумское шоссе и развивать стремительное наступление на Геленджик, Туапсе, Сочи и далее…
Возникший из дыма и грохота соседнего переулка давешний майор-пограничник, увидев нашу группу, обрадованно кинулся к нам:
— А, токари-пекари! Да вы теперь боевая единица, елки-моталки! Давай, политрук, бери свою штурмовую группу и — за мной. Надо прикрыть вывод населения из тоннеля на занятой территории.
Мы бросились за майором, я на ходу спросил, что за люди и откуда их надо выводить.
— Да немец в городе, политрук. Ты что, не понял? Полгорода уже у него. А там, в тоннеле, — женщины, дети, семьи ответработников и командиров. Чуешь? Там наш товарищ уже готовит людей к выводу. Но надо помочь.
Мы бежали под огнем, не понимая, кто и откуда стреляет. Вокруг горели здания, рвались бомбы и снаряды, рушились стены, все заволакивали клубы дыма и пыли. Неожиданно из этого клубящегося полусумрака вывалилась и хлынула на нас кричащая толпа женщин и детей. Женщины бежали с малышами на руках, ребята постарше держались за материнские руки и платья, одни молча с ужасом таращили глазенки, другие плакали громко и безутешно, спотыкаясь, волочась по земле, подхватываясь с ободранными коленками и часто-часто перебирая слабыми ноженьками.
Майор крикнул: «Политрук, прикрывай!» — и побежал впереди толпы, стараясь перекрыть крики и грохот: «За мной, женщины, бабы! За мной!»
Справа сыпанули автоматные очереди, в толпе истошно закричали, шарахнулись в сторону.
Не очень соображая, что делаю, я скомандовал:
— Взвод! В цепь, вправо, бего-о-ом!
Никакого взвода у меня не было, но мои «токари-пекари» неожиданно проявили такие познания в военном деле и такую дисциплинированность, что и кадровая часть, пожалуй, позавидовала бы. Мы залегли вдоль какого-то высокого бордюра и завязали перестрелку, а позади нас все топотали бегущие женщины и дети. Последним следовал Ковалев, что-то надсадно хрипя и размахивая пистолетом.
Он и подоспевший ему на помощь чекист Луньков[2] присоединились к нам, и когда в дыму скрылись последние беглецы, мы стали отходить вслед за ними, перебегая и отстреливаясь…
Позже я узнал, что за вывод полутора тысяч людей из тоннеля на занятой врагом территории и проявленную при этом храбрость Ковалев был награжден медалью «За отвагу»[3].
…Общий сбор был назначен в штабе оперативной группы на девятом километре от Новороссийска по Сухумскому шоссе. Место здесь было удобное для наблюдения — вся бухта и город как на ладони, но и простреливалось оно артиллерией противника густо. Выручали глубокие горизонтальные штольни, заблаговременно вырубленные в скале и оборудованные как запасной КП Новороссийского оборонительного района. Через пару месяцев здесь обосновались службы запасного КП 18-й десантной армии генерала К. Н. Леселидзе и 56-й армии генерала А. А. Гречко.
В довольно просторном отсеке стоял грубо сколоченный дубовый стол. На нем была расстелена топографическая карта, двухверстка, лежали планшеты, карандаши, блокноты. Узким языком светила фронтовая лампа из сплющенной артиллерийской гильзы. Блики желтовато-красного пламени плясали по бетонированным сводам и сырым сочащимся стенам каменного подземелья, оранжевыми мазками вырисовывали сосредоточенные, хмурые лица людей, сидевших у стола и вдоль стен на дубовых массивных скамейках.
За столом возвышался высоченный Санин, справа и слева от него — не малого роста, но низенькие рядом с ним, Васев, Ечкалов, Сескутов и Бесчастнов. Над головой глухо ударяли взрывы, на столе чуть подрагивал огонек лампы. Шло заседание штаба Новороссийского партизанского соединения. Вел его Санин.
У Санина медвежьи повадки: кажущаяся медлительность и одновременно легкость движений и жестов. Речь неспешная. Воля, силища и энергия — сокрушающие. Звали его у нас заглазно по-свойски дядей Сашей. Но крепок и крут был дядя Саша.
— Писать, товарищи, ничего не будем. Все держать в уме! У кого в памяти дырка — заделать, а память тренировать.
Санин тяжеловато опустил и снова поднял припухшие и красные от бессонницы веки:
— Запоминайте. В партизанский отряд «За Родину» заместителем командира по разведке и связи идет товарищ Шахов[4]. Илья Федорович, ты здесь? — Санин пристально вгляделся в полумрак комнаты, рассмотрел поднявшегося со скамейки худощавого старшину, кивнул, разрешая сесть. — Тут еще одно закопытце: никаких разъяснений, тем паче инструктажей давать не буду. По всем таким вопросам — к товарищу Ечкалову.
Капитан встал.
Санин кратко сообщил:
— Все видите капитана Ечкалова? Вот и добре. Анатолий Митрофанович родом краснодарец. Лет ему тридцать восемь. Чекист с десятилетним стажем. С двадцать пятого августа прикомандирован к Новороссийскому партизанскому кусту и является заместителем начальника штаба по разведке. Усвоили? Садись, товарищ Ечкалов. — И продолжил: — Пошли дальше. В «Грозу» — товарищ Бурда[5]. Слыхал, лейтенант? — Санин снова поднял тяжелые веки.
— Есть! — молодцеватый, по-строевому подтянутый Никифор встал с дальней скамейки.
— Садись, лейтенант, — сказал Санин. — И нечего тут вскакивать и в струнку тянуться — не на плацу. Дисциплина — в инициативе и исполнительности. Вот за это будет спрос… беспощадный. А тут дергаться нечего. Пошли дальше… Смольников, ты тут?
— Тут, — донесся низкий голос.
— Ты, Иван Федорович, — начальник штаба в отряде «За Родину». А вдобавок будешь выполнять задания Ечкалова или Лапина. Будет нужно — Бесчастнов напрямую с тобой свяжется. Теперь, значит, кто? Петыга Борис Никодимович…
— Я!
— Ага, ты, значит. Пойдешь в «Ястребок»[6]. Дальше — Чепак. Ну, с тобой, капитан, условились. Пойдешь с интернациональным отрядом. Сколько у тебя испанцев?
— Двадцать человек.
— Немецкий знают?
— Пятеро.
— Ого! Богач. Половину заберем в штаб куста.
— Не дам.
— Чего? — Санин удивленно поднял голову, вгляделся в полумрак, потом обернулся к Бесчастнову, вопросительно поднял брови.
Бесчастнов нахмурился, резко бросил:
— Отставить, капитан. Здесь приказы отдаются и выполняются так же беспрекословно, как и в кадровой части.
— Я подчиняюсь штабу дивизии НКВД и без разрешения оттуда никому не дам ни одного человека. Я человек военный…
— Не кичись и не кипятись, капитан. Сейчас, здесь, на этом заседании нет ни одного штатского. Все военные. Даже вон тот бородатый оборванец. — Санин кивнул на боковую скамейку. — Доложи!
— Лейтенант Падкин!
— Во-во. Сколько лет?
— Тридцать два!
— Во! Видал, капитан, закопытце? Лейтенант госбезопасности, сотрудник нашего Новороссийского горотдела НКВД. Добавлю: выполняет специальное задание военного совета восемнадцатой армии. Так что на кубики не напирай. Тут есть и со шпалами. А надо — так и с ромбами найдутся… Врубил? Вот и ладно. Двух переводчиков, значит, пришлешь ко мне. Отбери сам, лично. По секрету скажу, капитан, что одного надо будет отправить в штаб армии. Политотдел просил. Для контрпропаганды ну и… всего, стало быть, прочего.
— Это уже не его забота, — сердито вмешался Бесчастнов.
Санин кивнул головой и пояснил:
— Верно. Однако ж для общего развития, для кругозора Чепаку не мешает знать что-то и дальше своего носа.
Капитан Чепак, пристыженный и злой, молча пыхтел в полумраке. Возразить ему было нечего. К тому же он, как говорится, военная косточка, как никто из сидящих рядом понимал, что полученная им резкая отповедь рассчитана прежде всего не на него, а других — вчерашних штатских. Они в одночасье становились военными да еще и в условия попадали чрезвычайные. Трудно им сразу перестроиться на режим беспрекословного повиновения приказу. А надо. Неотвратимо надо. Его пример был им хорошим уроком. Капитан это понимал. И все-таки бес строптивости, который неожиданно вырвался из-под контроля и толкнул капитана на вздорную выходку, никак не давал ему успокоиться. Оттого и сидел, нахохлившись и пыхтя.
Санин закончил назначение чекистов из группы Бесчастнова и перешел к постановке задач.
— Теперь о новороссийской группе. В нее войдут пять отрядов: «Гроза», «Новый», «Ястребок», «Норд-ост», «За Родину». Командир группы — Васев Петр Иванович, начальник штаба — Сескутов Александр Никитович. Один — первый секретарь Новороссийского горкома партии, другой — секретарь горкома по строительству. У Васева за плечами матросская служба, гражданская война, работа главным инженером в порту. Сескутов с двенадцати лет лесоруб, потом взрывник, перед избранием в горком — инженерил. Все. Оба, стало быть, новороссийцы, знают город, знают людей, знают обстановку. Пора в бой, товарищи. В общих чертах, товарищи, от нас сейчас требуется взять под контроль вражеские коммуникации: рвать мосты, минировать дороги, резать связь, жечь склады, уничтожать оккупантов, опровергать вражескую брехню и нести нашу правду людям в захваченных фашистами районах, выявлять и карать предателей и изменников. И — разведка. Разведка и еще раз разведка.
Санин говорил медленно, глуховато, но твердо, полузакрыв глаза и мерно отбивая громадным кулаком концовку каждой мысли.
— Всем думать. Инициативу приветствуем, авантюры не допустим, но и троглодитами сидеть на партизанских продбазах не позволим. Все — в бой! Конкретные задачи поставят Бесчастнов, Лапин и Ечкалов. Сбор за Васевым. Все. До свидания… в таком составе… после войны. А вас, капитан Чепак, прошу задержаться.
…С этим гонористым, задиристым капитаном мне довелось встретиться в марте 1943 года у Бесчастнова. К тому времени мы уже знали о дерзком рейде его третьей интернациональной оперативно-диверсионной группы по занятому врагом Таманскому полуострову.
Сам выпускник высшей школы партизанского движения, Чепак подобрал себе в группу парней умелых, храбрых и отчаянных. Группа прошла по вражеским тылам как смерч, сея среди гитлеровцев панику, ужас и разрушения. Бойцы опергруппы сорок восемь суток на участках Сенная — Тамань, Стрелка — Старотитаровская минировали шоссе, взрывали железнодорожное полотно, совершали дерзкие налеты на вражеские автомашины и обозы, казнили полицаев, ревностных старост и бургомистров и прочих предателей и фашистских прихвостней.
В лесах в районе станицы Натухаевской группа Чепака вышла на довольно многочисленный партизанский отряд. Его тридцатилетний командир Григорий Блинов, бывший кандидат в члены ВКП(б), лейтенант, раненным попал в плен. Немцы отпустили его домой на хутор Грекомайский, где назначили полицейским. Блинов использовал это назначение в своих целях: он установил связь с окрестными хуторами Сергиевским, Дружным, стал формировать подпольный партизанский отряд, который с 1 марта 1943 года начал действовать. К этому времени партизаны добыли с боями 50 винтовок, автомат ППШ, 10 пистолетов. В лесу держали стадо овец и коз — свою продбазу.
Чепак, докладывая Бесчастнову об отряде Блинова, с сомнением пожимал плечами:
— Не совсем я понимаю этого командира. Организация у него вроде бы четкая, дисциплина налицо, тактика умелая и отработанная: ночью воюют, а днем отдыхают по домам. И тут же такая странность, как железный ящик у писаря. А в том ящике — железные кресты и другие награды, снятые с уничтоженных врагов.
— Ну и что?
— Да как же — что? Он, видите ли, ведет счет искупления себе, всему отряду и особенно старостам и полицаям, которых он распропагандировал перейти в партизаны и собственно с них начал создание отряда. На свой счет тоже заносит добрые дела.
— Думаю, это неплохо. Этот счет искупления действительно служит искуплением вины тех, кто в силу обстоятельств пусть невольно, но помогал захватчикам.
— Ну, может быть, и так, — задумчиво протянул Чепак, — а все-таки странно. Во всяком случае действует отряд неплохо. Блинов просил оружие, рацию и трех-четырех кадровых командиров. Говорил, что есть возможность развернуть отряд до тысячи человек.
— Вы с ним лично беседовали?
— Нет, беседовал с ним Павленко, курсант высшей школы партизанского движения…
— Знаю. Наш чекист.
— Так точно. У него подробно записано, чего и сколько просил Блинов.
— Хорошо. Пусть пишет рапорт. Доложим в армию.
Об отряде Блинова было доложено военному совету 18-й десантной армии. 28 марта генерал-лейтенант Леселидзе и член военного совета Комаров поручили начальнику штаба 18-й армии разработать необходимые мероприятия и оказать помощь отряду Блинова. Подполковник Бесчастнов и начальник особого отдела 18-й армии полковник В. Е. Зарелуа подготовили три группы для заброски в район отряда Блинова под руководством наиболее опытных чекистов.
Надо сказать, что это были наиболее напряженные дни в работе новороссийской группы чекистов и контрразведчиков 18-й десантной армии. Прошло полтора месяца с той памятной ночи 4 февраля, когда храбрецы майора Куникова совершили свой дерзкий десант на Мысхако и день за днем, шаг за шагом расширяли свой плацдарм.
Вместе с куниковцами на берег Цемесской бухты высадились и чекисты. Это были те, кто по заданию командования, начиная с ноября 1942 года, вели тщательную и смелую разведку в предполагаемых районах высадки десантов.
Решение о высадке морских десантов в районе Новороссийска было принято еще в ноябре 1942 года. Основной десант в районе Южной Озерейки предполагалось высадить в составе трех стрелковых бригад и одного танкового батальона. Для дезориентировки противника и создания видимости высадки крупного десанта на широком фронте предусматривалась демонстрация высадки десантов в районах Анапы, Благовещенки, в долине реки Сукко и на мысе Железный Рог, что находится в 25 километрах южнее Тамани.
Сразу же развернулась усиленная разведка укреплений противника в районах высадки. В декабре — январе сторожевые и торпедные катера и другие малые корабли совершили около шестидесяти выходов в тылы противника на всем протяжении береговой линии от Станички до озера Соленого с целью высадки или снятия разведчиков, разведывательно-диверсионных и партизанских групп. Часто им приходилось выполнять эти задания под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем врага. Не одну сотню смельчаков доставили черноморские катерники в тыл врага, что в значительной степени помогло командованию получить много важных сведений о системе обороны вражеского побережья накануне высадки десанта.
Разведка велась на широком фронте — от Новороссийска до Таманского полуострова. Это делалось для того, чтобы скрыть от противника районы высадки. По данным разведки была разработана схема расположения оборонительных сооружений противника, составлено описание его обороны в целом и отдельных огневых сооружений, имевших большое тактическое значение.
Ответственной и смертельно опасной работой занимались члены оперативной группы: Лапин, Старков, Грошев, Пономарев. В их задачу входило тщательно обследовать побережье, установить места высадки отрядов с моря, доставить и замаскировать там своих сигнальщиков, нащупать пути проникновения в тылы противника и выхода оттуда. Одновременно изучалась обстановка, настроение жителей населенных пунктов на оккупированной территории, закладывались партизанские явки, подбирались необходимые разведматериалы о противнике — его силах, дислокации и перемещениях.
Результаты этой рискованной работы сослужили добрую службу десантникам.
А 17 февраля на Мысхако высадилась сформированная Бесчастновым особая десантная опергруппа, которую возглавлял старший лейтенант Василий Гаврилович Леонтьев[7]. В группу входили также бывший начальник отдела «Взрывпрома» в Новороссийске Георгий Мефодиевич Бурунов, шофер по специальности Владимир Антонович Луньков, Михаил Филиппович Козюра, Иван Андреевич Пономарев, Алексей Федорович Губанов. Чуть позднее к ним присоединились Грошев, Старков, Лазарев, Жадченко, Детистов, Силенков, Таденко, Константинов и Галицкий. Группа была солидная, состояла из крепких, обстрелянных, в основном тридцати — тридцатидвухлетних чекистов.
Чекисты вместе с другими бойцами, плывшими на сейнере, прыгали в ледяную, бурлящую от взрывов морскую пучину, держа над головой оружие, гребли к берегу и, скрюченные судорогой, выползали, выкарабкивались на трясущуюся от канонады, перепаханную взрывами землю. Старший лейтенант Леонтьев, стуча зубами от холода, на дне воронки от взрыва полутонной бомбы выкручивал мокрый бушлат, выливал воду из сапог, пригнувшись, яростно толкался плечами с такими же мокрыми и замерзшими Луньковым и Буруновым. Над головой густым косым дождем неслись трассирующие пулеметные и автоматные очереди гитлеровцев, слепили вспышки частых трескучих взрывов снарядов и мин. Не будь Леонтьев знаком с местностью по своим прошлым разведывательным высадкам — пришлось бы очень трудно ориентироваться в этой гремящей, слепящей и разящей темноте.
Леонтьев осторожно выглянул из воронки, узнал знакомые, хотя и заметно разрушенные ориентиры, скомандовав «За мной!», выскочил из укрытия и, пригибаясь, скачками помчался к черневшим невдалеке развалинам рыбзавода. За ним бросились остальные. Леонтьев свалился в подвал, следом обрушились туда же и его ведомые. Человек пять моряков, окруживших раскаленную железную печь-бочку, ничуть не удивились их появлению и только повернули головы в сторону гостей. Коренастый главстаршина открыл в улыбке белозубый рот:
— С легким паром, пехота! Милости прошу к нашему шалашу. Добро пожаловать, крынки-макитры!
Наверху грохотало, ухало, трещало, осыпалось. А здесь было тепло и приветно.
— Слушай, главстаршина. Мы только что с сейнера, из Геленджика пришли…
— Да ну? А я думал, вы из-под одеяла, с перинки от Иринки… Брось, пехота, не пыли. И без доклада вижу, кто и откуда. Давай, подходи, заголяйся и сушись. Мы уже малость подсохли, пойдем к амбразурам, наверх. Хлопцев сменим, а вы — сушитесь. Похоже, маловато вас прибыло. Ну да и один солдат — большая сила.
Подсушив одежду и согревшись, Леонтьев разыскал особый отдел 83-й морской бригады, по рации связался со штабом армии, доложил о прибытии и о своих дальнейших планах.
Был получен неожиданный приказ: взять на учет все население на освободившемся плацдарме, переписать весь наличный скот, свиней и птицу. Оприходовать все имеющие практическую ценность вещи. Подготовить население к эвакуации на Большую землю.
Работа оказалась на удивление сложной. На 30 квадратных километрах плоской и голой земли, отбитой у оккупантов, были размещены не только 12—15 тысяч советских воинов, да еще с артиллерией, минометами, танками, кухнями, складами боеприпасов и госпиталями. Там были и гражданские люди — рабочие совхоза «Мысхако», беженцы из самого города Новороссийска, жители здешних маленьких хуторков, поселков, предместий. В полуразрушенных зданиях, в землянках, в уцелевших подвалах и самодельных бомбоубежищах ютились женщины, дети, старики. Кое-где чудом уцелели овцы, свиньи, козы, куры и даже коровы… И все это обстреливалось, бомбилось, заливалось смрадно коптящими струями огнеметов.
Леонтьев как командир группы распределил обязанности между чекистами. Сам он с Иваном Пономаревым и со мною занялся людьми, а Петру Жадченко и еще двум чекистам поручил учет и эвакуацию животных и материальных ценностей.
Разошлись мы, вернее, расползлись, потому что другим способом в те дни невозможно было передвигаться по плацдарму, в разные стороны и в разные части. Гитлеровцы свирепо обстреливали всю отвоеванную нами территорию. Искать в этой, как говорили моряки, чертопляске забившихся в укрытия, подвалы и щели детей, стариков и женщин было непросто.
Где ползком, где перебежками добрался я до первых домиков поселка Рыбацкого. В этот момент на поселок спикировал фашистский стервятник, сыпанул пулеметной очередью, сбросил бомбы, провыл сиреной. Я успел упасть под развалины какой-то кирпичной стены. По спине больно заколотили комья земли, осколки кирпича, известки. Прошумел этот град — сделал еще один бросок и свалился в глубокий лаз со ступеньками, которые вели вниз, к грубо, но крепко сколоченной двери в подвал. Попробовал открыть дверь — не вышло. Начал кричать, дергать дверь. Открыл старик. Сгорбленный, заросший бородищей по самые глаза, но видать — крепкий еще дедуня. Подслеповато пригляделся ко мне:
— Шо тебе, господин товарищ охвицер?
— Да не господин я, папаша. Не видишь, наш я, советский. Лейтенант.
Дед как-то ловко захватил в рот клок бороды, пожевал, вытолкнул ее языком и так же равнодушно отозвался:
— Наши-ваши. А чьи же? Так чо надо?
— Да вы впустите меня.
— А некуды.
Наверху, рядом с входом в подвал, тяжело рванул фугас. Дед потянул дверь на себя. Я с немалым трудом оттеснил его и буквально вдавился в тесный, набитый людьми, тяжко дышащий, стонущий, плачущий, говорящий и причитающий мрак подвала. Дед за моей спиной закрыл щелястую тяжелую дверь и ехидно продребезжал над самым ухом:
— От тебе и охвицер. Хто по кресты, а ты, стало, в кусты.
Дед оказался выше меня ростом и в тесноте, где некуда было подвинуться, пыхтел и хрипел над самым моим ухом. Я попытался ворохнуться плечами, чтобы отодвинуться.
— Во-во, — опять забренчал дед, — кто, значит, в мясорубку, а ты под юбку…
— Да заткнись, дед, — вышел я из себя. — Тоже мне, народный сказитель, ашуг, вещий Боян…
— А тут и без баяна музыки хватает. Пляши, коли охота. Токи на детей не наступай…
Злость на старика как-то сразу потухла, и снова со всех сторон обступили детские и женские стоны, плач, причитания…
— Граждане, — закричал я, стараясь пересилить и здешние, и наружные шумы.
В подвале стало понемногу стихать.
— Граждане! Советское командование приняло решение эвакуировать все гражданское население на Большую землю, в Геленджик.
Поднялся гвалт.
— Тихо, граждане, — заорал я что есть силы. — В первую очередь будем вывозить детей и женщин с детьми.
И опять невообразимый галдеж. В этом содоме воплей удалось уловить:
— А раненые?
— Никуда мы не поедем!
— Немцы вывозили и вы вывозите?
— А што ж старики? Им тут и погибель?
— Катись отсюда, умник!
— Подвал понадобился, а детей под бомбы?!
Перекричать этот шквал я не мог, поэтому стоял, стиснутый со всех сторон разгоряченными телами, а перед привыкшими к полумраку глазами бешено мелькали кулаки, ладони, растопыренные пальцы. В этот момент наверху чудовищно громыхнуло, с потолка посыпалась земля, а в дальнем конце подвала в потолке образовалась небольшая дыра, через нее проник свет и тротиловый дым. Там кто-то дико, истерически закричал, и над какофонией человеческих голосов взвился на звенящую высоту и задрожал, забился, затрепетал жалобный и жалкий детский плач… Человеческое скопище колыхнулось, шум усилился. И тогда я все-таки выпростал руку со своим ТТ и, выстрелив в потолок, заорал что было сил:
— Ти-и-хо-о!
Вмиг воцарилась тишина. Только плакали где-то грудные дети.
— Подвал ваш нам не нужен, мы наступаем и уйдем вперед. А для вас, для ваших детей это — ненадежное убежище. Сами только что испытали.
Толпа откликнулась невнятным гулом.
— Тихо! — остановил я начавшийся шум. — Кто тут у вас может быть за старшего?
— Кузьмич!
— Конечно, Кузьмич!
— Правильно. Василь Кузьмич!
— Тихо! Уже слышу! Кто тут Василий Кузьмич? Подай голос!
— Не дери глотку, — раздалось над ухом. Длинный костлявый бородач навис надо мной. — Я и есть Кузьмич, стало быть, Василий. Чо орешь?
На всякий случай я опять прикрикнул:
— Тихо! Я не ору. Это вы тут орете. А теперь слушайте меня все. Я пойду по другим подвалам и убежищам. Может, кто подскажет, где еще есть люди? А вы, Василий Кузьмич, постарайтесь подтянуть поближе к двери мамаш с детьми и раненых. Барахла лишнего не брать! К вечеру приготовиться! Сам приду или пришлю кого — выводить на берег и грузить на корабли. Ночью вывозить будем.
Кто-то настойчиво дергал меня за палец левой руки. Наклонился, разглядел — вихрастый малец лет шести-семи.
— Тебе чего, хлопчик?
— Дяденька, дай хлебца, — просительно не то пропел, не то простонал мальчонка.
— Да где ж я тебе, парень… — Я пошарил в карманах, наткнулся на подмоченный обломок сухаря. — Держи!
Маленькие ручонки вцепились в кусок, в темноте сухарь захрустел на детских зубах. И тотчас из толпы разноголосо понеслось:
— И мне!
— И мне!
— Дяденька, и мне!..
Я переборол себя, опять крикнул:
— Слыхали? Дети голодные. Чем вы собираетесь их кормить? А орете, что вас из подвала выживают… Всем готовиться, как я сказал. Вас же спасти хотят, чудак-народ!
Разыскал я в тот день еще три таких подвала, набитых людьми. По-всякому приходилось разговаривать. И длилась эта кропотливая работа почти неделю. Все это время жителей, малыми группами, под непрекращающимся обстрелом, бойцы и офицеры доставляли к берегу, где удалось найти и кое-как оборудовать укрытие для людей. Что творилось в этом убежище — не хочется рассказывать. Не по себе от одних воспоминаний.
Крупнокостный дедуня, Василий Кузьмич, оказался на редкость толковым организатором. Первым делом он здорово скомплектовал детские группы по пять — восемь человек. На одного малыша — один старший по возрасту. Сам — во главе и — бегом, перебежками, ползком, по балочкам, канавкам, за развалинами до самого берега. Около двадцати детей так доставил в убежище. Приведет группу, передохнет и назад, за следующей. И без единой потери. Потом уже, когда женщин и стариков выводили, одну женщину убило осколком мины.
Выполнив миссию, разыскал меня, потребовал:
— Ты, слышь, литинант, чи как там теперь вас величают… Приказ твой сполнил. Усех доставил и с рук на руки сдал. Вона и свою Матрену, бабу свою, значица, твоим солдатам препоручил.
— От имени командования, Василь Кузьмич, — я стал по стойке смирно, — объявляю вам благодарность.
Старик крякнул, подобие улыбки повело куда-то в стороны пегие космы на его лице, пренебрежительно махнул рукой.
— Во фрунт становиться староват, а так чего ж? Рад стараться. Токи не за тем пришел. Определи ты меня к партизанам, литинант. Не уйду я отседа, пока фашиста не вычистим. Не определишь — сам буду партизанить. Земля-то наша, дедовская. Никак нельзя, чтоб поганили ее чужаки-то.
Уговаривать нас долго не пришлось. Благо, тут же оказался командир группы партизанских отрядов Петр Иванович Васев. Он черкнул несколько слов на блокнотном листике и направил старика в отряд «Норд-ост».
— Места здешние ты, Кузьмич, знаешь не хуже нашего. Этот листок тебе — и пропуск, и направление. Пробирайся на Колдун. Там Оголя Семена Васильевича найдешь. Они с Коноваловым помогают кадровикам держать гору. Давай, Кузьмич, шагай и передай, что скоро буду.
— Так ты, тово, товарищ… Бердан какой-нибудь дал бы, чи что ли.
— Извини, Кузьмич, но с оружием на плацдарме пока туговато. В отряде, там на месте, будет тебе бердан.
— Ага. Ну-ну. Стало, бувайте.
Еще раз столкнулся со стариком, когда наша группа под командованием Михаила Жадченко получила задачу пройти в тылы противника, добраться до Южной Озерейки, связаться с высаженными туда и попавшими в окружение десантниками и вывести их на Мысхако. Даже в обстановке спокойной, устоявшейся обороны это была непростая задача. В условиях же, когда гитлеровцы почти непрерывно атаковали наши позиции, пытаясь сбросить куниковцев в море, сложность ее возрастала стократ.
Василий Кузьмич, не особенно соблюдавший требования воинских уставов, бесцеремонно перебил ставившего задачу командира группы Жадченко и заскрипел свое:
— Как там с окруженными аукаться, на месте разберемся. А вот на ту сторону переходить по Широкой щели не выйдет.
Надо отдать должное старшему лейтенанту: он умел быстро сориентироваться, где осадить, а где и прислушаться, поступившись уставом. Это качество было особенно ценно в той обстановке, когда на плацдарме вперемежку действовали кадровые части и полуштатские партизанские отряды.
— А как вы посоветуете, Кузьмич? — покладисто отозвался Жадченко.
— Дык чо ж советовать. Тута и козлу понятно: надо по Вербовой балке, мимо родничка, по-над Колдуном и на бережок. И так-таки бережком, бережком, до самой Озерейки. А оттель можно и по Широкой выйти.
Предложение поддержал и другой партизан. Мы сгрудились над картой. Вариант показался выигрышным. Приняли его, доложили командованию и пошли. Благополучно добрались до самого моря. Правда, на один пост все-таки наскочили, но матросы быстро к бесшумно убрали часового, а остальных пришлось не трогать во избежание лишнего шума.
Конечно, все мы понимали, что исчезновение часового так просто не обойдется. Поэтому, карабкаясь по крутым склонам или скатываясь в темные балки-ущелья, Василий Кузьмич старательно, даже как-то истово, будто хлебороб семена на пашню, разбрасывал позади нас мелко тертую махорку.
— Зачем добро соришь, Кузьмич, — удивился моряк. — И так с куревом туго…
— Дак на случай собак. А на курево энта пыль непригодная.
— Какие ж тут собаки? Кроме фашистов, вроде ни одного пса, — балагурил матрос.
— Фашист, он, конешное дело, зверюга. Токи почто собак-то забижать, применять их к фашистам? Собаки — они верные животные, токи служат не тем. Но уж верные. Ежели фрицы кинутся за нами, то уж собаки их наверняка выведут на нас. А нюхнут моей махорочки — я туды ишо и известки подмешал — чохом и изойдут.
В общем, настроение было бодрое, и люди охотно перебрасывались шутками, словно бы и не во вражеском тылу пробирались. Жадченко время от времени останавливал группу, обрывал разговоры, велел подолгу вслушиваться в лесные шумы и шорохи. Но, кроме шума морского прибоя, ничего пока слышно не было.
Возникла опасность потери бдительности, все как-то осмелели, расслабились, разболтались. Жадченко это уловил и стал жестко покрикивать на балагуров. Группа на время стихала, потом однообразие и кажущаяся безопасность пути опять расхолаживали людей, развязывали языки. И тут на одном из лесистых склонов на нас сверху, с верхних террас заструилась осыпь камней. Потом еще. Мы залегли. В темноте — ни зги. Послышалось, будто кто-то торопливо пробежал верхом, и опять посыпались камни. Матрос рядом со мной поднял автомат на звук, я схватился за ствол, прижал к земле. Очереди не последовало. Лежим, молчим, слушаем. Тихо. Прошло не менее получаса. Позади зашуршала галька под чьими-то ногами.
— Кто? — вполголоса окликнул Жадченко.
— Чо хто? — так же вполголоса проскрипел голос, в котором все узнали Кузьмича. — То ж я.
Пригнувшись так, что стал похож на надломленный бублик, Кузьмич подошел к нам, присел на корточки, захрипел:
— Слышь, командир, и долго мы тут будем загорать на камушках?
— А ты где был, старый хрен? — свирепо прорычал матрос. — Уж не ты ли по верхней тропе шастал?
— Не лютуй. Стар я шастать по верхним тропам. Табачок я рассыпал позаде. Приотстал малость. А как вы повалились, плюхнул и я на камни. И не пойму, скоки ж валяться.
— Ладно. Тихо, — сказал Жадченко. — Вроде ничего не слыхать. Надо осторожно посмотреть окрест и — вперед.
Я вызвался в разведку, сосед-матрос молча дернул меня за рукав шинели, и мы с разрешения командира вдвоем обошли и осмотрели прилегающие кусты, ущельица и седловинки. Обслушали все. Ничего подозрительного. Вернулись, доложили. Жадченко поднял группу, и мы двинулись дальше, молча, настороженные, приглядываясь, прислушиваясь и время от времени высылая разведку вперед и в стороны.
Где-то уже на подходе к Озерейке партизан, посланный в разведку, торопливо вернулся обратно, шепотом доложил, что буквально в десятке метров впереди — немецкий секрет с пулеметом и, похоже, человек пять переговариваются. Кузьмич предложил обходную тропу. Жадченко выдвинул его вперед, и мы тихо поползли за ним. Когда обошли и миновали пост береговой обороны немцев и обессиленные свалились чуть ли не друг на друга в тихий распадочек, Кузьмич хрипло захихикал:
— Ты что, дед? — недовольно и тяжело дыша спросил кто-то из разведчиков. — Может, из фляги глотнул для сугреву?
— Не-е, — продолжал хихикать дед. — Вот теперь сознаюсь. Это я вас пужнул там, над берегом. Шоб угомонились.
— Ах ты ж, чехонь копченая, — засвирепел матрос. — Да я, может, через тебя, пугало, уже к геройской смерти приготовился… Вот отдышусь, я тебя… пужну.
— Ну чо взбрыкнул? А кабы я не пристращал, так бы и галдели до самого фрицевского пулемета. Вот и была б тебе геройская смерть.
— Все равно, Кощей чертов, отдохну, ребра пересчитаю, — не унимался матрос.
— Давай! Дело привычное. Мне многие хотели ребра посчитать, да что-то все охотники своих не досчитались.
— Не хвастай, Кощей. А то не поленюсь…
— А не поленись, погреемся! — задорно вызвал Кузьмич.
Матрос завозился, но Жадченко строго окликнул задир, велел отдыхать.
…Перед рассветом мы вышли в район окружения десантников 83-й бригады. Гитлеровцы обстоятельно окольцевали отряд, время от времени перетрескивались автоматными очередями и по своей любви к трассирующим пулям хорошо обозначали линию охвата.
Василий Кузьмич, пыхтя и покрякивая, выволок откуда-то из темноты не то мешок, не то ящик и доложил командиру:
— Вот, стало, притащил. Вместе с ихним нужником.
— Что ты приволок, Кузьмич? — не понял Жадченко.
— Дак фрица ж. Ящик энтот — как бы вроде нужник, отхожее место, значит.
От ящика густо несло зловонием, слышались придушенные стоны и натужное пыхтение.
— А ну, выволакивай свой трофей, Кузьмич. Чтой-то он больно… духовит, — сдерживая смех, распорядился Жадченко. — Да как ты его запихнул в эту упаковку?
— Дык, немец — он же удобства любит. Лежу, стало, в кустах над ручьем, наблюдаю. Чего, думаю, оружейный ящик на том берегу над самым обрывом стоймя торчит в стороне от ихней землянки. Гляжу, выскакивает энтот страдалец и вскачь, как хромой кобель, — к тому ящику. А сам, понимаешь, на ходу ремень снимает, штаны расстегивает. Тут я смекнул, куда вояка торопится. Прикинул, из чего бы кляп сделать. Ничего под рукой не нащупал. Ну, ясное дело — портянка. Думаю, раз в брюхе расстройство, стало, успею обмотку размотать и портянку достать…
Повествуя о своем приключении, Кузьмич тем временем раскупоривал ящик. Добравшись до лежащего в нем пленника, свирепо захрипел:
— А ну вылазь, злыдень. Ишь, дармоед, опять уперся, шо рак в норе. Да чо ж я и тут с тобой панькаться буду, паразит вонючий? Да я тебя! — Старый партизан угрожающе замахнулся карабином. Гитлеровец что-то закричал и стал проворно выбираться из ящика.
— То-то! — удовлетворенно запыхтел в бороду Кузьмич. — Кабы и там так можно было, я враз бы его выкурил из ящика. А то, поганец, когда я его из нужника стал вытаскивать, он весь растопырился — не выволоку. Кляп я ему затолкал, руки его же ремнем к туловищу пристегнул, а он весь раскокошился, гачи свои кудась сунул и — ни греца не вытяну. Малость подналег, и на тебе: вместе с фрицем весь нужник завалил в ручей.
Как ни сурова был обстановка, в которой слушали мы рассказ, но при последних словах Кузьмича никто не удержался от хохота, представив описанную картину.
— Ну, думаю, — продолжал Кузьмич, — если я его теперь вытащу из нужника, он меня всего загадит — переть-то на себе придется. Потом не отмоешься. Станут хлопцы от меня шарахаться. Снял я вторую обмотку, перевязал ящик и поволок вниз по ручью, прям сюды. Ничего, тихий солдатик, не брыкался, молча ехал, поганец, хоть и тряско ему было, и мокро. Ящик-то — не лодка, весь протекает, а водица в ручье студеная.
— Бери выше, Кузьмич, — все еще смеясь, сказал Жадченко, — не солдатик это, а обер-ефрейтор. Хороший получился улов. Ладно, повеселились и хватит. Кто у нас по-немецки понимает? Ты, Костин? Давай, поработай. Да не вороти нос, не кисейная барышня. Подумаешь, не видел обвалянного фашиста. Скоро они все обваляются.
Костин приступил к допросу, и уже через полчаса картина прояснилась. Безрадостная картина: два батальона немцев, усиленные тремя броневиками и двумя танками, пулеметной и минометной ротами, с приданным самолетом-разведчиком, преследуя рассеянные группы десантников, прижали их в тупиковом ущелье и, замкнув окружение, не торопясь, но неуклонно сжимали кольцо, ведя по окруженным интенсивный огонь, к сожалению, почти прицельный, потому что его корректировали и самолет-разведчик, и наблюдатели с окружающих высот.
По мнению пленного, русских было не менее двух полков, но без тяжелого оружия, без техники, без продовольствия и боеприпасов. Немецкое командование с часу на час ожидало капитуляции окруженных.
Жадченко обстоятельно выспросил у пленного расположение немецких частей, командных пунктов и даже приблизительное место нахождения штаба командующего операцией оберста Клинга.
Поручив «языка» Василию Кузьмичу, мы опять сгрудились вокруг карты этого района, на которую Жадченко нанес данные, полученные от обер-ефрейтора. Надо было искать выход для спасения окруженных — выход из безвыходного положения. Наши силы тут не помогут — преимущество немцев слишком значительное. Требовалось что-то другое.
Битый час мы ломали головы, предлагали и отбрасывали варианты. Ничего не получалось. И тут опять появился Кузьмич.
— А где пленный? — вскинулся Жадченко.
— Да не суетись, командир. Живой тот пленный, хорь вонючий. — Кузьмич ожесточенно плюнул. — Опять же своими обмотками пожертвовал, связал и к дереву его приторочил. Пущай проветривается. Я тут кумекал насчет наших…
— Ну-ну, Василий Кузьмич, — оживился командир, — давай твои соображения, а то наши что-то не нравятся нам.
— Я чо думаю? Перво-наперво, мне надо сходить туды, к нашим, в окружение. Пабалакать надобно с нашими-то.
— Чудо! — перебил его матрос, взмахнув руками и хлопнув себя по бедрам. — Мы, значит, тут поспим, покурим, позагораем… А он, значит, сходит… Он сходит… На блины. К бабке…
— Стоп! Тихо! — остановил Жадченко вскипевшего моряка. — Тихо! Давай дальше, Кузьмич. Выслушаем, потом обсудим.
— Начит, схожу к нашим, гляну — шо там и як, перетолкую нащот того, чтоб разом вдарить. Чтоб по-суворовски: быстро, негайно и во всю силу.
— Негайно, негайно! — передразнил моряк. — А он как даст массированный из минометов и пулеметов… А хлопцы там, небось, и раненые да и просто обессилевшие… Негайно…
Старик тихо пропыхтел что-то сквозь бороду в сторону оппонента и продолжил:
— Заради энтого и схожу к тем хлопцам. Погляжу, поспрошаю, на что они годные. А уж потом будем тут планы строить.
— Ладно, Кузьмич, готовься пока, а нам тоже кое-что надо обдумать. Еще поговорим.
— Дак время ж…
— Сказал: готовься!
Жадченко отозвал меня в сторону:
— Ну, твое мнение?
Я замялся:
— Конечно, Кузьмич — вроде, верный человек и проводник хороший, места здешние назубок знает. Но ведь чужая душа, говорят, потемки…
— Говорят, говорят! — почему-то рассердился Жадченко. — Ты свое говори: будем посылать или нет? У тебя серьезные сомнения есть?
— Да вроде нет…
— Так нет или вроде?
— Нет! — выпалил я, неожиданно для себя встав по команде «Смирно».
— Да ладно, — усмехнулся Жадченко. — Чего ты вскинулся. Я почему тебя так пытаю? У самого, понимаешь, уверенности нет. Пройдет — не пройдет. Убьют — всполошатся, увидят, что партизан, кинутся окрестности прочесывать. Кстати, надо отсюда сматываться, а то ведь след-то от ящика сюда дорогу показал.
Обернувшись к отдыхающей группе, скомандовал:
— Быстро приготовиться к переходу. Проверить стоянку, уничтожить следы.
И опять ко мне:
— Да и мы — потеряем такого проводника. А если схватят — тут совсем дело дрянь. Дедуня крепкий, не скажет ничего, но ведь опять же… И не посылать нельзя. Ни мы о них, ни они о нас — ничегошеньки ж не знаем. А без этого как действовать? И где нам ждать? А пароль?
И хотя я потерянно молчал, командир вдруг заявил:
— Ладно, я так тебя понял: посылаем!
Мы вернулись к группе. Жадченко проинструктировал Кузьмича, приказал второму партизану принять на себя конвой и охрану пленного.
Партизан было заартачился:
— Да шлепнуть его, вонючего гада. Он же ж окромя того, шо за им смотреть надо, он же ж нас демаскирует своим смрадом…
Командир унял протестующего и, еще раз осмотрев место стоянки, мы углубились в лес и осторожно перебрались на другой склон. Выбрав погуще заросли, укрылись и затаились до вечера. Кузьмич все-таки пошел днем. Моряки вызвались по очереди нести караульную службу, остальные, привалившись для тепла друг к другу, сразу же уснули.
Проснулся я оттого, что кто-то больно сдавил колени. Оказалось — просто не хватило шинели, и они очень замерзли.
Сел, огляделся, стал их растирать.
Уже почти никто не спал. Жадченко сидел в стороне, рассматривал расстеленную на коленях карту. Глянул на меня, хмуро усмехнулся, вполголоса скомандовал:
— Подъем! Хватит землю греть, самим тепло нужно.
Кто спал в лесу в промозглую непогодь на сырой, слякотной земле в мокрой шинели и без костра, тому нечего рассказывать о самочувствии при пробуждении. Один растирал колени, другой ошалело скакал и хлопал себя руками, двое матросов затеяли яростную борьбу.
— Эх, сейчас бы тот ящик, что Кузьмич обратно фрицам отпер. Костерок бы знатный получился, — посетовал моряк.
— Не трави душу, — проныл Костин. — Знаешь ведь: и ящик надо было на место вернуть, и костер жечь нельзя…
— Да, приземленный ты человек, пехота. Сам куксишься, и мне помечтать не даешь.
— Ну ты тоже, морской волк, — обиделся разведчик, — мечтать мечтай, да и сам не плошай. Вона, гляди: фриц-то фиолетовый, зубами автоматные очереди сыплет, а молчит. Эй, Курт, ви гетс?
Пленный, сотрясаемый дрожью, хрипло, отрывисто что-то прокаркал.
— Видал? — удивился Костин. — Да он еще и характер показывает.
— А что? — заинтересовался Жадченко.
— Так недоволен он, товарищ командир. Вы, говорит, бессердечные. Лучше убейте, чем так мучить. Все равно, говорит, через час вас засекут с самолета и будет вам капут.
— Через час? А почему через час? Спроси.
Костин с трудом выяснил, что пленный слышал, как затихла стрельба на линии окружения. Значит, начался обед. А самолет-разведчик появляется обычно через час после обеда.
— А почему нас обязательно обнаружат? Мы жа укрыты деревьями?
— Он говорит, что эта зона особого внимания. Тут русские несколько раз пытались прорвать кольцо.
— Зачем он все это говорит нам?
— Боится. Говорит: вас найдут, будут бомбить, лупить из пулемета. Могут и его убить. А он, видите ли, не хочет, чтоб его убили в плену да еще свои.
— Ты глянь! — озлился моряк. — Гордый, гад. «В плену да еще и свои!» Хотел тебя шлепнуть втихую, а теперь не буду. Помандражируй, спесивый тевтон.
— Отставить посторонние разговоры, — прервал тираду Жадченко. — Надо заняться маскировкой. Что ни говори, а если бы фашист за свою шкуру не боялся, он бы нас не предупреждал. Так что давайте не терять времени.
Через полчаса наше убежище напоминало то ли пещеру, то ли шалаш. Самый тупик ущелья мы перекрыли крупными ветками, сверху на них набросали хвороста и опавших листьев. Заодно и пол, вернее, землю в шалаше устелили ветками. К сожалению, нигде поблизости не было ни сосны, ни ели, так что хвойных лап добыть не удалось.
Когда все укрылись в этом убежище, моряк снова взбунтовался против «языка» и утихомирить его удалось не сразу, помог вражеский самолет-разведчик. Как только донесся его надсадный гул, пленник хрипло взвизгнул и на четвереньках резво юркнул под навес. Самолет сделал два круга над котловиной, где-то в глубине ущелья простучал пулеметной очередью, потом снизился и в опасной близости от земли прошел над нами, прогрохотал пулеметами, пули брызнули гравийной галькой вдоль русла ручья, обрубили несколько ветвей, сорвали кору с дуба метрах в двадцати от нашего укрытия. Потом ниже по ручью хряснула небольшая бомба, вероятно — мина. И вслед за тем гул самолета стал удаляться, пока не заглох.
— Антракт, — бодро закричал моряк. — Кончерт передаваты закинчено. Не слышу брухлывих оплыскив.
— Тихо! Не ко времени веселье, товарищ моряк. Пока затишье, надо поесть.
Достали три банки тушенки, крепкие черные сухари, вскрыли консервы, разделили на шестерых, причем шестым вместо Кузьмича оказался пленный. Опять с моряком и партизаном произошла перепалка, но «языка» все-таки покормили.
Вскоре снова застучали пулеметы, затрещали автоматные очереди, закашляли минометы — гитлеровцы пообедали и приступили к «работе». Было слышно иногда, как урчат далеко у входа в ущелье танк и броневики. И оттуда тоже доносились выстрелы, взрывы гранат, раза два рявкнула танковая пушка. По характеру огня чувствовалось, что ни атак, ни контратак не предпринимается, идут позиционные бои.
Ближе к вечеру в той стороне, где мы допрашивали пленного, послышался шум, какие-то команды и крики на немецком языке. Мы выбрались из-под навеса, заняли оборону на выходе из щели. Не знаю, то ли мы идеально уничтожили следы, то ли немцы и не искали нас, — во всяком случае, галдеж и лающие команды врагов стали удаляться вверх по склону и скоро потонули в общем шуме вялой перестрелки. Мы снова вернулись в устье ущелья. Пленный запросился по нужде. Чертыхаясь и грозясь, партизан повел его вниз к ручью. И тут из-за горы вывернулся низко летящий немецкий самолет. Все произошло в считанные секунды. Снизу, от ручья, донесся какой-то заячий визг, и вслед за ним, словно разодрав чудовищное полотно, оглушительно протрещала пулеметная очередь, и самолет, оглушив и ошарашив нас грохотом и ревом, пронесся дальше над долиной в сторону моря.
Я уже хотел бежать к ручью, когда снизу из кустов появился побелевший Костин.
— Капут фрицу, — прохрипел он, приблизившись. — Чего боялся, гад, то и случилось: от своей, немецкой пули сковырнулся.
— Короче и ясней, — потребовал Жадченко.
— Да и так коротко. Сидел под кустом, а появился самолет, он, подлец, назло или с перепугу заорал и вдоль ручья кинулся. Ну, и прямо под пулемет. Наповал.
— Так его видел летчик или нет?
— А черт его знает. Может, и видел, да что сделаешь, когда гашетку уже нажал. Да не волнуйся, командир. Это даже к лучшему.
— Чего ж тут лучшего? И мы демаскированы, и «язык» пропал.
— «Язык», верно, пропал. Да что с него еще возьмешь? Он все выложил, а возиться с ним по тылам… ну его к лешему. А насчет демаскирования, так я иначе соображаю: хорошо, если его летчик увидел. Я-то был укрыт. А немцы вверху шумели, небось его искали. Теперь летчик доложит — и порядок. Поскольку свои кокнули — объявят, должно, дезертиром или еще как там у них. Придет похоронная команда, закопают вонючего сверхчеловека, а Грете пошлют похоронку и медальон.
— Стратег! — неопределенно отозвался Жадченко. — Тогда вот что: ты, Костин, дуй к убитому и положи ему в карман все изъятые нами документы. Остальным — дружно разобрать укрытие, растащить ветки, раскидать хворост, уничтожить следы стоянки и по-быстрому собраться в поход. Немцы могут появиться тут с часу на час. А нам до темноты надо кружить в этом районе, чтоб Кузьмича встретить.
Новое место выбрали под скалистым обрывом на осыпи. Партизан убедил: на каменной щебенке следов не видно. Под скалой на месте выветренного известняка крепкий мергелевый пласт образовал достаточно глубокую нишу, укрывшую нас от воздушного наблюдения. Мы разошлись в разные стороны, провели «звездную» разведку и рекогносцировку. Вражеские позиции обнаружились где-то метров на четыреста — пятьсот ниже по склону. Выше нас, за перевалом, разместилась батарея батальонных минометов противника. На нас от минометчиков дороги не было, был каскад обрывистых скалистых осыпей, справа обрубленных почти вертикальной стеной вниз, в ущелье, а слева круто уходивших вверх, туда, где громадились вершины покрытых лесом гор. Влево и вперед мы выдвинули наблюдателя и занялись оборудованием новой стоянки.
Когда стемнело, нас под каменным навесом, обтянутым плащ-палатками и обложенным каменными глыбами, приютило довольно удобное укрытие от ветра, дождя и наблюдения. Моряк опять было заикнулся о костре, но партизан грубо оборвал его, посоветовав «разуть глаза» и посмотреть, что делается под нами. Действительно, всю долину охватывало кольцо костров, огней и вспышек от выстрелов. Видимо, гитлеровцы перестали опасаться окруженных, а может быть, умышленно демонстрировали непроходимость «кольца».
— Так это ж нам на руку, — обрадовался моряк. — В этом хороводе огней нашего никто и не заметит.
— Слушай, краб, — сердито заговорил, партизан. — Ночью, в море, в расположении твоей эскадры появится новый топовый фонарь. Его ваши сигнальщики заметят или нет?
— Так то ж море, борода! Конечно, заметят. И тут же — семафор. А нет, так и дозорный катерок подгребет…
— Ну вот. Ты что ж, хочешь, чтоб и к нам дозорный катерок подгреб? Давно сказано: в бою и к дураку с умной меркой подходи. А немцы они не дураки…
Дальше разговор принял неделовой характер на тему: «Так кто же дурак?», но идея костра больше не возникала.
Мы уже собрались поужинать, когда услышали негромкий окрик дозорного и хриплый знакомый голос в ответ. Вернулся Кузьмич.
Мы радовались как дети, заждавшиеся отца. Жадченко еле утихомирил группу.
— Ты как же нашел нас, Василий Кузьмич? Я ведь только через час думал посылать человека в условленное место, а ты тут как тут!
— Энто я опосля обскажу, — уплетая консервы, исчезавшие где-то в кудлатых зарослях на его лице, невнятно бормотал Кузьмич. — А щас нада хлопцев вызволять. Бо загинут.
Подкрепившись, Кузьмич рассказал о встрече с командирами окруженных частей. Выяснилось, что наших в «котле» значительно меньше, чем говорил пленный, но положение их действительно критическое. На исходе боеприпасы, продуктов уже два дня нет, раненых — больше ста человек, из них половина — тяжелые, без носилок не обойтись. Бойцы предельно измотаны и обессилены. Появились настроения безысходной обреченности и апатии.
— Ну, Кузьмич, ты ж и мастер разрисовывать. Тебе только ад малевать в какой-нибудь деревенской церквушке, — невесело пошутил Жадченко. — Однако ж выручать надо. За тем и пришли.
— Эге ж. Там у них за старшего такой суровый, осанистый… Вроде полковник. Так он хотел бы с тобой повидаться, командир. План прорыва вместях обмозговать.
— Проведешь? — сразу встрепенулся Жадченко. — Меня к нему проведешь?
— Дык а чо ж? Однако послушай, чего я тут надумал, пока по вашим следам шел.
— Какие следы?! Ты это брось, старик! — возмутился вдруг разведчик. — Мы чисто уходили.
— Ну, для немца, можа, и чисто, а для меня — як коровы на грядке натоптали… Да не о том речь. Я чего хочу сказать, командир. Тут по правую руку — обрыв. Добрый обрыв. Должно, и козел с него не скакнет. Потому немцы его не стерегут и проход сюды, как ловушку, оставили, не прикрытый.
— Так-так, — нетерпеливо заторопил его Жадченко. — Что ж ты предлагаешь? Идти в эту ловушку?
— Верно. Идти. Токи заранее подготовиться. Лестницы сплести. Из тех же обмоток. Спустить тута группу человек двадцать — тридцать, а потом к ним тем же путем — ранетых. И пущай тихо по ущелью отходят на Вербовую балку. Там немца нету — я тут местного одного встретил, расспросил. А остальные, развязав руки, могут всем скопом вдарить на Кабахаху. Это я так кумекаю. Ну а вы там с полковником решайте по-своему.
…Не знаю, как прошла встреча у Жадченко, но план был в основном принят. Мы потратили еще сутки на переправу и спасение раненых. Правда, на исходе операции немцы что-то учуяли, забеспокоились, прочесали взводом автоматчиков район, через который мы выводили раненых из «котла». Но мы успели убрать самодельные лестницы и сами отошли на осыпь. Ну а дальше что ж? Обычный бой на прорыв кольца и выход из окружения. Понятно, бой свирепый, не на жизнь, а на смерть. Мы своей группой ударили по батарее батальонных минометов, отвлекли туда внимание гитлеровцев, а тем временем окруженные наши морские пехотинцы молча, без выстрела, атаковали немцев, разорвали кольцо и, сметая тыловые заслоны и не успевшие опомниться резервные части врага, вышли в Широкую щель, а дальше на Кабахаху. Оттуда Кузьмич провел отряд в район нынешней улицы Видова, и здесь в последнем хрипящем рывке десантники с тыла проломили немецкую передовую и вышли на Малую землю.
Довелось мне видеть Василия Кузьмича и в том горячем деле, когда Васев включил Лапина, Леонтьева, Жадченко и меня в боевую группу партизанского отряда «Норд-ост». Перед группой была поставлена задача разгромить комендатуру и склад гитлеровцев в станице Нижнебаканской, захватить и доставить к нашим старосту — предателя, который, по поступившим от разведчиков и жителей сведениям, был верным слугой оккупантов и настоящим палачом для населения станицы.
Задача была нелегкая, строилась она на внезапности, точности и мощности удара с последующим стремительным и бесследным отходом. Операция прошла четко и строго по замыслу. Жадченко с помощью нашего человека, внедренного в полицию, выманил из дома и обезвредил старосту. Лапин с пятью партизанами незаметно подобрался к комендатуре. Василий Кузьмич каким-то известным только ему способом совершенно бесшумно ликвидировал двух вражеских часовых, группа ворвалась в комендатуру, забросала гранатами караульное помещение, огнем автоматов уничтожила уцелевших гитлеровцев и, прихватив важные документы, подожгла здание и отошла в место сбора.
Группа Леонтьева тем временем взорвала и подожгла склад и присоединилась к нам. В полном составе, без потерь и с пленным старостой все мы вернулись на базу.
…На Малой земле об отдыхе говорить считалось как-то даже неприличным. Так что меня с ходу опять включили в группу Леонтьева и Пономарева по эвакуации населения, а Жадченко с Василием Кузьмичом ушел на разведку в сторону Крымска.
Эвакуация оказалась делом более трудным, чем могло сразу показаться. Очень трудно было убедить людей покинуть свои ненадежные, но зато родные убежища. Почти повсюду возникали крики, плач, брань, истерики.
— Куда, ну куда ты меня выталкиваешь, командир, — кричала молодая, но изможденная женщина. — Я тут свою кровиночку — сыночка схоронила. Старшенького. Двенадцать годочков. Осколком убило. — Женщина залилась слезами и сквозь рыдания продолжала выкрикивать: — А теперь ты хочешь, чтоб и эти… крохи мои… тоже под бомбы?!
Обхватив ноги женщины, к ней жались, испуганно тараща васильковые глазенки, две маленькие девчушки, укутанные в какие-то стеганые лохмотья, из которых жалко выглядывали тоненькие птичьи шейки и жалкие синеватые ключицы. В сыром погребе, где спряталась женщина с детьми, сотрясалась и осыпалась от взрывов земля, затравленно метался язычок пламени в светильнике. А наверху, откуда я только что спрыгнул в эту яму, взрывы бомб, мин, снарядов и гранат, пулеметный, автоматный, винтовочный грохот. Горели какие-то строения, чадно дымили подбитые немецкие танки. Пыль, дым, гарь, свист пуль, вой бомб, визг осколков, рев гитлеровских самолетов… И сквозь этот ад надо было провести женщину с ее васильковоглазыми близнецами. Ухнуло где-то совсем рядом, взрывной волной сорвало нескладную дверь и, чудом миновав нас, грохнуло ее о противоположную стену погреба.
Женщина упала на колени, подмяла под себя детей, закричала:
— Не дам! Господи, не мучь, убей! Всех сразу, господи!
К порогу снаружи подкатилась немецкая зажигательная бомба, шипя и растрескиваясь, выбросила сноп голубовато-белого огня.
Дети закричали тоненько и пронзительно. Я кинулся к женщине, схватил за плечи:
— Вставай, безумная! Бери детей, бежим. Заживо сгоришь!
Женщина отрешенно и невидяще глянула на меня, поднялась, подхватила на руки детей и, завороженно глядя на трескучий брызжущий огонь, от которого я старался прикрыть их собой, скованно пошла по ступеням вверх. Наверху я все-таки отнял у нее одну девочку и, держа ее на одной руке, другой ухватил за рукав женщину и бросками привел их на промежуточный сборный пункт, или, как мы называли их, накопитель. Таких накопителей пришлось организовать до десятка по всему плацдарму.
В другом подвале снова неожиданность: пять или шесть женщин и десятка полтора малышей — от грудных до школьников. Писк — словно в детяслях. Я так и подумал, что это ясли. Отряхнул с себя землю, которой меня щедро осыпали взрывы, официально поздоровался:
— Здравия желаю, товарищи воспитатели.
Ответили мне вразнобой и не торопясь. Детский писк стих, только один сосунок яростно сражался с материнской грудью и, вероятно, возмущенный скудостью кормилицы, время от времени бунтарски орал.
— Кто тут у вас старший, товарищи воспитатели? Докладывайте, чьи дети и чей это садик или ясли?
Женщины отреагировали странно: одна смешливо прыснула, другая всхлипнула, кто-то вполголоса буркнул: «Бойкий!», а статная, крупная, с низким грудным голосом женщина рассудительно пояснила:
— Чего ты нас, лейтенант, воспитателями окрестил? Садик! Ясли! Да матери мы. Понял?
Я не понял, и они увидели это по моему обалделому выражению лица. Одна опять прыснула. Статная слегка повернула голову в ее сторону, спокойно одернула:
— Ты чего фыркаешь, как кошка, Нюся? Ничего смешного тут нет. А вам, товарищ лейтенант, можно бы и догадаться.
Тут поблизости тяжко ударило в почву, взрывная волна раздула легкие. Я разозлился:
— Я — не гадалка. А ошибся — извините. В загадки некогда играть. Давайте быстренько собирайте детей и сами собирайтесь. Сейчас отведу вас на сборный пункт. Поедете в Геленджик.
— Да нечего нам там делать, — так же спокойно возразила старшая (так я ее про себя обозначил).
— А это, гражданка, меня не касается. Все гражданское население подлежит эвакуации на Большую землю. Давайте собирайтесь.
— Гля, быстрый какой! — звонко выкрикнула та, которую назвали Нюсей. Присмотревшись, я понял, что это — девушка лет семнадцати-восемнадцати. Над головой опять загрохотало.
— Да кончайте базар, женщины! Вы что, ждете свою персональную бомбу? Собирайте детей!
— А ну, девчата, поспешайте! — неожиданно приняла и усилила мое распоряжение старшая. — Да всем узелочки свяжите, все вещички туда поскладывайте. Ребятки, забирайте все свои игрушки и вещи. Вы ведь все знаете, что чье?
— Знаем, тетя Оля! — разноголосо отозвался подвал, и детвора защебетала, зашуршала, забегала, задвигалась. Я попытался помогать, но меня быстро и бесцеремонно устранили.
— Извините, товарищ лейтенант, — одевая малыша, пояснила тетя Оля, — но мы это лучше сделаем, чем вы.
Я поднялся из подвала, чтобы оценить обстановку снаружи. От подвала метров пятьдесят пути к накопителю прикрывали стены разрушенных длинных зданий, не то конюшен, не то сушилок. А дальше — целый квартал полностью разметанных взрывами строений, только кучи битого кирпича, обгорелые балки, оконные и дверные рамы обозначали бывшую улицу. Вернулся в подвал. Почти все уже были готовы. Дети притихли, посерьезнели, внимательно и доверчиво уставились на меня.
— Послушайте… тетя Оля, — обратился я к старшей.
— Что тебе, племянничек, — под хохот остальных женщин и старших детей, картинно разведя руки, поклонилась в мою сторону старшая и, подняв голову, вдруг осветила лицо такой улыбкой, что стало ясно: «тете» не больше двадцати — двадцати двух лет.
— Извини-и-те, — опешил я. — Да кто вы тут в конце концов? Что за ерунда!
— Никакой ерунды, — серьезно ответила старшая. — Мы с девчатами ходим по поселку и ищем тех ребят, которые одни, без пап и мам… прячутся в развалинах. Ясно?
Она выразительно посмотрела мне в лицо и предупреждающе повела глазами в сторону детей. До меня начало доходить. Эти молодые женщины и девушки собирали осиротевших детей и прятали в этом подвале, кое-как подкармливая и согревая их. Только двое были со своими детьми: кормящая мама и другая — с мальчишкой лет восьми. Остальные — работницы молодежного виноградарского звена совхоза «Мысхако» — действовали под руководством звеньевой Оли.
Я растолковал взрослым, как бросками переводить детей, и для наглядности провел первую группу Нюси до накопителя, потом вернулся в подвал и, следя за паузами в огневых шквалах, стал посылать остальные группы. Удивительно смелым народом оказались эти девчата. Ольга отвела свою группу, оставила на попечении Нюси и под ожесточенным огнем вернулась, хотя я наказал ей отвести детей и не возвращаться. Следом примчалась и Нюся.
— Зачем?
— Так мы ж знаем уже дорогу, знаем, где переждать, где спрятаться, где бегом, где ползком.
Оттарахтев все это, Нюся подхватила еще одну группу и, подбадривая, что-то выкрикивая и смеясь, ринулась с малышами в грохочущий ад.
Я думал пристроить девушек на нашем эвакопункте. Уж больно толковые помощницы. Но когда я туда добрался, уже ночью, их там не было. Я кинулся было искать, но Пономарев остановил меня:
— Девчат ищешь? Поздно. Уже расхватали в санчасти. Вызвались сами. Даже не вызвались, а потребовали оставить здесь.
Еще одна ошеломляющая картина. Пономарев работал в паре с морским офицером. Его еще до своей трагической гибели Цезарь Львович Куников откомандировал в наше распоряжение. Так вот, привожу я очередную группу гражданских на эвакопункт, а там у самого причала какая-то необычная сумятица. Завел я своих в укрытие, а сам — к месту погрузки. Смотрю, стоит наш морской лейтенант, буквально обвешанный женщинами. Я уж было хотел на выручку кинуться, да вовремя расслышал:
— Коленька, родной ты мой, Колюшка! — смеясь и всхлипывая, выкрикивала молодая женщина, обхватив шею и осыпая поцелуями лицо моряка. — Да как же это? Да никуда я… Тут, с тобой… Коленька… Перевязывать буду… раненых… А доченька, Сашенька… с мамой поедет туда… в Геленджик.
Лейтенант гладил волосы жены, щеки, осторожно пытался оторвать ее от себя, дотянуться до девочки, обнявшей его ногу и прильнувшей к колену. Вокруг них, причитая и вытирая глаза, суетилась маленькая сухонькая старушка. Моряку наконец удалось разнять руки жены на своей шее, отодвинуть и глянуть женщине в глаза:
— Людочка, Люся, ну погоди, ну успокойся. Ну живой же я… И вы все живы. Ну хорошо же!
Женщина опять припала к его груди, уткнулась в плечо, что-то невнятно забормотала.
— Да погоди, Людочка. Нельзя же так. Что ж ты Сашеньку-то одну… Да и нельзя тебе здесь. Это фронт…
— Я сестрой милосердия!.. Санитаркой! — оторвавшись от него, заторопилась женщина. — Перевязать там… В медпункт раненого дотащить… Я сильная, Коленька! Не отсылай меня, родненький, не гони!
Черт знает, что-то у нее в голосе было, что ли? Как умеют упрашивать женщины! Не знаю, но у меня защипало глаза и сдавило горло.
— А за Сашеньку не беспокойся, мама за нее жизнь…
Женщина оторвалась от лейтенанта, наклонилась, схватила, подняла девочку, прижала, чмокнула в щеку, передала в протянутые руки мужа. И пока маленькие, тонюсенькие ручонки, выпростанные из огромных рукавов солдатской стеганки, намертво охватывали шею отца, женщина притянула к себе суетливую старушку, обняла ее и затеребила опять моряка:
— Вот мама. Коленька, не волнуйся! Не беспокойся! Вот мама. Сашеньке будет хорошо!
Она с неожиданной решимостью оторвала плачущую девочку от лейтенанта, передала в руки старушки, поцеловала обеих торопливо и, словно боясь, что лейтенант передумает, кинулась в обступившую толпу, крикнув на ходу:
— Ты командуй, Коля! Я потом тебя найду.
Моряк, словно очнувшись, подхватил девочку и старушку и бегом бросился на катер, притаившийся у косого борта затопленной баржи. А с берега все подходили и подходили группы эвакуируемых, шли женщины, дети, старики, несли раненых, текла одна из бесчисленных, трагически безысходных рек войны…
…Было и такое. Бегал я по подвалам, развалинам и убежищам в поисках населения. В одной полуразбитой летней кухоньке нашел семью: старик со старухой и мальчишка лет двенадцати. Сказал, чтоб собирались, а они — ни в какую.
— Да кому мы там нужны? — безнадежно отмахнулась старуха. — Старик — он совсем никудышный, почти не встает с топчана, а мне его оставлять ни к чему. Жизнь вместе прожили и помирать вместе будем. Ваську б забрали, дак он очень уж нужен тут. Нет, нет, не нам. Добытчик он главный для детей. Тут дальше котельная разбитая, а в ее подвалах — душ двадцать детей, да с ними мамаши и двое раненых красноармейцев. Да и дети есть покалеченные. Есть-то им надо. А нечего. Вот Васька и шастает по разбитым хатам, где что из еды добудет — все туда тащит.
Я взял Васю в проводники и отправился в котельную. По дороге что-то меня встревожило.
— Слушай, Василий, а что за красноармейцы в подвале?
— Да раненые. Один старшина — нога вся забинтованная, но ходит сам, а другой рядовой — рука забинтованная и подвязанная.
— И давно они?
— Да уже дня три…
Как раз поблизости рванула мина, мы шлепнулись на землю, над головами с визгом пронеслись осколки.
— Знаешь что, Василий, — притянул я парнишку к себе. — Давай-ка вернемся к твоим старикам. Мне тут надо забежать в одно место, а ты меня подождешь. Только никуда, понимаешь? Никуда не выходи от стариков. Жди меня. Понял?
— Ага. А в котельную можно сбегать?
— Вот туда-то и не надо ни в коем случае! Ни в коем, понял?
— Понял, — неохотно отозвался Вася. — А почему?
— Потом объясню. Но это очень важно.
Мы вернулись к старикам, я впихнул Васю в кухоньку и кинулся в ближайшее воинское подразделение. На счастье, попал как раз в расположение полка НКВД. Но пока разыскивал старшего начальника, докладывал, объяснял, кто я и чего хочу, прошло около часа. Наконец с двумя выделенными мне автоматчиками вернулся к старикам, но Васю там не застал. Старуха сказала, что внучонок «сей минут» выскочил.
— Сбегаю, говорит, старшину упрежу. Старшина, говорит, просил, чтоб, ежели кого из наших встречу, обязательно его упредил. Ему, мол, надо обязательно добраться в санчасть, а то, чего доброго, нога загниет, резать придется…
Старуха еще что-то говорила, а я выскочил из кухоньки, крикнул автоматчикам: «За мной!», бросился к котельной — благо, в тот раз Вася показал мне ее.
Переждав немецкий артналет, мы в последнем броске кинулись к развалинам котельной. И вдруг навстречу нам оттуда хлопнули два револьверных выстрела. Один автоматчик вскрикнул и упал, а мы с другим, не останавливаясь, перемахнули через кучу битого кирпича на месте бывшей стены и свалились на ступеньки, ведущие в подвал. Двое каких-то военных, мелькая бинтами, кинулись вниз. Автоматчик успел выстрелить, один беглец упал, второй проворно юркнул в подвал и попытался закрыть железную дверь. Но не успел. Я всем корпусом ударил в нее и, отброшенный дверью, беглец отлетел в глубину подвала. Оттуда навстречу мне донесся хрипло-дикий рык:
— Назад! Всех перебью, гады!
Разом взвился высокий, режущий не то детский, не то женский визг. И тот же звериный рык опять:
— Цыц, щенята! Убью!
Уже в следующее мгновение я успел разглядеть в косом потоке света, бившем откуда-то сверху и сбоку, как мне показалось, гиганта с занесенными руками над головками десятков детей. Я не сразу понял ситуацию, потом вдруг с ужасом увидел, что незнакомец в правой руке сжимает лимонку, а левой схватился за кольцо предохранительной чеки на ней. А кругом — застывшие лица детей, их расширенные глаза, устремленные на гранату.
Мысли ураганом понеслись в голове: «Начну поднимать пистолет, успеет вырвать чеку, выстрелю — все равно бросит или уронит гранату в гущу детей… Ах гад! Фашист! Что делать? И автоматчик сзади, ему не видно, что тут происходит. Рука закаменела на рукоятке пистолета, палец — на спусковом крючке. Так. Что, что, что?! Снять напряжение. Заговорить. Спокойно».
— Ты чего, сдурел? — хрипло, но как можно спокойнее обратился я к незнакомцу.
— Не двигаться! — тот же истеричный рык.
— Да я и не двигаюсь. Что орешь-то. Опусти гранату, дурак. Дети ведь кругом. Нашел игрушку.
— Не подходи! — опять заорал тот, но уже не так истерично.
— Да ты чего взбеленился-то? Не узнал своих, что ли? За фрицев принял? Так ты спроси, тут где-то парнишка Вася должен быть. Он тебе подтвердит, что я не фашист.
— А мне плевать! — надрывно, торопясь и захлебываясь, захрипел военный. Теперь я рассмотрел: старшина. — Уходите отсюда. В тот конец улицы. За колодец. А я с мальцом выйду. Чуть что — застрелю мальца. Ну?! Выходи!
Я видел, что руки у него стали уставать и покачиваться. Но пальца из кольца он не вынул.
— Да ты кто ж такой, что хочешь от своих уйти?
— В лесу своих ищите, сталинские собаки, — злобно прохрипел старшина.
И тут раздался какой-то пронзительный визг, в воздух взметнулось тело и повисло на руке старшины. Завязалась борьба. Я прыгнул в подвал и с ходу ударил диверсанта по голове рукоятью пистолета. Старшина обмяк и стал валиться на пол. Но раньше него рухнул на землю напавший на него. В подвал влетел автоматчик и, сразу сориентировавшись, заломил руки старшине.
Я наклонился над тем, кто боролся с бандитом. Это оказался Вася. Но… в зубах, как яблоко за черенок, он держал гранату за взрыватель. Кольцо было на месте. Зато потом у лжестаршины мы обнаружили на левой руке почти перекушенный указательный палец.
Сдав живого диверсанта и документы убитого в ОКР «Смерш», мы с автоматчиком повели детей на сборный пункт. Васю, все время терявшего сознание, с окровавленным ртом — он выломал зубы, я нес на руках, прижимая к себе его худенькое невесомое тельце. Мальчик в полубреду, захлебываясь слезами и шепелявя, всю дорогу бормотал что-то бессвязное о том, что «он хороший… он мне зажигалку подарил… давал из парабеллума стрелять… Гад! Фашист! Не надо! Не дам!.. Руку отгрызу! Дяденька лейтенант, не стреляй! Он гранату… А там Ленька… Не дам…» Так, бредившего, его и погрузили на катер.
Раненная в ноги женщина, лежавшая в углу подвала со своим годовалым сынишкой, рассказала, как прибежал Вася, радостно прокричал: «Все собирайтесь! Сейчас наши придут! Всех будут на Большую землю вывозить! А вас, товарищ старшина, в госпиталь отправят!» Тут старшина как бешеный стал. Схватил парнишку, оторвал от земли, подтянул к самому лицу. «Откуда знаешь? Кого видел? Что сказал?» Паренек испугался. «Пустите, — кричит. — Тут лейтенант приходил. Побежал за подмогой. Велел мне ждать. А я хотел вас подготовить. А вы…» Тут старшина швырнул парнишку, крикнул напарнику: «Бегом наверх!» — и оба кинулись прочь из подвала.
Так выяснилась вся подоплека разыгравшейся драмы. Не будь со мной автоматчиков, один из которых погиб, диверсанты спокойно уложили бы меня, беспрепятственно скрылись в любой ближайшей развалине и продолжили бы свое черное дело…
Дня через два с Петром Жадченко пробираемся ночью по Станичке. Противник ведет беспокоящий артиллерийский и минометный огонь по всему плацдарму. Стреляет наугад, вслепую. Но от этого не легче. Вдруг Жадченко толкает меня в бок:
— Стой, прислушайся, кажись, летят.
Остановились мы, слушаем.
— Может, — говорю, — это наши девчата на ПО-2?
— Не похоже. Наши смелее ходят. Да и заход не с той стороны.
А тут недалеко от нас будто из-под земли ракета красная в небо засвистела, описала дугу и прямо на винзавод падает. А там — штабы наши армейские.
— Что за чертовщина, — забеспокоился Жадченко. — Ты видел, откуда пустили ракету?
— Да вроде бы вон из тех развалин…
— А ну, давай туда.
Не успели мы пробежать и десяток шагов, как в районе винзавода взметнулись языки пламени и прогремели взрывы. А из развалин опять ракета, но уже в сторону наших причалов, а там как раз шла разгрузка катеров из Геленджика.
— Ах, гад, — рассвирепел Жадченко. — Ну, ясно: наводчик. Берем?
— А если не один?
— Осилим!
Тут заработали наши зенитчики, прикрывающие причалы, и вражеский самолет отогнали, но по месту падения ракеты ударил вражеский шестиствольный миномет. Оглядываясь на взрывы, мы не заметили опасности впереди и разом рухнули в какую-то яму. Я не успел опомниться, как на спину обрушился такой удар, что из глаз брызнули искры.
— Ты что, Петя, сдурел, — задыхаясь от боли, крикнул я.
И тут же услышал сдавленный крик:
— Держись, Вася! Их двое!
Что-то неведомое — наверное, инстинкт! — заставило меня отпрянуть в сторону, и в ту же секунду на то место, где я только что лежал, по-мясницки «хакнув», рухнула чья-то фигура. Я прыгнул на нее, ударил коленом между лопаток, навалился, с трудом вывернул руку с огромным немецким тесаком, вырвал нож и его рукояткой огрел врага по затылку. Тот затих. И только теперь я услышал, как Жадченко надсадно пыхтит и отрывисто ругается:
— Кусаться, собака?.. А вот… Н-нет, жаба, врешь. А так… Ну? Еще? Получи!
Донесся гулкий удар, рычащий стон и удовлетворенный голос Жадченко:
— Вот и успокоился. Вот и ладненько.
Обоих диверсантов-сигнальщиков чекист Жешко доставил в Геленджик. Туда же он отправил и троих «больных», вооруженных ракетницами и сигнальными фонарями. Этих помогла взять та самая Оля, которая раньше опекала осиротевших детишек. Каким-то образом разыскала меня и в своей неторопливой, веской манере сообщила:
— К нам в санчасть наведался какой-то сержант, марганца и сульфидина просил. Зачем, говорю? А он этак заговорщицки подмигивает: «Молодая, еще тебе рано об этом знать. Хотя, вы, медики, все знаете. Так что лучше не спрашивай». Дала я ему марганца, а за сульфидином, говорю, иди в медсанбат, к врачу. Поспасибал он, попрощался, но как-то уж очень торопливо, выскочил из подвала и очертя голову кинулся в развалины. Чего это он, думаю, туда побежал? Там же, вроде, и частей никаких нет. А ночью случайно увидела, как из тех развалин кто-то ракеты пускал. Вот я и засомневалась: а может, думаю, шпион?
Я поблагодарил Олю, нашел Леонтьева, доложил. Получил задание и с двумя автоматчиками отправился к развалинам. Диверсанты безмятежно спали в полуразбитом погребе. Было их трое. Взяли без шума, хотя они и попытались вырваться. Связали им руки за спиной, ведем к Леонтьеву. А один вдруг разговорился:
— Зря вы, товарищ лейтенант, скрутили нас. Мы больные, шли в медсанбат. За ночь притомились, вот и заснули. А спросонья разве разберешь, кто на тебя навалился? Вот и кинулись в драку.
Я пропустил слова «товарищ лейтенант», думаю: а вдруг и впрямь ошиблись. Однако спрашиваю:
— А чем же вы больны все трое?
Разговорчивый притворно вздохнул.
— Да стыдно говорить. Венерические мы. У нас и справки есть из медсанбата, и направление в госпиталь в Геленджик.
В Геленджик они попали, только не по медицинскому направлению, а под конвоем. А марганец им нужен был, оказывается, чтобы язвы растравлять. Не помогло.
А в общем нашей группой за время пребывания на Малой земле было разоблачено и обезврежено более сорока лазутчиков, диверсантов и вражеских шпионов.
Выполнили мы и еще одну нелегкую задачу — собрали, оприходовали и передали в интендантские службы воинских частей всех домашних животных и птиц, оставшихся на плацдарме. Докладывая Леонтьеву о проделанной работе, Жадченко не удержался, съязвил:
— Не учтены кошки, собаки и голуби, так как на них приказа не было.
Леонтьев озадачил нас тем, что шутку не поддержал.
— И напрасно не учли. Что ж, что не было приказа? Надо было инициативу проявить. Вы ведь чекисты, то есть люди думающие, способные видеть явления даже с той стороны, которая другим и неведома.
— Ты чего это, Василий Гаврилович? Я же пошутил, — растерянно отозвался Жадченко.
— Да тут, видишь, какое дело. Не такая уж это и шутка. Понимаете, хлопцы, бродячие кошки и собаки — это все разносчики инфекции. А это при нашей скученности на плацдарме — серьезная угроза. Так-то. Ну, а насчет голубей — напомню, что это один из древнейших видов связи. И если тут действуют лазутчики и шпионы, то почему бы им и не пользоваться голубиной почтой?
Жадченко сокрушенно поскреб в затылке, крякнул, чертыхнулся:
— А ведь верно, черт! Что ж теперь делать? Заново проводить инвентаризацию живности или как?
Теперь засмеялся Леонтьев.
— Ничего не надо. Только помнить об этом следует.
…Числа двенадцатого или четырнадцатого февраля нас собрал Иван Никитович Лапин, заместитель по разведке и связи командира группы партизанских отрядов Новороссийского куста и повел к командиру Петру Ивановичу Васеву. Партизаны называли Лапина «наш начальник контрразведки». Как говорят в народе, ладно скроенный, крепко сшитый, всегда подтянутый, аккуратный и сдержанный Лапин вызывал у всех нас да и у партизан неизменную симпатию своей непоказной вежливостью, сдержанной чуткостью, какой-то подкупающей, внутренней душевностью. А кто побывал с ним в деле, в один голос восхищались его храбростью, находчивостью в бою, его умением в самых сложных ситуациях не терять самообладания, не поддаваться панике.
О том, что этот тридцатипятилетний младший лейтенант госбезопасности был способный и перспективный работник, говорит его быстрое продвижение по службе. До 1941 года Иван Никитович, в 1932 году окончивший Саратовский зооветеринарный институт, работал старшим зоотехником в колхозах и совхозах Саратовской, Пензенской, Московской областей и Краснодарского края.
С началом войны Лапин надел красноармейскую форму и до марта 1942 года служил минометчиком в кавалерийском полку. В марте 1942 года кандидат в члены партии Лапин становится курсантом школы НКВД СССР. А уже с 20 сентября 1942 года командует разведывательно-диверсионной группой в составе Н-ской стрелковой дивизии и принимает непосредственное активное участие в разгроме 3-й румынской горно-стрелковой дивизии. До середины октября во главе своей группы неоднократно ходил в разведку по тылам врага. Противнику был нанесен ощутимый урон, добыты ценные разведданные.
18 октября 1942 года Лапин назначается политруком партизанского отряда «За Родину». Участвует в смелых рейдах по тылам врага, совместно с разведчиками 81-й бригады морской пехоты проводит дерзкую операцию по разгрому фашистского штаба интендантской службы в станице Нижнебаканской, а с 6 декабря — он уже заместитель командира по разведке и связи в группе партизанских отрядов Новороссийского куста.
Здесь на Лапина возлагается персональная ответственность за организацию боевой и оперативной работы через партизанские отряды, направленной на систематический вывод групп и лиц призывного контингента с территории временно оккупированных районов на Черноморском побережье.
Задача формулировалась просто, но выполнение ее — дело далеко не простое. Ивану Никитовичу Лапину приходилось подготавливать уже имеющихся в отрядах доверенных людей, отбирать из числа лучшей части партизан смелых и решительных бойцов, тщательно их инструктировать, учить методам конспирации и другим формам работы, ставить задачи по установлению мест расположения лагерей военнопленных красноармейцев и организации работы среди них, по определению мест перехода линии фронта и пунктов сбора переправленных на нашу сторону, по отработке взаимодействия с особыми отделами армейских частей и множество других, на первый взгляд, простых, но на практике — невероятно сложных, ответственных и скрупулезных дел. И, как сказано в характеристике, подписанной Васевым и Сескутовым, боевой командир с ними успешно справлялся.
…В одном из подвалов здания радиостанции собралось все наше руководство. Был тут Васев, Сескутов, наши чекисты из партизанских отрядов. К тому времени на Малой земле было уже человек двадцать чекистов из группы Бесчастнова. Все они получили от командира группы задание персональное, но здесь, на плацдарме, сообразуясь с обстоятельствами, на каждого из нас возлагались дополнительно самые разнообразные задачи. Так и сейчас Петр Иванович Васев начал без всяких предисловий:
— У кого какие свои задания, прошу не спорить, придется пока отставить. За истекшие три дня, как вам известно, обстановка на плацдарме изменилась: сюда высадились части восемнадцатой армии, прибыл ее командующий генерал Леселидзе. Он приказал усилить оперативную и глубокую разведку, создать спецгруппы и провести серию диверсионных операций в ближайших тылах противника.
— Но для этого есть армейские части, есть общевойсковая разведка! — недовольно сказал Николай Падкий. — У меня, например, свои задачи…
— Пока предупреждаю: устава не нарушать, соблюдать дисциплину. Вопросы потом, выступления тоже. И как положено: с разрешения старшего. А старший здесь я. — Васев сказал это тихо, ровно, глядя в стол. Но прозвучали его слова настолько жестко, что все присутствующие замерли. — Напоминаю: я для того и собрал здесь всю группу, чтобы сразу покончить с любыми вольными толкованиями приказов и распоряжений командования, с любой самодеятельной трактовкой обстановки на плацдарме.
Все мы были люди военные, дисциплину знали и соблюдали. Но в силу специфики нашей работы каждый привык к тому, что действовать и принимать решения обычно приходилось самостоятельно и, как правило, в одиночку. Поэтому после слов Васева послышался глухой шумок, похожий на недовольство. Васев немного помолчал и так же ровно продолжил:
— Приказываю. Начальнику штаба товарищу Сескутову совместно с моим заместителем по разведке и связи товарищем Лапиным незамедлительно сформировать разведывательные, диверсионные, рейдовые группы из партизан, включить в них чекистов, прикомандированных к партизанским отрядам и к моему штабу, а также прибывших на плацдарм со специальным заданием от товарища Бесчастнова.
Опять в подвале стало тихо. Всех поразил этот необычный подход к нам. Васев глянул на нас исподлобья, чуть усмехнулся:
— Это распоряжение товарища Бесчастнова. Так что спорить не надо. Однако должен напомнить: персональные задания выполнять все равно придется вам. Так что из головы не выбрасывайте. А теперь слово товарищу Лапину. Давай, Иван Никитович, комплектуй группы и отряды.
Лапин подошел к столу, привычным движением больших пальцев поправил под ремнем и без того ладно сидящую гимнастерку:
— Значит, так, товарищи…
И пошел конкретный разговор: кто куда, кто с кем, район, цель, время, ответственный, командир, кому докладывать об исполнении. Себя Лапин включил в рейдовую партизанскую группу, в которую вошли отряды «Норд-ост» и «За Родину». Я тоже был включен в эту группу. Перед нами стояла задача скрытно пересечь линию немецкой обороны, выйти в Мокрую щель, понаблюдать, не накапливаются ли в том районе вражеские резервы, во что бы то ни стало добыть «языка» и вернуться на свою сторону. Комиссар отряда «Норд-ост» Иван Федорович Попов поручил Лапину и четырем партизанам провести предварительную разведку, выбрать участок перехода и провести отряды в тыл противника.
Мы расположились в большом, отбитом у гитлеровцев окопе, готовые по сигналу разведчиков двинуться в темноту, озаряемую ракетами, трассирующими очередями и частыми всполохами выстрелов и взрывов.
Не прошло и четверти часа, как из темноты вынырнул Лапин, шепотом доложил, что вражеский пост снят, проход разведан и охраняется партизанами, сплошного переднего края у немцев пока нет, мин и проволочных заграждений тоже нет.
Пригнувшись к земле, отдельными группами, бросками мы последовали за разведкой. Перед рассветом вышли в армейские тылы противника и расположились на северных склонах Мокрой щели. Лапин с партизанами опять ушел на разведку. Откинувшись на вещмешки, которые было приказано не снимать, бойцы наших отрядов отдыхали — кто дремал, кто просто прикрыл глаза. Разговаривать запрещалось. Вокруг были выставлены наши посты. Стало уже светать, когда появились разведчики. Лапин сообщил, что в глубине щели разместилось не меньше роты гитлеровцев. Похоже, накапливаются тайно для внезапного удара по плацдарму. Можно было осторожно обойти это подразделение и двигаться дальше, в глубь вражеского тыла, но командиры, накрывшись плащ-палаткой и при свете карманного фонарика изучив карту, усмотрели немалую опасность готовящегося удара. Дело в том, что он был нацелен на тот участок, где мы пересекли линию обороны. А там, к сожалению, практически не было наших войск. Имелись лишь отдельные узлы обороны, если так можно назвать поредевший в боях взвод морской пехоты, растянутый группами по два-три человека на участке до километра шириной.
Партизаны решили атаковать противника, опрокинуть и рассеять. Надо сказать, что это решение не только не соответствовало первоначальной задаче группы, но и было весьма рискованным. У гитлеровцев — превосходство и в живой силе, и в вооружении. Да и дислоцировались они в своих тылах. У партизан же расчет строился на внезапности атаки, на эффекте окружения и, конечно же, ярости и свирепой ненависти партизан к захватчикам. К этому надо добавить, что у гитлеровцев не было обоснованной и необходимой потребности защищать и удерживать занимаемые позиции, а мы хорошо и почти зримо представляли, что произойдет, если эта группа неожиданно навалится на тоненькую, пунктирную линию нашей обороны на плацдарме, прорвет ее и начнет буйствовать в тылах, как слон в посудной лавке. Вот что вынудило нас нарушить первоначальный приказ и пойти на эту рискованную операцию.
Под покровом предрассветного сумрака командир отряда «За Родину» Александр Антонович Коновалов повел своих партизан в обход противника. Лапин попросил у Попова еще четырех партизан и повел их в обход с другой стороны. Попов развернул сбои отряд в цепь по склону и приказал изготовиться к атаке.
Со склонов мы уже хорошо просматривали расположение противника. Дымили полевые кухни, орали ефрейторы, перекликались и сновали в разных направлениях солдаты. Но немецкая аккуратность и тут была на высоте: вокруг лагеря просматривалась четко организованная круговая оборона. На юг и на запад из хорошо отрытых гнезд уставились тупорылые тяжелые пулеметы МГ, около них в окопах полного профиля — по отделению стрелков. С северной и восточной сторон отряды прикрывали усиленные секреты. На самом дне ущелья в сумраке едва различались замаскированные минометы. Четыре транспортера, накрытые маскировочной сетью, образовали своеобразное каре, в центре которого сгрудилась кучка офицеров.
Командир взвода А. Я. Зелинский сам установил ручной пулемет, лег поудобнее, попробовал на упор сошки, взял на прицел группу офицеров и замер, ожидая сигнала.
От вершины Сахарной Головки до Кабардинки заря высветила небо, и с противоположного склона резанула по вражескому лагерю пулеметная очередь. Это был сигнал. Зелинский, вдруг сжавшись в комок, начал бить по заметавшимся гитлеровцам, не давая им вырваться из огневого кольца в середине каре.
Группа Коновалова на той стороне, сосредоточив огонь, успешно и быстро подавила пулеметный расчет восточного дозора и, выведя из строя стрелков в прилегающей траншее, перешла в атаку. Партизаны высыпали из леса и помчались вниз по склону, ведя огонь на ходу.
Лапин пока не обнаруживал себя.
Западный дозор поливал нас пулеметным огнем, частый огонь вели стрелки из траншей. Зелинский запоздало понял свой тактический просчет и перенес огонь на пулеметное гнездо. Правда, его прежний тактический ход принес результаты: почти все офицеры, находившиеся в центре каре, валялись мертвыми, немцы остались без командиров. Однако неподавленный вражеский пулемет не давал нам поднять головы, не то что идти в атаку. Зелинский передал пулемет партизану, а сам, взяв гранату, пополз, укрываясь в глубокой промоине, к вражескому пулемету.
Тем временем заговорил молчавший второй вражеский пулемет, потом еще один застучал с бронетранспортера, а следом на дне ущелья полыхнули всполохи выстрелов, и в нашем расположении сыпанули визгливыми осколками пятидесятимиллиметровые мины. Закричали раненые, кто-то из партизан не выдержал — вскочил и, по-заячьи петляя, кинулся удирать. Пуля сразу настигла труса. Но паника — опасная штука. Уже и справа, и слева от меня заерзали, стали оглядываться лежащие в цепи партизаны.
Чувствую — и у меня мурашки по спине забегали, стало как-то не по себе. Мелькнула мысль: «Побежим — перестреляют. Удержимся на позиции, — может, уцелеем, а главное: удержавшись, сможем ударить гитлеровцев, что называется, в самое солнечное сплетение».
Понимать-то понимал, да под огнем одного понимания мало. Нужны храбрость, мужество. А вот что это такое и откуда они берутся — толком никто и не знает. Не стану и я в этом разбираться да мудрить. По опыту знаю одно: бывают ситуации, когда и трусы становятся храбрецами, а бывает, что и храбрые люди теряют самообладание.
Не знаю, что случилось с бойцами нашей группы, но начали они отползать назад. Командовавший отрядом комиссар «Норд-оста» Иван Попов, срывая голос, кричал:
— Партизаны! Стоять! Держать! Бей гадов, ребята! Глуши пулеметчиков!
Сквозь грохот взрывов и трескотню стрелкового оружия трудно было разобрать его слова, и партизаны, подбадривая друг друга, перекликались такими же призывами:
— Держись!
— Не дрейфь!
— Врешь — не возьмешь!
Но огненный шквал давил волю, туманил сознание. Вот уже не выдержал еще один боец — кажись, Петр Короб. Приподнялся, пригнувшись стал пятиться к лесу и тут же, словно бурей сбитый с ног, опрокинулся на спину, выронил винтовку, затих.
Под огневым прикрытием из траншей полезли фашисты и короткими бросками стали приближаться к нашей жиденькой цепи. Врагов было более двух десятков, а наших — пятнадцать человек, из них уже двое погибли.
Не отрываясь от земли, я поворачивал голову, пытаясь разобраться в обстановке. Сквозь каменные брызги и фонтанчики пыли, взбиваемые пулями, увидел, что бойцы Коновалова уже ведут бой в расположении врага, но пулеметы боковых дозоров продолжают поливать нас свинцом, и все еще хрястают мины.
Зелинский медленно подползал к вражескому пулемету, сжимая в откинутой для броска правой руке гранату.
Тем временем атаковавшие нас гитлеровцы поползли в стороны, охватывая нашу позицию с флангов. Момент был критический… И тут с северо-запада во фланг немцам ударили автоматные очереди, а на западном склоне хлопнул взрыв гранаты, и немецкий пулемет смолк — Зелинский таки добрался до него. В ту же минуту слева от нас раздались крики «Ура!», «Вперед!», и из подлеска на фашистов бросилась горстка партизан, впереди которых, прихрамывая — он был ранен в ногу в предыдущем бою на Колдуне, — мчался Иван Лапин.
С криком «Вперед, ребята! За Родину!» вскочил Попов, и мы помчались за ним на врага. Немцы вскакивали и пытались убежать, но тут же падали от партизанских пуль. Подоспевший Зелинский успел свалить ударом приклада перезаряжавшего автомат гитлеровца.
В общем порыве наша группа скатилась в щель и ударила с тыла гитлеровцев, отбивавших натиск группы Коновалова. Теперь вражеские солдаты, атакованные со всех сторон, стали поспешно отходить под прикрытие бронетранспортеров. Тем временем Лапин с двумя партизанами прорвался в расположение врага и забросал гранатами минометный расчет, выведя его из строя. Кто-то из партизан сумел подобраться к одному из бронетранспортеров и подорвать его противотанковой гранатой.
После этого гитлеровцы не выдержали и поспешно стали отходить по щели вниз, к Новороссийску. Сосредоточившиеся и уплотнившие огонь, они уже были нам не под силу. Мы залегли и подгоняли их огнем, осторожно продвигаясь за отступающими. Удачно расположив за скалой пулемет, они прикрывали дальнейший отход и сумели оторваться от нас, уйти в город.
Командиры собрали бойцов, подобрали своих раненых и погибших, сосчитали убитых гитлеровцев — их оказалось более двух десятков, прихватили трофеи и повели группы на Малую землю. Коварный замысел врага удалось сорвать.
Однако встретили нас довольно сурово: все-таки победители победителями, но приказ-то был нарушен.
Выслушав доклад Попова, обычно сдержанный Васев помрачнел, спросил сурово и недружелюбно:
— Прошу повторить приказ, полученный здесь.
Наш командир сник, погрустнел, невесело проговорил:
— Разведать тылы противника в районе Мокрой щели. Уточнить дислокацию и перегруппировки врага, не вступая в бой, и, по возможности, добыть «языка».
— Значит, допущено два нарушения: и ввязались в боевые действия, и «языка» не взяли. Полагаю, вас надо отстранить от командования и о случившемся доложить по инстанции.
Попов, сдерживаясь, ответил по-уставному: «Есть!» — и сердито сверкнул темно-карими, почти черными глазами.
— Доложите о потерях, — так же сухо и хмуро потребовал Васев.
— Трое убитых, пятеро раненых. Один — тяжело. Взяты трофеи…
— О трофеях потом…
Лапин решительно шагнул вперед:
— Товарищ Васев, разрешите доложить?
Командир партизанского соединения кивком разрешил.
— Если бы атаковали не мы, а немцы, наша оборона на том участке была бы прорвана и противник проник бы в наши тылы.
Васев чуть наклонил голову:
— Полагаю, это будет учтено командованием. Но приказ есть приказ. Его надо выполнять.
— Товарищ Васев, — голос Лапина чуть дрогнул от волнения. — «Языка» мы добудем. Нынче же ночью.
— Добро. Это мы обсудим особо. А сейчас бойцов накормить… по возможности. И отдыхать.
— По возможности, — тихо добавил Попов.
Улыбка чуть тронула губы Васева, лицо посветлело.
— Вот именно: и отдыхать по возможности. — И не удержался, сказал: — А здорово вы все-таки фрицев! Что ни говори, а молодцы! — И добавил просто, приветливо: — Садитесь, товарищи. Закуривайте. У кого, конечно, есть.
В землянке стало шумно, дымно, раскованно. Пошли рассказы о подробностях боя, шутки, подтрунивания друг над другом, смех. Тут же предлагались варианты поимки «языка», которого все-таки на следующую ночь и добыли.
Для поиска Лапин лично отобрал наиболее отчаянных разведчиков. Во главе групп прикрытия и обеспечения поставил опытных чекистов. Сам возглавил группу захвата. Во вражеский тыл отправились уже разведанным путем. Вражеского мотоциклиста захватили на шоссе под Станичкой. «Язык» оказался офицером связи. В его планшете были оперативные приказы командирам гитлеровских частей, атакующих плацдарм, по перегруппировке сил. Да и сам фельдфебель тоже дал ценные сведения о немецких штабах, численности и расположении частей.
…Ныряя в окопы и траншеи под частыми разрывами немецких мин и снарядов, бойцы с удивлением и даже страхом наблюдали за группой командиров, судя по шлейфу сопровождающих, высокого ранга командиров, которые, увлеченные беседой, споро и спокойно шли в сторону бывшей радиостанции.
Быстрый, энергичный, порывистый в словах и движениях командарм Леселидзе все время опережал спутников, успевая давать распоряжения почти бежавшему следом адъютанту, здороваться с бойцами в окопах и делать им замечания по оборудованию огневых позиций, ругать не перестающих бесноваться гитлеровцев, полусловом бросать замечания начальнику контрразведки полковнику Зарелуа, подтрунивать над долговязым членом военного совета генерал-майором Колониным, который, словно стесняясь своего роста, слегка горбился и все пытался как-то прикрыть командира от визгливо-воющих осколков и пуль.
Наблюдательный Леселидзе заметил это и, любя пересыпать серьезный разговор легкой шуткой, нередко пародируя кавказский акцент, скороговоркой сказал Колонину:
— Слушай, дорогой! Ты зачем все время закрываешь меня от солнца? Ты, чего доброго, меня и от начальства закроешь. И никто не увидит, что есть такой маленький-маленький командарм восемнадцатой десантной. А я еще хочу расти, слушай. Понимаешь, да? Вай! Ничего ты не понимаешь!
— Константин Николаевич! Ну, что ты, право, как маленький…
— Я и есть маленький! Потому и хочу расти! Вай! Хотя твои два метра мне не нужны…
— Метр восемьдесят…
— Все равно много. Мне столько не надо. На войне длинный рост — лишняя забота. Вот ты все время гнешься, а я прямо иду!
Это, видимо, обидело Колонина. Он решительно выпрямился, но тут же стремительный Леселидзе прыжком сбил его с ног, и они, обнявшись, упали в окоп. На них рухнули, прикрывая, другие. Почти одновременно рядом крякнул взрыв, и по спинам оказавшихся сверху больно забарабанили комья глинистой и щебенистой земли. Ойкнул Кравчук — адъютант Брежнева, длинно и заковыристо выругался главстаршина, сопровождающий Зарелуа. Снизу возмущенно и придушенно закричал Леселидзе:
— Вы что на мне малу кучу устроили? Всем встать!
И, уже отряхивая с одежды глину и зорко стреляя в окружающих озорноватым взглядом, нарочито недовольно выговаривал:
— Видал, да? Все на одного! Ничего, будем скоро наступать — я вам это припомню!
…В подвальных помещениях бывшей радиостанции размещался передовой НП 83-й морской бригады. Но беспокойный командарм выжил отсюда наблюдателей и разведчиков, разослав в самые передовые окопы на окрестных господствующих высотах, а здесь приказал оборудовать один из своих запасных КП.
Как обычно, командные пункты, штабы и прочие резиденции командования обрастают целой гроздью служб, ведомств и подсобок. Так что, несмотря на гневные высказывания командарма, в разных углах, отсеках, завалах и узких проходах подвалов вклопились и прочно держались связисты, разведчики, контрразведчики, служба артснабжения, какие-то штабники с картами и планшетами; невзирая ни на грохот, ни на толчки, богатырски храпели офицеры связи, готовые между тем в любую секунду вскочить, получить засургученный пакет или устный приказ командующего и, не задумываясь, мчаться сквозь огненный ураган в любую воинскую часть, в любой конец плацдарма.
Нашли себе убежище и чекисты Бесчастнова. Сам Алексей Дмитриевич постоянно кочевал по всему побережью: Мысхако — девятый километр — Марьина роща — Геленджик. И обратно. Надо было следить за своими тылами, выявлять засланных гитлеровских шпионов, провокаторов, сигнальщиков, организовывать борьбу с диверсионными группами гитлеровцев, выявлять предателей и изменников.
Это только часть тех дел и обязанностей, среди которых вертелась наша опергруппа и о которых сейчас четко, неспешно, уверенно докладывал Бесчастнов, почтительно подтянувшись перед Леселидзе. Командарм выслушал, пожал руку, оглянулся, ища кого-то глазами. Нашел:
— Полковник Зарелуа, это по вашей части? Почему скупо информируете?
— По нашей линии мы все время работаем в контакте, — доложил Зарелуа. — И сейчас тоже.
— Хорошо. Вечерком подробно доложить.
— Слушаюсь, товарищ командующий.
— Константин Николаевич, — вплотную подошел к командующему Брежнев. — Вы не будете возражать, если я сейчас задержусь здесь, вникну в дела чекистов?
— Вах, дорогой! Это твой хлеб.
Леселидзе улыбнулся одними губами, в то время как глаза были печально-строги и смотрели куда-то в даль пространства, видимого только одному их обладателю.
Когда группа командующего удалилась в глубь подвальных катакомб, начпоарм присел на сложенные столбиком кирпичи, заменявшие нам стулья, закурил, угостил желающих.
Полпачки «Норда» разобрали.
— Берите, братцы, берите. Не стесняйтесь, у меня еще есть. Только уж не обессудьте, не пойму: вы ведь все офицеры… Что, не хватает пайка?
Но Бесчастнов не такой был человек, чтобы смущаться.
— Никак нет, товарищ полковник. Пайка хватает, но мы его не получаем.
— Яснее!
— Да никто нам того пайка не дает, товарищ полковник. Не стоим мы на довольствии. И аттестатов у нас нет. Люди-то мы не вашей армии.
— А какой же?
— Да, честно говоря, ничьи мы, в смысле приписки. Вызвал Тимошенков, привел к Селезневу. Селезнев приказал: «Бери людей, езжай в Новороссийск, организуй работу. Все вопросы решай на месте. Народ вы, говорит, тертый. Не пропадете. Действуй!» Вот и действуем… на подножном корму.
Брежнев засмеялся:
— Тертый, стало быть, народ… — весело повторил он. — А что? И верно ведь — не пропали? А?
— Да пропасть-то не пропали. Но и жили, как старцы на паперти.
— Ладно. Сами виноваты. Не там скромность проявили. Надо было сразу в политотдел. И никогда не забывайте, что вы, чекисты, всегда, повсюду должны работать в контакте с политработниками. Дело у нас с вами общее… Ладно, политзанятия я еще успею не раз провести. А сейчас надо вас накормить.
Брежнев раскрыл планшет, написал несколько строк в командирском блокноте, вырвал листок, протянул Бесчастнову:
— Это на первый случай. А завтра-послезавтра представь мне полный список своих орлов, кто, где, при какой части. Распоряжусь, чтобы взяли вас на довольствие.
На другой день, к вечеру, мы уже «на законном основании», «согласно аттестату», запрятали в вещмешки хоть и скудноватые, но свои, кровные десантные пайки: по две балки «второго фронта» (так бойцы называли американскую тушенку), по три селедки, по буханке подсоленного морской водой геленджикского хлеба, по десять кусочков сахару и по шматку желто-прозрачного с черной шкурой дельфиньего сала. Жить стало веселей, хотя немец в каждым днем добавлял огонька.
Как-то в начале мая вернулись на Мысхако с задания. Мы должны были выйти на связь с подпольем комсомольцев и молодежи в станице Голубицкой, где, по поступившим данным, был предатель, но опоздали: гестаповцы разгромили организацию и расстреляли юных патриотов. Так что настроение у всей нашей группы было гнусное. Доложив результаты, я забился в дальний угол подвала, попытался заснуть: и не спал пару ночей, и хотелось забыться. Только закрыл глаза — кто-то больно долбанул в бок.
— Какого черта! — почти заорал я.
— Не поминай всуе черта, яко же и Господа Бога нашего, сын мой, — прогнусавила надо мной чья-то знакомая, но небывало запущенная, неряшливая рожа.
Я рывком сел.
— Осени себя, отрок, — положил мне на плечи дубленые солдатские руки новоявленный мессия.
И тут я его узнал.
— Петя! Чертушка! Живой! Откуда?
— Ага! Проснулся, паразит? Много вопрошахом, единожды отвечахом: оттуда.
— Да брось юродствовать, Жадченко, — начал я злиться. — О тебе ж докладывали… В общем…
— Что? Отпели раба божия? А я — вот он. Разрешается трогать руками. — И он дурашливо повернулся спиной и отставил зад.
Я сгреб Петра в охапку, потащил на себя и усадил рядом на жесткую свою постель:
— Перестань дурачиться, Петь. Говори толком.
— Толком? — сразу как-то успокоившись, переспросил друг. — А если толком, то нет ли у тебя, братишка, завалящего сухарика? А может, и кипяточка? Страсть люблю тепло в животе — аж душа греется.
Тут я только разглядел, что лицо Жадченко представляло собой череп, обтянутый серо-коричневой кожей, из которой топорщились, торчали, свисали какие-то неряшливые грязно-рыжие клочья волос.
Я лихорадочно развязал свой вещмешок, в котором был только сегодня полученный и еще не тронутый продпаек:
— Сейчас, Петя, прости. Я быстро. Кипяточку. Тут, у ординарцев. Потерпи.
Я бормотал, не совсем соображая что и зачем. И делал все почти механически. А когда прибежал с котелком кипятка, Петр уже спал, так и не донеся до рта зажатый в руке кусок хлеба. Лег с ним рядом по-фронтовому; спина к спине, чтоб согреть, укрыл своей шинелью, сам остался в стеганке. Не спалось. Думал о судьбах людских. Вот Петро… Говорят: люди из легенды. Легендарные люди. Герои, богатыри… Ну какой Петька богатырь? Он и мне-то по уши! А я, ну не то чтобы… однако самого что ни на есть среднего роста. Так, метр семьдесят.
Правда, Петя покоренастее, в кости крупнее. Да в этом ли дело? Вот ушел с заданием во вражеские тылы на Тамань. Какая там обстановка, как обосноваться, с кем придется работать, на кого опереться, кого привлечь в помощь — на все эти вопросы ясных ответов не было. Надо было ориентироваться и принимать решение на месте.
Был, правда, сигнал из одной станицы от нашего человека, назначенного там старостой. Точно фамилию старосты не помню, Жадченко называл его, кажется, Кондрюком, но не уверен. Сам Петр в таких рассказах настоящих имен и фамилий избегал. Да и место действия обозначал весьма туманно.
Так вот этот самый Кондрюк передал, что немецкий комендант пожелал во что бы то ни стало «пустить» местную церковь и приказал старосте хоть из-под земли добыть «очень настоящий русский поп» и организовать регулярное богослужение. Приказ этот явился отнюдь не от «благочестия» коменданта, а в силу все той же, в сущности, уже провалившейся политики заигрывания с населением Кубани и всего Северного Кавказа.
В минуты серьезных, задушевных разговоров Жадченко откровенно признавался, что ему, коммунисту-чекисту, выступать в роли священнослужителя не годилось ни с какой стороны («Бывало, как подумаю — аж тошно становится!» — сокрушенно мотал головой Жадченко). Получалось, что не только немца-коменданта, но и наших верующих придется дурачить. Не вязалось это с честной и прямодушной натурой Петра. Но сомнения разрешило то обстоятельство (да и лучшего варианта не было), что должность станичного священника давала возможность передвигаться чуть ли не по всей прибрежной зоне Таманского полуострова, бывать на хуторах и в рыбацких поселках, по сути дела, беспрепятственно наблюдать за передвижениями, перегруппировками и оборонительными работами вражеских войск. А это как раз и требовалось разведчику.
Шли последние месяцы оккупации Новороссийска и Таманского полуострова. Гитлеровское командование, страшась оказаться в «таманском котле», скрытно, но довольно интенсивно увозило с Кубани награбленное добро, эвакуировало тыловое имущество, часть тяжелого оружия и снаряжения. Заменялись потрепанные в боях под Новороссийском и на Голубой линии дивизии и подразделения. Через порты в станице Тамани и на косе Чушка вывозились на фашистскую каторгу отторженные от семей, родных и близких, от своего дома и отчей земли жители Новороссийска, Анапы, Темрюка и других районов и городов края. Обо всем этом надлежало собрать как можно более полные сведения и доставить их командованию.
Взвесив все «за» и «против», Петро принял решение: лучшего места, чем должность священника, в создавшихся условиях не найти. Петро за неделю нахватался кое-каких фраз, оборотов и даже выучил «Отче наш» и «Верую» (помог ординарец начарта, сменивший подрясник дьячка воронежской станичной церкви на солдатскую форму) и отбыл в станицу, где требовался «очень настоящий русский поп». И пошел там со старостой в комендатуру…
Дальше придется рассказывать в том тоне, в каком поведал о своей одиссее сам Петро. Где в пересказе, а где и прямо от его лица. А я уже говорил, что даже о самой критической ситуации Жадченко умел рассказывать легко, с юмором, как о веселом и безобидном приключении. Так что драматизм событий стушевался под пестрой одеждой нарочитого юмора.
Так вот, привел Кондрюк Петра к бывшей конторе правления колхоза, доложил часовому, повел Петра по коридору, и после получасового ожидания в приемной их позвал комендант.
В церковных ритуалах немец не разбирался, а к возрасту и стрижке прицепился. Петро, не переставая креститься, разрисовал красочную и жуткую версию, как он, выпускник одесской духовной семинарии, спасаясь от большевиков, которые, мол, без разбору сажают за решетку служителей церкви, видя в них поборников и защитников «нового порядка», сбежал из эвакуируемой в Туапсе семинарии, остриг волосы, побрился и, изображая эпилептика, пробрался до Тамани якобы с намерением переправиться в Крым, а оттуда — в родную Одессу.
Любопытно, что немец поверил всему, кроме одного: зачем русские эвакуируют семинарию, если видят в попах пособников врага? Тут уж Петя сделал «рывок сапера» по принципу пан или пропал.
— Так ведь они, антихристы, большевики то есть, чего умыслили, господин комендант. Они ж в ту семинарию партийцев послали учиться, а к его преосвященству ректору комиссара приставили.
— Нихт ферштанд! Зашем?
— Э, тут хитрость. Они ведь как себе мыслят? Они как рассуждают? Вот, мол, вы, господин комендант, захотите вроде бы к русским подластиться через бога. И велите церковь открыть. А пастыря-то нет! Вот они вам своего партийного попа и подсунут. Ферштейн? Да немцы-то не дураки. Это уж, как Бог свят, верно.
— Я-я… — все еще обдумывая сказанное, поддакнул комендант. Он встал со стула, хлопнул ладонью по столу и решительно отрубил:
— Гут. Эс ист рихтих. — И, обращаясь к Кондрюку, смирно стоявшему в темном уголке хаты, велел: — Делайте его совсем поп. — И брезгливым движением кисти руки выпроводил посетителей за дверь.
Только свернув за угол в боковую улицу, затененную пыльными густыми акациями, Кондрюк заржал. Не захохотал, а заржал, до срыва голоса, до слез.
— А чтоб тебя, черта голомордого, — с трудом выругался, отсмеявшись.
— Не реки словес богопротивных, яко же и над слугою господним не надругайся, раб божий.
— Да иди ты…
— Иду, иду, сын мой. С молитвою и благословением твоим, радетель мой.
Все это Петро говорил тем же гнусавым тенорком, с каким-то отрешенно-ликующим выражением лица, бесшумно ступая по глубокой дорожной пыли невесть откуда взявшейся семенящей походкой.
Кондрюк даже остановился, приотстал, изумленно проводив взглядом новоявленного священника, покачал головой, догнал, тронул за локоть, серьезно сказал:
— Пошутковал и годи. А то, паря, перебор получится. Он, немец, хоть и не все понял, но ведь он, понимаешь, как машина: будет ходить, что-то делать, а слова твои в голове ворочать, как жернова. И, попомни мои слова, он еще придет к тебе переспрашивать, что значит то или другое слово в твоей трескотне. Ты, в общем, не очень-то.
— Да я, вроде, и так не очень. Вы уж не гневайтесь, господин староста. Я ведь служитель во храме, а в мирских делах не искушен. Сохрани вас Господь.
— Ты, говорю тебе вполне сурьезно, брось придуряться-то. Вон перед бабками с амвона и актерствуй. А мне с тобой о деле надо потолковать.
— Злобствуете, господин староста. А сие грех великий. Ибо злобствовать — значит Бога гневить. А Господь наш праведный и так во гневе и скорби пребывает от безбожия и неверия нашего.
Кондрюк остановился, каленой ярости глазами окинул Петра, плюнул в пыль с таким выдохом, будто выстрелил:
— Будь ты неладен! Насмешки строишь?
— Не плюй и не беснуйся, — вдруг тихим спокойным голосом остановил-его Петр. — Во-первых, мы с тобой по станице идем, тут все ставни и заборы глаза и уши имеют. А во-вторых, — он обезоруживающе улыбнулся, — надо же мне, Костя, тренироваться, язык набить. Сам понимаешь: немец — одно дело, а явлюсь я перед верующими в ризе, с крестом и паникадилом, да по неопытности загну не про Бога, а про его матушку. Господи, прости мою душу грешную и не введи в искушение.
Последние слова Петя прогнусавил, закатив глаза и осеняя себя крестным знамением. Кондрюк внимательно посмотрел на него и… не засмеялся.
Не буду пересказывать слова самого Петра, как он провел церковную службу, потому что не очень верю в такую небывальщину. Наверное, нарочно выдумал, чтобы за анекдотом спрятать трудности и опасность своей работы. Один раз, правда, обронил он и серьезную фразу, по которой и могу я по-настоящему судить о его тамошнем положении.
Как-то после возвращения из очередной операции, когда мы отдыхали на нашей лесной базе, Петро затеял очередной рассказ о своей «культовой деятельности».
— Было это, братцы мои, под пасху.
— Это когда же, зимой, что ли?
— Фи, какой безбожный народ. Пасха нынче поздняя. Стало быть — в последнее воскресенье апреля она и была. А я, как водится, после вербного воскресенья, сиречь за неделю до пасхи, поехал по прихожанам. Спасибо, дьячок надоумил. Если бы не он да церковный староста, которых ко мне приставил Кондрюк, и дня бы я не прослужил в той церкви. Умные мужики, и уж дело церковное — от зубов у них отскакивает.
— Стало быть, без подсказок не обошлось?
— Если бы подсказки. На суфляже всю дорогу!
Петя отчаянно покрутил головой, чуть помрачнел, потом опять вскинулся. Была у него такая особенность: если учует, что братве плохо, тошно на душе, он тут же начинает какую-то байку, вроде из своей жизни. И всегда себя выставляет в самом смешном и невыгодном свете. Так, не знаючи, можно подумать: вот как весело, шутя и дурачась, прожил человек жизнь. Везет же людям! Но пусть так позволяет себе думать тот, кто не знал Жадченко…
— Так вот, — сразу переключился Петро. — После вербного воскресенья заходит ко мне в алтарь дьячок, ну, допустим, Василий. Заходит и смотрит на меня довольно плутовским взглядом. «Отец Петр, — говорит, — а ведь надо бы приход объехать. Где дите покрестить, где хату освятить. А то так и пищу божью освященной водицей окропить». Смотрю на него и еще не улавливаю, куда клонит. Видит он мою полную тупость и рубит напрямик: «Святым духом да бабкиными просвирками не прокормишься, хоть ты и одинокий. А у нас семьи, да кое-что и в камыши приходится подкидывать». (Это он намекал на партизан, что в плавнях базировались.) — «Так что ты предлагаешь? Побираться?» — «Эх, отец Петр. Ну какой ты пастырь божий? Все сельские священники испокон века так делают. Твое дело души спасать. А уж что там прихожане на храм пожертвуют, так то, батюшка, не твое, а их дело. Так-то. Уразумел? А коли уразумел, так вели завтра отцу Семену… тьфу, будь ты неладен! Ввел-таки в грех! Семке-конюху вели кобыленку в бричку запрячь, да и с богом — по приходу. А нынче сходи у коменданта энтот ихний аусвайс или какую там бумагу выправи, чтоб не задерживали вас на хуторах».
Послушался я доброго совета. Верно. Дал мне комендант пропуск — жаль, потерял при особых обстоятельствах, а то показал бы: мудрая и точная бумага. Да бог с ней. На другой день чуть свет будит меня Семен, зевает, чешется во всех местах, мычит: «Пора, батюшка, ехать. Путь неблизкий».
Вышел я на двор. Благодать! Весна. Солнышко играет. Безоблачно. Тепло. Пичуги какие-то щебечут. Умылся я. Пошарил на полочке — ничего съедобного не оказалось. Попил воды. И тут вспомнил, что надо же причиндалы захватить: и освященную воду, и кропило, и крест, и ладонку. На всякий случай сунул в походную свою сумку и епитрахиль — а вдруг кто исповедоваться захочет. Ну, понятно, походную ризу, рясу. Нашелся и походный алтарчик. В общем, снарядился. Влез в бричку — там Семен соломы набросал. Мягко. И тулуп. «Зачем, — говорю, — тулуп?» — «Дык ить оно ишо не лето!» — «Ага. Тогда трогай». — «Нет. Егория надо. Икону». — «Да что нам тот Егорий?» — «Не гневи Бога, батюшка. Нынче к народу без Егория Победоносца — и не кажись. Народ — он нашей победы ждет и за победу молится. А ты: на что? Без Егория и ехать не хочу!»
Пришлось брать темноликого Георгия Победоносца. Древняя икона. Бабки сказывали, что икону ту сам полковник Савва Белый, первым шагнув из казацкой чайки на таманский берег, нес на вытянутых руках, яко священную хоругвь, а осенив иконою новую землю, обернулся к войску и тою же иконою перекрестил широко, степенно, истово и воззвал к святому с молитвою о покровительстве и помощи. В общем, икона знаменитая.
Ну, поехали мы. Солнышко пригревает, уютно в соломе на тулупе лежать, так в сон и клонит. Однако ж смотреть надо по сторонам. А посмотреть есть на что. Фрицы вовсю стараются — оборонительные линии сооружают, пушчонки устанавливают, аэродром полевой расчищают, грузовики с пехотой снуют, самоходочки ерзают.
— Так ты что, — спрашивает кто-то, — паству святить поехал или на разведку?
— А ты сам соображай, — многозначительно подморгнул Жадченко. Это была его манера: когда пошел рассказ с юмором, с выдумкой, иногда с явной небылицей, — тут уж серьезного слова от него не жди. Фантазия у него была богатая, говорил гладко и складно и нередко в таких случаях по принципу: хотите верьте, хотите нет. И тут уж с серьезным вопросом к нему не суйся.
— Да. Ну, въехали мы в какой-то хуторок. Живут там не то рыбаки, не то крестьяне. А может, и те и другие. Семен говорит: «Обряжайся, батюшка. А я при тебе в псаломщиках буду». — «Хорош, — говорю, — псаломщик. От тебя конюшный дух и ладаном не забьешь». — «Не боись, — говорит, — сойдет. Они тут и не к таким духам привычные. Особливо, когда камки на берег набьет, а в ей полно дохлой рыбы. Вот это, я тебе скажу, благовоние. А ты — конюшня. Готов, батюшка? Ну так с Богом».
Петро скрутил самокрутку (папирос не любил), до всхлипа затянулся, картинно закатил глаза:
— Братцы мои, что ж это было? Вот где поминал я Господа Бога во всех мыслимых и немыслимых ипостасях. Этот Семен, сукин сын, врывался в хату, размашисто крестился на какой-то угол, потом выискивал хозяйку, грабастал пятерней соломенные и смоляные вихры на детских головешках, орал откуда-то взявшимся протодьяконским басищем: «Нехристями небось растут? То-то. Господь и карает за грехи наши. Готовь, баба, шаплык. Отец Петр враз окрестит. А углы-то в хате не освящены? Поди нечистые ночами в трубу-то воют. Эх, люди! В грехах погрязли». Хватает, подлец, меня за широченные рукава подрясника и тащит на середину хаты. Хрипит в ухо: «Кропи, батюшка. Да не сумлевайся, прямо из махотки». И сует мне в руки горшок с водой. Я пытаюсь разлепить губы, чтоб сказать, что вода-то освященная — в бричке. Но он не дает опомниться: «Кропи скорей. А то зараз огольцов надо крестить. Вишь, воды в шаплык налили уж. Да кропи, говорю! Махай веником и приговаривай, а я сам псалмы-то петь буду».
Стал я махать кропилом во все стороны, а рот никак не раскрою. Зато Семен, паразит, ревет общественным бугаем и незаметно разворачивает меня во все стороны.
Потом подтащил меня к широкой низенькой кадке, которую называл шаплыком, шепнул в ухо: «Крестом орудуй!», а сам сгреб ближайшего белобрысого, ловко очистил его от ситцевой одежки и булькнул в кадку с водой. Малец взвыл, но Семен перекрыл его ревом: «И нарекается раб божий… Эй, мать! Как нарекла-то?» — «Прошей…» — «И нарекается раб божий Прокофием. Целуй крест у батюшки. Вот так. И чеши. А где чернявый? Мать, где чернявый?»
Чернявого выволокли из-под кровати. Он молчал, брыкался и кусался. Но Семен не отступил. И когда пацан последний раз цапнул его за палец, а он взревел: «И нарекается раб божий… ой-ой, стервец, Степаном», я, так и не опомнившись, кинулся вон из хаты и стал затравленно искать, где же бричка. Но там, где она должна была стоять, сейчас колыхалась пестрая, но не шумная толпа женщин. Ну, думаю, все. Сейчас они меня освятят. Признаюсь, братцы, погано мне стало, как в немецкой вошебойке. Что делать? Куда податься? А тут Семен вываливается из хаты и следом хозяйка, чуть не в голос кричит: «Та куды ж вы, батюшка? А крашенки? А сальце? Та хоть и не пасочка, а хлибець освятить, батюшка!» Семен за меня распоряжается: «Ладно. Тащи сюды. Ось на сырно. Та не жадюй. Давай сюды усе сало!»
На столе выросла горка яиц, да еще и раскрашенных луковой шелухой, добрый шмат сала килограмма на три, пара здоровенных вяленых судаков, кусок самодельного балыка, связка сушеной таранки и прочая неслыханная в наше время снедь.
А Семен опять над ухом: «Кропи, батюшка, и крестом осеняй. Ну!»
Петр снял пилотку, поскреб в голове и, словно не замечая, что бойцы кругом стонут и корчатся от смеха, горестно вздохнул:
— Нет, вы ж вникнете, братцы. Обстановочка, а? Я уже ничего не вижу. Мелькают бабы перед глазами, шматки сала, глечики со сметаной, рыбицы, какие-то горшки. И странно: я как мельница обеими руками размахиваю, бормочу какую-то несусветицу, а Семен успевает что-то реветь по ритуалу, наводить порядок среди женщин, сортировать продукты на дощатом столе да еще и что-то пробовать из глечиков и стеклянных баллонов.
— Ну ясное дело. Он же и за дьякона, и за псаломщика. Конечно, глотка, поди, сохнет, — прокомментировал кто-то из бойцов.
— То-то, что сохнет. Чтоб она у него совсем высохла! Короче, где-то к полудню управились мы в том хуторе. Хоть и был я на грани изнеможения, но усмотрел неладное в Семене: отхлебнул из очередного глечика, дунул в собственные прокуренные усы, поводил глазами по столу, схватил деревянную чурку, на которую барабульку нанизывают, так он ту чурку — клац-клац! — и разгрыз, собака.
— Ишь ты, — позавидовал тот же боец. — Зубы, стало быть, добрые. Мне бы такие. А то, вишь ты, на Семашхо, под Туапсе, мне чертов «эдельвейс» прикладом половину вышиб. Хорошо, пока в армии, — на кашах. А приду домой? Женка добрый сахарный мосолок подложит, а у меня — тю-тю!
— Да заткнись ты, беззубая тарара. Лишь бы у тебя главный зуб был! И не мешай!
— Во-во! Я и подумал: с чего это он дубовые чурки крошит зубами. Потом вижу: он сало режет обратной стороной ножа. Кинулся я к глечику, хлебнул и… все понял. Вино. Замечательное домашнее вино. Там в каждом дворе, виноградники. Так что вино в любом доме есть.
— Эх, сейчас бы, да сюда бы, да нам бы, — завздыхал старый партизан из нашей группы.
— Не причитай, дядя, — весело остановил его молодой боец. — Вот-вот выковыряем отсюда фрица, вернешься ты в родимые Гостагаи, там твоя Одарка уже небось заквасила бочку доброго портвейну.
Партизан с сожалением посмотрел на бойца, вздохнул:
— Не обижайся, парень, но все ж таки… дурак ты.
— Ну, знаешь, дядя! — налился гневом боец.
— Не прыгай, хлопчик. Во-первых, я тебе не дядя, а ты мне не племянник. И не Одарка меня ждет в Гостагаях, а колхоз, которым я руководил. А Одарка моя, как ты говоришь, в действительности директор школы Зинаида Максимовна, сейчас учительствует где-то во Фрунзе. И еще портвейн в бочках не квасят.
Молодой боец залился краской стыда и не знал, куда деть глаза. Наступила неловкая тишина.
— А вот домашнего винца я бы выпил. Ох, и выпил бы, — вдруг весело воскликнул партизан и дурашливо помотал головой.
Петро тут же включился:
— Вот и я говорю: Семен того домашнего напробовался так, что я еле доволок его до брички, которая оказалась почти доверху заваленной какими-то кошелками, корзинками, кузовками, коробочками, сумками и просто набросанной вяленой рыбой, кусками желтого сала. И даже кто-то приволок и взгромоздил на бричку тыкву размером с две бычьи головы…
— Заливаешь! — прервал кто-то из бойцов.
— Ничуть. Шоб мне не дали вторую порцию махорки — с две головы.
— Да чего там, — спокойно вмешался партизан. — Бывает и поболе. Чего там. Не перебивайте. Давай дале.
— Ну вот. Сложил я Семена на бричку, считай, что по частям. Здоровый чертяка, Господи прости. Тьфу! Привык.
Бойцы хохотнули и тут же потребовали продолжать рассказ.
— Понимаете, братцы. Он же, паразит, вроде разборного стал: руки и голову уложу на бричку, все остальное висит сбоку. Пока ноги и то место, откуда они растут, взволоку на бричку, а он уже руками в землю упирается и норовит на молодой травке попастись — языком ее ловит и зубами клацает.
— Да будет тебе, — постанывая от смеха, попросил кто-то из бойцов. — Ты давай дальше, как ты свои колядки закончил?
— В том-то и дело, что без этих мелких деталей дальше будет непонятно. В общем, с помощью двух бойких молодиц, которые чуть, играючи, и меня не кинули в бричку, загрузил я Семена. А он чего-то вырывается и орет про какие-то яйца. Ну, думаю, мало ли что мужику в такой кондиции может примерещиться. Может, вспомнил те крашеные, что мы святили. Так они, вижу, тут. Виднеются в соломе.
Бойцы, хохоча, наперебой предлагали собственные версии.
— Да нет, братцы. Дело-то обернулось совсем по-другому. Угомонился мой Семен, затих, захрапел. Погоняю я конячку, везу все добытое добро во храм господен.
К станице подъезжаю где-то к пяти вечера. Спешу. У меня же вечерняя служба назначена. Старушки — божьи одуванчики, — небось, уже паперть осаждают. Вкатил я на церковный двор. Этих божьих одуванчиков видимо-невидимо — и ураганом не сдуешь всех.
Остановил я свой экипаж, лихо на землю спрыгнул, а они все, как подсолнухи, в мою сторону поворотились и хором ахнули: «Ба-а-тюшка!»
Моя резвая коняга с перепугу как рванет, оглобли — хрясть! Бричка на бок — кувырк! Вся поклажа — покотом. И из всей этой кутерьмы вдруг вздымается какое-то чудище: то ли медведь, то ли горилла. Солома пучками и на башке, и на руках, и на всей, с позволения сказать, фигуре. И хрипит, паразит, что-то невнятное и несуразное. Пригляделся я, а он весь в яичных скорлупках.
Старушечки мои затихли. И в этой зловещей тишине разобрал я, что он хрипит: «Я ж тебе толковал, батюшка, шо там в соломе сырые куриные яйца спрятаны. Ведра два. А ты меня мордой в тую яешню. Тьфу! Чтоб тебя черти такой яешней накормили, прости Господи, олух царя небесного!» — «Так что ж ты не предупредил?» — ничего умнее не придумал я спросить. «Упредить? А вот я посмотрел бы, как ты упредил, если бы те бабы, шо ты на меня напустил, стали бы трамбовать тобой солому с яйцами».
Бойцы снова покатывались от смеха. Петро выпросил у кого-то докурить и печально оглядел хохочущих товарищей:
— Ну чего ржете, жеребцы? Я ведь предупреждал вас, что история не веселая, а совсем даже наоборот. Вот помолчите, слушайте дальше. Да. Смотрю я на Семена и толком еще не дотумкаю, что и как. И тут слышу — сзади, в паперти, дрожащий такой старушечий голосок: «Анчихрист…» А другой уже погромче: «Нечистый!» И тут как взорвалось: «Сатана!» «Господи прости! Помилуй нас грешных, не введи в искушение!» «Чур-чур-чур!» И мимо меня вся эта вопящая паства ринулась с церковного двора врассыпную.
Осталась на паперти стойкая команда под водительством пяти-шести бесстрашных бородачей. Так надо же: Семен во всем своем непотребном естестве, размахивая косматыми от налипшей соломы ручищами, кидается к этой кучке и хрипит: «Куды ж вы, мать вашу, Господи прости! Какой же я анчихрист? Чи вам повылазило? Я ж Семен!»
Тут, понятное дело, не устояли и бородатые лейб-гвардейцы. Короче: разогнали мы паству. Семена я усмирил тем, что, не сотворив и крестного знамения, огрел его кнутом через всю спину. Обменялись мы с ним парой цитат из священного писания, подвел я его к окну, глянул он на свое отражение в стеклах и, верите, братцы, заплакал. Потом кинулся к бочке с дождевой водой, что стояла под угловым водостоком, и нырнул туда головой. Да почти до пояса. Я — к нему. Пропадет, думаю. Оттаскиваю его, а он брыкается. «А иди ты, батюшка, к чертям собачьим. А то я тебя сейчас отмаслособорую».
В общем, к ночи все-таки очистил себя от соломы. Сели мы и призадумались, как дальше быть. Ежели «божьи одуванчики» так напугались, что больше не придут, комендант башку открутит, как пить дать. А мне эта операция вообще не к спеху, а в тот момент, прямо скажу, совсем не ко времени: и на пристани, и еще кое-где дела были. Что делать? Кинулись мы с Семеном искать церковного старосту и дьячка. А те, как на грех, тоже за пожертвованиями отправились. Сошлись мы на паперти, сели рядком, курим, думаем. Вижу вдруг — из темноты возникает один из тех бородатых лейб-гвардейцев. Остановился перед нами, на добрую суковатую палку оперся. «Табак смолите, богохульники? — спрашивает сурово. — Кумедии строите? Бога гневите?» — «Да что вы, отец», — вскочил я с паперти, кинулся к деду. «А ты не суетись… Тоже мне — батюшка. Ни благочестия в тебе, ни благочиния. Вертопрах, а не отец святой».
Я, братцы, похолодел. Вот, думаю, парень, и каюк твоему отцу Петру, а то и тебе самому. Стою, онемел и одеревенел. А дед на меня в упор вызверился. «Ну, — говорит, — признавайся: дело делаешь или жульничаешь? Да не бреши, бо священник из тебя — как из кизяка бомба. Мы со стариками давно это видим. А нонешний выкидон довел нас до самой что ни на есть точки. А ну, говори!»
Петро обвел всех страдальческим взглядом:
— Что тут делать, братцы? Попытался я было поюлить. Дед гаркнул: «Не темни! А то к Брехту поволоку. С тобой старый человек как с человеком разговаривает. Вот и сказывай!» Ну, я и решился. «Верно, — говорю, — дедуня. Не священник я. Но даю слово, что и не жулик. А больше мне не положено говорить, а тебе спрашивать». Постоял он, потупившись, подумал, поднял голову, шумно выдохнул: «А ведь, пожалуй, не брешешь. Ну тогда слушай, чего делать-то, как выкручиваться».
— Ишь ты! И чего ж придумал старый? Выкрутились? — заинтересованно спросил партизан.
— Выкрутились! Да еще и с блеском.
Все это Петя рассказывал по частям, в разное время и в разных обстоятельствах. Не рассказывал он только о том, как вычертил схему Таманского порта, спешно сооруженного немцами, как досконально пересчитал наличие плавсредств врага, как считал, расшифровывал и фиксировал все гитлеровские части, проходившие по Тамани морскими, вдоль берега, и сухопутными путями. Не рассказывал, конечно, и о том, как засекли его рацию, как пришлось ее прятать у белобородого старца, как удалось добыть у Брехта целую книгу чистых бланков разных немецких документов, поджечь комендатуру и уйти по ближайшим тылам противника через немецкую оборону на свою базу. Нет, об этом он не рассказывал.
Все это было кратко, сухо и скучно изложено в его рапорте — отчете на имя командира группы.
На этот раз в управлении НКВД нашей тройке — мне, Леонтьеву и Пономареву — поставили необычную задачу. Впрочем, задачи перед чекистами всегда необычные. Потому-то и в выполнении их стандарта не было. Каждая операция — целое творческое произведение и, как правило, импровизация. Но чтобы доставить нас на Малую землю, понятно, специально никто не стал бы снаряжать судно. Их и так не хватало, а каждый рейс на Мысхако — это, как правило, новые потери. А тут как раз — оказия. Надо было доставить на плацдарм продукты. И мы пошли на одном из сейнеров вроде бы в качестве грузчиков. Загрузили суденышки в Геленджике. Помню, молодые девчата по сходням бегом таскали на спинах брезентовые, сшитые из плащ-палаток мешки с таким духовитым хлебом, что у нас, в те дни никогда не наедавшихся досыта, не только рты слюной заливало, но и животы судорогой сводило. Остальные продукты тоже были упакованы в такие мешки. Потом уже на горьком опыте узнал я, зачем это делалось. А сразу, было, даже ворчал: зачем, мол, консервы из ящиков перекладывать в мешки?
Где-то часам к десяти вечера закончили погрузку, получили добро и вышли в море. Команда из четырех человек занималась своим делом, а мы сидели в трюмике, грелись от мотора, подремывали. Надо сказать, что в те дни безопасными были (более или менее) какие-то три-четыре километра от причала до поворота за Тонкий мыс. А дальше начиналась свистопляска: шныряли немецкие катера, самоходные бронебаржи, рыскала гитлеровская подлодка, жужжали в темном небе румынские ночные бомбардировщики. А на траверзе Новороссийска по волнам ножами метались прожекторные лучи, и попадись под этот нож — враз поднимутся вокруг корабля фонтаны взрывов. Короче говоря: немцы плотно блокировали Малую землю и полагали, что задушат ее защитников этой блокадой. Но наши корабли все равно шли, гибли от бомб, снарядов и торпед, но шли, прорывались, доставляли грузы на блокированный плацдарм.
…Торопливо тарахтел двигатель, слегка покачивался сейнер на волне. Леонтьев поднялся по трапику на палубу. Оттуда в трюм пролился поток холодного февральского воздуха, стало зябко.
— Приготовились, братцы, — сказал Леонтьев, вернувшись назад. — Мы на траверзе мыса Кадош. Скоро маяк. Может, поднимемся на палубу?
— Да ведь там брызги, — говорю, — намокнем, застынем, пропадем к черту. На причале не сможем и продукты сгрузить.
— А тут чего сидеть, как в баночке, — возразил Пономарев. — Начнут обстрел или торпедой долбанут — не успеешь и выскочить.
— Тоже верно, — поддержал Леонтьев, — но главное в том, что нам надо оклематься на холоде, на всякий пожарный случай. Да и, считаю, лучше видеть, чем прислушиваться, даже когда тебя бомбят.
Не хотелось, по правде говоря, покидать теплый и такой уютный трюм. Но ребята настояли. Пришлось выбираться на промозглую палубу. Море было сравнительно спокойное, небо чистое, и в зыбкой воде плясали и дергались звезды. По дальней кромке Цемесской бухты зловеще-красными всполохами сверкали выстрелы и взрывы, доносился непрерывный рокот канонады — там бессменно работала война.
Кораблик наш лихорадочно стучал мотором, отважно резал волну, поднимая невысокий бурун перед носом и оставляя за кормой кипящий пенный след. Капитан виднелся на мостике в присущей морякам ненарочитой позе несокрушимого монумента: широко расставив крепкие ноги и обеими руками прижимая к глазам морской бинокль, через который он неспешно, настойчиво и придирчиво выискивал, где бы лучше причалить.
Миновав маяк, мы рванули прямо на мигавший нам с берега огонек. И тут на воду упал острый и слепящий луч немецкого берегового прожектора, резанул по всей бухте, на миг ослепил нас, пронесся дальше и тут же метнулся обратно и вонзился в наш кораблик. Сейчас же ударил второй луч из района цемкарьеров на Сахарной Головке.
Вот тут и начался, как сказал капитан, фокстрот с бубенцами. Катер метнулся влево, но лучи не выпустили его из своего перекрестья. Через пару минут прямо по курсу взметнулся столб воды, следом такой же взрыв снаряда ударил за кормой — немцы начали пристрелку. Катер круто развернулся и стал забирать мористее. Мы успели уйти метров на сто, не более, как в том месте, где пенный след катера делал прямой угол на повороте, взметнулся фонтан взрывов — не меньше пяти снарядов.
— Ишь, собаки! — кричит Пономарев. — Не жалеют боеприпасов.
— А чего им жалеть? Навезли небось горы, забили склады артснабжения, а тут чуют: не сегодня завтра их вышибут из Новороссийска. Так чего ж беречь — лучше выстрелять боезапас.
Тем временем катер, почти ложась бортом на воду, развернулся и понесся к тому месту, где только что рванул немецкий залп. И опять букет водяных столбов с ревом поднялся на оставленном нами месте.
Продолжая свои непредсказуемые зигзаги, катер тем временем приближался к плацдарму. Ослепленные и, чего греха таить, растерянные, мы вцепились в леера и не очень-то соображали, что командует капитан, что делает катер и куда лупит матрос из установленного на палубе крупнокалиберного пулемета.
— Приготовиться к швартовке! — донеслось до нас с мостика.
Леонтьев тут же подхватил:
— А ну, братва, товсь! Пожалуй, придется прыгать в воду. Не дрейфить.
Мы малость опамятовались, увидели метрах в пятидесяти затопленную баржу, служившую пристанью у малоземельцев. И тут нечеловечески завопил матрос:
— Берегись!
Я испуганно крутанулся к нему и увидел, как из темноты на нас стремительно надвигается какая-то черная громада, в которую упирается пучок трассирующих пуль из нашего корабельного пулемета.
— Все за борт! — рявкнул в мегафон капитан.
Но исполнить команду никто не успел: немецкая самоходная бронебаржа рубанула нас в борт острым стальным носом и, как топором, расколола нашу скорлупку надвое. Удар выбросил меня в море, и я, окунувшись с головой, забарахтался в студеной воде. Слышу: вроде Леонтьев где-то поблизости кричит:
— Плыви к берегу! К берегу давай!
Кое-как огляделся, увидел берег и давай загребать. Чую — коченеет тело. Вот-вот судорогой всего сведет. Гребу, колочу руками и ногами. Ударился обо что-то головой, ткнулся больно коленом, чуть не захлебнулся. Пригляделся — затонувшая баржа и сверху кто-то кинул канат, кричит: «Хватай, браток!» Уцепился я за канат мертвой хваткой. Двое матросов выволокли меня наверх. Я зубами стучу, сказать ничего не могу, только показываю в море, бормочу: «Там, там…» — а больше ничего. Ну, матросы, видать, привычные и без слов поняли.
— Что, — спрашивают, — еще есть живые?
— Ага-а! — отвечаю.
— Ладно. Ползи по сходням, на берегу обсушат, а мы тут твоих дружков на закидушку половим.
С баржи на берег широкий помост — сходни. Пополз я самым натуральным и постыдным образом. На берегу подхватили меня под руки, втащили в какую-то-землянку, сняли мокрую одежду, кинулись растирать сухой шинелью.
— Спиртом бы, — кто-то робко предложил.
— Спирт ему вовнутрь потребуется. А сейчас и сукна хватит.
Тут втаскивают в землянку Леонтьева, за ним — Пономарева и матроса-пулеметчика с катера. Принялись ребята и за них. Я уж начал орать и вырываться — так, черти, натерли шинелью, будто кипятком окатили.
А Леонтьев, чуть очухался, сразу рваться начал:
— Мешки там. Плавают. Я видел. Надо доставать, пока не потонули и не унесло.
— Какие еще к чертям мешки? — чертыхнулся моряк.
Тут и я спохватился.
— Братцы! — кричу. — Скорей дайте мне стаканчик спирту и пустите в море. Хлеб там! Продукты! Боеприпасы! В брезентовых мешках. Скорей, братцы!
Ну, я ж говорю, матросы здесь дежурили, видавшие виды. Сразу сообразили, в чем дело. Смотрю капитан-лейтенант вскочил, гаркнул:
— Аврал, братва! Весь спирт сюда! Кашин, Кондратенко, снять одежду! По кружке спирту! В воду марш!
И хлопцы как на пляж вылетели. А капитан-лейтенант ко мне:
— Лейтенант! Ты и впрямь можешь сейчас в воду?
— Могу.
— Тогда на пей спирток, и марш. А то хлопцы еще не сориентируются.
Глотнул я обжигающей жидкости, похватал воздух ртом, выскочил по сходням на баржу и ухнул в воду.
Показалось, будто в кипяток. Но потом вздохнул, поплыл. Вижу — горбится что-то на воде. Подплыл — мешок. Схватил я его за гузырь и буксирую к барже. Тут матросы уже наготове, выхватили груз баграми и меня зовут.
— Нет, — говорю, — самое во вкус вошел. Купаюсь в свое удовольствие. — Храбрюсь, а сам толком не пойму: голый я или одетый. Однако опять в море. Навстречу матросы еще два мешка буксируют.
Приволок я еще мешок и чувствую — все вокруг замельтешило, поплыло мимо. Хриплю:
— Ловите меня, братцы…
Выволокли меня матросы, ведут берегом, схватив под руки, в кубрик. Вижу: навстречу вылетает Пономарев в чем мать родила, мимо нас бегом и слышу — сзади бултых! Прыгнул в море. Втащили меня матросы в землянку (они ее кубриком называли), отдали двум хлопцам, орудовавшим в одних тельняшках, а сами — опять на причал. Растерли меня ребята, дали глоток спирта, и провалился я в темноту.
Проснулся, не пойму: где, что? Тепло, сухо, коптилка горит, какие-то полосатые черти печь, сделанную из трофейной бензобочки, шуруют — топят докрасна. А на мне навалены шинель, бушлат, еще какая-то одежда. Повернул голову — вижу рядом на нарах Пономарев и Леонтьев под таким же ворохом одежек храпят вовсю.
Хотел я рывком, по-молодецки вскочить, да не тут-то было: всего как огнем обожгло, а к спине будто доска привязана. И не хотел, а застонал. Кто-то из моряков оглянулся, подошел:
— Что, лейтенант, очнулся? Как чувствуешь после вчерашнего?
— Ох, — говорю, — проехался по мне кто-то. Бедная шкура и спина…
— Ясно, браток. Пройдет. Здесь, на Малой земле, все пройдет. А ты молодец, брат! Да и кореши твои — геройские ребята. Пятнадцать мешков выловили.
— А остальные?
Матрос развел руками.
— Больше не удалось. Немец шестиствольным накрыл. Мы двух братишек потеряли… Да… А хлебушек подсушили чуток и отправили в части. Ребята едят, подшучивают: «Солоноват. Должно от бабьих слез, что по нас проливают».
А я вспомнил девчат на геленджикском причале, что бегом носили мешки на катер, и… у самого слезы навернулись. Моряк заметил, положил руку на грудь, улыбнулся:
— Да не расстраивайся ты, браток. Тут у нас все время так. А вам еще здорово повезло: другие не только ничего не довезут, но и сами идут к рыбам. А вы — вон какие удачливые…
От этих его слов стало мне еще хуже. Укрылся я с головой, молча слезы поглотал, опять заснул.
Такой-то он был хлеб насущный у малоземельцев.
…Война продолжалась. Впереди еще был Эльтиген, Керчь и Севастополь, Курская Дуга, Днепр, Сандомирский плацдарм, Кенигсберг и Будапешт, Эльба и Берлин. Впереди еще была половина войны, трудная и героическая дорога к окончательной победе.
Суровые испытания предстояли еще Советской Армии и всему нашему народу, а вместе с народом и армией славному отряду воинов-чекистов.
МОЛОДОСТЬ ТРЕВОЖНАЯ МОЯ
Петляет приморская дорога, ныряет под колеса автомобиля и словно в страхе убегает назад, вертко прячется за склоны ущелий, где-то далеко позади сверкает крутой дугою поворота, чтобы снова юркнуть за скалу, в зеленую тьму лесов. Горы тоже движутся, словно хотят обогнать, перегородить дорогу, упасть поперек и не пустить, не пустить дальше, в глубь благодатных бухт и заливов.
Но вот мимо окон проносятся здания санаториев и домов отдыха, городки пионерских лагерей, остался позади розоводымный Новороссийск, сверкнула солнцем Кабардинка. Со склонов к дороге сбегают стройные ряды виноградников, выстраивается каре фруктовых садов. Вот и Геленджик — солнечный город под вечной охраной круто нависшего хребта. Всегда нарядный и праздничный, он особенно хорош тихим вечером.
Когда стоишь на набережной, дышишь изумительным воздухом моря, ловишь веселую пляску огоньков на воде, начинает оживать прошлое…
Я смотрю на крепких широкоплечих парней, затеявших веселую возню на приморской аллее, на точеные фигурки девушек, слышу дробь их каблучков по асфальту, веселый молодой смех, а перед глазами другие парни и девушки — из нашего отдельного взвода. И вижу я, как сорок с лишним лет назад здесь, у обгорелого причала, стояли ряды санитарных носилок, как, балансируя на развалинах, санитары уносили эти кричащие, стонущие, хрипящие и молящие носилки, как бежала рядом с ними санинструктор Лида Слободина и, прыгая с камня на камень, уговаривала санитаров быть осторожнее. И чудится, будто вновь я лежу на том разбитом и сожженном пирсе, чувствую, как давит в спину попавший под носилки обломок кирпича, а надо мной высоко в утреннем небе гудит двужалая фашистская «рама» вся в белых хризантемах зенитных разрывов. И сидит рядом золотоволосая Люба Каминкер, ласково гладит мою вздрагивающую руку и щебечет, щебечет, щебечет…
А над всем этим гремит и перекатывается песня: зовут и плачут женские голоса, печально повествуют о чем-то теноры и баритоны, грозно рокочут басы…
Давно это было, но память сердца умирает только вместе с ним.
Николая Часовского в роте недолюбливали. Большой рыхлый парень с нежной девичьей кожей на щеках и светлым золотистым пушком на верхней губе, с голубыми глазами, в которых постоянно светилась затаенная грусть, с полными красными губами, всегда слегка влажными и чувственно вздрагивающими, Часовский раздражал своей медлительностью и постоянной упрямой склонностью сачкануть.
Преображался Часовский только тогда, когда ему удавалось, улизнув от старшины, пробраться во взвод связи.
И странное дело: были в роте парни видные собой, отчаянно храбрые, веселые, сильные и даже знаменитые, но никому из них девушки-связистки не дарили стольких чудесных минут внимания, участия и нежности. Нередко эта девичья ласка здорово отдавала обыкновеннои бабьей жалостью, но и это не отпугивало Николая.
Дивизия после боев под Новороссийском была отведена на отдых. В ущелье близ Геленджика под высокими стройными буками и кряжистыми дубами уютно окопались солдатские и офицерские землянки. Поодаль круглосуточно бодрствовала штабная, а рядом с ней — заветная для всех истосковавшихся солдат землянка связистов. И не только потому, что связь называли нервной системой части, а, скорее всего, потому, что оттуда доносились чуть хрипловатые, надорванные, но все же девичьи голоса. Чем-то родным, далеким и напрочь забытым веяло с той стороны. Фиолетовыми безлунными ночами смутно и заманчиво белели там силуэты девушек, по зову могучего векового инстинкта вышедших перед сном поведать звездам свои сокровенные мечты.
Что вы знаете о девушках-фронтовичках? О бесстрашных партизанках, разведчицах и санитарках вы все читали и слышали. Известно вам и о девушках-пилотах, зенитчицах, регулировщицах. Но знаете ли вы, как изумительно ласкова рука девушки, когда она шутливо проведет ею по твоей щеке и совсем необидно посмеется:
— Теленок. Как есть, теленок еще. А пушок на бороде — ну прямо цыплячий.
И — засмеется. Звонко. Заливисто.
И это — на войне: там, где часто, ох как часто, этот ручейковый смех прерывался грохотом взрывов и в последний раз вспыхивал предсмертным всхлипом.
А вы знаете, какие они смешные, эти девушки? Я помню санинструктора Катюшу, которая перед высадкой в Крым проворнее кошки взобралась по столбу к самому потолку хаты и, закрыв глаза, оглушительно визжала только оттого, что в углу за печкой пробежала мышь. А через несколько дней под Эльтигеном, черная от гари и боли, сжимая левой рукой обрубок оторванной ноги, правой била из автомата в упор в разинутые пасти орущих озверелых фашистов. Била, пока нас, тяжело раненных, две другие девушки оттаскивали в неглубокий эльтигенский тыл, била до тех пор, пока в той воронке, где она корчилась, не раздался взрыв немецкой гранаты.
И девушки, ее подруги, оттащив нас в так называемое укрытие (потому что там не было укрытия), эти девушки, накрыв нас своими телами от очередного минометного налета немцев, вздрагивали и глотали слезы не от страха, а от горя за свою Катюшку. И все равно шептали в самое ухо раненому, сухими горячими губами щекоча кожу: «Не бойся, миленький. Тебя не тронет. С тебя довольно».
Если бы вы знали, как страшно раненому под огнем…
Милые, воистину самоотверженные фронтовые подруги. Видели бы вы их, когда после десятидневного сумасшедшего марша с боями от Керченского перешейка до бирюзовой Балаклавской бухты эти почерневшие от солнца и побелевшие от крымской пыли девушки на первом большом привале увидели речку. Тут ничто не действовало: ни близость передовой, ни предостерегающий окрик старшины, ни ставшая привычной воинская дисциплина. Вода! Купаться! Бедные девчушки, как они мечтали об этой воде. И только врожденное, навеки записанное в клетках памяти девичье целомудрие заставляло их бежать вдоль берега в глубь зарослей ивняка и кизила. А потом они вышли свежие, ослепительно красивые, в выстиранных полинялых гимнастерках, в вымытых брезентовых сапожках. Они шли вдоль бивуака, и солдаты торопливо, как напроказившие мальчишки, натягивали гимнастерки на свое несвежее белье, запихивали в сапоги недосушенные грязные портянки и по-восточному поджимали под себя натруженные босые ноги.
Восемнадцатилетний Миша Бунчук смотрел на девушек такими восторженно сияющими глазами и такое восхищение было написано на его чумазой круглой рожице, что надменно-царственное шествие девушек сломалось, девчата прыснули и вдруг со всех ног метнулись к своим связистам, колдовавшим над катушками полевого телефонного кабеля.
Но это было потом. Когда-нибудь я расскажу об этом. Расскажу, как в глухом карпатском селении три девушки-санинструкторы целые сутки отбивались от бродячей фашистской банды, защищая домик, в котором лежали два десятка тяжело раненных наших бойцов. Расскажу об импровизированном конкурсе красоты наших фронтовичек с польскими девушками в местечке Бельско-Бяла. Но об этом когда-нибудь позже…
А пока наша дивизия стояла на отдыхе, точнее, переформировании под Геленджиком.
Каждый вечер, слегка косолапя своими огромными ногами, Николай Часовский направлялся к заветной землянке. Его сразу же окружала щебечущая стайка связисток. И почти до отбоя оттуда неслись веселые голоса, струился и звенел девичий смех, баском всхохатывал Николай. Мы не знали, о чем там говорят, не могли понять, чем покорил Николай девушек, но злы были на него лютой и неукротимой злобой отвергнутых, но собственнически ревнивых поклонников. Хотя справедливости ради надо сказать, никто нашего поклонения не отвергал по той простой причине, что даже не знал о нем.
Тем не менее мы лютовали. Строили фантастические планы страшной мести Часовскому. Спрашивается, за что? Сулили бедным девчатам кары небесные! И опять-таки: за что? И словно сговорившись, никто не хотел сделать простого и естественного шага — пойти и вместе с Николаем посидеть у девушек.
Мы ходили, как перепуганные коты, с надутыми щеками и вытаращенными глазами. Это, видимо, должно было изображать гнев. Но Часовский, глядя на наши устрашающие физиономии, не только не пугался, но как-то неопределенно хмыкал и растягивал до ушей свои красные губы. Он даже ныть стал меньше и вроде не так ленился.
Мы завидовали. Мрачно, мстительно и безнадежно завидовали. Мы — это трое, как нас называли, несмышленышей. Трое ребят, разными путями и способами досрочно попавшие в действующую армию. Мишка Бунчук — харьковчанин. Что называется, щирый украинец шестнадцати лет от роду. Большеглазый, круглолицый, со смешной картофелиной вместо носа и большим щербатым ртом, Мишка уже одним своим появлением заставлял окружающих улыбаться. Как он уверял, эта его способность и помогла ему попасть в дивизию. Умел он быть безоблачным, как июньское небо над Кубанью, и с ним хорошо было молчать. Только это тоже надоедает.
Другое дело мой земляк Шура Марченко. Спокойный, неулыбчивый, рассудительный, он был до того разговорчив, что если не было собеседника, говорил сам с собой. Монотонно, глуховато и почти не умолкая, Шура звучал весь световой день. Когда он пришел в роту и был определен в наше отделение, мы с Мишкой сначала подумали, что он немножко сумасшедший. А потом — ничего, привыкли. И даже скучали, когда Шура был в наряде или на задании. А с ним было уютно везде, как с разведенным самоваром: этак поет-посвистывает потихоньку и легкий пар пускает. Благодать!
Ну, я — это я. Если со стороны посмотреть, то так оно, наверное, и было, как сказала Ленка-хохотушка: соломинка в лаптях. Длинный, тощий, на тонюсеньких ножках, обутых в большие солдатские сапоги. Говорят, что у меня было всегда поэтически грустное лицо. Но я в это не очень верю, потому что, хоть это тоже говорила Леночка Маркина, но она неправильно сказала. Потому что я читал ей свои стихи, и мне было не поэтически грустно, а чего-то стыдно. Я чуть не до беспамятства смущался, что читаю стихи девушке, что эта девушка сидит рядом, ласково смотрит мне в лицо и жадно ловит нескладные мои вирши. В конце концов я стал бояться Лены.
Она, вероятно, понимала это и придумала себе развлечение: завидев меня, Лена, не давая мне спрятаться, радостно бежала навстречу, обнимала и звонко чмокала в щеку, приговаривая: «Любовь ты моя, ненаглядная, соломинка моя в лапотках, душа моя на ходулях». И, любуясь, как мгновенно наливаюсь я бурачным цветом, добавляла: «Теленочек. Молочненький».
И, живо, крутанувшись на каблуках, убегала, оставив меня догорать и остывать где-нибудь на виду у всего взвода, если не роты.
Странная она была, эта Лена Маркина. До изнеможения могла хохотать буквально оттого, что ей пальчик покажут. Смех был ее постоянным состоянием. Но Леночка умела и сердиться. Это случалось тогда, когда кто-то слишком прямолинейно пытался ухаживать за ней. Ругалась она чудовищно. Даже мы, несмышленыши, считавшие виртуозную ругань признаком большей воинской доблести, чем медаль или орден, даже мы слегка терялись и трусили, когда слышался Леночкин каскад. Высказавшись столь энергично, Маркина пряталась в землянку или в кусты и долго навзрыд плакала там, мешая слезы с причитаниями. Причитания у нее тоже были своеобразные. «Дура, дура набитая, — доносилось сквозь всхлипы. — Ему бы по морде… и все. А то ишь, идиотка, чего наболтала. Ажник язык распух. Бе-бе-бе! — дразнила она кого-то. — Балда».
Потом она появлялась с красными припухшими глазами, боязливо и как-то жалко поглядывала на нас. Виновник ее вспышки стоял поодаль, опустив голову и обреченно ожидая приговора. Приговор оглашался тут же.
«Балда!» — неожиданно весело говорила Леночка, встряхивая льняной головкой, обводила всех присутствующих взглядом своих круглых зеленоватых глаз в абажуре из огромных соломенных ресниц и, остановив его на мне, умиротворенно тянула: «Теле-о-нок».
Мне было стыдно за нас, за нее, и я был рад, что она снова «возвращалась в себя», становилась той бесшабашной сорвиголовой, которая вызывала наше поклонение и зависть. Мы уважали и оберегали Леночку, как берегут в жизни самый хрупкий и самый дорогой подарок.
Леночка любила петь. Если она не смеялась, — значит, пела. У нее был тоненький, чуть дрожащий голосок и очень хороший музыкальный слух. Общительная и веселая, Лена редко пела в одиночку. Обычно, если к ней не присоединялись, она, не переставая петь, тормошила подруг, подталкивала, подмигивала и вообще так гримасничала, что связистки, смеясь, начинали подтягивать.
Репертуар этих самодеятельных концертов был не очень разнообразен. Как говорят, «за основу» брались популярные в то время «Огонек», «Синий платочек», «Землянка». Иногда программа дополнялась народными песнями и, конечно же, той самой «рябиной», которой никак нельзя к «дубу перебраться». Обращение с песней было бережное, уважительное. Ее брали в дорогу, как верную спутницу, и в бой, как письма любимой, как запасной боекомплект. Песню вручали как подарок.
Выступавшие перед нами сочинские и новороссийские артисты подарили сразу ставшую любимой песенку «Что ты, Вася, приуныл», а фронтовая концертная группа Ансамбля песни и пляски Советской Армии привезла и передала нам на вооружение невероятно родную, словно именно для нас написанную песню «Вечер на рейде».
Нет ничего фантастичнее, чем слухи, возникающие в отведенных в тыл частях. Почему-то все считают своим долгом высказать предположение о причине «незаслуженного отдыха». Каждый настолько убежден в необходимости на войне только воевать, что всякая попытка оторвать его от этого обязательного занятия может быть оправдана в его глазах только с точки зрения высшей стратегии. Вообще-то говоря, это почти всегда так и было. Но солдатские варианты стратегических решений все-таки поражали фантастикой.
Версии и слухи в нашей дивизии начали рождаться еще в то время, когда в одну из сентябрьских ночей она втянула в себя щупальца своих батальонов и рот и глухо покатилась от Новороссийска назад, в тыл, к Геленджику. Это было совершенно невероятно. Еще вчера рядом, по ту сторону хребта, в районе Неберджаевки грохотала канонада и надсадно гудели самолеты, а мы пополняли боезапас, заучивали ориентиры в глубине обороны немцев, отрабатывали систему сигнализации и связи. В общем, со дня на день готовились перейти в наступление. И вдруг — в тыл.
Шура Марченко сразу определил, что движемся прямиком в Иран. Миша Бунчук принял эту версию как официальную и по фронтовому правилу «передал товарищу». Когда за Кабардинкой мы свернули с шоссе и двинулись по направлению к морю, версия, обойдя всю колонну, вернулась к нам, но уже в таком обстоятельно разработанном виде, что даже Шура Марченко не узнал свое детище и радостно забубнил:
— Ну вот. А я что говорил? Я ж так и знал. Правда, про пароход не догадался. Хотя, чего уж тут догадываться? Как же ты иначе туда попадешь? Только морем. Самый ближний путь.
Иранское настроение обосновалось у нас настолько прочно, что Николай Часовский начал извлекать из своей цепкой памяти и выдавать нам вечерами стихи Есенина из его персидского цикла. Там, под синим черноморским небом, я впервые услышал «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Я спросил сегодня у менялы…», «Голубая родина Фирдуси…» Позже я много раз перечитывал Есенина, слушал его стихи в исполнении артистов. Но ни разу они не поднимались до такого гипнотического очарования, какого достигали в те сентябрьские ночи 1943 года.
В полночь прилетали одиночные немецкие самолеты, и рядом с нами, на Солнцедаре, кто-то бил в рельс, затем начиналась суматоха, перекликались высокие голоса зенитчиц, и, наконец, батарея открывала свирепую пальбу.
Несколько раз мы поднимались по тревоге и в полной темноте выходили к морю, грузились в ожидавшие нас катера и мотоботы, отходили метров на сто от берега, вываливались в воду и, тихонько чертыхаясь, брели обратно к берегу. Мокрые возвращались в свои шалаши и землянки, развешивали сушиться обмундирование и, прижавшись спинами друг к другу, до утра согревались теплотою тел, потому что костров разжигать было нельзя. Маскировка. Все это воспринималось как подтверждение иранской версии, дескать, надо же приучить нас к морю.
Днем отогревались и отсыпались. Завтрак, обед, ужин. Лекции. Концерт. Чистка оружия. Вот и все наши дневные занятия, которые допускала строжайшая маскировка.
Мы так привыкли к ночным морским купаниям, что возомнили себя водоплавающими и песню «На рейде» восприняли как свой гимн.
Мы еще не знали, что будет сине-серебряная лунная ночь с 9 на 10 сентября, когда, погрузив пушки, минометы и кухни, мы и сами прилипнем к нагретым за день палубам сейнеров, и над голубой Геленджикской бухтой в мерцающей тишине поплывет грустная-грустная эта красивая песня: «Прощай, любимый город». Не знали, что в три часа ночи мы будем в открытом море, и что ровно в три, когда луна нырнет в волны, наши корабли круто развернутся и самым полным ринутся в клокочущую ураганным огнем Цемесскую бухту.
Мы еще не знали, кто из нас останется навсегда лежать на горячей от разрывов новороссийской земле, кто в предсмертной судороге коченеющими руками задушит гитлеровского пулеметчика, преграждающего нам дорогу к цемзаводу «Пролетарий», не знали, кого, прикрытого только красным крестом милосердия, на траверзе Кабардинки разбомбит немецкий воздушный пират. Мы этого не знали. Нам еще грезились розы, тихо бегущие по полям, снилась прекрасная Лала и изводила ревность к Николаю Часовскому.
Самый сокрушительный удар Часовский нанес нам в тот вечер, когда замкомбат по политчасти принес в роту баян и стал искать музыкантов. И тут своей утиной походкой подошел к нему Николай, печально вздохнул и попросил:
— Разрешите попробовать, товарищ капитан.
— Попробуйте, Часовский.
Но ему и не надо было пробовать. Он умел играть. Он играл виртуозно, артистически. Он был музыкантом-профессионалом. Когда над Широкой щелью густо всплыли аккорды «Березки», почудилось, будто солнце вернулось из-за горизонта и застыло, очарованное. И еще мы почувствовали, что мы — несмышленыши, мелочь, шантрапа по сравнению с Часовским.
Мы не услышали, как пришли и тихо расположились вокруг нас девушки. Мы не возмутились, когда увидели, что Лена села на бревно рядом с Николаем. Озаренная своей внутренней радостью, она ласкала и согревала ею и нас.
Сначала пели девушки, и Николай аккомпанировал им. Потом пели все. Без репетиций. Без дирижера. Без нот. И с каждой минутой песни звучали увереннее, сочнее. Хор становился все больше и больше. Подходили и подхватывали песню ребята из других рот и батальонов и, бережно поддерживая и обнимая бархатом своих голосов серебристые ручейки девичьего запева, поднимали чудесную мелодию на трепетные крылья своей мечты, своей тоски, своей надежды.
Прощай, любимый город, Уходим нынче в море…Да-да. Пели именно «нынче», а не «завтра». И действительно нынче ушли в море, в десант. Но тогда, вечером, мы еще не знали об этом, как не знали, что у самых стен новороссийской электростанции на полуслове умолкнет Шура Марченко, что заплаканная Лена Маркина будет целовать в бескровные губы раненого Часовского и просить:
— Так напиши, Коленька, напиши мне из госпиталя. Я буду ждать. Я упрямая, Коля, я дождусь…
Не знали, что всего на один день не хватит Леночке упрямства, и прижмется она нежной девичьей щекой к родной крымской земле, и застынет навеки в ее зеленоватых глазах немой безответный вопрос: «Ну зачем?»
Я расскажу еще об этом… Впрочем, не знаю, расскажу ли. Но уверен: надо, обязательно надо рассказать.
Потому что невыносимо тяжела трагедия войны, лавиной обрушенная на наше поколение, языками пожарищ опалившая наши сердца, слезами матерей и невест омывшая их и бросившая эти каленые пульсирующие комки в круговерть борьбы и страданий, любви и ненависти, бессмертия и подвигов.
Потому что трагическое и прекрасное идут всегда рядом и нет нерасторжимей этих уз. Потому что нет ничего прекраснее, чем истинно трагическое, и нет ничего трагичнее, чем истинно прекрасное.
Скачут и играют в прятки морские блики на лучистых улицах Геленджика. Они целуют откровенную наготу платанов и бронзовые плечи купальщиц. Идут эти милые стройные девушки-чайки по солнечным дорожкам и не прислушиваются к дробному стуку своих каблучков по асфальту. А пусть прислушиваются, пусть прислушиваются… И услышат за далью лет тупой перестук пулеметных очередей, и увидят, как девушки, одетые в выцветшие армейские гимнастерки и юбчонки, в широченные кирзовые сапоги, просто… воевали. Здесь воевали.
И всюду, где шла война, где плясал шабаш смерти, где шла схватка за жизнь.
НА МАРШЕ
Слякоть, слякоть, слякоть. Не то дождь, не то туман, холодный и бесконечный, не хватает сил терпеть. Мерзнешь так, что перед глазами все дрожит и расплывается. А идти надо. И негде, и нельзя укрыться. И некогда развести костер — спешим. Спешим, петляем по мокрой чавкающей дороге в ущелье, к серым горбам вершин, с которых сквозь седые бороды тумана доносится непрерывный треск, гул и грохот, как в хорошо налаженном кузнечном цехе. Идет работа. Не прекращается ни днем ни ночью. Работает фронт. Тяжко, неукротимо, смертельно гвоздит, гвоздит и гвоздит.
Старшина Матвийчук движется, как заводная матрешка: под вставшей коробом мокрой плащ-палаткой что-то непрерывно урчит и ухает, внизу мерно и безостановочно складываются и раздвигаются грязно-серые ножницы-ноги. Иногда ножницы разъезжаются слишком широко. Тогда мокро-зеленая матрешка усиливает звучание, и мы вяло хохочем над очередной забористой руладой старшины. И вновь мерное раскачивание и дрожь, дрожь в каждой клеточке уставшего и остывшего тела, дрожь, которую не унять даже в движении, в нескончаемом изнурительном походе.
Вяло скользят взгляды по склонам пятнистых ущелий, утыканным сиротливыми черными метелками деревьев и темными пятнами мокрых слезящихся кустиков. Иногда за поворотом выплывут из тумана косые ржаво-серые ребра скалистых изломов, по которым сбегает противная, молочно-грязная вода, словно из прорвавшейся канализации. И снова кустики, метелки, жухлые пятна и вихляющая дорога.
Неожиданно склоны ущелья круто нырнули в стороны и расплылись в тумане. Впереди стали возникать какие-то постройки — серые деревянные домишки, Крытые черной пожелобившейся дранью.
— А ну, соколики-орлики! Подтяни-ись, душегубы-грызуны!.. — реванула вдруг «матрешка». Мокрый капюшон ее горбом откинулся за спину и, словно страусенок из яйца, из брезентового короба вылупилась рыжеусая фиолетовая физиономия на длинной землистой шее.
Костя Нелипа, мирно спавший на ходу, поддерживаемый с двух сторон мною и Ваней Лапиным, спросонья вырвался из наших рук и насел на шагавшего впереди Бублика. Бросок был так стремителен, что даже слоноподобный Бублик чуть не упал. Но тут же восстановил равновесие, успев сграбастать своей лапищей цыплячью Костину шею. Не меняя шага, он по-отечески высморкал Костю, вытер ему под носом рукавом забрызганной грязью стеганки и, не оборачиваясь, вернул Нелипу нам, слезящегося, замурзанного, со вспухшим носом. Костя шумно шмыгнул, придирчиво ощупал свою «сливу», приноровившись, зашагал в ногу с нами, так и не проронив ни звука с момента своего опереточного пробуждения. Это была вечная Костина беда, всегда он попадался на старшинскую уловку. Еще в дни нашего краткосрочного, но до оскомины надоевшего пребывания в запасном полку старшина любил подшутить над нами.
Началось с главной команды «Становись». Перед нашими вытянутыми физиономиями и застывшими в пружинистой готовности фигурами плыла устрашающая туша старшины. Это уже после, много дней спустя, мы рассмотрели нашего грозного бога и удивились, какой он маленький, щупленький и прямо-таки невзрачный. Но тогда… О! Тогда! Могучий повелитель приближался ко мне. И вдруг замер на месте. Брови его полезли куда-то вверх под лихо сдвинутую на бок пилотку.
— Эт-то шо ж такое? — зловеще уставился он на меня. — В коники играть собрался? А може, тебе сосочку?
Все плыло у меня перед глазами. Из-под мышек потекли противно щекочущие ручейки пота. Я не мог сообразить, в чем дело. А Матвийчук уже надвигался на меня, заслоняя весь белый свет:
— Цацки? Скляночки? А ну…
Его скрюченные пальцы метнулись к моему лицу, что-то царапнуло нос, ущипнуло уши и под взмахом той же руки жалобно звякнуло где-то внизу, позади старшины.
— Шоб я больше не видав… — так ласково добавило «начальство», что у меня как-то противно, тупо и глухо стукнулись колени.
Только тут я вспомнил, что хотел произвести на начальство впечатление и, становясь в строй, воровато, из рукава, достал и сунул на нос очки, которые мне временно были прописаны еще в пятом классе. Стало стыдно до беспамятства. А старшина, уже отходя от меня, сказал такие убеждающе-крепкие слова, что я и по сей день побаиваюсь надевать очки.
Вечером я все-таки пробрался на место построения и отыскал осколки стекол. Одно было почти целое. Я хранил его всю войну, как память о детстве, и еще… еще для друзей.
Не знал старшина, что осколком тех самых «цацек» тот самый сосунок, глотая слезы и шмыгая носом, будет выжигать на белой сосновой пирамидке по миллиметру, по букве: «Старшина Матвийчук Кузьма Васильевич. 1915—1943 г.» Если бы знал, то, будучи немножко суеверным, наверное, растоптал бы тогда даже осколки.
А вообще Кузьма Васильевич был человек добрый, и его шутки нас как-то не обижали.
Особенно нравилась ему одна шутка. Матвийчук проводил с нами занятия по уставам. В ненастную погоду весь взвод втискивался в так называемую классную комнату — небольшую, с одним окошком клетушку в деревянном сарайчике рядом с кухней. От кухонных печей в ней было тепло и вкусно пахло. Вечно голодные, отощавшие и мокрые, мы поплотнее усаживались на досках, положенных на толстые чурки дров, угревались, исходили паром и подремывали под монотонный бубнящий речитатив Матвийчука. Старшина, читая устав, и сам начинал судорожно бороться с зевотой или вдруг замирал на полуслове, все ниже и ниже склонял голову и, наконец, вздергивал ею, подозрительно пробегал цепкими маленькими глазками по нашим умиротворенным лицам, трубно сморкался, кашлял, ерзал на своем бревне, сучил ногами и, словно что-то вспомнив, левой рукой отодвигал устав, а правую поднимал и предостерегающе грозил нам пальцем. Убедившись, что его поняли, Матвийчук негромкой скороговоркой командовал:
— Всем, кто меня видит и слышит, сидеть. Остальным… — И вдруг рявкал во весь голос: — Встать!
В комнатке начиналось что-то невообразимое: те, кто чутко дремал, вскакивали, роняя шаткие скамейки, и тех, кто не смог проснуться сразу. Доски и спящие валились кому-то на ноги. Кто взревывал от боли, кто — с перепугу. А неудачник Костя Нелипа почему-то всегда оказывался в лапах у Назара Бублика. Затем, помятый и повизгивающий, он замирал по стойке «смирно», тараща на старшину свои невинно-голубые глаза, залитые слезами.
Среди хохота и криков брыкающихся тел Матвийчук один оставался воплощением суровой осуждающей скорби. Он стоял молча. И столько было в его крохотных глазах, в изломе бесцветных бровей, в рыжих задиристых усах, во всей его маленькой гневной фигурке презрительного осуждения, что мы затихали. В помещении старшина никогда не ругался. Насладившись наступившей тишиной, он шумно вздыхал и, наконец, негромко цедил:
— Душегубы. Жуки-навозники. Садись!
И, уже усаживаясь, вспоминал:
— Нелипа! Почему вы всегда в слезах просыпаетесь? Вам шо, мабуть, маменька снятся? Чи може пампушечки з маком?
Сверкая раскаленным носом, Костя беззвучно раскачивался на тонких ножках, как былиночка под ветром.
— Вытрите слезки, солдат Нелипа, и садитесь, — великодушно разрешал Матвийчук.
Костя несколько раз обращался к старшине с просьбой, чтобы его поставили в строю подальше от Бублика. Матвийчук выслушивал просьбу и отечески журил Костю:
— Солдат Нелипа, вы ж не дома, нельзя ж так капризничать. Вот если бы вы не спали на занятиях, вы б уже знали, шо существует в армии такая штука — боевой расчет. И по тому самому боевому расчету вы и поставлены в строю на свое место. И менять его нельзя. И не вздумайте плакать, солдат Нелипа.
Сгорающий от стыда Костя кидался куда глаза глядят и попадал в мягкие объятия Назара.
— Кось-кось-кось, — ласково звал его Бублик. — Дай вытру слезки. Ты не брыкайся, ты же ребеночек еще.
— А ты жеребец, бугай, слон, — вырываясь, орал Костя. — Пусти, буйвол. Пусти, а то…
— А то шо? — заинтересованно спрашивал Назар. — Бить будешь? Та не надо, Кося, я ж добрый.
Он и в самом деле был добрый. Когда им приходилось вместе ходить в наряд, Назар умудрялся выстоять один обе смены, охраняя пост и блаженно похрапывающего Костю, укутанного в громадную бубликову шинель. Сам Назар дрог в одной стеганке.
После того как однажды в Костин котелок повар плеснул маловато перлового супа и оказавшийся рядом Назар молча придвинул свой полупудовый кулак к самому поварскому носу, после того случая Костя всегда отходил от кухни с полным котелком.
Наша с Ваней Лапиным попытка вступиться за Костину независимость окончилась неудачей.
— Тю, лопухи! — удивился Бублик. — Так вин же ж совсем дитё.
Мы отошли, так и не поняв, шутил он или говорил всерьез. Только через два месяца я узнал, что это всерьез. В стонущую нашу госпитальную палатку внесли чье-то грузное, но странно укороченное всхлипывающее тело. Раненый был без сознания. Нянечка, заботливо и осторожно укутав его одеялом, присела у моей койки, шепотом рассказала:
— Леночка нашла. За Армянским хутором, почти на передовой. Обе ноги перебитые, а он ползет да еще солдатика бессознательного тащит. Лена солдатика перевязала — рана не опасная, только крови много потерял, ослаб. А этому и говорит: «Давай на шинель заползай, тащить буду. А то, говорит, больно тяжел ты, не подниму». А он — ни в какую. Хлопчика, говорит, спасай. Он же, говорит, еще дитё. И не дался. Давай, говорит, волоки сначала его, а я отдохну, тебя подожду.
Вернулась Лена за ним аж к ночи. С санитаром. Открыл глаза. Спасла, спрашивает, хлопчика?
Ну, принесли они его. А у него — гангрена. Сразу на стол и — нету ног. Без наркоза. В бреду все кричал! «Держись, Коська, терпи, хлопчик!» Думали, это он себя подбадривает, а глянули в красноармейскую книжку — никакой он не Костя, а Назар Бублик. А того солдатика, кажись, Костей зовут. Гляну пойду!
К утру Назар умер.
Маршевая рота втягивалась на станцию Индюк. Где-то в голове колонны сверкнула кроваво-черная вспышка взрыва. Упруго ударило горячим комом воздуха. Впереди кто-то закричал и смолк. Солдаты сомкнули ряды, напружинились, заспешили… Туда, где сокрушительно и безостановочно ухал молот и судорожно дергалась борода тумана у самого гребня горы Индюк.
Спешили в бой. Надо было остановить гитлеровцев, рвавшихся к Туапсе. Остановить во что бы то ни стало.
В ЭФИРЕ — «БЫСТРАЯ»
Кавалерийская земля! Тебя не полонить,
Хоть и бомбежкой распахать, пехотой боронить,
Чужое знамя над тобой, чужая речь в дому,
Но знает ворог: никогда не сдашься ты ему.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века
Стояла грудью боевой у русского древка…
Илья Сельвинский, 1943…С выцветшей старой фотографии смотрит миловидная улыбающаяся девушка, подстриженная под мальчишку. Стоит, чуть склонившись к подруге, на самом краешке снимка, запечатлевшего группу комсомольцев — выпускников Краснодарской школы ФЗУ при заводе измерительных приборов. И дата: 23 августа 1941 года. В этот день Нина Маковейчук простилась со своими друзьями — фэзэушниками и уехала в Тбилиси на курсы радистов.
По родной земле с ревом и грохотом катилась война. Серо-зеленая смертельная плесень ползла на восток. По всему фронту от Баренцева до Черного моря бушевали яростные бои. Неприступными твердынями на пути врага встали Москва, Ленинград, Севастополь. Потом пришли первые победы: разгром гитлеровцев под Москвой, освобождение Тихвина и Ростова. В смертельных схватках перекипела суровая зима сорок первого года, и зализавший раны враг ринулся вновь в наступление. Уже запылали города и села на изюм-барвенковском направлении, пламя пожарищ заполыхало над донскими степями; истекая кровью, советские войска мужественно отстаивали последние рубежи в Крыму…
В эти дни окончившая спецшколу военная радистка Нина Маковейчук получила документы на имя Ольги Войтенко и приготовилась к заброске в Крым, в тыл фашистских войск.
Откомандированная в распоряжение штаба армии, Ольга Войтенко прибыла в Темрюк. Нет, не заехала по пути в родную станицу Ивановскую Красноармейского района, где жили ее отец и мать. Некогда было, война.
А война подступила уже к Темрюку. Через город шли и шли отступающие из Крыма советские войска. На окраинах спешно возводились оборонительные сооружения, занимали оборону моряки и пехотинцы. В городе сгущалась гнетущая и тревожная предгрозовая атмосфера. Началась эвакуация учреждений и населения, районный комитет партии напряженно работал над организацией подполья, в плавнях создавались опорные базы будущих партизанских отрядов. В ожидании большой беды притихли оставшиеся жители.
Поздним июльским вечером в квартиру Виктора Васильевича Байдика постучались двое военных. Хозяин пригласил их в дом. Через полчаса посетители тепло простились с хозяином, а еще через час у Байдика появилась новая квартирантка Оля Войтенко. Веселая, общительная девушка пришлась по душе и Виктору Васильевичу, и его жене. Оля быстро перезнакомилась со всеми домочадцами и, не откладывая в долгий ящик, тут же занялась своим «приданым»: настроила и опробовала рацию. Опробовала и… разочаровалась: приема не было. Выбежала во двор, осмотрелась. Плохо! Вся улица заткана проводами — и телефон, и радио, и электричество. Стало ясно: тут в эфир не пробиться. Как ни хорошо здесь, а придется квартиру менять.
…Денис Трофимович Бондаренко и его жена Ольга Корнеевна только собрались пообедать, когда во двор вошли военный и милиционер. Денис Трофимович не особенно удивился гостям и радушно пригласил их к столу. Однако разговор, который завели пришедшие, заставил его забыть и о своих обязанностях квартального, и об аппетите.
— В общем, такое дело, — начал милиционер. — Есть для вас, Денис Трофимович, особое и секретное задание. Задание советского командования. И партийное задание.
— Так я же не… — начал было Бондаренко, беспокойно шевельнувшись на стуле.
— Знаем, Денис Трофимович, знаем, — прервал его милиционер. — И знаем, что в душе вы наш человек. Советский. Хоть и беспартийный, а большевик. А для этого дела именно такой человек и нужен.
Денис Трофимович вздохнул, выразительно указал жене глазами на дверь: выйди, мол.
— И не подумаю! — отрезала Ольга Корнеевна. — Муж и жена — одна сатана. Секрет — так на двоих. Ишь чего захотел: без жены он тут шушукаться станет?
— Да нет же, Ольга Корнеевна, — остановил милиционер начавшую было закипать хозяйку. — Дело такое, что без вас не обойтись.
— То-то, что не обойтись. Известное дело, — успокоилась Ольга Корнеевна. — А то мужики заварят кашу, а баба расхлебывай.
— Кашу, хозяюшка, не мы заварили, а расхлебывать придется всем, — вставил слово военный.
— В общем, речь пойдет о прибавлении в вашем семействе, — опять начал милиционер.
Хозяйка покраснела, выпрямилась, глаза вспыхнули гневом. Но сказать она ничего не успела.
— Хотим к вам родственницу поселить, — поспешил милиционер.
Хозяева растерянно переглянулись.
— В общем, племянницу вашу. Ольгу.
— Ольгу? — в один голос удивленно спросили хозяева.
— Да откуда она взялась! — изумленно воскликнула Ольга Корнеевна. — Недавно письмо от нее получили, собиралась приехать. Так мы ж ей написали, чтоб не ехала. Неужто не послушала? Ах ты ж, лышенько! Определенно с бусорью девка! Это ж надо — с Дальнего Востока в такую даль майнуть! И понес же ее черт, господи прости! А я еще соседке говорила: а ну как припрется, куда ее денешь? Тут на шее свой шелопай, Шурка, тут война — не сегодня завтра немец нагрянет, а тут еще Ольга явится. А соседка мне и говорит: и ничего не сделаешь — явится, так-таки и примешь, и кормить будешь. И надо ж было так случиться? Да где ж вы ее взяли, люди добрые? И чего ж она прямо к нам не пришла?
Военный, улыбаясь, молча смотрел на нее. Милиционер, все время пытавшийся вставить слово, обрадованно заговорил:
— Вот видите, как все хорошо получается.
— Да чего же тут хорошего? — возмутилась Ольга Корнеевна. — Мы думали со стариком взять в детдоме девочку-сиротку, чтобы дочку воспитать. А теперь куда ж ее возьмешь? Сразу лишний рот прибавился. А время теперь, сами знаете, какое…
— В общем, все ясно, — уже сердито заговорил милиционер, но военный дружески опустил свою руку ему на колено, и милиционер сразу изменил тон.
— В общем, эта племянница — не ваша племянница, а должна быть — как бы ваша.
Хозяева онемели.
— Эта девушка должна тут остаться, в городе. И когда придут немцы, она по радио будет передавать нашему командованию все, что нужно. Понятно?
Денис Трофимович только крякнул, а жена непонимающе затрясла головой.
— Короче, дорогие товарищи, — решительно заговорил военный. — Это наша разведчица, радистка. Мы должны оставить ее у надежных наших людей. Вот ваши местные товарищи и выбрали вас. И люди вы верные, и домик ваш на самой окраине, а то, что соседи знают о вашей племяннице, — прямо-таки совсем хорошо. Теперь остановка за вами. Конечно, дело смертельно опасное, скрывать нечего. Но… Решайте.
…Четырнадцатилетний Шура Бондаренко вернулся домой поздно. Еще бы! В городе столько военной техники, солдат, матросов! Пока с друзьями обежал первый район — и день кончился. Возвращался в потемках. А тут еще этот проклятый фонарик барахлит: или батарейка села, или контакта нет. И есть зверски хочется. Конечно, мать сейчас же шум поднимет — где, мол, пропадал все воскресенье? Не пущу больше, замкну в доме! Ну ничего, пошумит, покормит и опять подобреет. Однако вид надо принять соответствующий: виноватый и кающийся.
Шура открыл дверь, шагнул в освещенную керосиновой лампой комнату. Отец и мать сидели у стола и спокойно беседовали с какой-то девушкой. На стук двери все обернулись.
— А, Шурик! — неожиданно ласково встретила его мать, словно и не заметила, что на стенных ходиках стрелки сходятся уже у двенадцати часов ночи.
— Подойди, сынок, поздоровайся. Это Оля, сестра твоя двоюродная. Племянница наша. Помнишь, что писала нам с Дальнего Востока?
— Помню, — буркнул недовольно Шурик. Девчонок он не любил. Правда, эта уже взрослая, но все равно.
— Здравствуйте, — ни к кому не обращаясь, сказал он и отправился в свой уголок за печью, досадуя в душе, что теперь, наверное, не удастся спокойно сесть за стол и под воркотню матери умять краюху хлеба с вяленым судаком и хрустящими огурцами. «Эх, жизнь», — подумал он про себя и ожесточенно принялся ремонтировать карманный фонарь.
Неожиданно кто-то озорно подтолкнул его в бок. Шурик раздосадованно обернулся. На него в упор смотрели серые смеющиеся глаза Ольги. Девушка задорно подмигнула:
— Что, мастер-ломастер, техника отказала?
Шурик недовольно засопел и отодвинулся.
— А ну дай сюда твою технику, хлопчик, — девушка решительно протянула руку к фонарику.
«Подумаешь, хлопчик! — возмутился про себя Шурик. — А сама куда какая взрослая. Связываться только не хочется ради встречи, а то бы я не посмотрел, что ты гостья. Ишь: «хлопчик»!
Шурик презрительно фыркнул, но фонарик отдал.
— Вот так-то лучше, — удовлетворенно сказала Ольга. — А то сам поди скоро парубком станешь, а на сестру смотришь, как на мировую буржуазию. Совсем невоспитанный кавалер. От такого бирюка девчата на деревья прятаться будут, как воробьи от кота.
Шурик неожиданно прыснул и покосился на гостью. Ольга между тем, не переставая тараторить, ловко и умело орудовала с проводками, контактами, включателем. Захлопнула крышку фонарика, щелкнула кнопкой, и яркий лучик весело метнулся по стенам.
— Вот так-то, парень. Понял?
— Ну и что? Я бы и сам мог. Только не успел.
— А я знаю, что ты сам можешь. Я ж не собираюсь тебя учить. Это я для знакомства. А то ведь ты вон какой серьезный да строгий. Запросто к тебе и не подойдешь. Верно ведь? И так небось хотел отшить нахальную сестрицу, а? Признайся, была такая думка?
— Ну, была, — грубовато, но дружелюбно проворчал Шурик и чуть смущенно зыркнул на Ольгу.
— То-то. Но ты пока не спеши с этим. Может, мы еще друзьями станем.
Шурик неопределенно хмыкнул, забрал у девушки фонарь, пощелкал включателем и неожиданно спросил:
— А сколько вам лет?
— Ай-яй-яй! — шутливо возмутилась Ольга. — А еще кавалер. Неужели ты не знаешь, что девушкам неприлично задавать такой вопрос? Но поскольку ты мой родственник, то можно сделать исключение. Восемнадцать, Шурик, восемнадцать лет. Устраивает это тебя?
— А мне что? — растерялся парнишка. — Я просто так, спросил. А нельзя — так не говорили бы.
— Почему же нельзя? От друзей секретов нет. А я тебе сказала, что мы будем друзьями? Сказала. Значит, считай, что дружбе начало положено. Ну, давай, что ли, руку на дружбу? Кстати, ты радиоприемники умеешь делать? Нет? Ну так завтра я тебе покажу простейшую схему и научу тебя читать ее. А потом попробуем и приемник смастерить. Идет?
— Идет, — улыбнулся Шурик и пожал протянутую руку.
Последние две недели Оля с утра до ночи не разгибаясь работала вместе с соседскими девушками на рытье окопов, блиндажей, противотанковых рвов. Усталая приходила домой, наскоро закусив, как подкошенная валилась в постель и забывалась тяжелым сном. Под утро просыпалась, осторожно настраивала рацию, слушала сводки Советского информбюро. Но и без этого было ясно, как трудно приходилось сейчас нашим воинам. Разворачивалась битва на Волге, гитлеровские полчища с севера хлынули на Кубань и Ставрополье, а здесь, на Тамани, последние защитники покидали крымскую землю, уходили на восток. Только отряд моряков обосновался, казалось, надолго. Матросы заняли оборону и обстоятельно укрепляли ее на самых подступах к городу.
11 августа 1942 года всякая связь Темрюка с Краснодаром и соседним Славянским районом прекратилась. Там уже хозяйничали немцы. 20 августа фашисты обрушились на оборону моряков под станицей Курчанской. Но морской отряд под командованием Белоусова мужественно отразил яростный натиск врага. В засаде, устроенной черноморцами, осталось свыше четырехсот вражеских трупов. Разъяренные гитлеровцы бросили против защитников предмостного укрепления танки, артиллерию и авиацию. И в этом аду белоусовцы продержались до утра, и только получив приказ отойти, взорвали мост и оставили позиции.
22 августа жителей второго района попросили покинуть дома, так как фронт подползал уже к самому городу. Ольга Войтенко вместе с новыми своими подругами Любой Жила, Верой Пучка, Марией и Валентиной Концевыми и Валентиной Эниной, с которыми вместе работала на сооружении обороны, переселилась в центр города.
К вечеру под Темрюком разгорелся бой. Противник бросил против его защитников до дивизии своих солдат, танки, артиллерию и авиацию. Жители с тревогой прислушивались к грохоту боя на восточной окраине города. Все-таки теплилась какая-то надежда: а вдруг чудо?! Вдруг удастся морякам Белоусова остановить врага, не пустить его на таманскую землю? Но чуда не произошло. Слишком уж неравные были силы. К вечеру 23 августа грохот боя стал удаляться в сторону поселка Стрелка и станицы Голубицкой. По тихим чистеньким улицам Темрюка промчались вражеские мотоциклисты, а вслед за ними загрохотали кованые сапоги оккупантов.
Жители второго района бросились по домам. Но было уже поздно — квартиры были ограблены воровливыми завоевателями. Из дома в дом шныряли разгоряченные жадностью гитлеровские мародеры, тащили, били, ломали все, что попадалось под руку. Жителей, выказавших возмущение, согнали во двор бывшей тюрьмы и продержали до темноты, пока не была закончена грабь-операция.
Оля не находила себе места. Нет, не за себя беспокоилась. Она боялась, что гитлеровцы просто случайно смогут обнаружить рацию, и тогда… Она чуть ли не первой бросилась к воротам, когда оккупанты разрешили жителям разойтись по домам. Но тут ее ждал новый удар.
— Хальт! — остановил ее гитлеровец и автоматом оттолкнул в сторону.
— Ты чего толкаешься, черная образина? — закричала Ольга, делая попытку прорваться к воротам.
— Хальт! — опять крикнул фашист и приставил ей к груди ствол автомата.
Тем временем часовые выхватили из толпы еще десятка полтора девушек и женщин и присоединили их к Ольге.
Откуда-то появился плюгавенький переводчик, хрипло прокричал, обращаясь ко всем:
— Тихо, ти-хо! Эти шестнадцать будут заложницами и останутся в тюрьме до утра. Если будет совершено покушение хоть на одного солдата Великой Германии, все заложницы будут расстреляны.
Конвоиры оттеснили заложниц от толпы и повели в камеру. Девушки тоскливо и испуганно оглядывались назад, кому-то махали руками, кому-то кричали прощальные слова, Оля не оглядывалась и не кричала — в толпе никого у нее не было…
Оккупанты устраивались в Темрюке обстоятельно и надолго. Педантично и последовательно вводился «новый порядок»: за связь с партизанами — расстрел; за помощь и содействие коммунистам — расстрел; за сокрытие раненых военнослужащих Красной Армии — расстрел; за большевистскую пропаганду — расстрел; за появление на улицах после установленного часа, за хранение оружия, за прослушивание советских радиопередач — расстрел. По городу вышагивали индюковатые патрули, во дворах рыскали полупьяные полицаи, из зеленых беседок доносилось пиликанье губных гармошек, по улицам с ревом проносились серо-зеленые воинские автомобили, иногда хлопал одиночный выстрел или трещала короткая автоматная очередь — то ли заприметил жадный завоеватель неосторожную курицу и спешил превратить ее в мясо, то ли кто-то из жителей нарушил параграф нового порядка и поплатился за это жизнью.
Денис Трофимович не находил себе места. И было отчего. Мало того, что «новый порядок» душу выворачивал, а тут надо было еще и самому поддерживать его: как же, квартальный! Доверенное лицо оккупантов в закрепленном за ним квартале! Обеспечить выход всех жителей на работы, проследить, чтобы каждый прошел регистрацию в комендатуре и на бирже труда. И чтобы никаких беспорядков! А у самого на квартире — советская разведчица, радистка. И сын такой, что того и гляди беды наделает. И жена донимает — семью кормить нечем. А люди косятся, чураются… Как же! К немцам пошел на службу. Предателем считают. Эх, если бы не задание, плюнул бы на все, пошел бы вместе со всеми завалы расчищать, мусор да развалины убирать. Но нельзя. Приказ есть приказ. Да и девчонке надо помочь. А как ей поможешь?
— Оля, — сказал как-то утром. — Ты бы того, может, не пошла бы на работы? Чего уж там, я отмечу, что была. А у тебя, может, тут свои дела?
— Что вы, дядя Денис! Как же так можно? Нет, я обязательно пойду. Там же все мои подруги — заложницы — и Концевая, и Жила, и Энина. Не выйду, сразу спросят, что, почему да как. Нет, никак нельзя не ходить. Там мое место, рядом со всеми. Выделяться мне ничем нельзя.
И ушла. Целый день ворочала лопатой, таскала носилки, разбирала кирпичи, засыпала воронки от бомб. Так изо дня в день. Работала, перешучивалась с подругами, усталая валилась на землю отдохнуть, хвалила немцев за порядок, ругала Советы, под настроение пела, смеялась, а иной раз ругалась и плакала. Но за всем этим неотступно трепетало ожидание: придут или не придут? Когда? Какие они? И почему их так долго нет?
Это ожидание будило ее среди ночи, заставляло вслушиваться в каждый стук и шорох за окном, босиком выбегать в сени. Но их все не было. Связные, или, как их условно называют, «почтовые ящики», не шли. «Почта» не поступала. Оля терялась в догадках и предположениях: что могло случиться?
В ожидании и тревоге прошел месяц. Оля тайком включала рацию, слушала сводки Совинформбюро. Сводки неутешительные: бои шли под Сталинградом, на перевалах Главного Кавказского хребта и у стен Новороссийска. Враг продолжал теснить наши войска. А она тут сидела в тылу и ничем не могла помочь своим. Она ничего не сделала для того, чтобы помочь нашим, чтобы навредить врагу, чтобы хоть как-то ослабить его удар.
И когда терпение иссякло, Оля решилась.
…Первую передачу она вела с чердака хозяйского дома. И пока, погруженная в хаос голосов, свиста и писка морзянки, лихорадочно выстукивала на ключе точки и тире, бросая их в эфир наудачу — может быть, их выловит из океана звуков тот, кому они адресованы, — пока, вращая ручку верньера, бродила в безбрежном эфире в поисках отзыва на свою передачу, вокруг дома кружил Саша, осторожно поглядывая вдоль улицы: не показался ли непрошеный прохожий. Улица была пуста, только неподалеку, в бывшем дворе МТС, гудели моторы, слышались нерусская речь, смех, пиликала губная гармошка. Там располагался немецкий военный радиоцентр, и Саша с опаской косился на паутину антенн, взметнувшихся в небо. Тревожила мысль: а вдруг там уже засекли передатчик и через пять — десять минут сюда нагрянут гитлеровцы. Саша рисовал в воображении картину схватки: как он бросится под ноги первому фашисту, собьет его, вырвет автомат и, поливая остальных свинцовыми очередями, помчится в степь, чтобы отвлечь карателей на себя. А там, за городом, есть окопы. В них он укроется и будет драться до последнего патрона. Тем временем Оля успеет передать на Большую землю о его подвиге и, захватив рацию, скроется в плавнях.
Саша уже перешел к разработке роли родителей в этом сражении, когда до него долетел условный сигнал: Оля закончила работу, можно оставлять пост. Слегка разочарованный, парнишка вошел в дом. Оля, возбужденная и веселая, сразу бросилась к нему, оттащила в угол, зашептала:
— Все хорошо, Сашок. Теперь к тебе просьба. Ходишь по городу — смотри, где у фашистов штабы, где воинские части расположились. Может, удастся в порт попасть — тоже постарайся запомнить, что там делается. Это очень нужно, понимаешь?
— Понимаю, — буркнул парнишка. — Смотреть-то я могу, а толк из этого какой. — И вдруг заговорил горячо: — Эх, если бы туда наши налетели да шарахнули пару бомбочек! Вот это б да! Нет, тетя Оля, правда! Вы попросите там… наших. Чтоб дали как следует!
— Сашок, как тебе не стыдно! Во-первых, какая я тебе тетя? Я ж твоя двоюродная сестра. А во-вторых, куда бабахнуть-то? Не будут же наши рисковать самолетами из-за какой-нибудь ротной кухни. Нужен настоящий объект, стоящая цель. Понял?
— Понял, тетя… чи той як його, Оля. Будет цель! Я найду! — Саша даже покраснел от решимости.
— Вот и хорошо. Находи. Но, смотри, никому ни-ни.
— Ну, скажете! — возмутился Саша. — Это уж вы напрасно. Не маленький, сам понимаю…
Саша Бондаренко стал помогать Оле в сборе разведывательных данных. Иногда кое-какие сведения сообщал Денис Трофимович. Но его сообщения были слишком редки и неконкретны. Радистке ничего не оставалось, как самой вести разведку. И она по-новому взглянула на город, на происходящие в нем события. Теперь по-настоящему охотно шла на работы, потому что это давало возможность бывать чуть ли не во всех частях города и наблюдать за размещением и передвижением вражеских войск. А после работы спешила домой, мысленно повторяя незнакомые слова и цифры, которые увидела на военных автомобилях, на танках или указателях, которыми гитлеровцы щедро уставили перекрестки и повороты дорог. Хозяйка, мельком взглянув на озабоченное лицо девушки, глубоко вздыхала и настраивала ручную мельницу. И пока Оля посылала в эфир свои группы цифр, хозяйка грохотала на мельнице, старательно заглушая гул умформера и писк морзянки, а Саша зорко охранял подступы к дому.
Наступил вечер, когда Ольге стало ясно, что и она, и семья Бондаренко рискуют своей жизнью не зря. Однажды после захода солнца, когда за Кубанью еще догорал закат, вдруг залаяли вражеские зенитки, укрытые в садах и огородах темрючан, и над городом поплыли розовато-белые комочки разрывов снарядов. Потом из полутьмы угасающего неба вынырнули советские бомбардировщики и, сделав заход, обрушили бомбы на немецкую автобазу и в расположение воинских частей, дислоцированных под городом. Бомбометание было прицельным и предельно экономным: несколько бомб — и над районом налета заполыхали чадные факелы пожаров. Самолеты развернулись и исчезли во мгле ночного неба. Оля радостно сверкала глазами: удар был нанесен по тем объектам, о которых она сообщала.
Потом еще и еще прилетали наши самолеты и, сбросив две-три бомбы, уходили. Зато эти бомбы каждый раз ложились точно в цель. Это не могло не насторожить оккупантов. По улицам городка медленно, словно навозный жук, пополз серый закрытый автомобиль с вращающейся антенной на крыше кузова — военный радиопеленгатор. Теперь Оле приходилось работать под постоянной угрозой засечки и неминуемого провала. Но девушку это не остановило. Регулярно в положенные часы в эфир летели позывные: «Я «Быстрая»! «Я «Быстрая»! Как слышите? Прием!» Уловив привычный пароль, «Быстрая» торопливо отстукивала шифровку, потом чутко вслушивалась в разноголосицу эфира, пока до слуха не доносились условные «ти-ти-та-ти-ти», подтверждающие, что ее сообщение принято. Оля снимала наушники, щелкала выключателем, упаковывала и прятала рацию, прислушивалась, как в соседней комнате рычала и грохотала ручная мельница.
…Наступили холода. Оккупанты стали расселяться по квартирам. Бондаренко с помощью разных уловок удавалось избавляться от «квартирантов», но кто знал, надолго ли это? Однажды вечером Денис Трофимович пришел домой особенно мрачный, тяжело опустился на табурет, позвал Олю:
— Плохо дело, Ольга. Немцы вывесили приказ: всему населению пройти перерегистрацию в комендатуре. Обязательно.
— Ну и что ж такого? Приказ надо выполнять. Что вас беспокоит?
— А то меня беспокоит, что будут отдельно регистрировать местных жителей и отдельно — приезжих. Соображаешь?
— Опять же ничего страшного не вижу, — пожала плечами Оля.
— Не видишь, так увидишь. Приезжих, по всей видимости, будут куда-то отправлять. Чуть ли не в Германию.
Теперь до девушки дошел весь трагический смысл сообщения хозяина. Она задумалась.
— Так что ж делать-то будем? — нарушил молчание Бондаренко.
Оля очнулась от раздумья, решительно и даже бесшабашно тряхнула шелковистыми подстриженными кудряшками:
— А ничего, Денис Трофимович! Пусть будет как будет, а дальше увидим.
— Да чего там увидим! Все соседи знают, что ты — нездешняя. Да и в паспорте у тебя каких только отметок нет…
— Не беда, дядя Денис. Что ж сделаешь, если у вас племянница такая непоседа.
Девушка бодрилась изо всех сил, но тревога заползала в сердце и лихорадкой расплывалась по телу. «А ну как кто-то знает или злобу какую затаил? Скажет двусмысленное слово — и все: потому что немцам нужен только один смысл. Только один, тот, какой они хотят».
На другой день Ольга Войтенко, скрывая тревогу, с беззаботным видом толпилась в очереди в регистратуру. Она перебрасывалась шутками с соседками, поддерживала ничего не значащую болтовню, а внутренне вся напряглась, готовая к самому худшему. И когда протянула чиновнику «свой» паспорт, по спине пробежал мороз, мучительно захотелось оглянуться. Почему-то нарастало ощущение, что кто-то написал у нее на спине, кто она такая. А может быть, просто поставил мелом условный крестик. Воображение настолько захлестнуло девушку, что ей почудилось, будто она даже чувствует, в каком месте стоит этот значок на спине. Оля зябко передернула плечами и подавила желание оглянуться.
А чиновник вяло переворачивал листки паспорта, дотошно прочитывал все отметки о прописке и выписке, потом снова вернулся к первой странице, хмуро глянул на Войтенко:
— Не здешняя, гражданка?
— Господин начальник, я у дяди живу, к родственникам приехала, — попыталась объяснить Оля.
— Приезжая, значит, — не слушая, продолжал чиновник. — В таком разе, гражданка, собирайтесь в эвакуацию. Поедете на Украину.
— Да чего ж мне делать-то на Украине, когда у меня тут родной дядя?! — возразила девушка.
— Следующий! — Чиновник сделал пометку красным карандашом и протянул Оле регистрационный талон, так и не взглянув на нее. К столу протиснулись очередные. Олю оттолкнули, и чиновник уткнулся носом в новый паспорт.
Девушка растерянно оглянулась. Кто-то шепотом посоветовал:
— Иди, иди, девушка. Тут спорить нельзя — сразу в гестапо заберут.
Войтенко глубоко вздохнула, круто повернулась и выскочила на улицу. По дороге домой мучительно искала выход из создавшегося положения. А выход виделся только один: надо, чтобы хозяин попросил не трогать ее как его родственницу. Дома Оля бросилась к Бондаренко:
— Денис Трофимович, дядя Денис! На вас вся надежда! Идите в комендатуру, попросите, чтобы вашу племянницу не отправляли.
Бондаренко, насупившись, возился в углу.
— А чего просить? Все равно скоро всех будут вывозить. Ничего не даст моя просьба, только внимание излишнее привлеку.
— Но попробовать же можно…
— Да не буду я пробовать! — рассердился Бондаренко. — Живи пока, а там видно будет. Не забрали ж тебя сразу, — значит, не очень это строго у них.
Хозяин сел, глядя в пол, задумался, вздохнул:
— Живи. Только вот чем вас кормить, оглоедов? Ишь, три глотки на мою шею. Ты вот что. Возьми какое ни на есть барахлишко да сходи в станицы. Может, что-нибудь из харчишек выменяешь, а тем временем тут эта кутерьма уляжется.
Оле ничего не оставалось, как собираться в дорогу. Заныло сердце: потянуло к родным. Если уж в станицу, то почему бы не в Ивановскую? Хоть повидаться с матерью, с сестрами, а то ведь кто знает: придется ли еще свидеться?
На другой день Оля отправилась в путь. Ехать одна побоялась и упросила Валю Энину быть попутчицей. Пришлось рассказать подруге, что в станице Ивановской живет крестная мать и что у нее-то Оля и надеется раздобыть продукты.
Девчатам повезло: их подхватил какой-то немецкий шофер и «люстиге руссише фрейлейн» были с шиком доставлены в Ивановскую. Гораздо труднее оказалось тайком от подруги убедить отца и мать в том, что она — не родная их дочь, а только их крестница. Чего стоило Пелагее Кононовне и Ананию Амвросимовичу сдержать себя и сыграть роль «крестных», знали только они, отправившие на фронт пятерых сыновей, зятя и дочь. Они еще не знали тогда, что четверо из них не вернутся с войны, что последними весточками от них будут короткие и сухие строки похоронок…
В Темрюк подруги вернулись с тяжелыми мешками и целым коробом впечатлений. Несмотря на продовольственное пополнение, хозяева не очень обрадовались быстрому возвращению «племянницы». В городе шли массовые аресты комсомольцев, полицаи и гестаповцы врывались в дома, забирали всех трудоспособных, особенно молодежь, и отправляли в Германию: великому рейху требовались рабочие взамен тех, кто по тотальной мобилизации ушел «выпрямлять» восточный фронт. А что было легче, дешевле и выгоднее бессловесного и бесправного остарбайтера, которого можно держать в бараке за колючей проволокой, кормить несъедобными каштанами и гнать плетью на работу? И оккупанты старались. Город стонал.
Оля зашифровала сведения, которые удалось добыть во время поездки и получить от хозяина, и в тот же вечер радировала на Большую землю. Наутро Бондаренко придумал «племяннице» работу: она ходила по дворам и переписывала жителей. Десятки людей, десятки характеров и настроений встретились ей в ходе этой работы. Были равнодушие и злоба, слезы и заискивания, проклятия и надежды. Девушка мучилась оттого, что не могла открыться этим людям, не могла рассказать прямо и открыто правду о положении на фронтах, не имела права откровенно поддержать тех, у кого надломилась вера. Оля устала от этой переписи больше, чем от тяжелой физической работы. Перед вечером зашла к Байдикам, зашла как к знакомым, а встретили ее как родную. Оля отвела душу. Гостеприимные хозяева жадно ловили каждое слово девушки, рассказывавшей о положении на фронтах, о тяжелых боях под Сталинградом, о том, что Москва и Ленинград, несмотря на хвастливые заявления гитлеровцев, живут и сражаются. Рассказывала о переломе в настроении немецких солдат, о нотках пессимизма и обреченности в их рассуждениях и прогнозах исхода войны. Ушла девушка, отдохнувшая и приободрившаяся после задушевной беседы, ушла, уверенная, что сообщенные ею сведения от Байдика осторожно выскользнут в город и обойдут всех жителей, передаваемые тайком, шепотом, под большим секретом, из уха в ухо, и принесут людям новый заряд бодрости и веры в грядущую победу над врагом, в свое скорое освобождение от иноземного ига.
Конечно, это не входило в ее задачу и даже, пожалуй, ей запретили бы заниматься распространением сводок Совинформбюро, если бы она обратилась к своему командованию за официальным разрешением. Но то, что она увидела и услышала, посещая дома темрючан, заставило пренебречь строгими рамками инструкции: люди истомились в неведении, их оглушала лживая трескотня фашистской пропаганды, они жаждали правды, нашей советской правды.
После этого Оля стала частой гостьей в доме Байдика. Здесь она поделилась большой радостью победы наших войск на Волге, сюда приносила волнующие известия о наступлении Красной Армии на Северном Кавказе, об освобождении Майкопа и Краснодара.
Теперь темрючанам была понятна нервозность «завоевателей», понятно, откуда ползли на Тамань нескончаемые обозы и почему в городе и окрест него становилось все больше вражеских войск: гитлеровцы отводили тылы, торопливо увозили награбленное и готовились свирепо драться за каждый клочок захваченной земли. Одновременно они стремились обезопасить тылы своих войск и поэтому особенно озверело проводили так называемые «оздоровительные акции». За городом и в ближайших станицах были расстреляны сотни военнопленных красноармейцев, в станицах Вышестеблиевской и Голубицкой были раскрыты подпольные боевые организации комсомольцев и участники их зверски замучены. Прокатилась новая волна арестов и в городе.
Однажды Оля после полудня возвращалась домой. Усталость, серый дождливый день навеяли грусть. Задумавшись, девушка прошла мимо дома Бондаренко и оказалась за городом. Неожиданно со стороны горы Мыски спустились по дороге закрытые полицейские автомобили. Круто свернув с дороги, они промчались в ложбину и остановились у полузасыпанного противотанкового рва метрах в двухстах от Ольги. Из кабин выскочили гестаповцы, из кузова выпрыгнули полицаи. Потом начало твориться что-то непонятное. Под крики и ругань полицейских из машин прыгали девушки и сбивались в кучку в кольце конвоиров, что-то выкрикивая и размахивая руками.
Оля подумала, что оккупанты привезли рабочих, чтобы засыпать противотанковый ров или, наоборот, расчистить и углубить его. Но тут двое конвойных бросились к группе девушек, схватили одну и начали срывать с нее одежду. Девушка что-то кричала, яростно вырывалась из рук палачей. Тогда один из них подтолкнул ее к противотанковому рву и выстрелил. Девушка упала. И сразу поднялась буря криков — подруги расстрелянной сами срывали с себя одежду, швыряли ее в палачей и обнаженные становились на краю рва. Затрещали автоматные очереди, девушки падали, некоторые пытались подняться и, сраженные новыми выстрелами, сползали в ров, захлебываясь проклятиями и кровью.
Оля не могла сдвинуться с места. Ноги словно приросли к земле. Спазмы перехватили горло, перед глазами поплыли круги, и в тот же миг услышала звук пролетевших мимо нее пуль. Она очнулась и увидела, что один из конвоиров целится из автомата в ее сторону. Вторая очередь подняла фонтанчики грязи всего в нескольких от нее шагах.
Не помня себя, девушка сорвалась с места и побежала.
…Батареи истощились, передатчик умолк. Теперь Оля на несколько минут включала приемник, чтобы услышать последние известия. А последнюю неделю и это стало невозможно делать, потому что в доме поселились двое гитлеровцев. Оля тайком зашила часть шифра в подкладку старенькой хозяйской стеганки, с которой почти не расставалась, а другую часть, улучив момент, вместе с радиостанцией зарыла в землю позади дома.
Последние вести, которые она услышала по радио, сообщали о наступательных боях советских войск в районе станиц Анастасиевской и Варениковской. Это было совсем рядом. Девушку охватило радостное возбуждение: не сегодня завтра наши освободят Темрюк!
«Ну что ж, пусть ничего героического я не совершила, — рассуждала Оля, — но что могла, что осилила одна — делала. А как делала — это уж пусть оценит командование. Ждать осталось недолго».
На другой день Олю вызвали в комендатуру. Худой, желчный гестаповец потребовал паспорт и регистрационный талон. Только взглянув на пометку красным карандашом, вскинул на девушку серые глаза, покачал головой:
— О, ви есть храбрый, абер глюпый девушка. Ви имеете быстро-быстро ехать нах Дойчланд. Как это? Рано. Прежде. Давно. Я! Уже давно ехаль! Зашем ви здесь?
— Господин офицер, — вскинулась Оля, — но я здесь живу у родного дяди. Как дома, понимаете?
— Понимаете, — кивнул головой гестаповец и позвал: — Иван!
В кабинет быстро вошел полицейский. Гестаповец указал пальцем на Олю и приказал:
— Лагерь. Бистро. Сейчас.
Оля с трудом упросила полицейского, чтобы тот разрешил ей забежать домой, взять хоть какую-нибудь одежду. Полицай согласился, но сам не отставал от нее ни на шаг. Так в его сопровождении Оля прошла через весь город, забежала на несколько минут к хозяевам и, простившись с ними наскоро, уже через час была за колючей проволокой, среди тех, кого угоняли в Германию.
Страшные рубцы на сердце и в памяти оставили долгие, тяжкие месяцы скитаний на чужбине. Это целая повесть, наполненная тоской, муками и невыплаканными слезами невольниц в лагерях под Джанкоем, а потом в австрийских городах Кремсе и Соленау; каторжные работы на фабриках, бесправное положение работницы у бюргера в селе Таутендорф, побеги, карцеры и издевательства предателей и изменников, своей собачьей службой зарабатывавших благосклонность гестаповцев; связанные со смертельным риском случаи саботажа и незаметных диверсий на фабриках врага — все это окостенело и зарубцевалось в памяти Нины Ананьевны Маковейчук, работавшей в тылу под фамилией Ольги Войтенко. Нынешняя ее фамилия — Небавская, и живет она в городе Славянске-на-Кубани.
Сорок лет минуло с тех пор, как двадцать отчаянных девчат из лагеря остарбайтер, спрятавшись под обломками фашистских самолетов в Соленау, были освобождены советскими воинами и вернулись на родную землю. В числе их была и Нина — Ольга Войтенко. Сорок лет прошло. Дочь Нины Ананьевны Таня окончила техникум в Краснодаре, на самостоятельный путь вышли сыновья Вася и Коля. Но детям по-прежнему отдает Нина Ананьевна весь жар материнской любви, великую мудрость настрадавшегося женского сердца.
ГРИМАСЫ ВОЙНЫ
Мы потому седыми рано стали,
Что сыновья к нам не пришли с войны.
…Лейтенант Дмитрий Глущенко умирал долго, мучительно, трудно. Санитарочка Лида, существо юное, нежное и чувствительное, заботливо поправляла на нем сползавшее одеяло, прикладывала сухую прохладную ладошку к его горячему влажному лбу, носиком чайника осторожно раздвигала потрескавшиеся, запекшиеся, искусанные губы лейтенанта и впускала в рот струйку живительной влаги. Наклонялась к самому лицу, тревожно вглядывалась в подрагивающие ресницы закрытых глаз, легонько дула на них и, когда они натужно поднимались, открывая светлеющие от муки расширенные зрачки раненого, Лида всматривалась в них с такой обжигающей страстью помочь, оживить, вызвать силы жизни, что ее васильково-синие глаза заплывали и туманились от слез. И когда дрожащие ресницы снова бессильно смыкались, а истерзанные губы невнятно шелестели шматками сорванной кожи, Лида садилась на прикроватную табуреточку и беззвучно плакала.
Самое мучительное было в том, что лейтенант почти все время был в сознании. Но состояние это было каким-то нереальным. Ясное понимание своей обреченности не вызывало ни сопротивления, ни страха. Свирепые приливы боли накатывали черно-красной удушающей волной, на какое-то время отключали сознание, потом из этой вязкой тьмы сначала тускло, затем все ярче и реальнее разгорались картины пережитого.
Странно и удивительно было то, что подробнее и натуральнее всего вспыхивали эпизоды из раннего детства. То виделось, как он, заливаясь слезами и по-детски бранясь, бегает босыми ногами по непролазным жалящим зарослям будяков, выискивая и выгоняя глупо-хитрющих, притаившихся индюшат; спешит пригнать их домой, пока сине-свинцовая грозная и грохочущая стена летнего ливня, закрывая окаем, движется на притихший над речкой маленький хуторок.
То вдруг он видит себя таким же босоногим худеньким мальчишкой и тоже зареванным, испуганным, а страхе тянущим улыбающуюся спокойную маму с огорода, сквозь всхлипы повторяя: «Скорей, скорей, а то дождь находит, молния тебя убить может».
То он с гурьбой веселых сверстников катается на плывущих по реке льдинах, срывается, тонет, друзья вытаскивают, раздевают его и сушат у быстро разложенного костра.
Костер перерастает в яркое летнее небо над осыпанной солнечным серебром рябью реки. И он прыгает в омут, старается подольше пробыть под водой, чтобы напугать старшего брата, и слышит шумный всплеск, и сильная рука брата впивается крепкими пальцами в его шевелюру, с силой вырывает его из воды и вопящего тащит на берег. И брат, торопливо приговаривая: «Наглотался?», резко надавливает на живот. И вдруг где-то в животе, разливаясь по всему телу, нарастала и раскалялась боль, простреливая сознание ослепительно-черными молниями, сквозь которые мелькали эпизоды последнего боя. Вот он командует взводу окружить землянку, в которой засела банда дезертиров. Вот вскакивает и прыжками мчится к двери, ясно видит, как на ее нетесаных досках, швыряя навстречу ему щепки, густо возникают дырочки от автоматных бандитских пуль. Он взмахивает рукой, швыряет гранату, и в тот же миг бандитская пуля тяжко бьет его в грудь, опрокидывает навзничь, потом рвется граната и бойцы взвода бросаются к землянке.
Превозмогая боль, он приподнимает на руках отяжелевшее тело, садится, видит, как бойцы выволакивают из землянки дезертиров и, вырвав оружие, толкают их на землю.
Он хорошо видит то, что в пылу схватки не замечают бойцы: один из лежащих бандитов осторожно приподнимается, потом рывком вскакивает и бежит прямо на него. Он, охнув от боли, валится на бок и достает руками грязный рваный ботинок беглеца, цепко хватает и валит дезертира на землю.
Дальше боль превращает видение в мечущийся калейдоскоп мгновенных событий. Он ощущает навалившуюся тяжесть и одуряющее зловоние огромного, грязного тела бандита и ослепляющие острые высверки боли в животе, куда бандит остервенело, торопливо и часто вонзает немецкую финку.
Та, прошлая, боль смыкалась, смешивалась, сливалась с болью сиюминутной и отсекала, отключала сознание.
Очнувшись, он снова и снова ощущал, осязал, почти видел, как отходит, откатывается боль, словно мохнатый клыкастый и когтистый зверь, который, нанеся удар, отползает в сторону, уверенный, что жертва поражена, не уйдет, и жадно ждет агонии.
Боль жила в нем, и ему казалось, что он даже знает ее безжалостную, отвратительную и злорадную образину.
…Когда он чувствовал осторожные, ласковые прикосновения прохладных сестричкиных рук, ему становилось болезненно тоскливо. Хотелось заплакать как в детстве — беспомощно и жалостно, как в тот вечер, когда старший брат разыскал его на кладбище в заброшенном колодце, вытащил, принес всего разбитого домой, и мама, схватив его в свои сухие натруженные руки, прижимала к груди, капала на лицо слезами, сорвав с головы платок, осторожно вытирала им его окровавленное лицо, ободранные руки и ноги. А он покорно, жалобно и тихо плакал. И становилось ему от этого покойно, и утихала боль.
Но эта проклятая, саднящая, непрерывная боль не уходила.
Приходили врач и медсестра. Врач, майор медицинской службы Владимир Пантелеевич, и медсестра, его жена Любовь Платоновна, усталые, измотанные за время дежурства, с красными от постоянного недосыпания глазами, как-то умиротворенно, по-домашнему вздыхая и утомленно-доверительно улыбаясь, присаживались к лейтенанту на койку и, словно бы не замечая его, вели между собой удивительно простые, будничные разговоры о том, где кто из них жил до войны, где учились, работали. Часто перебивали друг друга словами «а помнишь…» и затем следовал чуть-чуть грустный, но сдобренный легкой усмешкой эпизод из той, другой, довоенной жизни.
Лейтенант слушал, молчал. Он понимал, что врачи знают его положение, что они не в силах его спасти. И знают, что он это знает. И потому не утешают, не соболезнуют, не стараются показать себя оптимистами, этакими показными бодрячками.
Говорить ему было трудно. Да его и не вызывали на разговор. Уже уходя, Любовь Платоновна проводила рукой по его еще не знавшей бритвы полудетской щеке, тихо, утвердительно спрашивала:
— Больно, голубчик? Сейчас будет немножко легче.
И она ловко делала укол, снова укрывала одеялом и, уже у двери, вполголоса говорила мужу:
— Мальчик. Терпеливый. В тыл бы его…
— Люба, ты же понимаешь…
— Да-да. Конечно.
Они уходили. После укола наступало забвение.
Утром приходил старшина Мокейчук, заменивший лейтенанта на должности командира отдельного взвода контрразведки. Сухо, тихо, коротко покашливая, скупо рассказывал о делах взвода, о проведенных операциях, о выловленных диверсантах и дезертирах.
И каждый раз, когда заходила речь о дезертирах, у лейтенанта вспыхивала боль, но он, превозмогая ее, сквозь зубы цедил одно слово:
— Рассказывайте.
Старшина видел, как по лицу лейтенанта перекатывались рябью судороги и сменялись на лбу, на щеках и голой шее желтые, красные, лиловые пятна. Мокейчук тревожно оглядывался на нянечку Лиду. Встретив ее беспомощный, сострадающий взгляд, отворачивался и, глядя в угол, начинал невыразительно, ровно, скупо говорить.
Так и в этот раз:
— Двух сигнальщиков взяли. Один гад ножом ефрейтора Васина пырнул. Ничего. Васин остался во взводе. На перевязку в санчасть ходит, а так ничего.
«Опять ножом», — подумал лейтенант, и в животе начал шевелиться когтистый зверь.
Старшина помолчал, мельком взглянул на побелевшее, с закрытыми глазами и сжатыми губами лицо лейтенанта, тихонько вздохнул и продолжал:
— Вчера трех дезертиров словили. На повозку с хлебом напали. Один рычал, кусался, потом разревелся как корова. А те двое ничего, смирные. Только дрожат все время и глаза у них какие-то, ну что у побитых собак. Приходила тетка из лесной сторожки, плакала. Говорит, эти злыдни украли у нее и зарезали корову. Троих детишек без молока оставили. Говорит, какого-то нашего бойца убили, вещмешок и автомат его забрали.
А того гада, что вас покалечил, майор допрашивал. Так чего он, гад, брехал. Будто знает вас с сорок второго года. Мол, с-под Туапсе. Там, брешет, от смерти вас спасал. Да брешет все гад.
Но лейтенант уже не слушал. Одно слово «Туапсе» высветило в памяти давнюю — три года прошло — историю…
Одного звали Костей, второго Николаем. Костя был широк в плечах, крутогруд и приземист. Плотно сбитый его торс надежно подпирали короткие, кривоватые, мускулистые ноги, обутые в добрые солдатские кирзовые сапоги не меньше сорок третьего, сорок четвертого размеров.
Крупные, волосатые, загорелые и веснушчатые руки с крепкими, чуть загнутыми вниз широкими ногтями поражали неожиданной ватной мягкостью ладоней и пугающей силой пожатия.
Круглое, полное, вечно лоснящееся от пота, а может быть, и от жира лицо его, украшенное немудреным русским носом-картофелиной, серо-зелеными глазами под кустами белесых бровей и сочным губошлепным ртом не имело никаких особых примет, если не считать неопрятно росших кустами и торчком рыжевато-соломенных усов да странно оттопыренного правого уха, прилепленного явно выше левого, отчего с первого взгляда казалось, будто он что-то пытается прижать левым плечом к уху.
Движения его были лениво-небрежны, но угадывалась в них какая-то глыбистая сила и необоримость. Костина речь была скупа, небрежна до невнятности, с каким-то необъяснимым оттенком непререкаемости, безоговорочной повелительности. Говорил он мало и никогда не повторял сказанного: ни фразы, ни слова.
Спать ложился в сумерки и вставал с рассветом. Большую часть дня проводил в неспешной возне с самозарядной винтовкой: делал полную разборку, перетирал все детали, смазывал, собирал, внимательно осматривая каждую часть.
Эта невозмутимая, повторяющаяся изо дня в день возня с оружием выводила из себя Николая. Раздражаясь, Николай начинал как-то по-кошачьи фыркать, а потом, сердито взборматывая, принимался умышленно греметь пустым жестяным ведром, швырять котелки на плиту, ронять крышки и сковородки, нарочито громко топать подкованными каблуками, швырять дрова и, наконец, остановись перед Костей, негодующе выстреливал:
— Ну, шо ты с ней возишься? Шо возишься? Шо ты ее, как жинку после командировки, по винтику перещупываешь? Хоть бы воды сходил принес! Шо я тебе — повар? Чи тот, как его, — батрак? Сушняк собирай, дрова рубай, жратву шукай, да еще свари, подай! И обмундирование мне стирать…
— А нича, — небрежно ронял Костя. — Работай. Ты жилявый. Нича…
— А вот не стану я на тебя, ишачить — что жрать будешь? — пытался наступать Николай, хотя и понимал, что атака захлебнулась.
— Вот не буду! Ну?
— А чо «ну»? Хвост гну. Што ты, то и я. Жрать тебя никто не заставляет. Сам небось хошь? А хошь лопать — не ленись топать. Нича, трудись.
После столь обширного высказывания Костя замолкал на час, а то и дольше. Николай, все еще бормоча что-то про себя, опять метался по двору: то бегал к ручью за водой, то веял крупу, найденную на чердаке этого брошенного хозяевами дома, то, свирепо хекая, рубил большим топором дрова. Иногда сквозь его невнятное бормотание прорывались отдельные слова: «Лопать. Ишь, благородие… Я ишачь, а он… Все жрать любят… На готовенькое. А как достать… сразу Колюн!.. Благородие, гроб твоей бабке…»
Николай был худощав, смугл, темноволос. На низкий, перечеркнутый морщинами лоб все время заваливался лихой и роскошный парубоцкий чуб.
Роста он был одинакового с Костей, но тоньше в кости, подвижный, резко порывистый до суетливости. Николай почему-то казался подростком рядом со своим основательным и невозмутимым напарником, хотя морщины на дубленой смуглой коже лица и вздутые вены на сухощавых руках говорили о том, что он гораздо старше Кости.
Митя Глущенко за три недели, что прошли с того дня, когда эти двое появились в доме, где он валялся, обессиленный от голода и дизентерии, и покорно умирал, — за эти три недели привык к солдатам и ни на миг не задумывался, почему они живут здесь, в то время как сюда отчетливо доносится немолчный грохот передовой, бегущей по склонам гор Лысая и Индюк.
Митька поправлялся и с благодарностью посматривал из своего заваленного овчинами логова на заботливых и опрятных солдат, кормивших его, отпаивавших чаем, поддерживавших, когда он в первые дни, качаясь, выходил во двор по нужде, заботливо кутавших его на ночь, когда сентябрьский холодок густо и тягуче вливался в дверной проем, который нечем было закрыть, — дверь, вероятно, кому-то очень потребовалась в другом месте.
Вчера, правда, Митька спросил у Кости, как это они могут так долго ухаживать за ним — ведь там же бои…
— А ты не шебурши. Стало быть, могим.
Подоспевший Николай быстро затараторил:
— Ты, Митя, не того… Мы ж тут не одни. Весь наш, этот, ну, батальон тута. Нас на отдых отвели. С передовой. Потрепали, значится, нас фрицы. Ну, известное дело, и мы их, того, взгрели. Верно, Коська? Ну да от тебя слова путного не дождешься. Одним словом, ты, Митя, не того, не думай. Понял?
Вечером они долго о чем-то шептались, но Митя ни слова не разобрал и забылся темным и тяжелым сном дистрофика.
Проснулся он от холода. Укрывавшая его овчина сползла, и потрепанный, еще домашний пиджачок оказался бессильным против остро-колючей прохлады осеннего рассвета в горах. В дверной проем глядело неуместно ясное и радостное утро. За хребтом, тушью прочерченным на фоне золотисто-алой зари, буднично-назойливо бормотал передний край обороны — пулеметным рыком, автоматным треском, глухим стуком винтовочных выстрелов, хлопками гранат, чмоканьем мин, резкими, торжествующе-злобными вскриками осколочных снарядов и утробным уханьем фугасов.
Митька натянул овчину, закрыл глаза и вдруг представил, что там, за горой, лежит какой-то громадный черный зверь, свирепо ворочается в тесном ущелье, достает когтистыми лапами людей в окопах и, безобразно чавкая, хрустя костями, удовлетворенно урча и рыкая, жрет и жрет солдат, людей, у которых где-то есть мать, жена, дети, друзья, жрет, как львы конину в зверинце, не спеша, не думая о том, что этот солдат — человек, кому-то самый родной и близкий, самый дорогой на земле…
От этих воображаемых картин Митьке стало не столько страшно, сколько обидно, горько и тоскливо жаль себя, родных своих, друзей-товарищей и родную землю. Так жаль, что даже едкие слезы пробились сквозь стиснутые ресницы. Митька пошевелил тонкой куриной шеей и окончательно открыл глаза. Бездумно скользнул рассеянным взглядом по черным бревенчатым стенам комнаты, по большой печке с огромным, словно от дикой боли, разверстым ртом, по широкой лавке вдоль стены и крепкому дубовому столу у ней… И вдруг Митька вздрогнул: двуспальная широкая кровать, на которой Николай любил понежиться по утрам, была пуста. Не просто пуста — на ней не лежали расстеленные солдатские шинели и вещмешки, служившие подушками. Над кроватью не висели СВТ. Не было и котелков на плите.
Митьку прошибла дрожь. Он вскочил, торопливо натянул самодельные постолы на потемневшие ободранные ноги, подвязал поворозки. Выбежав на двор, чуть не задохнулся от пьянящего воздуха и золотисто-трепетной свежести утра. Под ослепительными, торжествующими лучами солнца, брызнувшими из-за Лысой горы, буйно и животворно глянули росинки дождя на блеклом багреце осенних листьев, на кустах и стебельках жухлой травы. Это сверкающее многоцветье оглушило Митьку торжественно-звучной тишиной, тревожным биением неосознанной радости. И даже грубое урчание передовой словно бы мгновенно смолкло и только спустя одну-две минуты вдруг ворвалось необузданно и грязно в священный хорал первозданного пробуждения осеннего утра в горах. Это вторжение вывело Митьку из недолгого оцепенения, заставило мгновенно вспомнить и войну, и бездомное свое одиночество здесь, в горах, в одинокой рубленой избе на опрятной лесной полянке, и то, что ему некуда идти, не во что одеться, нечего есть и неизвестно, что делать и как быть дальше. Исчезновение солдат, таких взрослых, самостоятельных и уверенных, вызвало у парнишки полную растерянность. Он сел на полуметровой толщины аккуратный пень совсем недавно спиленного бука, бездумно протянул руку к успевшей потемнеть кучке опилок и сжал в ладони податливую влажную древесную кашу. Разжав кулак и глядя на продолговатый комок на ладони, вспомнил, как в тридцать третьем голодном году мать пекла лепешки из жмыха, щепотки кукурузной муки, лебеды и щедрой пригоршни опилок. Это кондитерское чудо почему-то называлось латутик или калябушка. Захотелось есть, Митя громко сглотнул слюну. И опять пришла тревога: где же солдаты-кормильцы, как дальше жить одному? Раньше они так никогда не исчезали. Раньше… Да, уже перевалило за двадцать дней, как он в полубеспамятстве добрался, почти дополз от дороги до этого дома. Как же произошло, что он отстал, потерялся, превратился из Митьки Глушенко в бездомного, никому не нужного неприкаянного подростка, истерзанного голодом, дизентерией и вшами?
Митька порылся в латаных карманах своего рыженького затрепанного пиджачка и вытащил горстку каштанов, припасенных с того давнего дня, когда он по просьбе Николая влез ему на плечи, забрался на чердак и нашел там целую гору запасенных, видимо хозяевами, каштанов, сушеных груш-дичков и кислиц, даже кучку сморщенной, высохшей картошки; другая половина чердака была завалена желудями.
Митька кричал вниз Николаю о находках, а сам лихорадочно набивал карманы каштанами и сушкой. Ему была противна эта сотрясающая его жадность, но ничего не мог с собою поделать: жадности и запасливости научил голод.
Митька разгрызал каштаны, чавкая и выплевывая кожуру, давясь, глотал недожеванную сладковатую кашицу.
Николай по его косноязычию понял, что делает Митька, и строго-заботливо крикнул:
— Смотри, Мить, не ешь много каштанов. Живот заболит — всего скрутит. Может случиться аппендицит, а то, так заворот кишок. Кто тут будет тебе их разворачивать?
Аппендицит как-то не испугал, а вот заворот кишок — это страшно. Митька вдруг зримо и явственно представил, как заворачиваются и скручиваются жгутом его синевато-фиолетовые, с розовинкой и прозеленью кишки. Кишки такого цвета он видел на муляже человека в школьном кабинете анатомии. Зрелище вызвало острое чувство брезгливости и тошноты.
Этот муляж перестал всплывать перед его мысленным взором и вызывать тошнотворную гадливость только в госпитале, когда после излечения работал там санитаром и во время наступления, падая от усталости, день и ночь таскал из операционной палатки к могильной яме корзинки с отрезанными руками, ногами и пузырящимися, парующими комками бледно-зеленоватых внутренностей. Пообвык. Но это было потом.
А тогда, после слов Николая, Митьку вдруг ошарашило ожившее видение муляжа, и он, все-таки проглотив очередную порцию нажеванной каштановой мякоти, затих, щупая руками живот и прислушиваясь к голодному в нем бормотанию.
Николай нетерпеливо подгонял:
— Ну, ты там, пацан, не заснул? Или что вкусное нашел?
Митька вяло проблеял:
— Не-е…
— А коли нет, так слезай. Я тебе не лестница, чтоб торчать под лазом, пока тебе наскучит шнырить на чердаке.
— Счас, — оживился Митька и тут его рука под самой крышей нащупала туго наполненный полотняный мешочек. Он с усилием подтянул его к себе и, ощупав, крикнул:
— Коль! А в мешке, кажись, крупа какая-то!
— Ну?! — обрадовался солдат. — Давай-ка сюда находку!
Митька, которому большого труда стоило подтащить не такой уж большой для здорового человека мешочек к лазу, спросил Николая, что делать дальше.
— Да скидывай, я подхвачу. Он, поди, завязан?
— Завязан.
— Давай!
Митька столкнул находку вниз. Николай поймал и, ухнув, присел:
— Это ж надо, чуть не зашиб. Аж в пузе чегой-то ёкнуло. Должно, больше десяти кэгэ.
Митька неуклюже, боязливо дрыгая ногами, стал сползать вниз.
— Да прыгай, поймаю! Не боись, удержу, — подбадривал Николай.
Неожиданно Николая отодвинул в сторону и крепко встал на кривые кряжистые ноги под лазом Костя.
— Не рыпайся, Коляй. От сумочки крупы на хвост сел. А в пацане при всей дохлости пуда два… Сигай, Митяй!
Митька пискнул и рухнул в крепкие и цепкие руки Кости. Костя только слегка крякнул, и Митя уже невредимый стоял на земле.
Тем временем Николай развязал мешочек и, запустив туда руку, достал горсть крупы и в восторге заорал:
— Это ж надо — гречка!
— Не ори, — буркнул Костя, подошел, убедился, что то — действительно гречневая крупа, продолжил:
— Орешь, как ишак. Лучше кашу сообрази.
Он отошел к кровати, начал рыться в вещмешке, что-то достал, положил рядом и завязал вещмешок. Повернувшись и присев на кровати, неторопливо размотал чистую портянку и достал желтый брусок свиного сала:
— На, Коляй, в кашу. Думал приберечь, да пацану жиры нужны, а то не выдюжит.
Николай жадно схватил кусок, плотоядно втянул крутой и дурманящий голодного человека запах старого сала, разразился длинной очередью восторженного славословия.
Костя слушал и сворачивал самокрутку. Прикурив от кресала, кратко и решительно оборвал словоизвержение:
— Заткнись. Кашу вари!
Пока в печи плясали веселые и жаркие языки пламени и на плите в чугунке клокотала и булькала ароматная гречневая каша с салом, Митька слонялся около плиты, мешал Николаю и постанывал от голода, вдыхая духовитый пар.
Когда сели есть, Митька стал черпать деревянной ложкой жирную кашу и, не замечая, что она обжигающе горяча, глотал, судорожно дергая кадыком и всхлипывая, не чуя ни вкуса, ни объема проглоченного.
Николай тоже ел жадно, но все-таки, зачерпнув ложкой, с минуту дул на кашу и лишь потом, кривясь и шипя, глотал.
Только Костя сидел, не прикасаясь к ложке, и как-го внимательно-равнодушно переводил взгляд с одного на другого. Потом неспешно поднял ложку, осмотрел ее и вдруг проворно и больно стукнул ею по Митькиному лбу. Митька ошарашенно дернулся назад и с полным ртом сначала испуганно, потом с обидой — даже слезы выступили — уставился на Костю.
— Ты чо? Сдурел? — удивленно воскликнул Николай. — Небось хватит и тебе. Кто ж тебя поймет: сидит, надулся, как мышь на крупу… Может, ты сытый.
Николай неохотно положил на стол ложку. Костя равнодушно, полусонно посмотрел на него, невнятно пробубнил:
— Не успел. Надо бы и тебе врезать… Ишь дурачье. Погибнуть же может пацан. И ты дура…
Теперь Николай смутился, виновато опустив глаза, смущенно прокашлялся, быстро зыркнул на Митьку, запинаясь и косноязыча проговорил:
— Ты и верно, Митяй, того… Не надо так… И глотку обваришь, и это самое… Ну, голодные судороги… эти, колики могут… А то и заворот…
Митька поспешно выскочил из-за стола, бросился вон из избы. Эх, не надо было Николаю опять напоминать про заворот кишок! Митьку стошнило. Болезненно, судорожно, словно всего вывернуло. Отдышавшись и вытерев глаза, он почувствовал, как болит во рту и больно глотать. Сообразил: обжегся. Сел на пенек, стало жалко себя, заплакал, размазывая слезы и грязь по заострившемуся, худющему чумазому лицу.
Вышел Костя, шагнул к Митьке, положил руку ему на плечо. Митька сердито дернулся, пытаясь сбросить руку обидчика.
— Дура, — беззлобно буркнул Костя. — Чего злишься? Небось не маленький. Сколько дён не жрамши? Ну? То-то! Пожадничаешь — загнешься враз. А ты — в обиду…
Митька глянул на него застланными слезой глазами. Костя запустил пятерню в его слипшиеся космами грязные волосы, в которых зловеще шевелились вши.
— Постричь бы тебя, паря. Да нечем. А если побрить, а? Бритва у меня добрая, трофейная. Давай, Мить, а? Не дрейфь, я умею. А так же нельзя. Еще тиф подцепишь. Тогда каюк. Давай?
Митька кивнул, всхлипнул и, пересиливая плач, зябко передернул плечами.
— Да не реви. Там еще много каши. А съешь — еще сварим. Крупы — мешок. А сала я дам.
Утешив таким образом Митьку, Костя, не спеша и в то же время удивительно быстро разыскал в подклети какой-то старый, некогда оцинкованный бак, видимо служивший вываркой у домовитой хозяйки, вычистил его песком у ручья и вымыл. Набрал воды. Позвал Николая. Вдвоем они приволокли бак, взгромоздили на плиту, развели огонь, и когда вода достаточно нагрелась, Костя усадил Митьку на пенек, велел сбрасывать одежду.
Митька сбросил пиджак, полуистлевшую ситцевую рубашонку, потом потянул через голову непонятного цвета исподнюю рубаху, некогда бывшую белой. Митька снял ее и попытался поглядеть на белье, приподняв перед глазами на вытянутых руках. На колени посыпались вши.
Костя вырвал сорочку и отшвырнул ее в сторону. Жалостно-брезгливо стал рассматривать грязное, покрытое струпьями от расчесов, синевато-желтое, будто из одних ребер составленное, тощее Митькино тело.
— Хорош… Душа на костылях, — неопределенно пробормотал Костя и, жирно намылив Митькину голову, неторопливо принялся брить. Митька жалобно поскуливал, и по нездоровой его коже вспухали зябкие пупырышки.
Оглядев оголенную синюю, изодранную расчесами, буграстую Митькину голову, Костя, словно любуясь делом рук своих, похлопал по новоиспеченной лысине, удовлетворенно сообщил подошедшему Николаю:
— Во! Как у годовалого воробья колено!
— Мыть его надо, куршивца.
— Точно. Вода в бачке горячая?
— Закипает.
— Давай, Колян, потрудись. Тащи из ручья ведерко воды и доливай бак.
— Да ты что? Ведро-то гнутое, ржавое!
— Почисть. Да побыстрей. Пацана заморозим. Небось сковородку под сало выдраил.
Николай чертыхнулся, однако поспешил с порученным делом. В натопленной, полной пару избе — Костя плеснул три котелка воды на раскаленную плиту — Митьку раздели донага и, уложив на деревянную строганую скамью, стали тереть намыленным жгутом сена. Митька скулил и взвизгивал, дергался и ерзал по скамье. Пока Николай из котелка окатывал Митьку теплой водой, Костя достал из вещмешка пару не очень белого, но выстиранного солдатского белья; с куска сала, обернутого чистыми портянками, снял одну и, приспособив ее под полотенце, бережно, но тщательно обтер вымытого мальчишку, надел на него огромные кальсоны, подвернул их, завязал поворозочки под коленом. Потом натянул нижнюю рубаху, рукава подкатил почти пополам, поднял Митьку легко, как ребенка, перенес на кровать, завернул в свою шинель, коротко приказал:
— Лежи.
Митька недолго понаблюдал за солдатами, что-то делавшими с его одеждой, и с давно забытым чувством сладкой истомы глубоко уснул.
Спал он долго и беспробудно. Когда проснулся, как никогда свежий и отдохнувший, в избе уже сгущался вечерний сумрак. Жарко и весело трещали дрова в печи, пламя уже явственно отбрасывало на стены уродливые ужимки теней от сидевших перед огнем обоих солдат. На плите что-то бормотало и булькало, по избе плыл аппетитный аромат.
Митька выбрался из шинели, спустил ноги с кровати и хихикнул, увидев себя в громадных кальсонах и длинной ночной сорочке.
Николай оглянулся на него, громко заговорил:
— Проснулся, соня? Ну и здоров же ты спать, Митяй! Я уж успел твои шмотки в кипятке выварить и высушить. Костя на продпункт сходил, сухой паек получил, суп сварил, одежу твою подлатал. Вона, гляди, сложил возле тебя. Прямо тебе ежели не мамка, так нянька.
— Балабол. Заткнись, — недовольно кинул Костя.
— Да шо ты мне все рот затыкаешь? Шо я тебе — лишенец какой, гроб твоей бабушке! Как че, так «заткнись»! Командир нашелся! — Николай кипел и плевался.
Костя невозмутимо и внимательно глядел на него.
— Ну, иссяк? Лишенец! Ты ж знаешь, что хуже лишенца. И заткнись.
Николай мгновенно сник и затих.
У Митьки вскачь заколотило сердце, испуг перехватил дыхание. Трижды прозвучавшее слово «лишенец» всколыхнуло в памяти сначала какие-то неясные, а потом и более яркие, пугающие воспоминания из его тревожного детства. Промелькнула отчетливая картина: в закутке за русской печью мать, содрогаясь от рыданий, методично билась лбом о стену, что-то приговаривая о проклятой жизни, о несчастных детях. В другом конце комнаты, глядя немигающими глазами на коптящую керосиновую лампу, нещадно дымил махоркой отец, и большие его натруженные руки хлебороба и кузнеца, безвольно оброненные на стол, временами нервно вздрагивали, как загнанные, исхлестанные безжалостным кнутом кони.
И еще мелькнуло в Митькиной памяти, что все это началось только что: когда пришел отец и как-то обреченно сказал с порога:
— Все. Лишили голоса. Из колхоза исключили. Так что мы, Ганя, лишенцы…
— Ли-шен-цы… — раздельно, теряя голос, повторила мать и, как слепая, пошла за печь…
С того рокового дня это непонятное Митьке слово стало злым роком семьи на долгие годы. Уже он научился понимать его смысл, уже с семьи сняли это проклятие, а оно продолжало в самые неожиданные моменты бить под коленки то отца, когда ему, уже уважаемому работнику и специалисту, отказали в приеме в партию, то старшего брата, когда он вступал в комсомол, лотом, когда добивался призыва в Красную Армию.
Брату помогло библейское правило, почему-то приписанное Сталину, о том, что сын за отца не в ответе. Крутые, не особенно рассуждающие местные работники, правда, со скрипом, но иногда выполняли это правило. Хотя, пожалуй, чаще бывало, что сыновья, чтобы по-человечески жить, брали другую, иногда девичью фамилию матери…
Митька, несмотря на молодость, уже наслышался обо всем этом и потому слово «лишенец» вызывало у него почти животный страх.
Но когда Костя сказал, что Николай хуже лишенца, Митька начал холодеть от ужаса. «Это кто же хуже лишенца? Убийца? Грабитель? Вор? Не враг же он народа?» А впрочем, почему бы и не враг? Митька помнил могучего и веселого соседа Пантелея Карпенко, чубатого, белозубого, обладающего чудесным тенором и любившего вечером на колхозном дворе собирать казаков в круг и «спивать» удивительные украинские «писни». Митька ходил в школу вместе с его сыном Сенькой и был однажды потрясен, когда покричав под окнами, не дождался Сеньки и, пробравшись в сад, нашел друга на копенке подсохшей скошенной травы заплаканным и безутешным: «Батьку забралы». А еще через месяц прополз по станице невесть как и откуда просочившийся слух: «А Карпенко, бачь, враг народа. Уже и расстреляли…»
Митька побежал к Сеньке, но тот, вдруг сразу повзрослев, сурово отрезал: «Ты ко мне не ходи! А то врагом будут считать». Сказал — отрезал. Повернулся, ушел в хату и захлопнул дверь. У ошарашенного Митьки вдруг всплыло слово «лишенец», и он опрометью бросился домой.
Страшное слово, роковое слово. А что же эти бойцы так запросто им перебрасываются? Значит, не боятся, а может, не знают, какое оно страшное?…
Оборвав Николая, Костя встал с чурбака, подошел к кровати:
— Ну, Митяй, и вшей же ты раскормил. Прямо — серая пена от них.
Костя плюнул в сторону, невыразительно глянул на Митьку:
— Я твои лохмоты даже на костре жарил после того, как прокипятил. Просохли. Одевайся — застудишься.
Митька, потрясенный воспоминаниями, стал нервозно-торопливо одеваться. Встал на пол, удивился забытой чистоте и живописным заплатам на одежде, пришитым суровыми нитками.
Костя равнодушно осмотрел его с ног до головы, хмыкнул:
— Проживешь. На зиму достану стеганку.
Отошел к печке. Сел на чурбак, позвал:
— Иди есть. Колян, давай.
Митька почувствовал вдруг одновременно и зверский голод, и неприятную тяжесть в желудке. Усаживаясь у стола, непроизвольно пощупал живот. Николай заметил и сказал:
— Что, объелся? Нича. Человек не свинья, все переварит.
Митька немного помолчал, соображая: обидно это или нет. Украдкой глянул на Костю, но тот невозмутимо и методично черпал из котелка ароматный суп и, поддерживая ложку кусочком хлеба, отправлял еду под пшеничный ежик усов. Митька тоже зачерпнул и понес ложку через стол. Рука дрожала, и суп плескался из ложки, оставляя на выскобленной доске стола жирную дорожку. Костя сунул ему ломоть хлеба, буркнул:
— Не следи.
— А откуда хлеб? — удивился Митька.
— Я ж тебе сказал: на продпункт Костя ходил, — неохотно ответил Николай.
Митя не стал допытываться, что такое продпункт, да где он, да почему они раньше туда не сходили, да можно ли ему туда… Он уже готов был пуститься в эти расспросы, но что-то в голосе и в настроении Николая удержало его. «Ладно, — решил Митька, — потом узнаю. А хлеб вкусный. Давно не пробовал…»
И вот теперь — ни солдат, ни хлеба, ничего. Митька жевал и глотал каштановую кашицу и бездумно, не замечая, смахивал слезы — в последнее время слезы капали у Митьки слишком легко, по поводу и без повода. И ему это нравилось, было как-то до сладости приятно вот так легко, без усилий, без надрыва и судорожных спазм ронять слезы и жалеть себя. Хотелось есть и, как всегда, в такие минуты обострения голода всплывало одно и то же воспоминание: затененные окна в комнате, которую в доме называли залом, за столом против него, подперев щеки кулаками, сидит мать и смотрит сухими, печальными и ласковыми глазами, тихо упрашивает:
— Кушай, сыночек. Бог знает, когда еще домашний супчик доведется поесть.
Перед Митькой стоит вкусно парующая полнехонькая тарелка супа из куриных пупков и молодой картошки. Где-то под Кущевской глухо воркочет канонада: шестидесятилетние казаки и безусые казачата сквозь ураганный артогонь кидаются в кавалерийские атаки на броневой клин армий фон Клейста, рвущихся на Кубань, на Кавказ, к бакинской нефти, на соединение с турецкими дивизиями, с дальним прицелом на Персию, Индию и Китай… Наши отходят с кровопролитными боями. Через пять-шесть дней фашисты будут здесь — не зря же военкомат в срочном порядке собрал допризывников очередных возрастов и решил в ночь на 20 июля эвакуировать всех на Кавказ. Потому-то мать вырезала всю наличную в хозяйстве живность: десяток кур, двух уток и селезня, даже сиротливую пару — индейку и индюка.
Вареные в рассоле две курицы и индейка уже уложены в самодельный сидор — походный заплечный мешок с лямками — и, натертые солью, упрятаны в холодный погреб. Мать медленно, тихо просит:
— Кушай, сынок. Видишь ты — отец, не собравшись, уехал сопровождать лошадей да так на фронте и остался. Антоша еще под Белостоком в окружение попал, да с тех пор и не слышно. Хоть тебя, детка, по-людски провожу…
— Ты, того, мам… — Митька пытался для убедительности басить, — не волнуйся. Береги родной куток, чтоб нам после войны было куда вернуться. А мы вернемся. Ты верь.
Те же слова сказал он маме и на пыльной ночной дороге под Канеловкой, куда провожала она его и тащила тяжелый сидор, чтоб хоть немного облегчить ношу сына… Много раз потом виделась во сне ему и эта ночная дорога, и сухие губы матери, и ее крепкие худощавые руки на его шее, и покорный шепот:
— Береги себя, сынок. А я вас дождусь…
…Когда особенно донимал голод, Митька, подбирая в придорожных канавах пустые консервные банки, щепочкой выскребал из пазов порыжелые остатки жира облизывал ее и видел перед мысленным взором суп с куриными пупками…
Ночью Митька мерз. Спичек у него не было, не было и кресала. Печь растопить нечем. Перед тем как лечь, он обшарил чугунки и горшки на плите, в одном нашел холодные и загустевшие остатки гречневой каши Не утруждая себя поисками ложки, выгребал кашу рукой и жадно поедал. Убедившись, что чугунок опустел, и тщательно облизав пальцы, забился в свой угол за печкой, завернулся в овчину, забылся боязливым сном. Да, да, теперь было страшно, а тогда, когда приполз почти беспамятный и втиснулся в этот угол, тогда ничего не боялся и ни о чем не думал. Просто какие-то рычаги подсознания отчаянно боролись за жизнь.
Теперь же ночная темнота пугала. В углах избы притаились клочья косматой тьмы, издающей непонятные звуки: шорохи, писки, потрескивания, настороженное шуршание… Прямоугольник дверного проема пульсировал от огневых сполохов на Индюке. Ненасытный зверь войны тяжко ворочался и грохотал за хребтом.
Митька кутался с головой в овчину, задыхаясь от ее тяжелого нечистого запаха и чутко прислушиваясь к ночным звукам, через пять минут сбрасывал с головы душное покрывало, нарочно громко откашливался…
Сон сморил хлопца, когда посветлел дверной проем, и в избу вместе с утренней колючей свежестью начали вливаться розоватые блики просветленного рассветного неба. Снилось Митьке, будто он и его дружки закадычные сидят над притуманенной рекой и, стуча зубами, пытаются согреться после получасового топтания в реке, когда, погрузившись в воду по шею, нащупывали ногами спящих на дне раков и ныряли, чтобы достать их рукой и сунуть в висящую на шее сумку.
Старший из них, Ванька Бобер, не выдерживает этой «зубной чечетки» и, сорвавшись с места, начал исполнять какой-то столь фантастический танец, что сидящие на корточках посинелые раколовы сначала хохочут, потом присоединяются к Ваньке, и вот уже на фоне вспыхнувших за рощицей лучей солнца дергается, мечется, скачет и кривляется невообразимая компания голых детских тел, от которых постепенно начинает идти пар. Только Митька никак не может согреться. Он прыгает, изгибается, подкидывает ноги чуть ли не выше головы, тычет во все стороны кулаками. Так старается, что даже Бобер удивленно остановился и, указывая на него ребятам, кричит хриплым голосом Николая-солдата:
— Та он сказился! Хоть связывай… Ты гля: дерется, паршивец! А ну вставай, не дури!
Митька, все еще стуча зубами, открыл глаза и, словно родному, кинулся на шею сидящему около него Николаю.
— Пришел! Дядя Коля! — Обнимая пахнущего мужским потом и табаком Николая, Митька увидел через плечо, что на кровати невозмутимо сидит Костя и важно сворачивает самокрутку.
— Дядя Костя! Дядя Коля! Ур-ра! — Митька вскочил и пустился по избе в дикий пляс, напоминавший тот, который ему снился. Глядя на него, даже Костя улыбнулся, определил:
— Телок!
Митька, запыхавшись и сияя радостно, заглядывал в лица бойцов, перескакивая с одного на другое, бессвязно рассказывал о том, как он их не нашел, как боялся, как хотел есть и мерз, как ему казалось, что он им надоел и они его бросили, или что часть по тревоге ушла на передовую, или что их срочно вызвали на прочесывание леса для поимки проникших сюда фашистских разведчиков…
Захлебываясь от радости и желания говорить, говорить, говорить, Митька, конечно же, не уловил перемены в настроении его взрослых друзей, не заметил, как добродушно и ласково улыбавшиеся бойцы вдруг стали серьезнее и мрачнее, а при последних словах Николай метнул злой взгляд на Костю и непонятно для Митьки бросил:
— Ну вот. Целуйся теперь с ним.
Костя ответил своим невозмутимым «заткнись» и тут же заставил Николая притащить дров, растопить печь. Сам сходил к ручью, принес и поставил на плиту ведро с водой. Потом порылся в вещмешке, достал банку американской тушенки, протянул Николаю, велел:
— Вари с крупой.
— Опять «вари». Чо я тебе, повар или домашняя кухарка.
Костя протянул руку, отобрал консервы, объяснил:
— Не хочешь, так мы с Митрием и холодной Америкой позавтракаем.
— Чего с Митрием, чего с Митрием! А я чо, собака? Объедков ждать?
— Не будет объедков.
— Да не дури, Кость. Ну чо ты? Уже и сказать нельзя?
— Тошно от твоего гавка.
— Ну, не буду. Да ладно, ну, давай, что ли, банку. Счас супцу либо каши спроворю!
И, держа в руках яркую, как игрушка, жестянку, уже добрым голосом окликнул Митьку:
— Ну, чо, Митяй: принимаю заказы — каша или суп? На выбор дороже!
Как ни старался Николай, но за столом Митька заметил, что с друзьями творится что-то неладное. Вместе со всеми молча черпая из глиняной миски «суп-кашу» с тушенкой, он исподтишка бросал взгляды на друзей, пытаясь понять, что же произошло, что их расстроило.
— Ладно! — неожиданно громко и внятно заговорил Костя и положил ложку на стол. — Ты, Николай, кончай дуться — лопнешь. А ты, Митяй, не зыркай, как мышь меж двух котов. Давай побалакаем.
— Ты чо? Ты чо? — испуганно вскочил Николай. — Не надо, Кость? А? Ну не надо.
— Ну вот, опять будешь обижаться, а шо я еще могу сказать: заткнись!
Николай налился кровью от злости, но промолчал. Вскочил из-за стола, схватил и суетливо переставил на плиту опорожненную миску. Не оборачиваясь, подавленно спросил:
— Чай наливать?
— Давай, Колян, лей себе и Митрию. А я пока покурю, да поговорю.
Николай налил кипятку, заваренного каким-то ароматным листом. Митьке подал свою солдатскую кружку, сам стал прихлебывать из крышки от котелка.
Костя, глубоко затягиваясь и пуская паровозные клубы дыма, с минуту внимательно глядел на опустившего глаза Николая. Вздохнул:
— Жмот.
Николай вздрогнул, вскинул вопросительно глаза:
— Сахару пожалел? Так ведь…
— Жмот! И жила.
Николай матерно выругался, встал, порылся в вещмешке, вернулся, швырнул на стол три кусочка сахару, сел опять на место, наклонился над чаем, опустил глаза, сахара не тронул. Митька, тоже не поднимая глаз, все-таки потянулся к сахару: уж очень хотелось сладкого, почитай, четыре месяца во рту не держал. Костя лениво качнулся к столу, взял кусочек сахару и бросил в Митькину кружку, подумал — и бросил второй. Митька растерянно подержал взятый кусочек и вновь положил его на стол. Костя и этот бросил в кружку, пояснил:
— Я не буду. Жмот обойдется. А ты пей.
Николай опять стал багроветь от обиды, отодвинул пустую крышку:
— Ты чо? Ты какого… Я тебе чо, собака? Чо обзываешь? Ты — лучше? Сам дезертир и мародер! Подонок!
И тут Митя даже не понял сразу, что произошло. Костя как-то лениво приподнял со стола свою веснушчатую пятерню, протянул ее к лицу Николая и тот, взвизгнув по-поросячьи, навзничь рухнул со скамейки и, скуля, стал кататься по полу.
Митька оцепенел, не успев испугаться, остановившимися глазами смотрел на корчи Николая. Опомнившись и задрожав, спросил:
— Что это он, дядя Костя?
— А нича! Ты пей себе.
— Да что с ним?!
— А смык. — Костя равнодушно свернул новую самокрутку, одной ногой перешагнул через притихшего Николая, достал из печки горячий чурбачок, прикурил и, бросив его обратно, вернулся на место, окутался дымом. Не глядя на Митьку, пообещал:
— Счас встанет. Не переживай. А ну вставай, Колян, гляну, какой ты теперь.
— Гад, гад, бандюга, — всхлипывая, прогнусавил с пола Николай. — Погоди, доведешь — застрелю!
— Не. Не сможешь. Ты ж ничто, так, возгря кобылья.
— Вот тогда увидишь, — гнусаво тянул Николай.
— Ладно. Слепой сказал: побачу. Вставай, хватит.
Николай встал по-стариковски — сначала на четвереньки, потом, держась за скамью, на одно колено, затем на другое. Когда он повернулся лицом к свету, Митька вытаращил глаза.
Лицо Николая сверху вниз было перечеркнуто четырьмя багровыми, начинающими темнеть полосами, две из которых проходили через заплывающие глаза, а две… Митька в испуге отшатнулся: под всхлипы Николая пустыми клапанами хлюпали чудовищно разорванные, кровоточащие ноздри. Кровь двумя ручьями маслянисто-густо стекала по губам, по подбородку, капала на гимнастерку.
— Хорош, — удовлетворенно хмыкнул Костя. — Теперь ты законно загораешь: раненый.
— Сволочь ты…
— Полайся. Еще спасибо скажешь.
— Что ж это, дядя Костя? — дрожащим писклявым голосом спросил Митька.
— Нича. Заживет как на собаке. А подись на грех — от расстрела спасет…
Объяснение не только ничего не объяснило, но еще больше запутало, испугало и насторожило Митьку. «Какой еще расстрел? — заметалось у него в мозгу. — За что? И кто ж его может расстрелять? Он же был действительно ранен там, на передовой. Он же каждый день уходит на поляну подальше от избы, делает перевязку и не разрешает мне подходить, чтоб не стошнило с непривычки — очень уж отвратительная рана».
— Как от расстрела? А за что его расстреливать? — не выдержал Митька.
— Заслужил. Он же дезертир.
— А ты кто? — гнусаво закричал Николай. — Ты не дезертир?
— Пока нет.
— Брешешь, гад!
— А ты еще вдобавок и членовредитель.
— Брешешь, брешешь, проклятый!
— Ну ча кричишь? Пускай пацан знает, чего ты стоишь А, Митяй? Рази ж он пулю в лоб не заслужил?
Теперь страх спазмом схватил Митькино горло, что-то подкатило к глотке, выжало слезы из глаз. Но Митька прорвал затор в горле, звонко крикнул:
— Не правда! Не верю! Дядя Костя, скажите, что пошутил и!
— Да нет, Митяй. Правда это. Поганая, злая и вонючая правда. И гад не я, а он.
— А! Уже наложил в штаны, шкура? Открещиваешься? Не выйдет, падло! Пропаду и тебя утоплю. Не открутишься.
— Заткнись, а то я добавлю, — оборвал его Костя и, повернувшись к Митьке, продолжил: — Понимаешь, паря, буза какая вышла. Эта падаль ходила за обедом на весь взвод. А по дороге от кухни, в лесу, припрятал плетенный из лозы черпак, вылавливал со дна ведра с супом жалкие кусочки конины, кинутые туда поваром по счету на каждого бойца. И этот шакал все пожирал один. Когда старшина на обиду окопников сказал, что хоть и конину, но дают каждый день и на каждого бойца, ребята с ним душевно побалакали. Так эта тварь до того осатанела, что и после этих разъяснений полезла болтаться в ведре. Ну, его и накрыли. Только очень уж деликатные хлопцы оказались: вместо того чтоб прибить гада на месте, вздумали добиваться, зачем он это делает, да как ему не стыдно обкрадывать взвод.
— А ты не обкрадывал? Сам гад! — опять крикнул Николай.
— Брешешь. На войне я крупицы соли не украл. А на гражданке — то неча вспоминать. За то отсидел.
— А я кровь проливал!
— Не забивай пацану мозги. Я ж все одно скажу правду.
— Не надо, Кость, — вдруг жалобно загнусавил Николай. — Ну не надо. Зачем ему? Хочешь, побей меня еще, но не говори…
— Не, Колян. Говорить — так уж все. Не могу я. Накипело.
— Ну и черт с тобой, говори, — вяло отозвался Николай. — Только уж и о себе скажи. Все скажи!
— Скажу. Так вот, Митяй, этот гад валялся на брюхе перед всем взводом, просил простить. Простили. А на другой день он опять выловил мясо. И бойцы хотели его утопить в том супе, да Колян проворным оказался. Прыгнул из окопа, покатился под откос и, разорвав штаны о сучья и камни, упал в отхожий ровик, куда бойцы бросали пустые консервные банки, когда доставался сухой паек. Шмякнулся туда Колян, распахал бедро о такую банку. Вскочил, а бойцы кричат: вернись, отлупим — и все, а будешь бежать — пристрелим. Нет, он в дерьме и в крови отполз в кусты. За ним не гнались, думали — вернется. А он перележал в камнях до вечера. В темноте подобрался к кухне, украл булку хлеба и уполз. Потом добрел до этого хутора и залег в сарае. Там я его и нашел. Обгаженного, с гниющей раной на заднице, голодного и трясущегося. Хотел помочь ему добраться до своей части. Куда там! Завыл, заплакал. Все мне и рассказал. Пожалел его. Думал: подкормлю, подправлю и вместе — в нашу часть. У меня еще три дня было не использовано из командировочных восьми. Вот и связался. Там, в сараюшке, просидели пять дней. Окреп малость Колян, стал ходить. Вот тогда перебрались в эту хату, а тут ты доходишь. И засел я с вами. Теперь не знаю, что и будет…
— А что с дезертирами бывает? Шлепнут или в штрафную. Не хочется? Пойдешь!
— Да заткнись ты, вонючка. Из-за тебя и влип. — Костя свирепо сплюнул и продолжал: — А о себе чего ж? Урка я. Бывший. До войны промышлял в Ростове и Армавире. Погулял, повеселился. Замели. Началась война — попросился на фронт. Вину кровью смыл. И медаль имею за бои под Ростовом. «За отвагу». Ну, что еще тебе рассказать, пацан? Родителев нет. Инкубаторский я! Не знаешь, что ли? Ну, детдомовский. В Ейске воспитывался. Оттуда и сбежал в Ростов. Знаешь Ростов?
— Знаю, — машинально ответил Митька.
— Чего знаешь?
— Ну, город Ростов. На Дону.
— Да это и по географии можно узнать. А город… Там пожить надо! Эх, Ростов — папа. Была у нас там «малинка»…
— Во-во! — злорадно перебил Николай, завязывая себе лицо бинтом. — Похвались, скольких ты зарезал, скольких перерезал…
— Заткнись, дура! — Костя помолчал, снова закурил. — Брешет он. Никого я не резал. А так, на гоп-стоп, брал, конечно. Шел мне шестнадцатый год. А на дворе нэп кончался. Лафа! Деранешь какого-нибудь шубаря — глядишь, и приоденешься, и в ломбард кое-что снесешь, так что в торгсин идти не стыдно. А там — и в ресторанчик. Кинешь золотой — стол от жратвы трещит. Это тебе не бумажные миллионы, которые дураки таскали в мешках по базару. А жил как? Было нас три кореша. Вечером поработаем — на неделю кутить хватает. Профукались — опять на охоту. И все. Ну, и замели. У Хряща был шпалер. Пальнул из него раз, так его легаши и пришили на месте. Пузан таскал с собой доброе перо. Тоже, дура, кинулся на угро. Ну тот еще неопытный, испугался и застрелил Пузана в упор. У меня ничего не было. Скрутили. Обыскали. На суде доказали, что я участник вооруженной банды, и собрались шлепнуть. Да какой-то работяга сидел там в народных заседателях и сумел отговорить: мол, детдомовец, беспризорщина. Пусть, мол, поработает в лагере. Авось, человеком станет. Вышел через восемь лет, по амнистии под новую Конституцию. Да только от прошлого легко не оторвешься. Новые кореши, которыми в лагере обзавелся, тоже вышли по амнистии на волю. И опять завертели, заколобродили. Правда, на разбой я больше не пошел. А промышлял на вокзалах. Чемоданы подбирал. Ну и подобрал один раз…
Костя говорил медленно, спокойно, словно подбирая фразы. Казался невероятным этот рассказ. Митька поборол первую оторопь и слушал, приоткрыв рот и временами вздрагивая, как теленок, сгоняющий овода со своих боков. Видимо, и для Николая все это было совершенно ново, потому что и он, замотавшись бинтом, слушал не шевелясь, слегка постанывая и судорожно вздыхая.
— Ну, а дальше и рассказывать нечего. Приехал к нам в лагерь майор, спросил желающих на фронт. Ну, наш барак почти весь и захотел. Два шкурника только оказались. Им ночью темную устроили. Один к утру умер, а другого оставили на нарах, а сами ушли на фронт. Потом бои. Наступление, отступление. То атака, то драп. Вот и дотопал до самого некуда. А тут, понимаешь, командир полка наткнулся на свою семью — жена с двумя детишками. Аж сюда довакуировались, а дальше ходу нет. Ну, командир полка сразу в роты: кто, мол, тут у вас самый смышленый, пробивной да разбитной? Командирую суток на десять семью мою сопроводить.
Я и вызвался. Ну, с боем, с криком, с просьбами, а кое-где за свой сухой паек довез я их до Сухуми, посадил на тбилисский поезд, а сам обратно. Три дня сэкономил. А для ча? Чтоб с этой мразью провозиться да за компанию в дезертиры попасть?
Костя презрительно плюнул, поднял глаза на Митьку:
— Такое дело, Митяй. Чтоб ты знал: никакие мы не герои, не окопники, а шпана, дезертиры.
Митька никак не мог совместить представление об этих заботливо-грубоватых бойцах с представлением о дезертирах. Понятие это в Митькином воображении ассоциировалось с каким-то грязным, отвратительным существом: злой, склизкой, пресмыкающейся тварью, нелюдью. От одного слова по телу пробегала дрожь омерзения.
Слушая Костю, парнишка боролся с каким-то ураганом противоречивых чувств, в котором никак не мог разобраться. Раздавленный, растерзанный этим шквалом в душе, Митька изнемог и заплакал бессильно и жалобно.
— Неправда это, дядя Костя, — сквозь всхлипы бормотал он. — Ну скажите, что неправда! Зачем вы пугаете меня? Я же к вам… Вы же мне… Зачем вы…
— Дурак! Дурак! — гнусаво закричал вдруг Николай. — Все умника из себя строишь, а сам дурак! Рад, что здоровый, а мозги-то квашеные! Честность строишь из себя, а что ж не сказал сам-то пацану, как у ездового с подводы хлеб и сахар спер? А консервы где взял, а? Честный, чистый, правдолюб! Сволочь! За что меня изувечил, паразит?
Костя привстал, уставился на Николая тяжелым, неподвижным взглядом. Тот сразу притих, виновато и покорно забормотал:
— Ну-ну. Что ты? Не психуй. Я чо? Я так, к слову. Ну, молчу, молчу…
— А ну выходи на двор, трухляк вонючий, — с хрипом выдохнул Костя. — Выходи!
Он угрожающе поднял СВТ, передернул затвор. Николай вдруг как-то сплющился сверху вниз и расплылся, будто резиновый шарик, налитый водой и опущенный на пол. Сплюснулось лицо, сплюснулось тело, растянулось в стороны. Белой полосой, разделенной чуть заметной волосной черной линией, от уха до уха растянулись губы, сухие, вздрагивающие, даже на вид шершавые. Губы дергались, не разжимаясь, а как-то червеобразно изгибаясь и извиваясь, пропуская шипящие струи воздуха и невнятные звуки.
— Костик, не надо. Костенька… Миленький… Митяй… Хоть ты скажи ему, зверю… Кость!
— Выходи, хорек вонючий! А то при пацане застрелю, — хрипел Костя.
— Не имеешь права! — с неожиданным проворством вскочил и завизжал Николай. — Самого к стенке поставят! Самосуд! Не смей!
— А-а! О правах вспомнил, собака. А приказ Сталина двести сорок два забыл? Трусов, паникеров и дезертиров расстреливать на месте. Так что тебя только по этому приказу надо трижды расстрелять. Выходи, говорю, гад!
Костя грозно двинулся на Николая. Митьку словно какая-то неведомая сила бросила между солдатами.
— Не надо! Дядя Костя! Дядя Коля! Ну что же вы?! Зачем? Ну не надо же!
— Отойди, пацан, — незнакомым, злым голосом заревел вдруг Костя. — Ты ж не знаешь, что этот гад звал меня к фрицам перебежать. Падла! Потом на шутку перевел.
— Брешешь, брешешь, ворюга. Сам меня подбивал, а теперь валишь с больной…
— Ах ты, мразь, — Костя даже задохнулся. — Так ты еще и так…
— Брось оружие! Не двигаться! Бросай винтовку! Ну!
Этот сильный, властный и угрожающий окрик оглушил всех и вызвал мгновенное оцепенение. И в этот же миг Николай непонятным образом перекувыркнулся назад и живым комком покатился за печь. До боли в ушах оглушила трескучая автоматная очередь, полетели щепки с бревенчатых стен. Костя неспешно опустил винтовку прикладом на пол, потом наклонился и аккуратно положил ее у ног. Распрямился, шумно выдохнул и то ли удовлетворенно, то ли обреченно своим угрюмо-однотонным голосом проворчал:
— Ну вот и все. А ты, дура, боялася.
И эта бесцветная бессмыслица вернула Митьку в реальный мир. Он вдруг увидел все сразу: Костя с опущенными рыжеволосыми руками, неподвижный, разбросавший руки Николай с вытекающей из-под головы темной струйкой, в дверях два красноармейца с автоматами наготове, позади них, где-то снаружи, головы в пилотках и командирских фуражках.
— Повернись к стене! Руки на затылок, — опять приказал тот же грозный голос.
Костя, топая, не по-солдатски, медленно повернулся к стене, поднял, положил на затылок ладони и замком сцепил пальцы.
— А ты?! — крикнул автоматчик на Митьку. — Встать! К стенке! Руки!
— Не орите на пацана! — не оборачиваясь, прогудел Костя. — Он гражданский и малой еще.
— Молчать! Разберемся. А ну к стене!
Митька, по-слепцовски вытянул руки и вывернув назад голову, чтоб видеть автоматчиков, двинулся к стенке.
Второй автоматчик, забросив автомат под руку и за спину, проворно подбежал к Косте, привычно и умело обыскал, вытащил из висевшего на поясе чехла немецкий горноегерский нож, из кармана — кремень, стальную плашку и ватный фитиль. Да еще кисет с махоркой. Из нагрудного кармана — документы.
Могучий, кряжистый Костя спокойно и покорно позволял маленькому шустрому солдатику шарить по его карманам, бесцеремонно и бесстыдно ощупывать все его тело.
Митька не понимал, что происходит, но подсознанием чувствовал: случилось что-то страшное. Тело покрылось противным липким потом, глаза стали заплывать слезами, ноги начали мелко и мерзко дрожать.
Автоматчик ловко сверху вниз провел руками по худенькой Митькиной фигуре, нащупал и выгреб из карманов каштаны, хмыкнул, громко раздельно сказал:
— Ни-чего! А тощой-то, тощой, малец, товарищ майор. Не пацан, а кости в кальсонах. Эгей, хлопче, а откуда у тебя воинское белье?
— Я дал, — коротко сообщил Костя. — Видишь — завшивел пацан.
— Отставить разговоры! — это уже прозвучал уверенный, чуть с хрипотцой, притомленный голос.
В комнату, чуть наклонив голову, чтоб не задеть за притолоку, слегка сутулясь, вошел военный с двумя шпалами в петлице. Сел на лавку, положил на стол фуражку, пятерней причесал густые длинные черные волосы. Хмуро, исподлобья глянул на стоящих у стены, потом — на тех, что у дверей. Негромко, властно распорядился:
— Власенко, осмотри двор и окружение. Панькин, исследуй дом. Остальных прошу заходить и усаживаться. Василь Петрович, прошу вас, осмотрите того, что у печки.
Командир с двумя кубиками наклонился над неподвижным Николаем, осмотрел, ощупал, послушал пульс, вытащил из нагрудного кармана какие-то бумаги, распрямился, доложил молча наблюдавшему за ним майору:
— Без сознания. Пульс тридцать пять. Касательное в правый висок и мягких тканей в правое плечо. Шок.
— Добро. Воды! Перевязать! Привести в чувство!
Отдав распоряжение и проследив, как оно выполняется, майор повернулся к Косте и Митьке.
— Мальчик, иди сядь здесь, возле меня.
Митька растерянно глянул на Костю. Тот косо зыркнул, не поворачивая головы:
— Иди, Митька. У тебя — дорога…
«Какая еще дорога», — тупо соображал Митька, подходя к майору и садясь осторожно, будто она горячая, на скамейку. Майор внимательно и как-то грустно посмотрел на Митьку, тихо, по-домашнему просто спросил:
— Сколько ж тебе лет, парень?
— Шестнадцать. То есть, скоро семнадцать, — запутался и смешавшись смолк Митька.
— А мать-отец есть?
— Отец на фронте. И старший брат на фронте. А мать одна осталась, дома, в станице под Ростовом. Вернее, под Кущевкой.
— Та-ак. А ты здесь почему? Сбежал на фронт?
— Нет. Никуда я не сбегал, — заторопился Митька. — Заболел я, ослаб, свалился в кювет и отстал от батальона.
— Какого еще батальона?
— Рабочего. Мы тут укрепления строим. Окопы. Блиндажи. Дзоты.
— Что ты мне плетешь? Какие дзоты, какой батальон? Тебе семнадцати еще нет?
— Нет. Но скоро будет. Через двадцать дней. Через двадцать пять.
— Ну ладно. Хоть через пять. Но сейчас-то нет еще?
— Нет.
— Тогда как же ты сюда-то, аж под Туапсе попал, если, говоришь, дом твой под Кущевкой? Документ у тебя хоть какой-то есть?
— А вот… Сейчас…
Митька начал лихорадочно шарить по опустевшим карманам, постепенно холодея от страха. Карманы были пусты.
— Там твои бумаги, на грубке, сушатся, — не оборачиваясь, сказал Костя.
Митька вскочил, но остановился и вопросительно посмотрел на майора. Тот кивнул головой и, пока Митька бегал к печке, спросил Костю:
— Почему на печке? Почему сушатся?
— Стирал я его шмотки и вшей выжаривал. Невзначай намочил.
— А ну-ка дай сюда твои подмоченные бумаги, — протянул майор руку в Митькину сторону.
Митька бережно, на двух ладонях, поднес еще влажноватую, протертую на сгибах гербовую бумагу.
— Ага. Свидетельство о рождении. Метрика, стало быть.
Митька молчал, не зная, что говорить. Да и вообще — непонятно, как себя вести, что делать. И долго ли будет сопеть носом в стену Костя и неподвижно лежать Николай. И кто он этот… майор. Ну да, майор. Две шпалы на петлице.
В избу вошел лейтенант, обратился к майору:
— Товарищ военврач! Для санбата место самое подходящее. И вода рядом, и лес — палатки можно укрыть. И дорога сюда каменистая — в любую непогоду проезжая. При доме есть подсобки. Дров — запас.
— Добро, — выслушав, заключил майор. — Отправляйте Ефимова за личным составом и оборудованием. Да пусть забежит к особисту, доложит об этих типах. А тот или сам сюда придет, или скажет, что с ними делать… Да! — крикнул уже вслед уходящему лейтенанту.
Тот остановился, обернулся.
— Василий Петрович… Там… Ну, в общем… Об этих двоих, о солдатах… И все. А мальчишку… О нем не надо там… Понимаешь? Он, видите ли, здешний… То есть… — И вдруг, рассердившись, видимо, на самого себя, почти закричал: — Ну что? Не понятно, что ли?
— Так точно. Понятно, товарищ военврач, — щегольнул выправкой лейтенант.
— Ну так идите, голубчик. Распорядитесь, — как-то сразу утих и обмяк майор. Посидел молча, низко-низко на грудь свесив голову, потом вскинулся, резким движением отбросил длинные волосы со лба назад, глубоко, с чуть заметным стоном вздохнул, увидел — словно впервые — Митьку, притянул его к себе и… молча заплакал. Митька онемел. Крепкая рука майора прижала его голову к суконной гимнастерке, пахнущей лекарствами и чистым мужским потом. И вдруг Митька услышал едва уловимое бормотание, глухо отдававшееся в груди:
— Сынок… И у меня был бы сейчас такой сынок. Нет, чуть моложе… — И уже вслух, почти сердито, отодвинув и рассматривая лицо Митькино: — Убили у меня сына. Двадцать второго июня, в первый день, там, на погранзаставе. Понял? А ты? Как ты мог?
Вопрос прозвучал с каким-то надрывом, с такой внутренней болью, что у Митьки перехватило дыхание. Он не понял, в чем его вина, почему такой горький упрек звучит в словах майора и, охваченный неосознанной жалостью, затрепетал, испуганно и ожидающе глядя на военврача.
— Как ты мог связаться с этими подлецами, дезертирами, изменниками Родины?! А? Ведь их же сейчас, здесь, на дворе расстреляют. А ты? Ну как ты мог?
И тут что-то у Митьки прорвалось. Сначала хрипло, а потом все звонче и выше взвился его голос:
— Нет. Дяденька врач! Товарищ майор! Нет-нет! Они не дезертиры! Они… Они… Меня спасали. Я сюда… Умирал уже… Они… Костя купал, стирал, кормил. На руках во двор выносил. Нет. Костя не дезертир! Он приказ выполнял! И дядя Коля… Он… он…
Митя вдруг умолк и только потом заставил себя сказать:
— Он тоже… Варил…
— Ладно, — посуровел военврач. — О них позаботятся, кому следует. А тебя, братец, отправлю в тыл, в Туапсе. Надо тебя поставить на ноги. Гляди, еще и в солдаты сгодишься. Потом. А сейчас тебя, хлопче, девать некуда. Ничейный ты. Напишу записку, — может, знакомый врач в эвакогоспитале протолкнет среди больных и раненых бойцов и тебя. Так что собирайся.
— Не хочу. Никуда я не пойду. Здесь хочу. Поправлюсь — и на передовую. Вон с Костей, в его часть.
И вдруг вмешался Костя:
— Брось, Митька, не дури. Делай, как тебе доктор велит. Поправишься — дальше видно будет. Твоя дорога впереди. Большая. Долгая. До Берлина.
— Да отпустите вы дядю Костю, — закричал со слезой в голосе Митька. — Слышите? Что вы его поставили лбом в стенку. Отпустите! Он же ж настоящий боец. Наш!
— Наш, говоришь? Ну, если так, тогда придется отпустить. Садись, солдат, в тот угол. А ты, Паньков, садись вон там на лавочку да и приглядывай за ним. А как там другой? — обратился он к лейтенанту.
— Приходит в себя, товарищ военврач. Не пойму только, что у него с лицом.
— Ну-ка поднимите его да подведите ближе.
Двое бойцов схватили под руки, подняли на ноги и подвели Николая к майору. Митька глянул на Николая и его чуть не стошнило. Половина лица залита еще сочившейся из-под волос ярко-алой кровью, волосы пропитались ею и спеклись, на шее болтался окровавленный бинт, сползший с лица, ноздри хлюпали разорванными клапанами, вертикальные полосы ото лба через все лицо почернели и, чудовищно искажая выражение, делали его каким-то звериным.
Глубоко запавшие бесцветные глаза лихорадочно блестели и ежесекундно метались по лицам, сторонам и предметам, Митька, совершенно необъяснимо для себя, в какой-то миг почувствовал омерзение к этому человеку. Он попытался перебороть это чувство, воскресить в памяти что-либо светлое, доброе, смягчающее слова и поступки Николая, и… не мог. Затмевая и отодвигая все другие воспоминания, на первое место лезла последняя жуткая картина их скандала с Костей и слова последнего: «…звал меня к фрицам перебежать». Это воспоминание заставило Митьку вздрогнуть, как от удара током. И тут бегающие глаза Николая вдруг уперлись в Митьку, стали округляться и еще больше белеть.
— А, гаденыш, — донеслись хриплые звуки, и на губах забулькали пузыри. — Уже заложил? Продал? Гнида! Я тебя, дохлятину, выхаживал, а ты… с-с-сученок!
Митька задохнулся от обиды, злости и брезгливости. Кулаки его сами сжались так, что побелели костяшки пальцев. Он привстал, будто собираясь прыгнуть.
— Вы… вы, — ему уже не хотелось, он уже не мог заставить себя называть его дядей Колей. А как иначе назвать — не знал. — Вы… гадкий человек. — Митьку и здесь удерживала въевшаяся стеснительность, из-за которой он до сих пор не произнес ни одного грубого, бранного слова, ни одной похабности.
Николай грязно выругался, сказал:
— Эх, не обварил я тебя, гаденыша, в бочке. Послушался, дурак, того ублюдка…
— Заткнись, гниль! — крикнул из угла Костя. Николай повернул голову в его сторону, зарычал:
— А, так и ты тут! Живой! Ну, сейчас твоя жизня и кончится. — И вдруг, как перед нырянием в воду глубоко вдохнув воздух, нечеловечески заверещал: — Вот его к стенке! Он дезертир! Гад! Палач! Фашист! Это он меня!
Николай припадочно забился в руках солдат. Майор вскочил со скамейки, крикнул:
— Уберите его отсюда! Обоих! Вон! Во двор! Стеречь!
Николая поволокли во двор. Костя спокойно, вперевалочку пошел следом. Митька тоже встал, шагнул к двери.
— А ты сиди, шпендрик. С тобой еще поговорить хочу. Панькин! Где вы там, Панькин! Мне сегодня дадут поесть?!
Проворный Панькин подтащил увесистый вещмешок, развязал, достал и положил на стол яркую банку с американскими консервами, кусок сала, горбушку черного хлеба, большую, чуть приржавленную селедку, крупную золотистую луковицу, два яблока. Поставил кружку, фляжку. От всего этого шел одуряюще аппетитный запах, и Митька, забывшись, громко сглотнул заполнившую рот слюну.
Майор покосился на него, чуть улыбнулся, протянул руку, обхватил Митьку, привлек к себе:
— Изголодался, брат? Чем жил?
Митька, с трудом отведя глаза от стола, как-то рассеянно глянул на врача и машинально пробормотал:
— А кислицами, дикими грушами да каштанами…
Подумав, зачем-то вяло стал рассказывать:
— Да нет. Нас, конечно, кормили. Баландой из кукурузной крупы. А потом мы и сами добывали. Пробирались ползком на станцию Индюк. Там фриц много наших лошадей побил бомбежкой. Так мы шкуру подрежем, а потом отхватим ножом кусок мяса и ползком назад, в лес. Мясо на палочку кусочками нанижешь и над костром поджаришь — вкусно!
Митька опять сглотнул слюну и мечтательно повторил:
— Вкусно…
— Да, дохлая полусырая конина — это, безусловно, деликатес. Только после твоего рассказа, Дмитрий, — тебя, кажется, так зовут? — после твоих «шашлыков» что-то есть расхотелось. Черт! Панькин, а ну-ка попробуйте что-нибудь выжать из фляги.
Панькин расторопно достал алюминиевую кружку, протер пальцем, подул в нее и аккуратно нацедил из фляги спирта. Майор поднес кружку к лицу, со злым отвращением вдохнул запах, глянул на Митьку, чуть кивнул головой и, запрокинувшись, влил жидкость в рот. Глотнул, отломил корку хлеба, поднес к самому носу, шумно втянул воздух ноздрями, чуть прикрыл заслезившиеся глаза, посидел не шевелясь и вдруг рывком наклонился к столу, стал торопливо хватать все съестное, что попадалось под руку, и бросать в рот. Покривившись, судорожно глотнул, сердито бросил Митьке:
— Ты что сидишь как на смотринах? А ну давай ешь, шпендрик!
Митька потянулся к яркой банке, придвинул ее к себе и, отделив ножом кусок сосисочного фарша, проглотил его, не разобрав и вкуса. И случилось стыдное, о чем потом всю жизнь жалел: забыв об всем, он доставал ножом все новые куски нежно-розового, ароматного, одуряюще вкусного консервированного мяса и глотал, глотал, давясь и поперхаясь. Опорожнив банку, он привычно сунул туда палец и провел по кругу, очищая от остатков жира и консервов. Обсосал палец, повертел в руках банку и с сожалением отставил в сторону. И тут только заметил, что в комнате тихо. Поднял глаза и встретился с ласково-печальным взглядом майора, перевел глаза на Панькина и покраснел: столько негодующего осуждения, даже возмущения было написано на его лице. Панькин издал какой-то звук, похожий на всхлип, шумно выдохнул и вполголоса высказался:
— Ну ты даешь, пацан… То ж майору на двое суток паек. Ну даешь… Кашаглот.
— Отставить, Панькин. Нормально пообедал парень. И потом… Кстати, не в данном случае, а вообще надо говорить не кашаглот, а кашалот.
— Слушаюсь, товарищ военврач. А только же то разные звери: кашалот — он все в море промышляет, а энтот… больше по котелкам да по банкам ударяет.
— Хватит! — майор ударил кулаком по столу. Подпрыгнули, задребезжали металлические посудины, вскочил и вытянулся у стола Панькин. Вскочил и Митька, испуганно глядя на майора. И вдруг понял, что тот пьян.
Майор был действительно пьян, на грани беспамятства. Пока Митька самозабвенно разделывался с консервами, майор смотрел на него сквозь пелену слез, застилавших глаза, и, не закусывая, опорожнял фляжку.
— Василий Петрович, — закричал майор. — Я написал записку полковнику Гринбергу в пятьдесят четвертый ППГ. Она у вас? Дайте сюда.
Лейтенант, сидевший по ту сторону стола, достал из полевой сумки вчетверо сложенный листок, подал майору. Тот развернул его, долго, покачиваясь, вчитывался.
— Вот. Все правильно. Как вы полагаете, надо дописать, что мальчик — мой… мой… мой родственник, а?
— Не надо, Александр Иванович, — мягко возразил лейтенант. — Полковник всегда с уважением к вам относился. Он все сделает, раз вы его просите.
— Так. Значит, сделает. Тогда берите парнишку и — в Туапсе. К Гринбергу. Прямо в госпиталь. Да-с.
— Товарищ военврач первого ранга, но я не могу — сейчас придут машины, надо разворачивать медсанбат.
— Да-с, — отрешенно отозвался майор и вдруг встрепенулся:
— Что? Не можете? То есть как это не можете? Это приказ!
— Но санбат…
— Прекратить! — майор снова ударил кулаком по столу, и этот звук слился с нечеловеческим воплем, оборвавшимся в треске автоматной очереди во дворе.
— Что там? — мгновенно протрезвев, спросил майор.
Лейтенант и Панькин выскочили за дверь. Врач встал и тоже пошел во двор, за ним — Митька.
Первое, что увидел Митька, был Костя, уткнувшийся носом в землю и вцепившийся волосатыми руками в жухлую траву. Митька уперся взглядом в несуразно торчащий в Костиной спине какой-то сук, вокруг которого чернело и расплывалось пятно на гимнастерке. Не сразу понял, что это — рукоять горноегерского ножа, а сообразив, вдруг не почувствовал под собой ног и непроизвольно сел. Машинально наблюдал, как лейтенант осматривал Костю, как волокли откуда-то из-за дровяника грязное, окровавленное тело Николая… Слышал, но не воспринимал доклад Власенко майору:
— Они сидели рядом. Потом этот откуда-то выхватил тесак и с размаху тому в спину, а сам, как заяц, скачками за сарай. Ну, я его и срезал очередью.
— Откуда нож?
— Не знаю, товарищ майор.
— Их обыскивали?
— Того, раненного ножом, я сам обыскивал. А этого не знаю.
— Лейтенант! Этого… убийцу обыскивали?
— Кажется, нет, товарищ военврач.
— Что значит — кажется? Сейчас прибудет особист. Потребует объяснений. Кому отвечать? Я старший. Значит, мне?
— Что за шум, а драки нет? — показным простецким обращением прервал майора старший лейтенант, неслышно подоспевший с дороги.
Майор обернулся к нему и холодновато-равнодушно констатировал:
— Ага. Легок на помине. Ну так вам, старший лейтенант, и карты в руки.
— Э, доктор, смотря какие карты. Краплеными сам не играю и другому скулу сверну.
— Да-с, — неопределенно отозвался майор и повернулся к дому. — Вот лейтенант вам все расскажет, а мне надо санбат разворачивать. — Наклонившись, взял за руку, потянул, поднял Митьку:
— Идем, Митя, у нас еще много дел.
— Минуточку, майор, — властно остановил его старший лейтенант. — Тут, я вижу, кое-что осложнилось. Так что попрошу остаться.
— Я же сказал, лейтенант, вам…
— А я сказал: остаться.
— Хорошо, я только мальчишку отправлю и полностью в вашем распоряжении.
— Ладно. Но попрошу побыстрее. А что за мальчишка? Откуда? Чей?
— Да здешний. Сирота… — неохотно и глуховато процедил майор.
— А он не с этими? — подозрительно посмотрел особист, кивком головы указывая на мертвых.
— Ну, что вы! Конечно нет, — несколько поспешнее и громче, чем надо, ответил майор.
Старший лейтенант молча в упор с минуту смотрел на Митьку и, видимо, потеряв к нему интерес, повернулся к Власенко:
— Давай, солдат, докладывай.
Он подошел к колоде, на которой рубят дрова, смел планшеткой щепки, сел и неторопливо закурил.
Майор широко зашагал к дороге, волоча за руку Митьку. Подвел к пожилому усатому бойцу, передал ему свою записку, что-то долго объяснял, в чем Митька не разобрался, потом схватил Митьку, приподнял, как ребенка, сильно, до хруста ребер, прижал, деранул по лицу шершавой, щетинистой щекой, отпустил, положил руки на Митькины плечи, отодвинул его, рассматривая, сказал тихо, душевно:
— Иди, сынок. Старшина Савич доставит тебя до места. У тебя дорога. Длинная, трудная дорога до победы и дальше. А это все… что тут было… забудь. Это все… прах.
Митька заплакал. Майор повернул его к себе спиной, слегка подтолкнул, сердито и болезненно почти прокричал:
— Иди. Расти, Войны еще много.
И, круто повернувшись, весь как-то вдруг обвис, ссутулился, тяжело, неверно шагая, пошел к черному бревенчатому дому на лесной полянке в глубине ущелья.
Все это промелькнуло в памяти, в полубреду, и когда лейтенант открыл глаза, возле него старшины не было, а сидел Васин с перевязанной рукой.
— И, понимаете, товарищ лейтенант, вот же смотрю и не верится: как же так, вроде, в нашей форме, с нашим оружием и говорит-то по-нашему, а не наш?
Не получив ответа, смущенно ерзнул на табурете:
— Не наш, а по нашей земле ходит. И всех боится — и нас, и немцев, и военных, и цивильных. Позавчера ездового убили, консервы с повозки забрали. Вчера девчушку, двенадцати лет, застрелили. Поймали их сегодня. Спрашиваем: за что? А боялись, говорят, чтоб не разболтала про нас. Как же так жить можно?
Васин со зла плюнул себе под ноги, но тут же испуганно зыркнул на лейтенанта, потом виновато оглянулся на Лиду. Поймав ее укоризненный взгляд, покорно, на цыпочках прошел в угол, взял швабру и тихонько пошаркал ею по тому месту, куда плюнул. Поставил швабру в угол, вернулся к койке.
Лицо лейтенанта порозовело, он медленно раскрыл глаза, остановил взгляд на Васине, зашевелил губами.
Васин наклонился к самому лицу лейтенанта, полудогадался, полуразобрал:
— Не человек. Хуже врага… Гнус…
Лейтенант обессиленно замолк. Васин немного подождал, прислушиваясь. Распрямился, пояснил Лиде:
— Это он про дезертиров. Не люди, говорит.
Лейтенант шевельнул рукой, открыл глаза, требовательно посмотрел на Васина. Тот наклонился, прислушался к шепоту.
— Мертвецы…
— Вот и я ж говорю, — подхватил Васин, увидев, что лейтенант снова закрыл глаза и побледнел. — Я как считаю? Тебе Родина не нужна? Так и ты ей не нужен! Ты людей боишься, тебе они не нужны? Так и ты им не нужен! А на что ты тогда? Вот и есть живой мертвяк.
Васин повернулся к Лиде:
— Вот скажи ты мне: за что про что этакая падаль покалечила лейтенанта или ту девчоночку?
— Ты не кричи, парень, — тихо, умоляюще остановила Лида. — Не видишь разве, боль на него навалилась. Больно ему, страшно больно…
У Лиды заблестели глаза, частыми капельками по щеке юркнули под халатик слезы. Васин растерянно, вставая, уставился на лейтенанта, лицо которого сводили судороги, а пальцы лежавшей на одеяле руки судорожно сжали серое сукно.
Васин на цыпочках пошел к выходу. Лида подбежала к раненому, наклонилась, стала дуть в глаза, в нос. Обхватила его голову и тоненько, в голос заплакала.
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАДАНИЕ
Пока возился с лямками и стропами, стараясь развернуться по ветру, упустил момент приземления. Упал на левый бок, по затылку ударил вещмешок с толовыми шашками, лицо ткнулось в мерзлую землю и как по рашпилю проехало по ней за непогашенным куполом. Почти ослепнув от боли и ярости, Сергей перевернулся на спину, изо всех сил потянул за стропы, утихомирил парашют и минут десять лежал, приходя в себя и почти машинально наблюдая, как растаял в темном ночном небе унесенный ветром парашют старшего группы лейтенанта Николая Багмута. Мелькнула мысль: «Разнесло, не соберемся». Освободившись от подвесной системы, встал на еще дрожащие ноги, огляделся. Серую предутреннюю мглу трепал острый ветер, словно силился разорвать, развеять ее над пятнистой от снега и чернеющих копешек прошлогоднего сена поляной, швырял и гнал ее на темную, угрюмую громаду гор, обступивших долину. Где-то игрушечно пипикнул паровоз, неясным шорохом с пристуком донесся из непроглядно-серой дали шум проходящего поезда и оборвался, словно унесенный порывом колючего ветра.
Сергей прикинул: по времени самолет выбросил их в четыре ноль-ноль. Стало быть, сейчас не больше половины пятого. До утра еще добрых три часа. За это время надо успеть с имуществом управиться, найти напарника и добраться до назначенного места.
Глянул на компас, чертыхнулся — разбил при приземлении. Внимательно вгляделся в очертания гор. Ага, вон та громада с кучей горбов на вершине — не что иное, как Бештау. А эта сопка поближе — конечно же, Машук. «Стало быть, мне топать на восток — где-то там должен быть Пятигорск. Ладно. Первое дело — ликвидировать парашют, спрятать взрывчатку. Потом найти Николая. У него — запалы. Ни он без моего тола, ни я без его запалов ничего не сделаем с тем железнодорожным мостом, который предстоит взорвать. А без этой диверсии мы за войсковых разведчиков не сойдем, и немцы сразу раскусят, что мы — чекисты. Тогда весь план войти к ним в доверие побоку, а нас — в лучшем случае за колючку».
Сергей достал завернутую в обрывок полотенца бритву и принялся обстоятельно кромсать белоснежный купол. Изрезав, перетащил тряпки к ближайшей копне, приподнял ее и запихал весь ворох лоскутов под пахнущее прелью слежавшееся сено. Туда же затискал вещмешок со взрывчаткой и, вздохнув с сожалением, — пистолет.
Не спеша, оттаивая в ладонях твердый ноздреватый снег, осторожно обмыл саднящее лицо. Талая вода стекала темными струйками. Подумалось: «Наверное, и кровь и грязь. Попадусь на глаза — и паспорт спрашивать не станут. А все-таки где же Николай? Условного свистка не слыхать. Может, разбился — тоже ведь первый раз с парашютом прыгал. Или ветром занесло далеко. Тут, помнится, по карте где-то высоковольтная линия. Хоть бы на провода не угодил».
Покряхтывая и шипя сквозь зубы — рука и левый бок тошнотно ныли, — распрямился. Посвистал. Прислушался. Не слыхать. Пошел в ту сторону, куда, как ему казалось, сносило парашют напарника. Шел и время от времени подавал сигнал. Но кроме злого шипения ветра — ничего. Бродил долго. Прикинул — больше часа. Дурь-дело. Значит — по второму варианту. Тогда — спать. Зарылся в копну. Шуршали и попискивали мыши. Тело ныло. Но сон победил.
Проснулся сразу. Помнил все, будто и не спал. Стал выбираться из копны. Все тело ныло — аж застонал. Встал, принялся отряхивать свою одежку — потертое рыжеватое пальто с облысевшим собачьим воротником, затасканную кроличью шапку-ушанку, темно-серые в полоску вылинялые брюки навыпуск и до предела стоптанные вразвалку ботинки, зашнурованные сыромятными кожаными ремешками.
Долина осветилась алыми бликами поздней декабрьской зари, разлитой за горами. Морозец покрепчал. Сергей пожалел о своей теплой, притертой ватной стеганочке, которую там, дома, поддевал под шинель.
«Ладно. Надо идти. Только вот, дурь-дело, физиономия у меня больно привлекательная для любого патруля и полицая». Вздохнул. Приметил вдали резкие черные изломы оврага или ущелья, пошел к нему. Оказалось, то был спуск в ущелье, которое выводило в нижнюю долину, прочерченную железной дорогой, телеграфными и электроопорными столбами, лентой шоссе и рыскающей в обрывах змейкой реки. «Ага. Это должно быть, Кума. Теперь все сходится с тем, что изучал по карте. Попробовать добраться до железной дороги, подцепиться — и на Минводы».
Сергей пошел вниз по ущелью. Слева открылся какой-то поселок. В этот момент из-за Машука выскочило солнце, ударило ослепляющими лучами, высветило долину, разрисованную мазками снега, развалинами старых гор, паутиной дорог, дорожек и тропок. По одной из них шли двое. За плечами покачивались штырьки винтовочных стволов. И деваться некуда. Устало поплелся навстречу.
— Эй, стой! Руки уверх!
— Вы чего, мужики?
— А вот щас узнаем. Партизан?
— Да эвакуированный я. Бухгалтер госстраха.
Один держал винтовку «на руку». На рукаве — белая повязка. Другой, тоже с повязкой, закинул винтовку за спину, подошел, стал обыскивать. Залез в нагрудный карман. Достал паспорт с вложенным туда эваколистом. Отодвинулся, стал читать.
— Ну, чего там в бумагах?
— Да чего хош. И бухгалтер, и вакуированный. И содействие, мол, оказывайте…
— Ага. Ну, так давай посодействуем. А ну, март вперед!
Шли лениво. Полицаи вяло перебрасывались словами по поводу вчерашней попойки и где бы опохмелиться.
Пришли. На аккуратном домике вывеска: «Лисогорский поселковый Совет». «Ишь, сволочи, — ругнулся про себя Сергей, — и вывеску не сняли. И за то спасибо: хоть знаю, что попал в Лисогорки. Значит, рядом — Пятигорск».
Толкнули в дверь. В большой комнате — длинный стол. У стены — диван. На нем — укутанный в простыни и накрытый немецкой шинелью с лычками на погоне здоровенный мужик. Даже лежачего видно — битюг. Старшой (так его определил Сергей) шагнул вперед, заискивающе, но громко рявкнул:
— Гер комендант!
Туша заворочалась. Высунулась круглая, как у бобра, голова в рыжих патлах.
— Так что партизана словили!
Рыжий бобер фыркнул. Завозился. На круглом шаре открылась черная дыра — комендант зевнул. Дыра закрылась. Под белесыми бровями возникли и выпуклились бесцветно-холодные глаза.
— Партизан?
— Да нет же. Эвакуированный. Бухгалтер.
— Брешет, гер комендант. Поглядите на рожу. Весь побитый да подранный. Мабуть, из засады вырвался.
— Я. Гут. Бистро. Вилли. Вести вы. Два. Вэк.
Затрещали и заныли пружины дивана — бобер перевернулся на другой бок.
Во дворе растолкали спящего шофера. Зафыркал мотор. Сергея подтолкнули в кузов грузовика, следом влезли оба полицая. Машина выбралась на шоссе. Мимо побежали телеграфные столбы, большей частью перебитые, расщепленные, поваленные.
Через полчаса на спуске с перевала в котловину, стиснутую горами, раскрылся город. Сергей понял: Пятигорск.
Еще четверть часа петляли по улицам, остановились возле особняка с мрачной вывеской «Фельдкомендатура».
Подталкиваемый полицаями, Сергей поднялся по ступенькам, прошел полутемным коридором, зловонно пропахшим туалетом и дезинфекцией (эта проклятая дезинфекция будет потом преследовать даже во сне), и остановился у высокой двери, загороженной раскоряченным эсэсовцем, который, выслушав полицаев, посторонился.
В большой душной комнате за председательским столом наподобие большой настольной лампы изогнулся грязно-зеленый человек, который, не разгибая дуги своего тела, вдруг приподнял только голову и уставился исподлобья на Сергея, став похожим на готового к прыжку желтобрюха. Почему желтобрюха? А черт его знает! Видел как-то в детстве Сергей, как желтобрюх на полевую мышь охотился… Да и глаза желтые…
Желтобрюх вздохнул, начал выпрямляться. Создалось впечатление, что он не сидел за большим письменным столом, а держал его на коленях. Выбирался из-за стола долго. Показалось — бесконечно. Наконец, выбрался и распрямился. Пораженный, Сергей увидел, что колени вставшего возвышаются над столом. Подошел, растопырил ноги-ходули, руки спрятал за спину («Кулаки, небось как пудовые гири», — мелькнуло у Сергея), наклонился над пленным, неожиданно басом рыкнул:
— Кто ти ест?
— Эвакуированный я. Ночью сбился…
— Я, я! — осклабился Вилли, открыв полный рот крепких крупных зубов, густо прикопченных табачным дымом.
— Я, я! Ночь, да? Дорога нихт? Да? Я, я!
И вдруг реванул, как на плацу:
— Франц!
От стены шагнул квадратный, с закатанными рукавами, голова — в плечах, даже уши где-то там, заваленные складками, уходившими от подбородка куда-то на затылок, вернее, на холку. Сергей сжался: «Это — мясник… Сейчас ударит… Иых, гад! Как же больно… Фу-х, опять вижу… Что-то вроде народу в хате прибавилось… Что ж это? Неужто Николай? Ну да, он. Значит, тоже взяли. Что ж, это даже к лучшему. Ускоряет выполнение задания. Только как теперь держаться? Николай вроде не битый?»
Вилли наклонился над Николаем:
— Отвечать. Бистро. Этот знайт? — ткнул пальцем в Сергея.
Николай угодливо щелкнул каблуками:
— А как же? Мой боец из разведроты в Гудермесе. Задание вместе получали. Можете проверить: взрыватели у меня, а толовые шашки у него. Сбросили-то вместе. Только ветром…
— Швайген! Молчать!
Как всегда в минуту опасности, мысли у Сергея понеслись каким-то роем: что-то вспоминал, что-то взвешивал, что-то предвидел, что-то пытался предугадать, что-то оценить, где-то поискать выход, в чем-то усомниться… И все это одновременно. Потом вдруг все стихает и стихает. И остаются одна-две ясные и четкие, как черные галки на снегу, то ли мысли, то ли картинки. «Так, значит, Николай раскрылся. Выходит, и мне сознаваться. А в чем? Что сказал Николай? И случайно ли они так быстро попали в лапы врага? Может, у него особое задание, на счет которого командование решило не ставить меня в известность? А может… Как быть? К черту! Дальше легенды не пойду».
Вилли шагнул к Сергею, протянул к лицу лапищу, до дикой боли защемил нос, крутанул лицо к Николаю, рокотнул:
— Его знайт?
— Да, знаю. — Сквозь застилавшие глаза слезы увидел мутное лицо Николая. — Пусти, сволочь!
Тяжкая пятерня Вилли стукнула по затылку, перед глазами поплыли круги. Вилли отпустил нос, гоготнул:
— Юберменш! — И тут же опять грозно: — Парашют! Тол!
Сергей, вытирая слезы и кровоточащий нос, шмыгал и молчал.
Неожиданно вмешался Николай:
— Да ладно, Серега… Пытать же будут… Знают же…
— Поедем. Покажу. — Сергей шмыгнул носом.
Вилли воркотнул. Франц схватил Сергея, поволок на улицу, втолкнул в машину. Все свои похоронки Сергей нашел быстро. Франц пересчитал толовые шашки. Вылузгал из обойм патроны к пистолету. Доволен. На обратном пути даже в бок не толкал.
В кабинете, кроме Вилли, ждал еще какой-то немец. Весь в черном. Наверное, СС. Высоченная тулья на фуражке. Погоны в серебряных сплетенных змейках. Холеный, надменный, невозмутимый. Глаза навыкате — портят аристократический вид, и даже благородная бледность с синевой выбритых щек не может зашторить первое оглушающее впечатление: садист.
«Как же их, этих черных чертей? Штурмбан… нет — штурмфюрер или шарфюрер. Чтоб вас черти…»
Черный легко и ловко встал, подошел, схватил Сергея за подбородок, крутанул голову, аж шея хрустнула. Деловито, как что-то неживое, промял всей пятерней кожу на лице, отчего из-под струпьев выступила и вяло потекла кровь. Обошел вокруг. Схватил за левую руку, резко рванул ее вверх, другой рукой одним рывком оборвал пуговицы сразу и на пальто, и на сорочке, обнажил черно-синий от ушиба бок, разом отпустил и руку, и одежду пленника и, ни на кого не глядя, отрубил:
— Парашютист.
И повернувшись к Сергею:
— НКВД? Диверсант? Разведка? Только не врать! Проверю.
К этому времени, выйдя из полуобморочного — от боли — состояния, Сергей уже принял решение.
— Армейская разведка, гер обер… обер…
— Майор, — пришел на помощь черный. — А зачем тол?
— Ну, попутно… — Сергей сделал вид, что замялся. — В общем, мост надо было рвануть. На железной дороге.
Черный что-то квакнул. Вилли торопливо, с клацаньем стальных дверок, выхватил из сейфа карту, расстелил на столе. Черный поманил Сергея пальцем, кивнул на карту, приказал:
— Покажи.
У Сергея заколотилось сердце. Дело в том, что на инструктаже обсуждалось несколько вариантов. Какой из них назвал Николай? (А что он назвал — Сергей не сомневался.) «Так. Если эту Моздокскую дорогу — ничего не дает: за сутки восстановят. Через Куму — тут посложнее, все-таки под обрывом… Но… Нет. Вернее будет через Малку. Длина — дай боже. Быки многометровой высоты. И дорога важная. Подвоз на Баксан и Приэльбрусье к войскам на перевалах по этой нитке идет. Должны поверить».
— Вот, — Сергей ткнул пальцем в карту и поднял глаза на черного. Тот повернул голову, и Сергей напрягся, увидев рядом Николая. Лицо у того было бледное до синевы, губы бесцветно-фиолетовые, глаза сделались какого-то неопределенного цвета, пальцы на руках до белизны в косточках сжали и тянули вниз полы кургузого гражданского пиджачка. Все это длилось какое-то мгновение, но Сергею казалось, что прошла вечность. Наконец дрожащие губы Николая разжались.
— Да чего уж там, господин майор…
Сергей решил: назовет другой мост — прыгну, устрою драку, а дальше видно будет…
Николай откашлялся и уже твердо и уверенно продолжал:
— Врать нам теперь не с руки. Так оно и было. На этот мост нас и нацелили. На всякий случай — если удастся. А главное, я ж говорил, да и он подтвердил (кивнул на Сергея) — это номера, расположение и численность войск.
— Значит, разведка? А я думаю, НКВД. — Черный смотрел остро.
И тут Сергея словно прорвало. Нет, нет! Он не чекист. Он — войсковой разведчик. Только разведчик. Его дело — разведать передний край, по возможности заглянуть в тылы. И все. Ничего другого он не знает. О своих войсках? Да, пожалуйста! Вот тут и тут — танки. А тут — артиллерия. Здесь кавдивизии. О, много! Свежие. Хорошо обмундированные и вооруженные. Да вот у него спросите, он, может, больше знает. Посмотрел на Николая. Тот рассматривал карту, не поднимал глаз. Медленно сказал:
— В общем, верно. Да я уже докладывал вам…
— Хорошо. Проверим. — Это черный перебил.
Сергей расслабился настолько, что даже голова закружилась.
Между тем Николай, будто рассуждая вслух, продолжал:
— Но прошу учесть, господин майор. Он ведь мог получить и еще какое-то задание, помимо того, что давали нам обоим.
«Это он для чего? — опешил Сергей. — Так ведь и под пытки может кинуть». Кровь ударила в голову, а ноги похолодели и стали противно неметь.
Эсэсовец внимательно уставился на Николая, насмешливо сказал:
— Вы что-то мудрите, лейтенант. Вы — старший. Вы не могли не знать о дополнительном задании, если оно было. Или вы что-то недоговариваете.
— Нет, господин майор. Я не мудрю.
— Так что вы предлагаете? Отдать его Францу на третью степень?
Николай вяло махнул рукой:
— Совсем не то, господин майор. Если позволите, я хотел бы изложить вам свои соображения без его присутствия.
Майор, не оборачиваясь, шевельнул кистью руки, и Франц буквально вышвырнул Сергея в вонючий коридор, с разгону шарахнул его больной рукой и боком о стену. Сергей застонал сквозь зубы и сполз на пол. Франц гыгыкнул, но поднимать не стал.
Когда боль отпустила, Сергей услышал отрывочные фразы:
— Незаметно следить. (Это Николай.)
— Что даст? (Майор.)
— Если… (Не слышно…) Обязательно будет искать.
— Он должен работать на нас. (Майор.)
— Да будет, будет. Я его знаю: слаб, легко согласится. Только покрепче спеленайте! Выдаст связника — тогда ему к своим дороги нет.
— Вы полагаете: он чекист?
— Чего не знаю, того не знаю. Да нет, не думаю. Больно туповат и малограмотен. («Эге, а Николай хитер», — взбодрился Сергей.)
— Тогда причем тут связник?
— Ну, я думаю… Почему ж он меня не искал? Взрыватели-то у меня? Может, на партизан наводка есть? На кого-то ж он надеялся. И скорей всего, на кого-то неведомого, кто его сам должен найти.
Воцарилось молчание. Потом гулко затопали кованые каблуки эсэсовца. Видимо, тот ходил по кабинету, раздумывал.
У Сергея совсем онемело ухо, прижатое к двери, и затекла изогнутая шея.
— Гут! — донеслось из-за двери. — Но под вашу ответственность! Если что — оба под третью степень. Вилли! Пристройте их где-нибудь на кухне или еще где-то, черт их побери. И пусть имеют возможность выходить в город. Разумеется, под нашим надзором. Но чтоб не наследить. Тащите того русского.
— Яволь! — Это гаркнул Вилли.
…В просторном кабинете вокруг большого длинного стола склонилось несколько офицеров. Когда Сергея подвели к нему, он увидел большую расстеленную карту крупного масштаба. «Эх, дьявол! — пожалел Сергей. — Плоховато у меня с немецким…» Он с жадностью всматривался в линии рубежей, огневых позиций, опорных пунктов, в синие и красные стрелы, пунктиры, ромбики, самолетики, не вслушиваясь в то, что спрашивал повелительный голос. Бледно-синий, покашливающий переводчик (наверное, чахоточный) глухим голосом прогудел:
— Господин генерал приказывает показать, где ты видел казачьи кавалерийские дивизии.
Сергей склонился над картой. Всмотрелся. Позавидовал: «До чего ж, гады, точные карты имеют. Гляди, даже конзавод под Гудермесом обозначен. А ведь его только в прошлом году из-под Ставрополя эвакуировали». Отыскал Грозный, Серноводск, Гудермес, станцию Карабулак, ткнул пальцем:
— Здесь, здесь и здесь.
— Чем докажешь? — перевел чахоточный очередной вопрос генерала.
Сергей развел руками, растянул рот в улыбке.
— Видел. Сам видел. Через Каспий везли на баржах, на плотах, на паромах, на пароходах. Коней, пушки, танки, минометы. Ящики всякие. Должно — боеприпасы. А там — черт их знает. Казаки все в новеньких бурках, в черкесках. В Карабулаке танками сады забиты.
Сергея предупредили еще в Грозном, что в этих районах и по всему Терскому хребту будут сооружены ложные аэродромы, ложная линия обороны, скопления деревянных танков и пушек.
Переводчик долго и, видимо, с трудом переводил. Его слушали молча. Потом генерал спросил:
— Откуда тебе все это известно так подробно?
— Так мы ж разведрота, — доверчиво заулыбался Сергей, чуть отведя в сторону правую руку и по-простецки крутнув головой. — Пришлось всюду побывать. Посылали. А где не был, там не был. Врать не буду. Ну, а в частях — нам везде дорога. У нас — арака, а у казаков — «второй фронт». Вот и менялись. Дело солдатское.
Переводчик опять повернулся к Сергею:
— Что значит «второй фронт»?
Сергей развеселился. Потом помрачнел:
— Скажи своим хозяевам, что мы так называем американские консервы-тушенку.
После перевода немцы начали гоготать. Резко оборвав смех, генерал стал придирчиво расспрашивать, куда Сергей ходил в разведку, что видел, с кем говорил, о чем узнал, услышал.
Не бог весть какой стратег, Сергей умел читать карту и с ходу сочинял позиции войск и даже позволял себе высказывать предположения. И только когда офицеры облегченно распрямились вокруг стола, а генерал жестом фокусника сдернул карту, под которой оказалась совсем другая, с иными контурами обороны и разноцветных стрел, понял, что его провели. Или проверяли. «Но как же так, — лихорадочно соображал он, — ведь там были правильно нанесены оборонительные рубежи и дислокация войск. Я же помню». Но его уже оттеснили от стола, отвели к двери, поставили лицом к ней.
Вскоре разговор был окончен, и Сергей услышал за своей спиной шаги. Рядом с ним, стоявшим между двумя вытянувшимися охранниками, остановился сухощавый, прямой, с седыми висками генерал. Сделав воинский поворот налево, уставился в глаза Сергею холодным, жестким и до боли острым взглядом:
— Цу мир!
Конвойные схватили Сергея с обеих сторон за локти. Подтолкнули вслед повернувшемуся и пошагавшему генералу.
«Что ж они задумали? — пытался сообразить Сергей. — В расположении частей я не ошибся: на то число они были там. И немцы наверняка об этом знали. Что ж не так? Неужели наши так рванули, что все переменилось?»
В кабинете генерала было серо и дымно. В углу, развалясь в кресле, сидел какой-то бесцветный человечек. При входе начальства вскочил, вытянул руки по швам. Генерал что-то сказал. Человечек дернулся, повернулся к Сергею, бабьим голосом приказал:
— Подходиль близко! Бистро. Отвечаль!
«Никак переводчик? — удивился Сергей. — Лучшего не нашли?»
— Беслан хорошо знать?
— Ну, хорошо не хорошо, а знаю.
— Отвечаль кратко!
— Ну, знаю.
Человечек повернулся к генералу, перевел и стал слушать длинную тираду. Наконец повернулся к Сергею:
— Косподий кенерал отпускать тебья домой. Нах хауз.
С этими словами он подбежал к высокому старомодному бюро, взял что-то из лежавшей там папки и поднес к лицу Сергея крупноплановую фотографию, на которой был запечатлен он, Сергей, и крепко обнявший его Вилли с полным бокалом в руке. Перед ними на столе красовались бутылки с этикетками водки, коньяка, вскрытые банки консервов. Сергей рассмотрел снимок. Спросил:
— И что?
— Мольчать! Ти идешь домой. И много смотришь. Туда-сюда. Все видеть, слушать. Имеешь цивиль аусвайс. Помнить все-все. Два дня. Потом цурюк, здесь, и все сказать косподин кенерал.
У Сергея заныло под ложечкой. «Что за чертовщина? Или меня за дурака считают, или этот идиот так переводит… Чушь какая-то».
— Не пойду! — решительно замотал головой Сергей.
— Варум? — даже взвизгнул куцый.
— Дураку ясно: война, поймают, шлепнут. Кто поверит? Не, не пойду!
— Найн! Пойду, пойду, пойду! — окончательно вышел из себя человечек.
Генерал наблюдал равнодушно. Потом негромким «генук» остановил своего незадачливого помощника и движением кисти руки выслал его за дверь. Видимо, нажал кнопку. В кабинет танцующей походкой вошла хрупкая миловидная девушка. Каблуки высокие, тупоносые туфельки блестят. Ножки стройные, гладкие. Юбочка на ладонь выше колен. Под кофточкой чуть выдаются треугольники грудок. Шейка — высокая, точеная, белая. А выше — лицо. Нет, не лицо. Глаза. Глазищи. На белом экране — опаляющие, всеохватные глаза.
«Так это та, что во дворе встречал! Ну, ведьма! — усмехнулся про себя Сергей. — Колдунья».
Что-то по-птичьи защебетала. Даже лающая фрицевская речь обрела переливы иволги.
— Господин русский диверсант!
«Ага, это уже ко мне», — встрепенулся Сергей.
— Господин генерал хотел бы поговорить с вами по душам.
«Интересно все же, глаз совсем не поднимает».
— Давай девонька. По душам, так по душам.
— Господин генерал хорошо понимает (глаза на миг полыхнули и обожгли) и входит в ваше положение.
«Понимает, понимает… Ах, вот оно что! Генерал понимает по-русски. Ай да птичка-щебетушка. Ну спасибо». Он опять пытался поймать ее взгляд и не мог.
— Входить в мое положение, фрейлейн, он никак не может. Ранг не тот. А понимать… Скажи: я весь внимание и готов служить.
Глаза снова полыхнули не то гневом, не то предупреждением.
— Господин генерал говорит, что вы пойдете к русским не с пустыми руками. Он даст вам боевую оперативную карту. Вы сможете сказать, что похитили ее. Данные на карте верные. Вам поверят.
Глаза опять полыхнули.
— Ну, ну. Давай дальше. Дальше, наверно, интереснее.
Фрейлейн перевела. Генерал подергал сухими губами, видимо, изображая улыбку. Снова ровно загудел:
— Дальше вы добудете такую же русскую карту, — сказала переводчица, и в глазах ее мелькнул испуг ожидания.
— Ого!
— Такую же русскую карту, — повторила она, — и доставите нам. Господин генерал сказал: «Мне. Лично».
— Так тебе, птаха, или генералу?
— Мне! — по-русски четко, чисто и громко рявкнул генерал.
— Ага. Вот теперь все понятно. Кроме одного. Кто поверит, что ваша карта подлинная? И если я достану русскую карту — а я в этом здорово сомневаюсь! — не окажется ли она… «липой», нарочно сработанной брехней?
— Исключено. Вам поверят. С такой же картой, как у вас, пойдет другой ваш человек, — сухо ответил генерал.
— Кто?
— Не слишком ли вы любопытны для простого рядового армейского разведчика? — впился взглядом в лицо Сергея генерал. И переводчица опять обожгла о чем-то предупреждающим взглядом.
Сергей промолчал. Фрейлейн мялась у дверей, не зная, как поступить. Наконец шеф обратил на нее внимание:
— Анхен, два кофе!
Та облегченно выпорхнула из кабинета.
— Не задавайте лишних вопросов при переводчице. Она нам преданна, но фольксдойче — родилась и училась в России.
— Понял.
— Ничего вы не поняли. С другим нашим человеком там могут устроить вам очную ставку. Вы знаете друг друга. Это лейтенант Багмут. Вас вместе забрасывали сюда. Здесь вы сразу выдали друг друга. И взаимно возненавидели. Не так ли?
Принесли кофе. Генерал поблагодарил Анну, приняв из ее рук чашечку. Анна на миг заслонила собой генерала, подавая кофе Сергею, и на его вопросительный взгляд ответила выплеском глаз, похожим на крик раненой птицы.
— Верно, господин генерал. Возненавидели. Надо полагать, что там нам придется делать вид, что мы друг друга не знаем. А вдруг я его выдам и припомню, как он охотно согласился сотрудничать, как меня склонял не ломаться и кое-что другое? Он-то против меня ничего сказать не может!
Генерал отпил из чашечки, сказал:
— Напрасно вы так думаете. Он блестяще организовал слежку за вами. Все ваши планы и все ваши люди у нас под наблюдением.
— Я вас не понял, господин генерал. Какие планы? Какие люди? В городе я искал только шнапс. Если и чистил сапоги у незнакомого мне перса, так разве это повод считать его моим человеком? Или киоскера, у которого я купил «Свободный Кавказ» с портретом фюрера в белой бурке и на белом коне? Или съел горячий хачапури…
— Это как посмотреть, а главное — как подать. Так что лучше вам не выдавать друг друга. Надеюсь, теперь вам это ясно? Сегодня ночью — в путь.
Генерал встал, дав понять, что разговор окончен.
Вернувшись во двор и принявшись за дрова, Сергей вновь и вновь перебирал в памяти разговор с генералом. Что-то здесь не складывалось. Ни с того ни с сего его, безвестного пленника — пусть даже войскового разведчика (может, они считают — чекиста), все равно безвестного, непроверенного, — зовут в штаб и дают задание. Наверняка ловушка. Но тогда карта должна быть фальшивой. Хотят сбить наше командование с толку. Ну нет. Дайте только вырваться — он кое-что доложит своим: и о частях, и о направлениях отхода, и о фашистских приспешниках, дезертирах, изменниках, и кое-что из того, что Курт слышал у своего генерала о группе «500», «специалисты» которой заброшены в наши тылы по всему Кавказу. А карта… Да ничего, и с картой у нас разберутся.
Неожиданно на дворе появился Николай, подошел к колонке, накачал в ведро воды, но, неловко схватив за дужку, опрокинул его, стал, ругаясь, снова наполнять водой. Сергея подмывало заговорить. Но рядом вертелся, подбирая дрова, приставленный к кухне расконвоированный пленный Пысин, и Сергей решил разыграть ссору.
— Что, ручки не оттуда растут?
На удивление, Николай не задрался.
— Да нет, понимаешь, Таня стирает и мыльными руками за дужку взялась. Вот она и выскользнула.
— А она тебе уже и подштанники стирает?
Лицо Николая пошло пятнами. Он поставил ведро, выпрямился, провел по щекам ладонью, словно смахнул паутину. Вдохнул. Наклонился, взял ведро, выдохнул:
— Поговорить надо.
— Так пригласи к своей Татьяне.
Николай как-то насмешливо посмотрел на него:
— Ну что ж, к моей — так к моей. Давай, если зубы крепкие — через часок заходи. На втором этаже, пятый кабинет.
Поравнявшись, чуть слышно процедил:
— Уходить надо. — И громко: — Через часок — прошу!
Но через час Сергею не удалось зайти в пятый кабинет. Сергей видел, как эсэсовцы провели Николая и Татьяну в тот старинный дом, который он для себя стал называть штабом. Потом оттуда донесся глухой взрыв, стрельба, поднялась суматоха.
Вскоре двор стали заполнять закрытые машины. Солдаты таскали и грузили в них какие-то ящики, узлы. Над кутерьмой то здесь, то там колыхалась длинная верхняя половина Вилли, ревел его бычий бас. Через чьи-то головы достал Сергея. «Хир! Штет! Давай-давай! Не отходить! Нести. Быстро! Ферфлюхте!»
Сергей оттащил мешок, швырнул в кузов, улучил минуту:
— Вилли, вас ист лос?
— Швайген! Мольчать! — толкнул в шею.
«Что-то случилось, — подумал Сергей. — Ясно, что драпают. Но почему на меня злится? Дурь-дело». Пробегая в очередной раз мимо Вилли, нарочно споткнулся, упал на мешок, зазвенели склянки.
— У-у! Швайн! — Вилли легко, как куклу, подхватил и поднял Сергея, оторвав его от земли. Было противно от нелепой беспомощности.
— Ты чего? — прохрипел Сергей.
— Швайн! Дас ист шнапс! Водка! — Глаза у Вилли стали белыми от ярости.
— Да пусти ты! — Сергей вертел сдавленной воротником шеей. — Сбегаю, еще принесу.
— Найн, шорт бери! Поздно. Приказ. Нах Армавир! «Эге, — подумал Сергей. — Блиц-драп». А вслух:
— Успею!
— Найн! Нигде не ходить. Быть здесь. Со мной.
— Да что с тобой, Вилли?
— Молчать!
И согнувшись пополам, чтобы дотянуться до Сергеева уха, прохрипел:
— Никола — Иван. Татиан — Иван. Бросал граната. Два эсэс капут. Приказ: всех русских пу-пу. — Он сделал пальцами подобие пистолета. — Не отходить!
Сергей забеспокоился. «Улизнуть-то, пожалуй, можно. Да и узнать кое-что удалось. Но вот планы… Хотя бы те, пусть даже фальшивые, карты… Не могли они там все запутать. Наши разберут. А что, если эта самая Анна? Что-то в ней такое…» Вспомнил полыхающие глаза. «Рискнуть? А почему бы и нет?»
— Вилли! Шнапс есть. Рядом! Фюнфцен минутен! Ящик!
Вилли подозрительно уставился в глаза Сергею, для чего задрал его голову за подбородок:
— Врать?
Сергей клятвенно сложил руки на груди.
Вилли устрашающе выпучил глаза, рявкнул:
— Гут! Шнель! Цен минутен!
Сергей подобострастно закивал, помчался в глубину двора. По дороге прикидывал: «А если осечка? Какая надежда? Глаза? У кошки тоже глаза. Ночью даже светятся. А жилка? Над самой ключицей. Сразу, как зашла, вроде не было, а потом набухла и стала пульсировать. Потом? А ты видел? Может, она все время у нее так. К черту жилку! Что еще, еще, еще? И все-таки глаза! Ведь предупредила же их полыханием! Без слов предупредила. И боялась чего-то…
Ясно, что не за себя. Но как к ней попасть? Там же эсэсовцы. Сказать: к генералу? Чего доброго, к генералу и поведут, если не пристрелят, или в гестапо отправят».
Подбежав к штабу, Сергей увидел, что солдаты торопливо выносят и грузят в крытые автомашины тяжелые ящики, старинные кресла, столы. «А, была не была!» Смело подбежал к трем солдатам, с трудом тащившим тяжелый диван, подставил плечо, помог его втиснуть в кузов машины и вместе с теми же солдатами вбежал в здание. «Так. Теперь куда? Ага, кажись, в эту дверь. Нет, мне сегодня явно везет, — ликуя, подумал Сергей, сразу охватив взглядом огромный знакомый уже кабинет и в углу за черным роялем худенькие плечики Анны в белой с рюшами кофточке. Не обращая внимания на шум и топот в здании, она тихо перебирала клавиши.
Сергей кашлянул. Горло здорово пересохло и получилось грубо.
Анна испуганно вскочила, обернулась. Стояла неподвижно и молча, хотя левая рука мелко-суматошно, словно в трясучке, ползла от пояска к груди и все вроде пыталась нащупать несуществующую пуговицу и застегнуть несколько низковатый вырез.
Сергей громко зашептал:
— Мне позарез нужно к твоему генералу. Где он?
Анна повела глазами влево, на массивную дубовую дверь, и испуганно раскинула руки, преграждая путь:
— Там эсэс и овчарки. Что ты хочешь?
Мгновение помедлил и прошептал:
— Карту. Карту! Оперативную. Которую генерал обещал.
Девушка неожиданно открыто посмотрела Сергею в глаза:
— Я знаю обстановку. На любой карте все воспроизведу.
Сергей торопливо, напрягаясь, соображал: «Нарисуешь? А кто ты есть? И кто поверит твоему рисованию? Что же делать? Нет ли здесь чего? Тот жирный переводчик доставал какие-то бумаги из стола».
Шагнул к столу.
— Не надо, парень, — зашелестел голос. — Там ничего нет. Все убрали. Передатчик тоже. Сам ты отсюда уйти не сумеешь. Таня и Коля погибли. Здесь есть выход в сад. А карту я нарисую, поверь.
В голове у Сергея все перевернулось: «Да пропади она пропадом, карта. Номера частей я помню. Основной маршрут на Армавир знаю. Вооружение подсчитал. Предательскую сволочь засек. А с этой пигалицей… Шут ее знает, кто она и что она. Не трогать, уйти через сад?»
— Парень, мое пальто в той комнате. Туда нельзя. Дай свою шинель. Ты в куртке не замерзнешь. Без меня дороги не найдешь. А если еще и овчарки…
Сергей решился:
— Оружие!
Анна бесшумно отодвинула ящик массивного стола, достала парабеллум, подала. Он как-то сразу поверил девушке, скинул шинель, набросил ей на плечи, заглянул в ящик, схватил лежавшую там еще одну полную обойму. Кинулся к двери в сад, прислушался, остерегаясь повернул ключ в скважине. Замок открылся почти без щелчка, дверь подалась без скрипа. Видно, этой потайной дверью черные хозяева пользовались не один раз.
Январь и на Кавказе — январь. На дворе — бр-р-р!
«Ничего, хорошая пробежка — и пар пойдет. Фу ты! Но эта же птаха в туфельках. Будто багром зацепила. Ну, куда я с ней, куда?»
— Налево, за глиняным забором, спуск в ущелье.
«Ишь ты, а город-то знает. Молодца!» Сергей перемахнул через невысокий забор-дувал, свесил руки, ухватился за полупустую шинель и почти без усилий перекинул через глиняную изгородь девушку.
Присели. Прислушались.
— Ну что, Нюрка, айда?
Неожиданно на Сергея брызнул такой доверчивый и даже счастливый взгляд, что он оторопел от неожиданности.
— Ты что?
— Да родненький же ты мой! Я верила, я надеялась и… боя-алась… — неожиданно расплакалась девушка.
— Ты! Дура, чи что ли! Фрицы ж кругом. Нашла время плакать.
— Я за тебя боялась: что не схитришь, погибнешь зря. Коля и Танюша отказались. Его приказали — в гестапо. Ее — в солдатский бордель. Тогда они и подорвали себя вместе с охраной гранатой. А вот генерала только царапнуло…
— Хватит! — жестко оборвал он хриплым голосом. — Дорогу знаешь? Показывай! Да обувку первым делом надо для тебя подходящую добыть. В туфлях ты — не ходок.
Сергей несколько дней писал и переписывал свой отчет-донесение. К чисто специальным сведениям все время приплетались яркие побочные, попутные картины, события. То засада под Невинномысском, то переправа через Уруп под Армавиром… А потом этот поселочек в лесу — Михизеева Поляна в Ярославском районе. Этот гад, эсэсовец, комендант Густав Гофман. И горы людей — мужчин, женщин, детей под кинжальным пулеметным огнем со всех сторон. В упор. С двадцати метров. И девочка… Взяла немца за ствол автомата, потянула за собой. «Мама!» — кричит. А он… Мать штыком. А девочку… за ножки и головой об дерево… Не меньше двухсот человек. Если б не Аня, не стерпел бы. Такое не стерпишь. Не дала нажать на курок.
А в ауле Понежукай… На помосте — виселица. Возвели Екатерину Дмитриевну Сорокину — жену партизана. Надели петлю на шею, под ноги сунули качающийся чурбачок. И оставили на ночь под скрытой охраной. Никто не пришел. Тогда привели дочерей Раису и Зою с грудными детьми. Женщинам надели петли, детей голеньких бросили на холодный камень у их ног.
Дети синели и заходились в крике. Матери рвались к ним, но веревки на шеях не пускали. Тогда Зоя спрыгнула с чурбачка и задергалась в петле. Тут же подскочил палач и обрезал веревку. Женщина тяжело пришла в себя. Эсэсовец схватил голенького ребенка, сунул Зое в лицо, что-то пролаял. Женщина молчала, и слезы стекали по ее фиолетовым щекам.
Палач опять смастерил петлю и, поставив уже два чурбачка (веревка стала короче), велел взобраться туда женщине, вновь накинул ей на шею веревку.
Сергей, лежавший за плетнем, достал парабеллум и, дернув за щечки, взвел. Аня, ни слова не говоря, легла на пистолет и впилась пальцами и зубами в Сергеев рукав. Сергей попытался высвободить руку. Не тут-то было. Вместе с рукой пришлось таскать легкое, но упрямое тельце Анны.
— Пусти. Не могу. Твари…
— Нельзя, миленький, — не разжимая зубов, бубнила Аня. — Терпи, родненький. Запоминай.
Неожиданно сорвалась со своей подставки Екатерина Дмитриевна, и пока замешкавшийся палач подбежал к ней, голова ее безвольно свесилась набок. Спрыгнула с чурбачка и Раиса, но палач заботливо подхватил ее на руки и опять водрузил на подставку.
В толпе закричала женщина. Раскоряченный автоматчик повел в ту сторону стволом.
— Пойдем отсюда, миленький, — все еще лежа на Сергеевой руке, сквозь слезы шептала Аня.
— Не могу.
— Нельзя. Не имеешь права. Идем.
Маленькая, но неожиданно сильная, Аня потащила его от плетня.
Под обрывом Сергей оттолкнул Аню, отполз за скалу, долго рычал, всхлипывал и выкрикивал всякие непотребные слова.
Аня обессилела, голова кружилась, перед глазами — рой черных мошек, ноги ватные, руки дрожат, поташнивает и знобит. Грязные слова ее не трогали. Трогала боль. И своя, и Сергея… Завыть бы по-бабьи. Да не могла. Словно окаменела.
Утром растормошил Сергей:
— Слышь, Нюта, в Апшеронск надо подаваться. Там, жители рассказывают, партизаны целый район отбили. К партизанам легче, чем через фронт.
— Как скажешь, Сережа.
— Да что ты: как скажешь, как скажешь! Я ж с тобой советуюсь, а ты как кукушка.
— Так ведь я тут ни разу не бывала.
— Не бывала! А я бывал?
Сергей злился. И понимал, что зря злится. Не виновата Анна, что не может подать дельного совета. Ну, хоть бы посомневалась, что ли?
Глянул на прозрачное заострившееся личико девушки. Одни провалы и морщины… как у старухи. Аня попыталась подняться и не смогла, упала. По впалым щекам скупо покатились слезинки. Острая жалость резанула Сергея по сердцу. Подложил руку под спину девушки, поднял как пушинку, легко понес. «Дите, — думал Сергей. — Да еще и голодное, больное, слабенькое». Вспомнил свою дочурку Алену. Где она теперь? Перед его уходом из Краснодара обещали вывезти в Сочи. А как оно там дело обернулось?.. Защемило под сердцем. Невольно сжал невесомую ношу.
— Ты что, Сережа?
Сергей опомнился, глянул в испуганные, огромно раскрытые глаза. Засмущался, объяснил:
— Да, понимаешь, дочурку вспомнил. Она почти как ты. Может, на годок-два моложе.
Анины глаза засветились, потеплели, она крепче обхватила его одной рукой за шею. А Сергей вдруг разозлился и грубо рыкнул:
— Нечего тут. Я тебе не нянька, понимаешь. Забралась к папане на ручки и киснешь. Кошка.
Грудным, необидным смехом засмеялась Аня:
— Па-па-ня! А ты знаешь, сколько мне лет?
— Не знаю и знать не хочу. И замолкни.
— Дурачок, Сережа. Мне двадцать пять.
— Ну и что, — продолжая неизвестно из-за чего злиться, сердито возразил Сергей. — А моей тринадцать. А не меньше тебя уже.
И вдруг запнулся: «Это что же? Я всего на шесть годов старше этой пигалицы? Ну и правильно. Был бы постарше, разве мог бы ее тащить по существу от самого Невинномысска до Апшеронска?»
Добрались до Гуамского партизанского района. На счастье, сработал пароль Апшеронского партизанского отряда. Там проводили сколько могли. А потом — опять по немецким тылам. Где только не были они за этот месяц. Были и в злосчастном поселке Курганинск, где комсомольцев на сеновале сожгли, и у гулькевичских колодцев, куда гитлеровцы партизан живыми сбрасывали.
В села и хутора Аню не пускал: кожа да кости, еще за тифозную примут! Осторожно рыскал сам. Страшно удивился, когда молоденькая крестьянка, сунув в руки три вареные картофелины, предупредила:
— Ты, дедунь, через Тысячный не ходи. Левей забирай, туда, к Армавиру. Там, сказывают, уже наши на подходе. А тут… ух, лютуют фрицы…
Добрел до речки. Разбил, раскидал ледок. Глянул. «Мать моя мамочка! Морда-то, морда вся в каких-то серо-грязных клочьях — борода, стало быть! Привет, дедуня! Дожился. Всего месяц-то и поблукал. Ну и черт с ней, с бородой. Не всяк придерется». Ополоснулся студеной водицей, взбодрился. Принес Анне картошки. Дал две, себе одну оставил.
— Неправильно это, Сереженька. Ты мужчина, да еще и меня тащишь…
— А ты не гунди, правильная. Я, может, у бабки целый чугунок выжрал. Да и какой я тебе Сереженька. Дед Серега. И все тут…
— И не дед ты вовсе! Ты, Сережа, — молодой, сильный, смелый и у-ух какой сердитый.
Потянулась прозрачной ручонкой, погладила Сергееву руку. Сердито отдернул. А приятно, будто по сердцу провела. Вспомнил жену. Бывало, придет он с работы. Усталый. Нервы растрепаны, как патлы на ведьме. Настроение: плюнь — зашипит. На детей готов кинуться. А она, Наташка-то, подойдет сбоку и за ухом пощекочет. «Отстань, — рычит он, — шо я тебе, свинья или собака?» А она не отходит, смеется, да еще и в ухо дунет. Схватит он, бывало, от злости, задавил бы, казалось. А она вся податливая, так под руками и сминается. (А на молотилке за мужиков работала. Да все покрикивала: «Не спи, подавай!») И вся злость мигом уходила. Вот напасть! Нет, женщины — это загадка…
Потом были попытки проникнуть в Краснодар с разных концов. В районе Рощи попали под бомбежку: наши «илы» разнесли вдрызг склад боеприпасов и горючего, проштурмовали немецкий аэродром. Самолеты давно ушли, а бомбы и снаряды на складах продолжали рваться, осколки с воем носились над головой, жирно шмякали справа и слева. Сергей, волоча почему-то обмякшую Анну, с трудом выбрался из этого ада.
Еще пару дней делали попытки пройти в город. Тщетно. Краснодар был нашпигован штабами, комендатурами, старостами районов и кварталов, концлагерями и полицаями. Облавы, обыски, аресты, казни. Вот тогда Сергей и решил пойти через леса в Пашковскую, где были верные люди.
В районе Пашковской неожиданно попали под двойной обстрел в схватке партизан с карателями. Сергей по перестрелке понял, что партизаны уже отходят за реку в лес. Он подхватил и сердито поволок в заросли непослушный комок в шинели, заворчал: «Хоть ногами-то помогай, не гамбал я тебе». Когда отдышался и посмотрел на девушку, сердце екнуло — глаза закрыты, в лице ни кровинки, нижняя губа закушена.
— Аня! Анютка! Ты чего?
Она с трудом открыла гаснущие глаза:
— Больно… Очень… Давно уже…
Сергей решительно рванул петли на шинели. Девушка судорожно прижала руки к груди.
— Да я… Счас. Забинтую. Что ж ты молчала?
— Не надо. Не поможешь. Крови много…
Он начал шарить по карманам, нашел немецкий индивидуальный пакет, разорвал. Аня отстранила его руку:
— Не надо, Сережа. Вот это возьми. — Подала пропитанный кровью сверток. — Это карта. Сама нарисовала. Специалисты поймут. И списки. Они в клееночке.
— Да какой теперь в карте смысл? Немцы рванули на Тихорецкую.
— Не все… Больше сюда, через Краснодар на Тамань. Ах, как бы мне хотелось с одним из них, только с одним повстречаться…
— Это с кем же?
— С генералом Блюмом…
— Это у которого ты переводчицей?..
— Он мерзавец. — Девушка помолчала и неожиданно спросила: — Ты наш, Сережа?
— Не дури.
— Я ухожу, Сережа… Ты — чекист?
— Разведчик. Советский.
— Тогда запомни: у Блюма списки всех оставленных у нас предателей. У меня только часть списка.
Аня умолкла. Сергей приник к белому холодному лицу, стал дышать в закрытые глаза, дуть в нос, в рот (мать когда-то так цыплят оживляла). Аня шевельнулась, освободила губы. Прошелестела:
— Ты меня, Сереженька, тут, на берегу Кубани, похорони. Я ж елизаветинская. А там скажи, доложи… Дубравина, мол, выполнила… А родных у меня никого…
Когда Сергей, осатанело ругаясь, подобранным где-то по дороге немецким штыком долбил могилку девушке на крутом берегу Кубани в лесу Берестовый Кут, набрела на него обтрепанная нищая старушонка:
— Что, касатик? Сестренку либо супружницу матери нашей землице пуховой предаешь?
Сергей сжал скулы, заходили желваки, процедил сквозь зубы:
— Ковыляй, бабуся. По пуху соскучилась?
— И-их! Мужик и есть мужик. И силы-то надбал, и ума, поди, палата, а мозги, слышь, куриные.
— Топай, говорю, старая…
— А пошто ж ты живу девку закапываешь?
Сергей обомлел:
— Сгинь, ведьма!
— Ан не ведьма! Сам гляди: жилочка-то на височке тикает. Да и ноготочки-то розовые. Смекаешь?
Сергей схватил податливые Анины руки. Показалось — теплые. Не коченеют! Прошел языком по верхней девичьей губе. Не дрогнула.
— Ты что, бабка, надругаться вздумала?
— А не кипятись, милай. Где у нее боль-то?
Сергей машинально указал на грудь, но тут же заслонил девушку своим телом:
— Нельзя туда. Поздно.
Но старуха вдруг неожиданно сильной рукой оттолкнула Сергея, распахнула заскорузлые от крови тряпки, тихо, почти не слышно ойкнула и вдруг резко-повелительным голосом не сказала — крикнула:
— Костер жги! Воду грей! Спички у меня в корзине и котелок там. Да шевелись, могильщик!
Старуха обмыла рану, порылась в своей бездонной корзине, извлекла стеклянную солдатскую фляжку, в которой оказался йод, перекрестилась:
— А теперь живой водой!
Обильно смазала, почти залила чудовищную рану — на полгруди — йодом. Аня задергалась, жалобно застонала.
— Ну вот. А ты хоронить. Хорош муженек.
— Да не муж я ей. Так, попутчики, — бездумно оправдывался Сергей, не слушая воркотни старухи и стараясь разобраться в себе. «Неужели хотел быстрее избавиться от обузы? Да нет же. И она попрощалась. И тайну выдала. Так бывает только перед смертью. Но почему не увидел жилки на виске? А я смотрел туда? Я яму ковырял. Почему ж бабка сразу увидела? Может, не первую смерть привечает? Да и я не первую. А, да что там: первую не первую. Полоснул очередью или финкой в спину саданул — и пошел дальше. Было когда любоваться. А вот Блюм, Аня говорила, он же, гад, засматривался на то, как собаки ели живого человека. И та тварь, что сестрам Сорокиным петли надевала и снимала, и тот гестаповец, что четырнадцатилетнего Шуру Беликова, бегая вокруг костра, рогатиной не выпускал из огня, и тот, что девочку об дерево… Будьте вы прокляты, прокляты, прокляты!» В голове какой-то шум, грохот, какое-то сверкание молний и невнятный шепот:
— Сережа! А куда ты ходил? Я звала, звала…
— Ходил, ходил, девонька, — заклохтала старуха. — Вот, гляди, молочка тебе добыл.
Она опять нырнула в свою бездонную корзину и извлекла оттуда полосатую карахонечку. В горшочке, сделанном из этой маленькой тонкостенной тыквочки, и вода, и молоко в любую жару остаются прохладными.
— Молоко?..
Сергею показалось, что Аня не сказала это, а простонала или даже пропела.
Отпив пару глотков, девушка вдруг осознанно распахнула глаза:
— А вы? Сережа, кто это? Сережа!!!
Сергею хотелось сказать: «А я знаю?», но старуха опередила, затараторила, заспешила, сноровисто укладывая вещи в корзинку:
— А побирушка я. Милостыньку прошу. Кто мне поможет. А кому и я. Вижу, совсем ты плоха, дай, думаю, подойду. Авось помогу.
— Сережа, кто она?
— Ну она ж тебе сказала.
— Не боись, деточка. Меня батя везде посылает помощь оказывать.
Сергей насторожился. Еще в Апшеронске ему сказали, что тут, под Краснодаром, действует группа Бати. Неужто удача? Сердце заколотилось. Но спросил сурово:
— Стара ты, чтоб батю иметь и по его указу шастать. — Подумав, добавил: — Небось сама какому бате маманей приходишься.
— Ого, милок! Мой батя таких бородачей, как ты, пятерых за пояс заткнет.
— А ты что, бабуля, краснодарская?
— Екатеринодарская, милок. Теперича про Красный-то дар забывать пора. — И неожиданно: — А ты, случаем, не от Лукича ли?
Это был пароль Нефтегорского партизанского отряда. Сергей напрягся. Не знал, что партизанская весть уже сюда дошла.
— Какие там Лукичи. Из эвакуации мы возвращаемся.
— А, ну да, ну да. И я ж так подумала. И шинелька немецкая на девке. И стеганочка на тебе, хлопчик, вроде не нашего, не русского покроя. И рану-то девушке тебе перевязать нечем. И… энтот… «окопчик» над обрывчиком штыком ковырял. И пистолетик, вишь, немецкий из кармашка торчит.
Тут Сергей с ужасом заметил, что упарившись ковырять могилу, снял куртку, небрежно швырнул ее на землю, не заметив, что внутренний карман оказался снаружи и из него торчит ребристая рукоять генеральского парабеллума.
— Глазастая ты, бабуля.
— Да уж война научила.
— А если скажу: от Лукича. Что будет?
— А ничего и не будет, милок. Брательник у меня тут в Кармалином лесу. Лесничим. Подумала: может, секач поранил девоньку-то.
Бабка как-то суетливо засобиралась:
— Вы уж никуда не шастайте. Кажись, и дедуня мой, батя то есть, гдесь поблизости. Авось и спознаетесь.
Старуха ушла, по-молодому перебирая ногами в бурках и лихо перепрыгивая через валежник.
Сергей оттащил Аню в овражек. Нагреб и засыпал ее сухими листьями.
Аня тихо постанывала.
— Молчи, Анютка. Замри. А я тут под корягой укроюсь. Ничего. Две обоймы. Живыми не дадимся.
— Ты меня, Сереженька, живой не оставляй. А то я ж бредить стану. Не оставляй, Сереженька.
— Умолкни, говорю.
Пролежали до вечера. Небо начало примеркать. Сергея сморил голод и усталость. Но какая-то часть сознания работала. Хрустнула ветка. Вмиг очнулся и напрягся. Устроил на уровень глаза парабеллум. Неожиданно через плечо шагнула огромная нога в солдатском сапоге. Наступила на кисть. Парабеллум безвольно выпал из руки и зарылся в листву. Бас сверху прогудел:
— Ну и вояка. А ну повернись на спину!
Сергей попробовал выдернуть руку. Мертво.
— Да не вертухайся. Вставай. Девка вон твоя сидит и на тебя глазищи пялит. Защитник!
Сергей безвольно перевернулся на спину. Увидел над собой, как ему показалось, гиганта, бородача. Как Илья Муромец с картины сошел. Только ему, Сергею, в грудь, не вздрагивая, смотрел дырчатый кожух автомата.
— Ну, сказывай: тебе с Батей хотелось повидаться?
Сергей решился. Выхода не было.
— Да, с Батей.
— Ну так я и есть Батя.
— Сережа! — предостерегающе простонала Аня.
— А ты, девонька, помолчи. — И уже к Сергею: — А ну подымайся, воин. Отойдем, потолкуем.
— Сереженька!
— Аня, не волнуйся! Все будет хорошо.
— Точно, точно, девонька. Все будет хорошо. Хоть с ним, хоть без него, — прогудел бородач, ловко выхватив из листвы парабеллум и пряча его в свой карман.
— Не смейте так!
— А ты не кидайся! Ишь, Аника-воин. Проспал пост. Иди-иди!
Сергей шел, спотыкаясь и оглядываясь на огромные, по весь лес, Анины глаза. Прошли так с полкилометра. Полянка. На пеньках — трое полувоенных, все с оружием.
Моложавый, с тонкими злыми губами и черным, зачесанным набок чубиком (шапку почему-то держал на стеганых брюках), криво усмехнулся:
— С прибытием вас, герой, чи той як его, герой тыла.
Сергей все еще был взведен.
— Здоров, герой в мужицкой поддевке!
Прилизанный обернулся к длинному в мохнатой папахе:
— А мы с характером! — И вдруг заорал, срываясь на хрип: — Кончай комедь, контра! Дезертир или шпион?
Вмешался бородач:
— Охолонь, Ваня. Ему ж для просветления — хоть кипяточку, хоть табачку. А ты в крик! Гость же.
— Таких гостей в овраге волки доедают.
— Ладно, сказал: охолонь. — Теперь в голосе бородатого зазвучал неприкрытый металл. Прилизанный смолк и начал завязывать поворозки на ушанке.
Бородатый указал на свободный пень:
— Садись, борода. Щас Никитка чаю спроворит. Малиновый, правда. Но ничего. Дух лесной, добрый. Ты в лесу уже сколько?
— Второй месяц, — неожиданно для себя признался Сергей.
— Чего ж ел?
— А что придется.
— А девку где взял? Чем кормил?
— Тем же и кормил. Кислицей, каштаном. Корнями. А где взял, там нету.
— Это ты верно. Ни девки, ни тебя там нету.
Помолчали. Молчаливый, в мохнатой шапке, умудрился без единого дымка на костерке согреть воду в котелочке. Стали прихлебывать с крышечек кипяток. Сергей тревожно поглядывал в ту сторону, где осталась Анна.
— Да ты за девку не сумлевайся. Там возле нее наша врачиха хлопочет, настоящая.
Сергей вопросительно посмотрел на бородача.
— Точно, точно. Настоящая врачиха. Костерит тебя во все тяжкие. Чуть девку не погубил. Еще бы денек-два — и все. Сколько ж ты ее в таком виде волок?
— Не знаю. Только сегодня призналась, что ранена.
— Кремень девка. Жена, что ли?
— Нет.
— А что ж, сестра или сродственница?
— Да нет же, говорю.
— Ага. Стало быть, боевая подруга. Помолчали.
— А как же вы от «эдельвейсов» ушли?
У Сергея закаменели скулы.
— И шинелька «эдельвейсовая». И у тебя на ватнике ихние эмблемки. А уж на том пистолетике, что ты в листву уронил, так на нем монограмма: «Доблестному солдату рейха и фюрера генералу Блюму». Ну, на Блюма ты не похож. А вот то, что Блюм был гебитскомиссаром в Пятигорске — это мы знаем. Та вы что ж, из-под Пятигорска пробираетесь?
Сергей глотнул большой глоток кипятка, обжегся, закашлялся.
Бородач добродушно, но чувствительно постучал по его спине. И вдруг сурово, жестко глянул в слезящиеся глаза Сергея, резко спросил:
— Кому докладывать?
Сергей через силу выдавил:
— Петруню…
— Вот дура лошадь. Ясли поела, а сено оставила. — Это хохотал, чуть не падая с пенька, тонкогубый, прилизанный. И лицо у него было уже не такое зверское, и глаза не злые, а какие-то тепло-серые.
— Так Петрунь же это я!
Сергей вопросительно зыркнул на бородача.
— Точно, точно. Петрунь. Мой заместитель по разведке. Ну что я — Батя, тебе уже доложился. А теперь выкладывай, кто ты есть?
И тут у Сергея вдруг что-то замкнуло. Замолчал. Заиграл желваками. Весельчак Петрунь сразу посерьезнел. Встал:
— Ладно. Пошли.
Бородач ободряюще кивнул.
…Двенадцатого февраля 1943 года наши войска заняли Краснодар. Разведгруппа Бати, а с нею и Сергей с Аней, вместе с передовыми частями вошла в город. Работы было невпроворот: вылавливали спрятавшихся пособников оккупантов, шпионов, диверсантов, дезертиров, распутывали хитрые сети, оставленные немецкой контрразведкой, нащупывали и разматывали вражеские агентурные связи.
Новороссийская группа к тому времени уже успела захватить заместителя начальника «Марине Айнзатцкоманда ди Шварцен Меерс» (Морская разведывательная команда Черного моря) корвет-капитана фон Грассмана и располагала обширной информацией о деятельности этого разведоргана, находившегося в Новороссийске и возглавляемого корвет-капитаном Роттом. Там же чекисты столкнулись с деятельностью команды морской фронтовой разведки под командованием корвет-капитана Рикгофа и ее Краснодарской айнзатцкоманды, которой руководил капитан-лейтенант Нойман.
Сергею удалось раздобыть сведения и сообщить о таинственной операции немцев по переброске из Ставрополя через Армавир в Краснодар особо засекреченных агентов групп «Цеппелин», натасканных на политическую разведку и диверсионную деятельность в советском тылу на территории Грузии, Армении, Азербайджана и автономных республик Северного Кавказа. Большинство агентов было выявлено и обезврежено. Но нити от них потянулись к специальной разведшколе в Евпатории и Симеизе. Из местечка Саки агенты перебрасывались самолетами специальной авиаэскадрильи. Главную команду «Южная Россия» возглавлял штурмбанфюрер СС Рольф Ридер, а переброской агентуры на Северный Кавказ руководил сам шеф «Цеппелина» штурмбанфюрер СС С. Курек.
Эти гадючьи гнезда особенно привлекли внимание краснодарских чекистов. Было решено попытаться познакомиться с ними поближе. Тем более, что не сегодня-завтра предстояла высадка наших войск в Крыму.
…Где-то в начале августа Сергей шел по узкому полутемному коридору краевого управления комитета госбезопасности. Текущие дела по городу выполнил. Все отчеты давно сданы. С семьей связался по телефону, переговорил. Жена и дети должны скоро вернуться в Краснодар. Теперь бы только выспаться как следует — голубая мечта любого солдата в те напряженные времена. Да вот что-то Ечкалов вызывает.
Анатолий Митрофанович Ечкалов, удивительно сочетавший в себе родственную душевность и непробиваемую железную непреклонность, встретил Сергея радушно, усадил в кресло, повел зачем-то разговор о погоде. Сергея разговор о погоде насторожил. И Ечкалов это сразу заметил.
— Это я к чему, — перешел Анатолий Митрофанович к делу. — Фрицам-то на Кавказе, а вернее на Тамани, капут приходит. Чуешь?
— Чую, — сдержанно и выжидательно буркнул Сергей.
— Да ты не пугайся. Дельце не сложное. Перейдешь под Сопкой Героев[8] передовую. Доберешься до Чушки или до Тамани, а там — на керченский берег. Штука-то в чем, Серега? Из Новороссийска и прилегающих поселков немцы все население в Крым вывозят. Чуешь?
— Чую.
— Стало быть, кубанский «беженец» в Крыму не редкость. Но дело, понимаешь, в том, что нам надо познакомиться с работой тамошних немецких разведорганов. А как? Думаю, ведут они свою работенку среди этого согнанного туда гражданского населения и в лагерях военнопленных. И те и другие концентрируются под Керчью, Карасубазаром, Феодосией. Народу там скопилось уйма. Вот среди них и надо раствориться, поработать, нащупать каналы этого чертовского «Цеппелина». Да после того, как они построят укрепления, немцы же их все едино уничтожат. Ясно?
— Еще бы!
— Что «еще бы»? Думать надо. И делать что-то надо.
— А я разве против?
— Что «против»? Что «против»? Отдыха он захотел. Как же, подвиг совершил. Думаешь, без тебя под Нальчиком их бы не захлопнули? Герой. А тут люди. И безоружные. И правды не знают. Что им барачный капо сбрешет, тому и верят. А их тыщи. Их только поднять надо. Чтоб поверили. И пойдут. И все своротят.
— Чудно вы рассуждаете, Анатолий Митрофанович. Когда их сгоняли туда, они ни про что не думали, а бежали, как стадо. Мать за дите, дите за мать хваталось. А пленные за плечи держались, чтоб не упасть, а то пристрелят. Так?
— Ну так. — Ечкалов зло сверлил Сергея черными глазами.
— Теперь явлюсь я. Мессия! Проповедник. Спасатель. Воздену руки и вострублю трубным голосом: внемлите, страждущие, и идите за мной. И поведу я вас через Керченский пролив яко по суху. И все заорут: «Исайя, ликуй!» И кинутся за мной в воду. И утоплю я их всех.
Ечкалов сел. Закурил. Пальцы подрагивали.
— Да перестань ты паясничать! Понял? Это задание. Приказ.
— Понял. Готов. Прошу детали.
— Ну вот. А то — Исайя! Кстати, «Исайя, ликуй!» — это когда венчают. А мы тебе только сговор поручаем. Ладно, хватит зубоскалить. Значит, так. Иди сюда. Смотри карту. Вот тут под артналетом перейдешь передовую. Дальше по Адагуму до Саук-Дере. От Саук-Дере по буеракам до Варениковки. Там паром. Переправишься. Ты — рыбак из Пересыпи. Был на окопах под Неберджаем. Работы кончились. Идешь домой. Всех отпускают. Проверено. Хочешь, «жену» дадим?
— Не надо. Одному проще.
— Как знаешь. До Чушки добирайся, как сможешь. А оттуда под Керчь или на Карасубазар. Там гражданский лагерь. Легче внедриться. Ну а дальше… по обстановке. Главное — людей спасти и по возможности облегчить наступление наших войск.
— А что, скоро наши пойдут?
— Скоро. Днями.
Сергей встал:
— Задача ясна. Разрешите выполнять?
— Выполняйте. — Ечкалов сказал резко и, только когда Сергей взялся за ручку двери, неожиданно шутливо-заговорщицки окликнул: — Серега! Ни пуха ни пера!
— К черту!
— Ишь ты, хоть напоследок, а облаял начальство, — беззлобно съязвил Ечкалов.
Сергей, погруженный в себя, вышел от Ечкалова и, почти ничего не видя, побрел по полутемному коридору.
— Товарищ командир!
Голос показался таким волнующе знакомым, что Сергей стал, словно натолкнувшись на стену. Оглянулся. От дальней двери легкой, танцующей походкой, в хорошо подогнанных офицерских сапожках на стройных ногах шла женщина с такой осиной талией, что Сергею показалось: просто два конуса поставлены вершиной на вершину. Лампочка, горевшая в конце коридора за спиной идущей, освещала стриженные под мальчика светлые волосы женщины, и они при каждом ее шаге словно бросали вперед золотистые лучики. Женщина протянула руки, топкие и какие-то легкокрылые:
— Сере-е-жа!
— Анютка…
Сорвался с места, подхватил девушку под мышки, подбросил как ребенка, поймал, прижал, зарылся лицом в золотые кудряшки. Не слышал, как она, смеясь и постанывая, просила: «Медведище! Мне же больно!» До конца не отрезвев, поставил Аню на пол, стал оглаживать, как гладят ребенка. На плечах что-то оцарапало руку. Не придав значения, снова провел по плечам, и пальцы наткнулись на что-то острое. Сергей вдруг пришел в себя. Увидел Аню — совсем не ту, не лесную. В защитной командирской гимнастерке, в защитной ладно сшитой юбочке, а на плечах… на плечах погоны с двумя звездочками. «Лейтенант! А я-то хорош».
Сергей резко шагнул назад, одернул гимнастерку, хрипловато, чуть бравируя, доложился:
— Товарищ лейтенант. К выполнению очередного задания готов.
— Сере-жа…
Кинув ему на плечи неожиданно потяжелевшие руки, Аня припала к его гимнастерке и заплакала тоненько, беспомощно, как «плачут» еще слепые котята.
Даже самый продуманный расчет война может шутя опрокинуть. Казалось, ну что особенного, во время артналета переползти нейтралку, проскользнуть передовую. Разведка уже ныряла туда, знала, что там нет ни окопа немецкого, ни траншеи. Всего и делов-то, как говорил старшина дивизионной разведки. Так нет же! Когда Сергей пересек нейтралку и хотел уже облегченно вздохнуть, на него кто-то навалился, стал заламывать руки за спину, а еще кто-то съездил по скуле и принялся заталкивать в рот что-то грязное и вонючее.
Сергею ничего не оставалось, как применить прием. Тот, кто заламывал руки, заорал звериным голосом, перемежая вопль столь знакомыми словами, что не могло быть никакого сомнения, с кем он столкнулся. Того, кто пихал ему в рот грязную портянку, Сергей с такой силой притянул за шею к себе, что солдат захрипел. Зарычал ему в ухо:
— Вы что, подонки, приказа не слышали? Я же здесь должен тихо перейти.
Чуть отпущенный нападающий прохрипел:
— Мы три дня у немцев по тылам «языка» искали. Вот и думали: попался. Откуда же нам знать?
Тут пришла беда с другой стороны. Тот, кому Сергей вывернул руку, продолжал громко стонать. Немцы бросили ракету и стали поливать разведчиков из пулеметов и автоматов. А наши, видимо, решив отвлечь гитлеровцев от перебежчика, тоже открыли ураганный ружейно-пулеметный огонь. Сергей только вправил руку пострадавшему, как что-то тяжелое и горячее долбануло его по ноге. Дернулся. Понял: ранило. Это уж было совсем ни к чему. И тут же стрельба стихла.
— Ну «язычники», теперь помогите мне добраться к своим. Кажись, мне по ноге досталось.
…Лейтенант Винниченко, чье подразделение прикрывало переход Сергея, ругался нещадно:
— Сколько из-за тебя патронов, снарядов, мин зря фуганули. А ты — нате, здрасьте. — Увидев раненую ногу, смягчился. — Это где ж тебя угораздило?
Нога болела уже по-настоящему, и Сергей огрызнулся:
— Обеспечивать надо переход, как положено. А то свои чуть портянку не скормили.
Неделю провалялся в госпитале. Приходила Аня. Было приятно, но не больше. Волной поднималась к сердцу память о жене и дочке.
По привычке оберегая раненую, хотя уже и зажившую ногу, Сергей всей тяжестью обрушился на здоровую и чуть не сломал ее. И парашют запутался. «Ну и боец, шут меня побери. Да и погодка, нечего сказать: весь февраль дожди, грязища, слякоть. Тоже мне, солнечный теплый Крым!»
Припадая на ушибленную ногу, Сергей разделался с парашютом, закопал его в песчаную грязь. Потом примерно сориентировался на местности — где-то в районе Акмонайских высот. Куда ж лучше податься? Что в Старый Крым, что в Карасубазар ковылять да ковылять… Дьявольщина! Неужели ни одного села поблизости?!
Вдали вроде что-то проблеснуло. Сергей направился в ту сторону. Набрел на темную хату. Двинулся боком вдоль стены. Нащупал окно. Притих, прислушался. «Кто тут может быть? Немцы? Или гражданские?» Тихо поскреб по стеклу. Изнутри к окну прилипла белая маска лица. Губы пошевелились. Слов не слыхать. Сергей поманил пальцем. Белая маска исчезла. Где-то цокнула железка. Сергей подвинулся в ту сторону, выглянул из-за угла. У стены серела фигура. Донесся шепот. Похоже, женский:
— Кого бог принес?
— Раненый я. Из лагеря бежал. Немцы тут есть?
Серая фигура замерла, затихла. И словно выдох:
— Нету здесь германца. А и тебя куда я дену? Кажинный день облавы да обыски. Всех мужиков за проволоку загнали.
— Так что ж, мы так и будем тут под хатой торчать: я на одной ноге, а ты в балахоне.
— А ты шо думал? Так я тебя в хату и покличу?
— Да ты никак с Кубани?
— Ну и шо?
— Так землячка ж! Ну хоть в сарай какой, в катушок пусти.
Женщина помолчала. Послышался вздох.
— Иде ж на вас, на усех, жалости напастись? Иди уж за мной, небога.
Серая фигура двинулась в сторону от хаты к какому-то темневшему строению. Сергей, стиснув зубы, шлепал сзади. Женщина повозилась у дверей, сняла какой-то засов, заскрипела дверью. Из темноты донеслось хрипло:
— Не шевелись! Пристрелю!
— Да я это, я. Не баламуться.
— А что случилось?
— Да вот тебе в напарники привела. Чтоб не скучал.
Хрип сорвался чуть не на крик.
— Сдурела? Кто такой? Зачем приволокла?
— Браток, — подал голос Сергей. — Не психуй. Ранен я. Из лагеря ушел. Да ты не тревожься. У меня оружия нет.
— А я почем знаю, — уже более миролюбиво просипело из темноты.
— А ты проверь.
— И проверю.
Во тьме что-то прошуршало, тяжело ухнуло — видимо, человек откуда-то спрыгнул.
— А ну входи, пощупаю.
Сергей шагнул в тепловатую, пахнущую сеном и еще чем-то темноту. Цепкие, крепкие руки бесцеремонно и жестко ощупали его от ушей до расшнурованных ботинок.
— А почему в ботинках?
— Так из-под Эльтигена гоняют то на Митридат, то теперь сюда. Не успели переобмундировать в постолы.
— С-под Эльтигена? А что, полный каюк?
— Каюк, браток. Мало кто спасся на сейнерах да на бочках. Больше прямиком крабам на харч. А остальные — в песочке или, как я, за проволокой.
Сергей почувствовал, как дрогнули руки, лежавшие у него на плечах.
— Ясно, садись, братишка. Да не боись. Тут сено. Клавка, закрой и заложь двери. Мы тут сами потолкуем.
— Сарай не спалите, ироды, — запирая дверь, ворчала Клавка. — Небось опять свою махру смолить будете.
— Да иди ты… Это сеструха моя. Она в цивильном лагере здесь, в Багрове, вроде поварихи — баланду из буряков варит. Тебя как звать-то? Впрочем, все одно соврешь.
— Нет, зачем же. Серега я. Сергей, значит.
— Ну, а я Семен. Куришь?
— Когда есть.
— Ну, зараз одну на двоих засмолим.
Семен выкресал огня. В отблесках кремневых искр Сергей успел рассмотреть, что Семен круглолиц, одутловат, небрит и нечесан. Крут в плечах. Видать, покрупнее Сергея.
— А я тоже из лагеря, — раскурив самокрутку, захрипел Семен. — Только меня аж с Анапы пригнали. С-под Сукко. Слыхал, может, десант там был. Ну, нас и захлопнули. Меня контузило. Очнулся — волокут за ноги. Хотел вырваться — по башке прикладом дали. Ну и порядок. А потом с Тамани на барже перевезли. Под пулеметом. Не сбежишь. В Керчь привезли, прикинул и дал деру. А тут, понимаешь, повезло. Оказывается, сюда сестру из Варениковки вакуировали. В поварихи попала. Вот я у нее и обосновался.
Передал окурок Сергею:
— А ты, значит, из Эльтигена? Все, говоришь, легли? И у нас в Сукко все легли. Мы с капитаном Никитиным последними оставались. Не знаю, жив ли. У него еще четыре гранаты было. Но он живым не дастся. Да. Так, а что ты думаешь дальше? Полицаи из города каждый день шастают по окрестным селам. И сюда забредают. Клавка самогоном откупается. А ежели не откупится?
Сергей затянулся. Окурок ожег губы. Поплевал в руку, загасил окурок:
— Да я и сам еще не решил. А что если в гражданский лагерь податься?
— А на кой это тебе?
— Так надо ж что-то делать?
— Не понял?
— Ну, там же наши люди. Может, с кем-то и сговоримся.
— Да чихали они на тебя, эти наши люди. Жрут вареный буряк и каждый день аккуратненько ходят укрепления немцам строить. Видал я их.
— Это ты зря, Семен. Не все ж такие.
— Ну, может, и не все. А ты сунься к ним — враз выдадут.
— Нет, Сеня. Быть того не может.
— Может, и не может. А что ты-то будешь там делать? Говоришь, раненый. Куда клюнуло-то?
— Да в ногу. Ничего, терпеть можно.
— Терпеть, терпеть. Там, знаешь, как вкалывают? Чуть сачканешь — плетюганом через спину. И затанцуешь. Я наблюдал.
— Вот и поможешь…
— Чего-о? Я? Да пошел ты…
— Не лайся зазря. Может, что и выйдет.
— А ну, полезли спать. Скоро утро. Полицаи могут нагрянуть. Посмотрю, какой ты герой.
Забравшись на копну сена, ворочаясь и умащиваясь, Семен не переставал бубнить:
— Герой! Видали мы таких. Завтра утром сам поглядишь на этих тупых скотов, поймешь. Люди! Какие они люди? Скотина и есть скотина.
— А пленные?
— Шо пленные? Там порядок военный. Строем на работу, строем с работы. По три раза пересчитывают. Поштучно. А чуть отстал — др-р! — и готов.
— Но попасть-то туда можно?
— Да ты никак чокнутый? Ты ж оттуда! — Семен, слышно, даже сел на сеновале: — Не пойму я тебя, паря. Нет, не пойму.
Помолчали. Вдруг Семен зашуршал сеном, пододвинулся к Сергею:
— Слышь, Серега, чи как там тебя? А ты, может, не того… С заданием каким, а? Ты не таись! Я — могила.
— Спи, Сеня. Какое там у меня задание. Да и бежал я из другого лагеря — из-под Опасной. Так что просто недобитый солдат. А людей жалко. Наши же. Не виноватые, что их в скотов превратили.
Семен помолчал. Отполз:
— Ну-ну. Ладно. Утро, говорят, виднее ночи.
Сергей промолчал. Не станешь же этому Семену рассказывать, что немцы в Крыму специально и спешно сформировали из предателей кавалерийские и моторизованные части якобы для борьбы с партизанами, а на самом деле — для карательных акций против мирного населения. Что все работоспособное мужское население согнано в концлагеря и брошено на сооружение оборонительных линий на Акмонае, в районе Турецкого вала, Джанкоя, Судака, Феодосии, Симферополя, Балаклавы, Евпатории, и все потом будут расстреляны. Что добрая половина этих позиций заполняется смертниками из «Русской освободительной армии», что на них не особо полагаются, запугивают расправой энкавэдэ и этим хотят заставить драться против большевиков до последнего патрона. Что среди них агенты «Цеппелина» вербуют шпионов, диверсантов, отбирают людей для разведшкол.
Если бы он мог все это рассказать, Семен понял бы, почему Сергею надо попасть в лагерь и попытаться спасти и тех и других, а может быть, и чье-то оружие повернуть против гитлеровцев. Но не расскажешь.
Утром их разбудила Клавдия. При солнечном свете Сергей рассмотрел молодую женщину. Низенькая толстушка со строго сведенными черными бровками, она всеми силами старалась казаться суровой и неприступной. И у нее бы это вполне получалось, если бы не лукавые ямочки на свежих щечках. «Интересно, — подумал Сергей, — как она умудрилась сохранить такие щечки?»
— А слазьте, уже козу подоила, молока принесла, хлеба.
Сергей хотел лихо скатиться с сеновала и вдруг не сдержал стона. И ведь не раненая, а подвернутая нога такой болью ударила то ли в голову, то ли в сердце, что потемнело в глазах.
— Ты шо? Как тебя, Серега, чи что ли? А ну покажь ногу!
— Да не надо. Это я спросонья, — простонал Сергей.
— Ото ж я бачу, шо спросонья. Давай, кажу, ногу!
Сергей вынужден был спустить левую ногу, простреленную осенью. Клева оказалась не такой простушкой, как могло показаться.
— От же не бреши. Эта нога у тебя вже почти здоровая. Покажь, что на другой.
Сергей начал сердиться:
— Отстань. Тоже — сестра милосердия.
— Сестра не сестра, а ногу покажь. Ну!
— Ты чо до человека пристала, смола, — вступился Семен. — Показал же рану?
— А тебя не касаемо.
И вдруг не по-женски сильными руками рванула Сергея за правую ногу.
— Да что ж ты, дура! — заорал Сергей.
— Тю-тю. Старших слушать надо. Где ж так подвернул-то ногу? Да не бреши. Я ж тебя наскрозь вижу. Може, скажешь, с брички неудачно сиганул? Та не надо, не бреши. Я сама в клубе занималась. Целых пятнадцать прыжков. И значок есть.
Семен, силясь понять сестру, даже рот разинул. Клава зыркнула на него, прыснула:
— Мухоловку закрой, Сема.
— А иди ты. Впервой мужика увидела и вже заигрываешь. Бисова вертихвостка.
— Ладно, Сеня, кончай ругню. Помоги мне лучше. Вишь, человеку ногу разнесло.
Нога у Сергея действительно распухла. И стать он на нее не мог. Это и злило, и пугало: а вдруг надолго? Помнил наставление инструктора: «Берегись растяжения — на всю жизнь мучение. Лучше перелом».
Между тем Клава действовала быстро и сноровисто. Она куда-то сбегала, принесла какой-то жидкости, намочила ею чистую тряпицу, обмотала ногу. Пояснила:
— Ничего, полегчает. Это я виноградным уксусом тебе вроде компресса сделала. Полежи. Знаю. У меня такое было. Пара дней — и пройдет.
— И все у тебя, понимаешь, было, — ворчал Семен. — И все, понимаешь, пройдет через день-два. Куды ж, бывалая.
— А ты, Сенечка, помолчи. Что бы ты без меня делал? Тоже мне, мужик.
— Ну-ну, ты язык-то не распускай.
Брат и сестра продолжали беззлобно препираться. Потом долго о чем-то шептались. Сергей, почувствовав облегчение в ноге, молча вытянулся на сене.
Неожиданно Клавдия прикрикнула на Семена:
— А ну цыть. Кажись, злыдни прутся.
Издали, с улицы, донеслись неясные грубые голоса. Кто-то по-жеребячьи заржал.
— Точно. Полицаи. А, чтоб вам повылазило. Опять самогон потребуют. А у меня ж еще и бражка не переиграла.
Клавдия низко на лоб надвинула какой-то замызганный платок, повязала его нелепо огромным узлом под подбородком и сразу стала похожей на некую занехаянную пожилую бабу. Старая, вылинявшая, латаная юбка по-цыгански спускалась из-под рваного домодельного кожушка почти до стоптанных вкривь и вкось огромных опорок, закрывавших ноги выше щиколоток. Сергей невольно усмехнулся: «И этой дивчине — тридцати нет». Однако Семен наставительно прохрипел вслед пошлепавшей Клавдии:
— Ты там того… Клавка. Не очень, знаешь. Полицаи — они и есть полицаи.
Не оборачиваясь, сестра отбрила:
— Молчи да дышь — так будет барыш. Тоже мне наставник нашелся. Сопли утри.
— Ну-ну! — пригрозил Семен и пожаловался Сергею: — Разница-то в годах всего шесть лет, а старует. Куды там. — И уже тише, раздумчивее: — Мне было десять лет, когда маманя померла. Это в тридцать третьем. Когда «саботаж» ломали. А наш район на «Черной доске» оказался. Ну и мерли как мухи. Да шо тебе рассказывать. Ты сам-то городской чи станичный?
— Да городской. Говорил же тебе. Из Краснодара. Правда, родился-то я в станице. И жил там до двадцати лет. Но паспорт получил в Краснодаре. В общем, «саботаж» и я хорошо помню.
— Ну то-то. Так вот Клавка меня выходила. Не знаю, и до се не признается, что за мясо она мне приносила. А наварит, поставит передо мной миску, а сама напротив сядет, щеки кулаками подопрет и подбадривает: «Ты ешь, ешь. Я уже поела. А ты, знай, ешь хорошенько». Так и прокормила. Потом замуж вышла за летчика. Хоть и не военный, а с первых же дней войны на боевой истребитель пересел. А она, вишь, на почте работала и не успела вакуироваться. Вот тут случайно встретил. Хвастает: «Партизанить буду». Дура! — Семен помолчал, вздохнул и чуть иронично добавил: — Она мне как маманя. А вот, понимаешь, так и подмывает покомандовать ею. Как же: мужик. Хотя, если б не она…
Неожиданно Семен насторожился. Сергею тоже почудилось, что к глухим голосам примешивался сдавленный женский крик. Он рывком сел. Семен грубо толкнул его в грудь, опрокинул в сено:
— Нишкни! Если что — сам управлюсь. — Он проворно соскользнул с сеновала, выглянул в дверь и, пригибаясь, скачками кинулся куда-то во двор. Появились они оба минут через десять: плачущая и злая, без кожушка, в разодранной до голого тела кофте Клавдия и какой-то невменяемый и затравленно озирающийся Семен.
Сергей снова рывком сел.
— Черт, дурак, — плача и ругаясь, вычитывала Клавдия. — Чего тебя принесло? Я б его, погань, сама удушила и — в погреб. А теперь что же делать? Тот же гад удрал! Щас всю свору напустит. До города верст пять.
Сергею пояснения не требовались. Кривясь и поскрипывая зубами, слез:
— Ну вот что, гешвистер!
— Ты чего? — рванулся к нему Семен. — Фриц?
— Постой, горячка. Это, и вправду, немецкое слово. Оно одно обозначает два наших: брат и сестра. Только это я еще в школе изучал. Так что не кидайся на меня. Ясно! И вот что. Без паники, и слушать меня.
— А кто ты, чтоб командовать? — набычился Семен.
— Молчи уж и слушай, что человек скажет, — размазывая слезы по щекам и зло шмыгая носом, остановила брата Клавдия. Тот что-то невнятно проворчал.
— Ближайший поселок, помнится, Тимоши? — Голос Сергея обрел твердость.
— Откуда это тебе помнится? — насторожился Семен. Но Клавдия дернула его за рукав.
— Значит, так, — ровно и уверенно заговорил Сергей. — Ты, Сема, сейчас же отведешь сестру в Тимоши. Можешь остаться там, если найдешь пристанище. А можешь вернуться и прямиком — на окопы, в рабочий лагерь. Я иду туда. Если придешь — встретимся и подумаем, как быть дальше. Теперь поточнее: что вы сделали и куда дели того полицая?
— Да задушил его этот дурак, — беззлобно пробурчала Клавдия.
— И?
— Ну там, в хате, и валяется.
— Когда другой полицай может привести подмогу?
— Не раньше как через час.
— Значит, времени в обрез. Колодец во дворе есть? Пошли.
Сергей заприметил в углу грабли. Безжалостно отломил рукоятку и, опираясь на нее, заковылял к хате. Общими силами дотащили тушу полицая до колодца, столкнули в глубину. Семен хотел было взять карабин. Но Сергей молча отобрал и тоже швырнул в колодец. Оглядевшись по сторонам, увидел каменный каток — такими рубчатыми каменными катками когда-то молотили расстеленные на току снопы пшеницы.
— А ну давай, Сеня, поднатужься. Волоки сюда эту каменюку да вали ее в колодец.
— Это зачем же? — краснея от натуги и подтаскивая каток к срубу, надсадно прохрипел Семен.
— А чтобы полицай не всплыл. Да и если станут искать его — не сразу бы нашли.
Покончив с этими делами, Сергей отозвал в сторону Клаву, чем кровно обидел Семена. Приблизил, что называется, глаза к глазам. У Клавы глаза заслезились, но она не сморгнула.
— Запомни, Клава, где бы и с кем бы ты меня ни увидела — ты меня не знаешь. Поняла? — Она сглотнула и мигнула. — Теперь: если доберешься до Балаклавы — нет, я тебя не заставляю, если придется, — найди в порту листригона. Ну, рыбака. Высокий, светловолосый, веселый, любит девушек затрагивать. Повертись около его шаланды. Если затронет, скажи: «Нет, ты не листригон. А такие мне не нужны». Запомни! Повтори! Так. Он тебя потом найдет. Скажешь: «Сестренка дома. И оба братишки с ней. Напиши. Очень ждет». Повтори! Не забудь! И сразу исчезай из Балаклавы к забудь того парня.
— Да что ты все: забудь да забудь!
— Так надо. Верь.
Вернувшись с Клавой к надутому Семену, резко приказал, именно приказал:
— А теперь бегом марш через пески прямо на Тимоши! Напрямик. Что есть духу. А я тут овражком выйду на акмонайские окопы. Ну, давай, ребята. Спасибо за ласку, а не свидимся — не поминайте лихом.
Клавдия как-то непроизвольно качнулась к нему, но Семен схватил ее за руку и действительно во весь дух поволок в поросшие прошлогодним полынком солончаковые, размокшие от нудных зимних дождей пески. Сергей, не теряя времени, заковылял, оскальзываясь, вниз по оврагу. Перед вечером он уже, охая и лениво отругиваясь от подталкивающего его полицая, шлепал по грязи с толпой усталых, обессиленных людей в «цивильный» лагерь на отдых. Есть дали сырую свеклу. Переговаривались, будто повариха то ли сбежала, то ли ее посадили в полицию.
…Дня через два, на час забывшись от изматывающей боли в ноге, очнулся оттого, что кто-то по-собачьи скреб его по боку. Сергей застонал, с трудом повернулся. Кто-то неразличимый в темноте задышал ему в ухо:
— Это я, Серега. Семен. Клавка велела к тебе. Говорит: один ты пропадешь. Опора, говорит, нужна. Ну вот я и того…
Сергей нащупал Семенову руку, с чувством пожал:
— А как же сеструха?
— Не сомневайся. Она аж в Биюк-сирень подалась. Говорит, там у нее подруга. Да ты за нее не думай. Она бой-баба.
— Бой-то бой, да там и немцы, и бродячие банды.
— Это ты верно. А чего ж делать-то?
Рядом заворочался работяга, простонал:
— Да вы дадите хоть отдохнуть, изверги. То немцы, то полицаи. А тут еще и вы.
Дружки примолкли.
— А ты как сюда пробрался? — немного погодя спросил Сергей.
— Да чего тут пробираться. Кругом проволока. На воротах два полицая и немец с лычками. Возле пулемета. И вся тебе охрана. Я с той стороны песок подрыл и пролез под проволокой. И вся хитрость.
— Это с какой же с той стороны? — вдруг явственным шепотом вмешался сосед.
Сергей напрягся. Семен затих.
— Слышь, паря? — Сосед явно придвинулся вплотную. — С какой, говорю, стороны под колючкой пролезть можно?
Сергей почувствовал, что Семен, весь напружинившись, начал приподниматься. Протянул руку, успокоительно погладил его по плечу. Тот расслабился, снова лег.
— А тебе что, к бабе сбегать? — полусонно прошептал Сергей.
— Да пошел ты… — шепотом огрызнулся сосед. — Это после сырого-то буряка к бабе? Спрашиваю, стало быть, думка есть.
— Ну, думка, она и у индюка есть. Да что-то дальше супа она его не доводит…
— Не доверяете? — зашептал сосед. — Ну что ж. И то верно. А только вы от меня никуда не подавайтесь. Днем, на работах, может, доверчивее станем.
Семен зашептал в самое ухо:
— Я его, дохляка, одной рукой…
— Тихо. Отдыхай. Утром увидим.
— Дождешься: утром он полицаям или самому фрицу стукнет. Не видишь разве: стукач же.
Сосед все-таки что-то расслышал:
— Ребята, не горячитесь. Сам откроюсь, а там решайте. Я из военного лагеря сюда перебрался. Оттуда впрямую не сбежишь. Собаки, автоматчики. Ночью — прожектор. Не застрелят, так овчарки загрызут. А тут вроде бы попроще. Два дня назад один ваш работяга копыта откинул. Ну я тихонько в его робу переоделся и с вашей шарашкой сюда перебрался. Да моряк я, поняли, моряк. А моряк не продаст.
Все трое лежали молча. Наконец Сергей шевельнулся:
— Если моряк, то с какого корабля?
— Да с сейнера я. С БЧС семьсот шестого. Тут, под Эльтигеном, на донышке лежит. А я ровики противотанковые рою для фрицевской обороны. Все ясно?
Сергей усмехнулся:
— У матросов нет вопросов! Только так дело не пойдет, дорогой братишка. Знаешь ведь правило: за один побег каждого двадцатого расстреливают, а за два — каждого десятого. Выходит, ты — хороший, ты — драгоценный, ты убежишь. А за это сотня, а то и полторы нипричемных людей будут валяться посреди солончаков, ворон кормить. Умный морячок! Геройский! Может, там, у своих, еще и медаль себе потребуешь. «За отвагу».
В темноте на Сергея навалилось тяжелое, потное тело.
— Ты… штатская… Ты мою морскую честь не тронь! Если б мне левую руку не покалечило, я б тут не валялся, понял? — Моряк в темноте сунул в лицо Сергею что-то зловонное, жесткое, укутанное, видимо, в тряпки. Тот понял: раненая рука. Осторожно, но решительно отвел ее:
— Не хвались. Могу и тебе такой же паспорт предъявить.
Рядом возбужденно пыхтел Семен:
— Чего он, а? Чего? Дай я его…
— Тихо, Сеня. Все нормально. Тихо.
…Утром они встали разом. Всюду ходили неразлучно. Настороженно присматривались друг к другу. После обеда Сергей таскал носилки с грунтом — было трудно, потому что новый знакомый держал только одну ручку, и Сергею приходилось напрягаться, чтобы удерживать ношу горизонтально. Возвращаясь с пустыми носилками, Сергей, не оборачиваясь, сказал идущему следом моряку:
— Вот что, Ваня…
— Ты откуда имя узнал?
— Чудак. У тебя ж татуировка на пальцах.
— И верно. Вот черт! Был же дураком…
— Не переживай, Ваня. Ты и сейчас не поумнел.
Матрос дернул носилки.
Сергей прикрикнул:
— Не останавливайся. А не поумнел потому, что, не видя и не зная, с кем имеешь дело, первым попавшимся лагерникам весь наизнанку вывернулся.
— Ну, не первым попавшимся, — виновато забормотал матрос. — Я ж все-таки слышал, о чем вы говорили…
— Не ври. Что ты слышал? Так, с пятого на десятое.
Матрос молчал.
— Вот видишь. А вот я или, скажем, мой дружок пойдет сейчас и доложит капо о тебе, о твоих настроениях и все прочее.
Матрос неожиданно рассмеялся:
— Не-е. Ты не пойдешь. Я к тебе уже присмотрелся. Да и дружок твой не пойдет. Хоть он, видать, горячий мужик…
— В общем, слушай меня, Ваня. То, что ты задумал, неверно. Не перебивай! Надо так сделать, чтобы и немцев перебить, и весь лагерь разбежался.
— Куда?
— Вот и я говорю: куда? Две тысячи голодных оборванцев — это тебе не иголка в сене.
— Так что ж, всем пропадать? Я на это не согласный.
— Постой, Ваня. Зачем же пропадать? Думать надо. На то у нас и головы.
— Ишь ты! А я и не знал!
— Не злись. Думай!
…Прошла неделя. Сергей стал ходить лучше. Иван хмурился. Семен ворчал: «Надо было придушить его той же ночью, и не было б забот».
Сергей ждал, присматривался. Мысленно сортировал людей: кто сломлен, кто равнодушен, а кто затаился до поры. Наткнулся на трех дружков — «дезертиров» из РОА. Сблизился, вызвал на откровенность. Узнал, что «призваны» были в Симферополе, что мобилизовал их власовский старший лейтенант Быкович, который там заправляет штабом формирования РОА. Дружки удрали из сформированного батальона на переправе в Керчи еще в ноябре, прятались по хуторам, да попали в облаву и оказались в гражданском лагере. Охотно согласились выполнять задание Сергея — чтобы каждый подобрал по три-четыре человека, тоже готовых на борьбу против гитлеровцев.
Кажется, дело двинулось.
Как-то перед утренним «разводом» хмурый капо повел по лагерю какого-то пыхтящего брюхоносного немца в непонятной форме: весь в черном, а вроде не эсэс, обвешен побрякушками, а на ордена не похоже. Оказалось: инженер-строитель. Капо топал рядом с ним и время от времени хмуро выкрикивал: «Каменщики, штукатуры, плотники, бетонщики, слесари — выходи!»
Сергей толкнул стоявших рядом друзей и решительно шагнул вперед — он и впрямь знал строительное дело. Матрос и Семен замешкались, по потом тоже вышли и стали рядом с Сергеем.
Иван не вытерпел:
— Ты что задумал? С меня строитель как с дерьма пуля. А вдруг проверит?
— Не дрейфь, море. Пробьемся!
— Конешное дело, пробьемся, — неожиданно поддержал Семен. — Я хоть и не ахти какой мастер, а вот катушок для козы и птицы сам смантырил.
— Смантырил, — ворчал Иван. — И слово-то черт-те какое.
Отобранных — а их столпилось десятка три — вывели за ворота, погрузили в крытые машины и повезли.
Где-то через час-полтора приехали. Выгрузили. Построили. Пересчитали. Повели.
Иван взволнованно зашептал:
— Море, братва. Дух соленый чую.
Привыкший на лету хватать любую мелочь, Сергей успел заметить торчавший из-под обломков угол вывески со словами: «Феодосии… Поч…» — и негромко подбодрил Ивана:
— Точно. Море. Похоже — Феодосия.
— Да ты что, браток? Я ж сюда высаживался в январе сорок второго. Тут же мои братишечки полегли. Мы ж тут фрица поклали…
Семен схамил:
— Поклали, поклали! В штаны вы наклали.
Сергей не успел перехватить Ивана, когда тот метнулся к Семену, повис на его воротнике, зарычал:
— Удушу, и пар не стравишь, ублюдок.
Сергей безжалостным ударом обессилил Ивана и тут же подхватил его под руку, чтобы тот не упал:
— Идиоты! По свинцу соскучились?
Семен ошалело вертел шеей:
— Чего он? Бешеный какой-то.
— Замолчи, — цыкнул Сергей, заметив, что один из конвойных замедлил шаг и стал внимательно всматриваться в нестройные ряды лагерников.
Вывели их в порт. Разместили в каком-то безоконном лабазе, плотно набитом такими же, как и они, голодными, изможденными оборванцами. Аккуратные немцы тут же выставили часовых с собаками. В обед принесли баланду в большущем баке из перерубленной пополам железной бочки, в которой раньше возили бензин. Капо с огромным черпаком стал у бака, рыкнул: «Подходи!» Лагерники растерянно озирались: ни котелков, ни каких-либо баночек, вообще ничего похожего на посуду ни у кого не было.
— Ну? — озверел капо.
Сергей решительно подошел к баку, снял с головы старенькую замызганную солдатскую ушанку, подставил под черпак:
— Лей!
Капо загоготал:
— Верно говорят: солдат и с шила кашу сварит и швайкой шти хлебать смогеть. Держи за находчивость! — И опрокинул в шапку чуть ли не полный черпак.
Сергей, осторожно, держа за проушины, донес содержимое до своих друзей. Те вытаращенно глядели на его ношу.
— Ну, приступай, братва. Да не тушуйтесь. Отхлебывайте каждый со своей стороны. А мне — что останется.
Хлебнул Иван, хлебнул Семен. Поморщились. Потом накинулись и стали шумно, жадно хлебать, давясь и кашляя. Постепенно этими звуками наполнился весь барак: кто хлебал из шапки, из картуза, кто из перевязанного рукава, кто из ботинка, кто просто из пригоршни.
В дверях стояли, раскорячившись, немецкие часовые. Гоготали. Выкрикивали какие-то слова, покатывались со смеху. Рядом сидели золотисто-бурые сытые овчарки. Вывалив красные языки, брезгливо воротили морды в стороны. Отвар из бураков и тухлой конины не вызывал аппетита у холеных псов.
— Вот тебе и немецкий рай, — громко загудел Семен. — Все довольны. Жрут из корыта, брюхо сыто, и немцам весело.
Кто-то из соседних работяг, вылизывая пригоршню, негромко посоветовал:
— Ты язык-то попридержи. А то у них, вишь, собачки скучают.
— Во-во, — не унимался Семен. — Там собачки, тут наган. Помалкивай да вкалывай, Иван.
Сосед предусмотрительно отполз подальше. Сергей унял Семена, наскоро наказал друзьям:
— Если нас разделят — ищите подходящих людей, присматривайтесь, не спешите открываться. Если убедитесь — привлекайте к такой же работе.
— Какой работе? — не понял Семен.
— Надо русскому человеку русскую честь вернуть. Чтоб вредил врагу. А удастся — и оружие повернул против него.
Повеселившись, гитлеровцы стали злобно орать, пинать людей ногами:
— Лос! Лос! Арбайтен! Швайн! Арбайтен!
Люди тяжело поднимались, выходили во двор, подгоняемые пинками, строились. Их разделили на две группы. Сергей с Семеном попали в одну. Ивана грубо толкнули в другую. Группы развели в разные концы набережной. Работать пришлось быстро — немцы нещадно подгоняли. Рыли котлованы. Тут же обкладывали их кирпичом. На кирпичное основание ставили литые бетонные колпаки с амбразурами. Обливали их бетонным раствором с галькой, трамбовали, засыпали песком, заваливали щебенкой и голышами. Перед амбразурами расчищали секторы, а сверху маскировали обломками кирпича, извести, штукатурки, подтаскивали и наваливали сверху какие-то обломки железобетонных плит, стен, арматуры. Сергей прикинул: реперы. Стало ясно: укрепляют порт, под перекрестный огонь берутся причалы: стало быть, ждут удара с моря, десанта боятся. Но почему только пулеметные гнезда?
Ответ пришел вечером, когда обе группы опять согнали в один барак. Иван, отхлебывая вонючую баланду из ржавой банки, подобранной на берегу, отрывисто рассказывал:
— Огневые оборудуем. И добротные, я тебе скажу. Для крупного калибра. Интересно, откуда они эти пушечки приволокут? Разве что из Севастополя.
— А ты что, артиллерист?
— Был когда-то. На батарее Зубкова канониром был. А это, я тебе скажу, та еще батарея. Всю Цемесскую бухту под огнем держала. Ни одной немецкой лоханки в порт не допустили.
— А как же ты на сейнере очутился?
— Очутился — и все. И ша! Эту тему забудь.
— Мне-то что. Ша так ша. Не хочешь — не говори.
— Вот и договорились.
Помолчали. Иван пальцем выскоблил банку, обсосал палец. Откинулся на спину. Подложил руки под голову, проворчал:
— Хоть бы соломы какой, гнилой хотя бы, или камки сухой кинули, падлы. На цементном полу не то чтобы жестко… А вот холодно. Еще этот, как его, ридикюлит наживешь.
Помолчали. Барак тяжело затихал, стеная, охая, вздыхая и ругаясь.
— Слышь, Серега, — зашептал Иван. — Я что никак не соображу. Репера непонятные. Дальномеры установлены так, что можно или только за морем в районе порта наблюдать, или за набережной в ту сторону, куда вас водили. А правый репер совсем не просматривается. Ну, даже дальномер туда не поворачивается. Это как же понять? Ведь если наши корабли, так они жив юга могут подойти?
Сергей встрепенулся, заинтересованно повернулся к Ивану:
— Ну-ка, ну-ка, порассуждай, Ваня. Ты это дело знаешь, а я, по правде, не секу.
Иван оживился:
— Понимаешь, браток, ежели там шестидюймовые дуры поставят, так это ж, я тебе скажу, даже крейсеру хана, если ниже ватерлинии жахнет. Стало быть, не с рыбацкими скорлупками думают схлестнуться. Тогда как можно добрых четыре румба оставить в мертвой зоне? Зато все причалы, вся набережная и весь город — под прямой наводкой. Шо ж наши такие дураки — полезут прямо в порт? Хватит, мы прошлый раз уже высаживались в порт. Правда, тогда была неожиданность и штормяга. Так что они в подштанниках драпали. Почти без выстрелов. Это уже потом раскумекали, что наши даже корабли прикрытия не могли подойти к этим долбаным причалам, а мы, как голые котята, ленточки в зубы, автомат в одну руку (патроны-то кончились), гранату в другую и — полундра! — пешком на танки. Конечное дело, скинули они нас в море, как навоз в канаву… Но теперь-то такую дурочку наши, думаю, не сваляют же?
— Так, так, Ваня. Ты давай насчет орудийных позиций порассуждай.
— А я ж тебе о чем и толкую. Что-то мне тут непонятно.
— А ну давай, Ваня, нацарапай тут на полу, как они располагаются, эти твои батареи.
— Как же, мои! Ну ладно. Вот так бухта вдается в берег. Тут вроде мысок. На нем мы и оборудуем позиции. Может, взрывчатки где добыть? Рвануть бы их?
— Не увлекайся. Рассказывай.
— Да что рассказывать? Сюда загибается бухта. Вот тут порт. Причалы. А туда дальше по набережной пошли склады всякие, развалины там. Сюда дальше — выход в город. Вот тебе и весь рассказ. Ну, вот там где-то — створный маячок. Но они его не зажигают. Все…
Сергей, перевернулся на спину, закрыл глаза, сопоставил нацарапанное Иваном с тем, что видел сам, стал думать. «Какой же тут замысел? Что ж получается: они не только со стороны моря, а и с суши прикрываются? Постой, постой…»
— Ваня, а эта, как ее, ну, дюймовка. Она танк возьмет?
— Ты шо? Шестидюймовка! Да она любой танк как скорлупку расколет. Это ж соображать надо: шестидюймовка!
— Кажись, я начинаю понимать, Ваня. Давай спать. Завтра кое-что проверю, прикину и тогда посоветуемся. Вот что я тебя попрошу, Ваня: присмотрись, что там за вояки? Немцы, румыны или эти… власовцы. Ладно?
— По-моему, немцы. Правда, и эти, РОА, вроде мелькали. Верно-верно. Были и РОА. И даже — да чего там — в основном они и есть. Как раз остальные — только мелькают.
— Присмотрись, Ваня. Это очень, очень важно. А если не сдрейфишь — и настроение прощупай. Надо, чтоб на батареях были подходящие нам люди. Понял?
— Ладно.
Помолчали. И неожиданно:
— А с батареи Зубкова меня турнули. За девчонку. В общем-то, зря. Комвзвода имел на нее виды. А она возьми и приди ко мне. Ну, понимаешь, не чувствую я себя виноватым. Ее это дело, понимаешь, ее право… Ну, не знаю. Утром он с вахты пришел в блиндаж. А она… со мной под одной шинелью. А, да что говорить… Я самому Зубкову поклялся, что женюсь на ней… Куда там! Комвзвода как разорался. И нарушение дисциплины, и Устава… И разврат. И ведь ее даже не допустили на комсомольское собрание. Комвзвода специально услал ее на самый дальний НП. Она связистка. Проститься не разрешили. Меня списали. На полуторку — и в Геленджик. Писал. Никакого ответа. Наверное, комвзвода, гад, перехватывает письма. А моего ж адреса она не знала. А теперь… Эх, братишка…
Сергей нащупал руку Ивана, сжал в своей крепкой ладони.
— Это я тебе, Серега, к тому, чтоб ты во мне какого-нибудь гада не увидел. Хочу, чтоб ты знал. Я, брат, не такой уж дурак, как ты думаешь. Вижу — не простой ты парень. И присох я к тебе за эти дни. Ты мне ничего не рассказывай. Ты только говори, что делать, и я в лепешку расшибусь…
— Ладно, Ваня. Давай поспим. Завтра опять каторга. Да и раскумекать кое-что надо. А насчет настроения у «освободителей» — прощупай. Ищи людей. Нам эти батареи ох как нужны будут, Да присмотрись, как они друг дружку перекрывают.
…Утром Сергей основательно рассмотрел, куда какие дороги ведут и по каким направлениям какие части окапываются. Расспросил трех дружков — «дезертиров». Получалась хитрая картина: на горе, над всей Феодосией, засела усиленная рота эсэсовцев. А на берегу посадили… власовцев. Причем и в пулеметных бункерах, и в артиллерийских капонирах. Сергей не поверил. Но вечером Иван подтвердил, что с артиллеристами даже разговаривал и, похоже, на двух батареях «освободители» не прочь на немца пушки повернуть.
— Ну а пушки?
— Да ты понимаешь… — Иван поскреб в затылке. — Хреновенькие пятидесятимиллиметровки и эти пукалки — «эрликоны». И никаких тебе крепостных страшилищ.
— Может, временно?
— Не похоже. Снарядных ящиков навезли — неделю можно непрерывный бой вести.
Сергей понял: драпают фрицы. И оставляют на заслоне этих выродков из РОА. Тут, пожалуй, он замешкался. Надо форсировать работу с «освободителями». А то ни им, ни своим пользы не будет. А если поднажать, кое-что может и получиться. Ведь не все же выродки? Кто ослаб, кто испугался, кто думал гитлеровцев перехитрить. Да мало ли что! Надо прощупать и поднажать на этих солдатушек — бравых ребятушек.
В обеденный перерыв к Сергею подошли два «краснопогонника». Угостили сигаретами. Осторожно разговорились. Оказалось, оба артиллеристы: Иван Клименко и Михаил Калугин. Земляки с Кубани.
— Твой морячок Иван сказал, что надо с тобой поговорить, — вопросительно посмотрел на Сергея Калугин.
— А что, у вас есть что сказать?
— У нас-то есть, а у тебя?
Сергей поколебался и… пошел на риск.
— Вы с каких батарей?
— Я с первой, Иван — с третьей.
— Кто командиры?
— Немцы.
— Справитесь?
Оба потупились, молча глубоко затянулись. Клименко поднял на Сергея глаза:
— Наши справятся.
— Да и мы тоже, — добавил Калугин.
— А четвертую и вторую накроете?
— Вполне, — подумав, ответил Клименко. Калугин кивнул согласно.
— А по пулеметным бункерам?
— Это нам сподручнее, — отозвался Калугин. — Только… там же… Ну, тоже наши.
— А по гарнизону?
— Это пожалуйста, — оживился Калугин. — С нашим удовольствием.
— Тогда все, ребята. Сигнал дам. Связь — через моряка.
Через два дня Калугин привел еще двух дружков: артиллериста и пулеметчика крупнокалиберного пулемета. Сергею новички понравились. Молчуны. Говорят только по делу. Откровенно. Глаз не прячут. И во взглядах — готовность и надежда.
Еще через пару дней сам вышел на бывшего учителя из Старого Крыма Васильева. Иван привлек бывшего моряка Тончева. Постепенно вырисовывалась картина обороны. Гарнизон — батальон. Состав — русские, поляки, австрийцы, румыны. И только одна треть — пожилые немцы, призванные по тотальной мобилизации.
Русские, набранные из пленных, постепенно сдружились с Сергеем и его друзьями. Приносили хлеб, сигареты. Рассказывали о приказах командования. Горько сетовали на судьбу, на свое безвыходное положение. Сергей внимательно изучал людей, все осторожнее подходил к отбору доверенных. Знал: чем шире сеть, чем больше людей в ней, тем больше и опасность провала.
Командир крупнокалиберной пулеметной точки полтавчанин Роман Кисиль активно взялся за создание ударных групп на батареях и на пулеметных точках. Докладывал Сергею, что все русские готовы искупить свою вину кровью, перебить гитлеровцев и перейти на сторону Красной Армии.
Сергей наиболее доверенным сообщил пароль для перехода (пароль был дан еще в Краснодаре). Совершенно неожиданно натолкнулся на пожилого немецкого солдата, говорившего на ломаном русском. Костерил войну, фашистов. Плакал, что в Гамбурге под американскими бомбами погибла семья. Согласился сдаться по паролю. Он же указал Сергею и на агента «Цеппелина», рыскавшего по баракам в поисках подходящего «материала» для диверсионных школ. Сергей взял на заметку всех, с кем говорил этот вербовщик. Через своих друзей прощупал их настроение. Двоих, особенно озлобленных против Советской власти, солдаты РОА ликвидировали сами и сообщили об этом Сергею. Пришлось малость осадить, чтобы не привлечь внимания агента «Цеппелина».
Вечером опять шептались с Иваном. Сергей радовался, что дело налаживается. Но скрытая тревога не покидала: не ошибся ли в людях? Не выдадут ли, не подведут в критический момент? Иван горячился, заверял, что осечки не будет. Семен же как-то незаметно отдалился. Вернее сказать, не заметили друзья, как он стал отдаляться. Опустился. Тупо хлебал баланду, опрокидывался на бок и боровом храпел до утра. А утром опять хлебал, становился в колонну и тупо, покорно, бездумно с утра до ночи таскал бревна, камни, плиты, катал литые бетонные колпаки. На былых своих дружков внимания не обращал, хотя по-прежнему приходил в захваченный ими с самого начала угол.
Иван первый не выдержал:
— Слушай, не нравится мне твой Семен. Быдлом становится. Гадом станет.
— Потерпи, Ваня. Здоровый, молодой. На голод слаб.
Через день Иван опять зашептал Сергею:
— Говорю тебе: плохо дело. Семен у капо выклянчивает куски вареной конины, а тот у него что-то выспрашивает, и он ему чего-то бубнит.
Это встревожило Сергея. Попробовал говорить с Семеном. Тот грубо и лениво оборвал:
— А катись ты. Вы тут с морячком шепчетесь, ну и шепчитесь. А меня не замай. Идейные. Все одинаково на фрица робим. Хочешь чистеньким вывернуться? Не выйдет.
И завалившись на бок, захрапел.
— Ну? — привалился Иван.
— Неладно, Ваня.
— А я тебе что?
— Ладно. Спим. Завтра придумаем.
— Смотри, чтоб он раньше не придумал.
Утром Сергей сам наблюдал, как Семен жадно глодал серо-зеленый мосол, полученный от капо, и что-то бубнил, то кивая головой, то отрицательно ею тряся.
Отправляясь на работы, Сергей был поглощен невеселыми мыслями: как быть с Семеном? Неожиданно в плечо ударил камешек. Осторожно оглянулся. Из-за груды развалин высунулась и скрылась вроде бы знакомая физиономия. А вот чья? Сергей стал исподтишка наблюдать. Опять высунулась замотанная в тряпки голова, и Сергей чуть не остановился от озарения: «Ямочки! Ямочки на щеках. Это ж Клавдия! Ай да молодчина!» Чтобы подать сигнал, он изобразил: вроде бы опирается на палку и прыгнул на одной ноге. Клава поняла, кивнула и скрылась. Шагавший рядом Семен тупо уставился на Сергея:
— Чо дуркуешь? Прыти много? И тут Сергея озарило.
— Сема. Ты где Клаву оставил?
— В Тимошах. А чо?
— Но ты же говорил, что она куда-то дальше, на юг, что ли, пойдет.
— Ну пойдет. И чо?
— Так пойдет или пошла?
— А я почем знаю? Чо пристал?
— А вдруг бы она тут объявилась? — Сергей здорово рисковал, но ему врезался крепко в память тот ночной рассказ Семена на сеновале. «Не может быть, чтоб память о сестре не разбудила в нем человека. А не разбудит… Ну что ж… Что-то всегда должно быть важнее другого…»
Семен некоторое время шел молча. Потом хрипло забормотал:
— Это вы насчет капо всполошились? Не боись. За вонючую конину своих не продам.
— А чужих?
— А это тебя не касаемо. Ты то, так уж и знаешь, где свой, где чужой? Сказал: вас не продам. А в душу мне не лезь. Умник. Связался с тобой. Ушел бы тогда с Клавкой и горя б не знал. А тут… жри дохлятину да еще и отчеты давай.
— Да не нужны мне твои отчеты. Давай думать, как отсюда вырваться. Слышь, со стороны Керчи гул идет. Наши идут. Фрицы пятки салом мажут.
— Как же! Они тебе так намажут, что больше не ворохнешься. Да не трави ты душу. Сказал же — отчепись!
Сергей решился на последний шаг.
— А Клава-то здесь!
— Чо?! — Семен так заорал и так резко остановился, что задние натолкнулись на него, смешались, образовалась толчея. Шедший впереди немецкий охранник развернулся, направил на колонну автомат:
— Швайген! Штиль! Руссише швайн!
Сергей сильно сжал руку Семена выше локтя, дернул вперед, процедил сквозь зубы:
— Пулю захотел, дурак? Иди и виду не подавай.
Лагерники торопливо восстановили порядок в колонне и зашагали старательно, торопливо.
Но Семен уже, видимо, не мог успокоиться. На ходу прохрипел:
— Ты чего, сбрехнул?
— Иди, иди. Потом скажу. Ничего я тебе не сбрехнул.
Семен преобразился. Он как-то даже выше стал, глаза смотрели вперед задумчиво и осмысленно. На стройке сказал Сергею:
— Скажу капо, что буду тебе кирпич подносить.
— Не связывайся с капо.
— Не боись. Я знаю, что можно, что нельзя. Я ему про его же слухачей и докладаю. Я ж видел, с кем он дела ведет. Вот и приторговывал его ж салом, та его ж и по мусалам.
Надсмотрщики развели по объектам. Сергей прыгнул в котлован, начал выкладывать из кирпича фундамент. Минут через десять Семен приволок на своих салазках с полсотни кирпичей.
— Да ты меня на весь день обеспечил!
— Нича. Это чтоб дольше побалакать можно было. Ну, говори! Не томи. Соврал?
— Нет, Сеня, правда. Возле той разваленной будки… Ну там, возле пирса… Ты, пожалуй, и не приметил ее…
— Все я приметил. Хватит меня за дурака считать. Я уже сколько раз примеривался там схорониться на обратном пути вечером, а ночью деру дать.
— Ну, что ж, мысль смелая, хоть и глупая.
— Да ладно. Ты дюже умный. Дело говори.
— Так вот сейчас, когда мы шли, из тех развалин Клавдия знаки подавала.
— Да врешь?!
— А я, чтоб она поняла: мол, вижу, не высовывайся, — стал хромать и на одной ноге скакать. Она и поняла. А ты прицепился.
Семен задумался. Высыпал из карманов пригоршню окурков. Аккуратно развернул их, ссыпал табак в горсть и, оторвав от какой-то бумажки косую полоску, соорудил громадную козью ножку. Поднялся, сходил к капо, прикурил, вернулся, сел, свесив ноги в котлован.
— Что ж дальше? — Не спросил, выдохнул.
— Потерпи. Придумаем, Сеня.
— Ладно, Только вы с Иваном больше не шепчитесь. Я ведь только так храплю, а все слышу. И, между прочим, побольше вашего у капо выведал. Они, понимаешь, хотят русских, наших то есть, заманить. Сдать им Акмонайские высоты, пропустить мимо, а потом ударить с тыла, и, мол, русским капут. А ты стараешься, доты им выкладываешь, вроде мастерством хвалишься.
— Хвалюсь, Сеня, хвалюсь. Смотри: я ж ямку в котловане не засыпаю, а быстренько в один кирпич закладываю. Потом на него — бетонный бункер. Сверху хламу, маскировки навалим и… дот готов. А чуть пулемет да патроны сюда втащат, кирпичики-то и провалятся. Бункер осядет, и могилка готова: только взрывать — иначе не выбраться. А они ж себя не станут взрывать.
Семен подумал, похмурился. Расплылся в улыбке:
— А ты — голова! Я думал, ты так, балаболка. Ладно, давай, старайся. Я тебя кирпичом обеспечу. А как же с Клавкой? Ее-то, дуру, не сцапают?
— Не думаю. Она, по-моему, зря не рискнет.
Вечером на обратном пути из-за развалин навстречу колонне вылезла какая-то грязная, кособокая оборванка с таким же грязным узелком. Подковыляла к солдату-конвоиру, раскрыла узелок, достала серую вареную картошку, принялась объяснять на странном, бывшем тогда в ходу наречии:
— Ку-шать! Ам-ам! Есен. Ням-ням!
Солдат брезгливо поддел узелок дулом автомата и швырнул его в толпу. Картошка рассыпалась. Лагерники, не останавливаясь, старались подхватить хоть одну картофелину и тут же вместе с кожурой отправляли в рот. Досталось по картофелине Сергею и Семену. Семен сразу запихнул в рот всю картофелину, а сам, вытаращившись, не спускал глаз с оборванки. Наконец, узнал. И лицо его преобразилось. Нарушая порядок, заорал:
— Бабуся, приноси еще картопельки. А то обрыдла одинаковая еда.
— Завтра, детки, завтра утречком принесу, — деланно старушечьим голосом прокричала Клавдия.
Вечером Семен был возбужден. Еле вдвоем утихомирили. Наутро у развалин ждала уже толпа женщин — человек десять.
— Молодец, Клава! Соображает.
— А ты думал! — с гордостью за сестру откликнулся Семен.
Женщины смело двинулись к колонне. Но охранники подняли автоматы: «Хальт! Цурюк!» Женщины протягивали узелки. Старший охранник что-то прокаркал. Конвоиры заржали. И старший весело прокричал женщинам:
— Ком! Ком! Давай-давай! Кушай, мамка! — и приглашающе мотнул стволом автомата в сторону колонны.
Женщины поняли это как разрешение приблизиться к лагерникам. Они бросились к мужчинам, на ходу развязывая узелки, вытаскивая оттуда и не глядя раздавая направо и налево вареную картошку, соленые огурцы, лепешки из отрубей и кукурузы. Клава сразу пробилась к Семену и Сергею. Ямочки на ее нарочито замурованных щеках прямо-таки лучились радостью.
— Я тут близко устроилась. Как вернулась из Балаклавы, так и устроилась. — Она быстро и остро глянула на Сергея. — Видела. Говорила. Сказал: «Ну что ж, ищи листригонов, а я — мирный рыбак. А семье напишу». Веселый такой.
Сергей чуть не подпрыгнул от радости. Он хотел расцеловать Клаву, но… побоялся кулаков Семена. Зато с такой благодарностью посмотрел на нее, что та все поняла и затараторила:
— Вернулась. Туда-сюда ткнулась. Ну и устроилась. На Приморской. Тут мастерская. Стираем и ремонтируем немецкое обмундирование. И какое-то непонятное: вроде русское и не русское.
— Власовское, — буркнул Семен, хрустя соленым огурцом. — Да ты-то как сюда попала? Как ты женщин собрала? Кто они?
— Да это все нашенские. Вместе в мастерской работаем. И все в основном из Старого Крыма. Там бандиты русских убивают. Ну, кто смог — убежал. Говорят, немцы, не останавливаясь, на машинах все к Севастополю сбегаются. Слыхать, наши Перекоп прорвали и под Керчью сбили немцев с позиций. Вот они и побежали. А позади татарские банды зверствуют.
— Я ж тебе говорил, — толкнул Сергей Семена.
— Говорил, говорил. Ну и что из этого?
— А то, что дураков из РОА надо сагитировать повернуть пулеметы против эсэсовцев, перебить эту мразь и взять под защиту мирное население от озверевших бандитов.
— Ой, правильно ж, Сережа, — Клава по-детски погладила его по руке.
И тут поднялся непонятный шум, женские крики, немецкие лающие команды. Тишину вспорола автоматная очередь. Клава прижалась к Семену, испуганно переводя взгляд то на Сергея, то на суматоху, поднятую около колонны.
— Ах, гады. Ну, гады. Ты понял? Пустили женщин с узелками, а теперь из колонны не выпускают. «Аллес арбайтен!» Все, мол, будете работать.
— Та шо ж мы, скотина безвольная, — вдруг заорал Семен. — Да их же всего восемь вонючих фрицев. А нас сотни полторы! А ну, братва, та глуши их чем попало!
Колонна нерешительно заколебалась. Семен нагнулся, поднял половину кирпича и запустил в ближайшего охранника. Удар оказался на редкость точным: по шее между каской и плечами. Конвоир рухнул. Сергей в несколько прыжков подскочил к упавшему, вырвал у него автомат и тут же, прикрываясь телом врага, залег, короткой очередью срезал еще двух охранников.
Остальные бросились к развалинам и, укрывшись за ними, открыли ураганную стрельбу по колонне.
Начались вопли, давка, паника. Кричали женщины и раненые. Вдруг с той стороны бухты заохал «эрликон». Трассирующие красные и зеленые снаряды чертили хорошо видимые даже днем четкие и частые линии от артиллерийских позиций до развалин, за которыми укрылись конвоиры.
Сергей закричал:
— Ложись! Все ложись!
Команду подхватили. Сергей успел заметить, что Семен уже выпростал автомат у второго убитого конвойного и, прервав огонь по развалинам, тоже заорал своим трубным голосищем:
— Ложись все!
Лагерники беспорядочно повалились на набережную. И тогда Сергей понял, что «эрликон» бьет не по толпе, а по укрывшимся в развалинах охранникам. Один из них, не выдержав, выскочил и, мелькая толстым круглым задом, измазанным в известке, петляя и прыгая из стороны в сторону, кинулся вверх, к выходу в город. Но тут же опрокинулся навзничь, автомат отлетел, каска сорвалась и, прыгая, покатилась вниз.
В этот момент грубо загрохотал тяжелый МГ с верхних позиций эсэсовцев. Пули взбили фонтаны пыли на набережной и черной полосой ударили по лежащим лагерникам. Опять закричали люди. Сергей перекатился в укрытие за обломок бетонной плиты и, оглядевшись, понял, что «эрликон» перенес огонь на эсэсовцев. Те прекратили обстрел набережной и перенесли огонь на артиллерийские позиции. Но оттуда ударили более тяжелые орудия, взрыв хрястнул в середине эсэсовских позиций, и пулемет замолк.
Сергей увидел, как черномундирники, пригибаясь, перебегают к дороге и, укрываясь за зданиями, бегут к шоссе. «Уходят, гады! — мелькнула мысль. — Ваня, милый, морячок дорогой! Ну догадайся ж ты, дай хороший залп по шоссе. Там у них машины!» И матрос словно услышал его. На шоссе за домами выросла черная аллея разрывов. Эсэсовцы кинулись обратно в свои траншеи и капониры. И тут их очень прицельно и методично начали молотить тяжелые пулеметы Михаила Тончева из береговых капониров. В это время начали рваться снаряды на второй и четвертой батареях — Клименко и Калугин своими орудиями громили соседние батареи… «Молодцы, — чуть не закричал Сергей, — точно работаете, ребята!»
Из-за развалин вылезли два охранника и, подняв руки, на локтях которых висели автоматы, пошли прямо на Сергея. И тут он краем глаза засек, как Семен поднимает автомат и целится в сдающихся. Закричал:
— Семен, не стреляй!
Но тут между охранниками рванул снаряд, и их расшвыряло.
Сергей не сразу уловил в грохоте пальбы тяжелый гул машин, но, увидев вынырнувшие из переулка танки со звездами на броне, вскочил, срывая голос, заорал:
— На-а-ши-и!
Мы встретились с Сергеем Сергеевичем (таким уж и оставим его имя) за год до его смерти в уютном зеленом дворике на тихой краснодарской улице. Это было в день тридцатилетия Великой Победы. Грудь бывшего чекиста украшали орден и медали. Рассказывал он скупо, неохотно, буднично. Но прорывалась в иной фразе или вспыхивала во взгляде, как луч прожектора в ночной степи, неугасающая и необоримая воля, воля идти к намеченной цели через все преграды.
Примечания
1
Бесчастнов Алексей Дмитриевич родился в 1913 году в селении Фряново, Щелковского уезда, Московской губернии. Свой трудовой путь начал на текстильной фабрике, где работали и его родители. Вскоре инициативного и энергичного рабочего избрали секретарем комитета комсомола фабрики, а в 1931 году — секретарем Щелковского райкома ВЛКСМ. Позднее он — секретарь Дмитровского, затем Каширского райкомов комсомола, председатель ревизионной комиссии МК ВЛКСМ. С 1937 года — в органах госбезопасности. Войну А. Д. Бесчастнов встретил в Краснодаре начальником отдела Управления НКВД края. — Здесь и далее прим. авт.
(обратно)2
Луньков Владимир Антонович годился в 1912 году в Рязанской губернии. С 1938 года работал в органах НКВД в Новороссийске. В начале осени 1942 года работал на строительстве стратегической дороги на Майкопском участке фронта по заданию командования Красной Армии. С ноября 1942 года по сентябрь 1943 года находился в оперативной группе УНКВД — УНКГБ. Награжден медалью «За оборону Кавказа».
(обратно)3
Службу в органах госбезопасности К. С. Ковалев закончил майором и уволен с правом ношения формы.
(обратно)4
Шахов Илья Федорович родился в 1909 году. С 1 сентября 1941 года — старшина Новороссийского горотдела УНКВД Краснодарского края. С октября 1942 года по январь 1943 года — курсант спецшколы в поселке Хоста по подготовке командиров партизанских отрядов. С января по сентябрь 1943 года — заместитель командира по разведке и связи новороссийского партизанского отряда «За Родину».
(обратно)5
Бурда Никифор Иванович — 1908 года рождения. В 1941—1942 годах — комендант Новороссийского горотдела УНКВД. Будучи прикомандирован к отряду «Гроза», бойцом не числился, а выполнял задания штаба партизанского куста. Награжден боевым оружием, орденом Красной Звезды и тремя медалями.
(обратно)6
В дальнейшем Б. Н. Петыга высаживался на Малую землю, под Неберджаевскую и в район Сукко. С марта 1944 года работал в Новороссийском горотделе УНКГБ.
(обратно)7
Леонтьев В. Г. родился в 1904 году в Романовском Хуторе Екатеринодарской губернии (ныне город Кропоткин Краснодарского края), в семье слесаря железнодорожного депо. В 1921 году окончил курсы телеграфистов. С 1933 года работал в органах ОГПУ — НКВД.
(обратно)8
Эту высоту под Крымском уже тогда так называли.
(обратно)






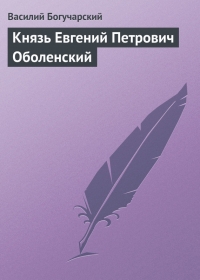
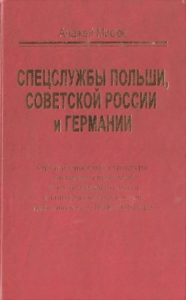



Комментарии к книге «В огне и тишине», Виктор Андреевич Андрющенко
Всего 0 комментариев