Клод Ланцман Шоа
© Librairie Artheme Fayard, 1985
© Новое издательство, 2016
* * *
Предисловие
Представляю читателям печатную версию моего фильма «Шоа»: все его диалоги и субтитры. Перевод с иностранных языков, которыми я не владею (польского, иврита, идиш), осуществлялся непосредственно во время съемок; переводчицы – Барбара Яницкая, Франсин Кауфман и госпожа Апфельбаум – не скрывались за кадром. Я полностью сохранил их манеру перевода, оставив как есть запинки, повторы, все особенности устной речи. Свои собственные реплики я тоже не стал подвергать какой-либо правке. В тех случаях, когда я общался с героями фильма на английском или немецком и помощи переводчика не требовалось, содержание нашего разговора передавалось посредством французских субтитров, подготовкой которых мы занимались совместно с Одеттой Одебо-Кадье и Ирит Лекер; теперь эти субтитры включены в текст книги.
Субтитры определили порядок ее построения. Представленные здесь в том порядке и последовательности, в каком они появлялись на экране, субтитры более или менее точно передают речь героев фильма, но никогда не передают ее полностью. Длина субтитров может значительно варьироваться в зависимости от спокойного или эмоционального состояния говорящего и от скорости его речи, тогда как время, дающееся на их чтение, всегда одинаково. Лицо говорящего, его мимика, жесты – одним словом, его образ – служат естественным продолжением субтитра, его воплощением, поскольку в идеале субтитр должен не предшест вовать словам и не сопровождать их, а совпадать с ними, появляться на экране в тот самый момент, когда они звучат. Оптимальный вариант – это когда человек, в совершенстве владеющий языком, на котором говорят герои фильма, просто не заметит субтитры внизу экрана и, напротив, у того, кто в состоянии понять лишь несколько слов, создастся впечатление, что он понимает иностранную речь. Иначе говоря, субтитры не предназначены для того, чтобы оставаться в памяти. Они рождаются на экране и умирают, едва родившись: один тут же сменяется другим, который живет не дольше, чем его собрат. Промелькнув перед нами, каждый из них уносится в никуда; длина фразы, ее окончательный вид определяются временем, необходимым для чтения субтитра, и переходом от одного кадра к другому. Обыкновенно фразы получаются «разорванными» на части, поскольку нескончаемый поток слов заставляет появляться все новые титры, обрекая старые на скорую смерть.
Таким образом, на экране субтитры – вещь второстепенная. Но если объединить их в книгу, вписать в нее, страница за страницей, те обрывки фраз, которые проносятся у нас перед глазами, не давая фильму сбиться с ритма, второстепенное неожиданно предстанет самоценным, обретет иной статус и иное качество, будет, образно говоря, отмечено печатью вечности. Титры должны будут жить сами по себе, самим себе служить опорой – без всякого фона, без образов, лиц, пейзажей, слез и пауз: без тех девяти с половиной часов, в течение которых идет «Шоа».
Я недоверчиво читаю и перечитываю безжизненный и голый текст. Странная сила наполняет его с первой до последней страницы: он держится вопреки всему, он живет своей жизнью. Это летопись катастрофы, и для меня в ней есть какая-то тайна.
Дам им вечное имя, которое не истребится
Исайя 56:5Фильм первый
Действие начинается в наши дни в польской деревне Хелмно. Расположенная в восьмидесяти километрах к северо-западу от Лодзи, в центре региона, где значительную часть населения до войны составляли евреи, эта деревня стала первым на территории Польши местом массового уничтожения евреев с помощью газа. Начало катастрофы приходится на 7 декабря 1941 года. С 1941 по 1945 год, в два этапа (декабрь 1941 – весна 1943 года; июнь 1944 – январь 1945 года), в Хелмно было истреблено четыреста тысяч евреев. Способ убийства оставался до самого конца неизменным: так называемые газенвагены.
Из четырехсот тысяч мужчин, женщин и детей, которые были отправлены в Хелмно, выжили только двое: Михаэль Подхлебник и Симон Шребник. Симону Шребнику, сумевшему спастись во время второго этапа уничтожения узников, было тогда тринадцать с половиной лет. Отец Симона был убит у него на глазах в Лодзинском гетто, мать – отравлена газом в хелмновских автомобилях-«душегубках». Эсэсовцы включили мальчика в одну из рабочих команд, которые занимались хозяйственным обеспечением лагеря; эти работники были обречены на смерть, как и все остальные.
Каждый день мальчик проходил через Хелмно, неся на ногах цепи, в которые нацисты заковывали всех узников из рабочих команд. Симону дольше других сохраняли жизнь из-за его природной ловкости, благодаря которой он всякий раз выигрывал в соревнованиях, устраиваемых нацистами среди заключенных, – кто с цепями на лодыжках дальше прыгнет или быстрее пробежит дистанцию. Еще ему помог красивый голос. Несколько раз в неделю, когда нужно было рвать траву для кроликов, которых эсэсовцы разводили на заднем дворе своей администрации, Симон Шребник под надзором охранников садился в плоскодонку и поднимался по реке Нер до окраин деревни, где росла люцерна. Он пел польские народные песни, а охранники взамен учили его прусским военным маршам. В деревне все его знали – не только польские крестьяне, но и немецкое население: после падения Варшавы эта польская провинция была аннексирована Третьим рейхом, германизирована и переименована в Вартеланд. Хелмно превратилось в Кульмхоф, Лодзь – в Лицманштадт, Коло – в Вартбрюкен и т. д. Переселенцы из Германии обосновывались преимущественно в Вартеланде, в Хелмно даже открыли начальную школу для немецких детей.
В ночь на 18 января 1945 года, за два дня до прихода советских войск, немцы уничтожили последних узников. Их убивали пулей в затылок; не избежал экзекуции и Симон Шребник. Но пуля не задела жизненно важных центров. Придя в себя, он дополз до свинарника, где его обнаружил польский крестьянин. Симона лечил советский военный врач – он спас мальчика от смерти. Несколько месяцев спустя Шребник вместе с другими выжившими уехал в Тель-Авив. В Израиле я его и нашел. Я убедил маленького певца вернуться вместе со мной в Хелмно. Ему было сорок семь лет.
Маленький белый дом Не выходит у меня из памяти. Каждую ночь Я вижу его во сне.Крестьяне деревни Хелмно
Ему было тринадцать с половиной. У него был красивый голос, он очень красиво пел – все его слушали.
Маленький белый дом Не выходит у меня из памяти. Каждую ночь Я вижу его во сне.Когда сегодня я опять услышал, как он поет, у меня сердце забилось чаще – ведь здесь произошла настоящая резня, иного слова не подберешь. Я как будто снова пережил то, что здесь случилось.
Симон Шребник
Это было здесь, хотя место трудно узнать. Здесь сжигали людей. Сколько же людей здесь сожгли! Здесь, на этом самом месте.
Отсюда никто никогда не возвращался.
Сюда прибывали газенвагены… Помню две огромные печи… Потом в эти печи бросали тела, и пламя поднималось до небес.
До небес?
Да.
Это было ужасно.
Об этом невозможно рассказать. Никто не может себе представить, что здесь творилось. Невозможно представить. И никто не может этого понять. Даже я сам сегодня не могу…
Я не верю, что я здесь.
Нет, не могу в это поверить.
Здесь всегда было так спокойно.
Всегда.
Когда здесь ежедневно сжигали по две тысячи евреев, все было так же спокойно. Никто не кричал. Все делали свою работу. Все было тихо. Мирно. Как сейчас.
Юная девушка, не плачь, Не грусти: Скоро наступит лето… И с ним к тебе вернусь я. Девушки наливают солдатам вина И подносят кусок жареного мяса. Когда солдаты маршируют по улице, Девушки открывают Окна и двери в доме.Крестьяне деревни Хелмно
Они[1] думали, что немцы нарочно заставляют его петь на реке.
Для немцев он был всего лишь игрушкой. Он был вынужден это делать. Он пел, но его сердце плакало.
Плачут ли их сердца, когда они вспоминают об этом?
Да, конечно.
Когда их семьи собираются за столом, они до сих пор говорят о нем. Потому что он пел на глазах у всех, на видном месте. Все его знали.
Со стороны немцев это была чудовищная насмешка: они убивали людей, а он – он был вынужден петь. Так я думал.
Другой выживший, Мордехай Подхлебник (Израиль)
Умерло ли что-нибудь внутри него, когда он был в Хелмно?
Все умерло.
Умерло все, но человек есть человек: он цепляется за жизнь. Значит, надо обо всем забыть. Он благодарит Бога за все, что в нем осталось. И за то, что он умеет забывать. И давайте не будем об этом.
Легко ли ему об этом говорить?
Нет, не легко, для меня это совсем не легко.
Почему же тогда он все-таки об этом говорит?
Он говорит потому, что вы его вынуждаете. Но тут ему прислали несколько книг о процессе Эйхмана, где он был свидетелем, а он их даже не открыл.
Остался ли он живым человеком или…
Когда он был там, он жил как мертвец, ведь он и подумать не мог, что спасется, – и все-таки он выжил.
Почему он все время улыбается?
А вы хотите, чтобы он плакал? Человек то грустит, то улыбается. Когда живешь, лучше улыбаться…
Ханна Цайдль, дочь Мотке Цайдля (Израиль), узника Вильнюсского гетто
Почему она так интересуется теми событиями?
Это очень долгая история. Помню, когда я была совсем маленькой, я очень редко общалась с отцом. Во-первых, он много работал, и я почти совсем его не видела; и потом, он был молчаливым человеком и не вступал со мной в разговоры.
А потом, когда я выросла, когда нашла в себе силы заговорить с ним, я стала спрашивать, спрашивала еще и еще, пока мне не удалось по крупицам выудить у него правду, которую он так долго не мог мне сказать.
Он обрывал фразы на полуслове, мне приходилось буквально клещами вытаскивать из него подробности, и только когда к нам при ехал месье Ланцман, я наконец услышала от отца связный рассказ.
Мотке Цайдль и Ицхак Дугин, бывшие узники Вильнюсского гетто
Здешний пейзаж очень напоминает Понары: лес, ямы. Легко спутать с местом, где немцы сжигали трупы. Единственная разница в том, что в Понарах не было камней.
Но в Литве ведь леса гораздо более густые, чем в Израиле, не так ли?
Да, конечно.
Деревья похожи, но в Понарах они выше и стволы толще.
Ян Пивоньский (Собибор)
Охотятся ли сегодня в лесах близ Собибора?
Да, здесь все время охотятся, здесь много разных животных.
А в те времена в лесу охотились?
Нет, в те времена здесь охотились только на людей.
Несколько раз заключенные пытались бежать. Но жертвы плохо знали местность. Время от времени со стороны минных полей слышались взрывы: иногда там находили косулю, а иногда – какого-нибудь несчастного еврея, который пытался бежать из лагеря.
Наши леса всегда притягивали к себе своим безмолвием, красотой. Но должен вам сказать, что здесь не всегда царило безмолвие. Было время, когда тут, на этом самом месте, звучали крики, выстрелы, собачий лай: именно этот период врезался в память людей, которые тогда здесь жили. После восстания немцы решили ликвидировать лагерь, и в начале зимы 1943 года они засадили все вокруг трехлетними и четырехлетними саженцами елей, чтобы уничтожить все следы своей деятельности.
Вон теми высящимися стеной деревьями?
Да.
Их посадили на месте братских могил?
Да. Когда он впервые приехал сюда в 1944-м, он и представить не мог, что здесь произошло. Никто не догадывался, что эти деревья скрывают тайну лагеря смерти.
Мордехай Подхлебник
Что он почувствовал, когда в первый раз выгружал трупы из машин, когда он в первый раз открыл дверцу газенвагена?
Что он мог сделать? Он плакал…
На третий день он увидел свою жену и детей. Он опустил тело жены в могилу и попросил, чтобы его убили. Немцы сказали ему, что у него еще есть силы для работы и поэтому они его пока убивать не станут.
Тогда было очень холодно?
Дело было зимой, в начале января 1942-го.
В тот период тела еще не начали сжигать? Их просто закапывали в землю?
Да, их бросали в ямы, рядами, и каждый новый ряд присыпали землей; жечь еще не жгли.
Трупы лежали в четыре, а то и в пять рядов, один над другим. Ямы рыли в форме воронок. Они сбрасывали тела в ямы, им приходилось укладывать их валетом, как будто это сельди в бочке.
Мотке Цайдль и Ицхак Дугин
Значит, им пришлось выкопать и сжечь тела всех вильнюсских евреев?
Да.
В начале января 1944 года тела стали вытаскивать из земли. Когда раскопали последнюю яму, я узнал всю свою семью.
Кого из членов своей семьи он узнал?
Маму и сестер. Трех своих сестер с детьми. Они все лежали в этой яме.
Как ему удалось их узнать?
Тела пролежали в земле всего четыре месяца, к тому же стояла зима, поэтому они довольно хорошо сохранились. Я их узнал сначала по лицам, а потом по одежде.
Они были убиты сравнительно недавно?
Да.
И это была свежая могила?
Да.
Значит, нацисты действовали по четко разработанному плану? Они специально начали с самых старых захоронений?
Да.
Последние ямы были самыми свежими, а они начали с самых старых – с тех, которые относились еще к первому гетто.
В первой могиле лежало двадцать четыре тысячи тел.
Чем глубже мы копали, тем больше видели расплющенных, плоских тел – прямо какое-то месиво. Когда мы пытались их вытащить, они рассыпались в прах. Невозможно было поднять их наверх.
Заставив нас вскрыть могилы, немцы запретили пользоваться инструментами, они сказали: «Привыкайте работать руками!»
Руками…
Да.
Сначала, когда могилы только вскрыли, никто из нас не мог сдержаться: все, кто там был, разразились рыданиями.
Но подбежали немцы: они избили нас до полусмерти, они заставили нас два дня работать как проклятых, без инструментов, без всего, они то и дело осыпали нас ударами.
Все разразились рыданиями…
Немцы прибавили, что запрещают произносить слово «смерть» и слово «жертва», потому что это не тела, а просто деревянные чурбаны, ничего не значащие вещи, дерьмо, мусор.
Стоило кому-нибудь сказать «смерть» или «жертва», как его избивали. Немцы внушали нам, что мы должны называть трупы
Figuren,
то есть… «марионетками», «манекенами», или Schmattes, то есть «ветошью».
Сказали ли им, когда они начинали работу, сколько всего Figuren находится в ямах?
Шеф Вильнюсского гестапо сообщил нам: «Здесь лежит девяносто тысяч человек; сделайте все, чтобы от них не осталось и следа».
Рихард Глацар (Швейцария), бывший узник Треблинки
Это случилось в конце ноября 1942 года.
Когда после работы нас гнали в бараки, со стороны «лагеря смерти» – так называлась одна из частей нашего лагеря – в небо вдруг взметнулось пламя. Очень высоко. В одно мгновение все вокруг засияло, весь наш лагерь будто вспыхнул. Дело шло к вечеру, мы зашли в барак, поели, но не переставали следить через окно за этой фантастической картиной – заревом, окрашенным во все возможные оттенки цвета: красного, желтого, зеленого, фиолетового.
И тут один из нас встал…
Мы знали, что это оперный певец из Варшавы. Его звали Сальве. На фоне полыхающего за окном пламени он начал монотонно распевать неизвестную мне молитву:
Господь, Господь,
За что Ты нас покинул?
Когда-то нас сжигали в огне, Но мы никогда не отвергали Твоего священного закона.
Он пел на идише. Сзади пылали костры, в которых тогда, в ноябре 1942 года, в Треблинке стали сжигать трупы. В ту ночь это произошло в первый раз: мы поняли, что теперь тела умерших будут не предавать земле, а сжигать.
Мотке Цайдль и Ицхак Дугин
Когда все бывало готово, трупы обливали горючим и поджигали. Немцы ждали сильного ветра, так что пламя обычно не гасло дней семь-восемь.
Симон Шребник
Немного дальше, вон там, находился бетонный цоколь, и, если какие-то кости не сгорали, например большие кости ног, мы…
У нас был ящик, мы брались за ручки и несли его к цоколю, где другие должны были размалывать кости в порошок. В очень мелкий порошок. Его складывали в мешки, и, когда их набиралось много, мы шли к реке Нер; там внизу был мост, и мы опрокидывали мешки в Нер; прах падал в воду, его уносило течением.
Маленький белый дом Не выходит у меня из памяти. Каждую ночь Я вижу его во сне.Пола Бирен (Цинциннати, США), бывшая узница Освенцима
Возвращались ли вы когда-нибудь в Польшу?
Нет. Я хотела, и не раз.
Но что я там найду?
Как совладать с чувствами?
Мои дед и бабушка похоронены в Лодзи.
От одного знакомого, который ездил в Лодзь, я узнала, что власти хотят перекопать кладбище, срыть его.
Как я могу после этого туда вернуться?
Когда погибли ваши дед и бабка?
Мои дед и бабка?
В гетто они долго не протянули. Оба были немолоды, через год умер он, а еще через год – она. В гетто, да.
* * *
Пани Петыра (Освенцим /Аушвиц/)
Мадам Петыра, вы уроженка Освенцима?
Да, здесь я родилась.
И никогда отсюда не уезжали?
Никогда.
До войны в Освенциме жили евреи?
Да, они составляли 80 % населения. У них даже была синагога.
Одна синагога?
Да, кажется, одна.
Она сохранилась?
Нет, ее разрушили.
Сейчас на ее месте стоит что-то другое.
В Освенциме было еврейское кладбище?
Да, оно сохранилось до сих пор. Правда, сейчас оно закрыто.
Оно до сих пор сохранилось?
Да.
Что значит «оно закрыто»?
Там больше не хоронят.
Пан Филипович (Влодава)
Во Влодаве была синагога?
Да, синагога была, и какая! Она стояла, еще когда Польша находилась под властью царей. Она древней католической церкви.
Сейчас она не действует.
Нет прихожан.
Перестраивались ли эти здания?
Нет, все осталось как было. Здесь стояли бочки с сельдью, евреи торговали рыбой. Всякие лавки, лотки с товаром – «еврейская коммерция», как месье[2] ее называет.
Здесь был дом Баренгольца. Он продавал древесину. Вон там стоял магазин Липшица, который торговал тканями. Здесь жил Лихтенштейн.
А дом напротив?
Это был продуктовый магазин.
Он принадлежал евреям?
Да.
Тут была галантерея со всевозможными нитками, иголками, разными безделушками, а дальше – три парикмахерских.
В этом красивом доме жили евреи?
Да.
В том маленьком – тоже?
Тоже.
А в том, что позади него?
Это все были дома евреев.
И тот дом слева?
Да.
А кто жил здесь? Боренштейн?
Да, Боренштейн. Цементом торговал. Красивый был мужчина и такой культурный. Тут жил кузнец по фамилии Теппер. Это был еврейский дом. Здесь проживал сапожник.
А как звали сапожника?
Янкель.
Янкель?
Да.
Создается впечатление, что Влодава была городом с чисто еврейским населением.
Так оно и было. Поляки жили немного дальше, центр города был занят исключительно еврейскими семьями.
Пани Петыра
Что случилось с евреями из Освенцима?
Их выдворили из города и переместили, но я не знаю куда.
В каком году это произошло?
Это началось в 1940-м, потому что в 1940-м я сюда переселилась. Раньше эта квартира принадлежала евреям.
Но по имеющейся у нас информации, евреев из Освенцима «переместили», как говорит мадам, не куда-нибудь, а в соседние Бендзин и Сосновец, что в Верхней Силезии.
Да, потому что Сосновец и Бендзин – тоже еврейские города.
Не знает ли случайно мадам, что потом сделали с евреями из Освенцима?
Думаю, что потом они все оказались в лагере.
То есть они вернулись в Освенцим?
Да.
Кого здесь только не было: людей согнали со всего света, привезли сюда.
Всех евреев собрали здесь. Чтобы уничтожить.
Пан Филипович
Как люди отнеслись к тому, что всех евреев из Влодавы депортировали в Собибор?
Как к этому можно было отнестись? Им пришел конец, но они предвидели его заранее.
Как это?
Еще до начала войны евреи предчувствовали свою судьбу – достаточно было поговорить с ними, чтобы это понять.
Месье не знает почему.
Они предвидели свой конец еще до войны.
Как их доставляли в Собибор? Гнали пешком?
Это было что-то страшное. Он сам при этом присутствовал. Их гнали пешком до самой станции, до станции Оркробек.
Там их стали заталкивать в вагоны для перевозки скота, которые уже ждали на станции: сначала стариков, потом тех, кто помоложе, и в конце – подростков. И это было самое страшное. Людей просто бросали друг на друга.
Пан Фальборский (Коло)
В городе Коло было много евреев?
Масса.
Евреев было больше, чем поляков.
И что ожидало евреев из Коло? Видел ли он что-нибудь сам?
Да. Страшно.
Страшно было смотреть.
Даже немцы прятались по домам, не хотели этого видеть.
По дороге на станцию евреев били и даже убивали; за конвоем следовала специальная тележка, на которую грузили трупы.
Туда грузили тех, кто не мог идти, и убитых?
Да, тех, которые падали по дороге.
Где это происходило?
Евреев собрали в местной синагоге, а потом погнали к железнодорожной станции, откуда можно доехать до Хелмно по узкоколейке.
Так поступили с евреями только из Коло или из всей провинции?
Такое происходило повсюду. Евреев убивали даже в лесах близ Калиша, недалеко отсюда…
Абрахам Бомба (Израиль), бывший узник Треблинки
На вокзале в Треблинке я увидел табличку, совсем крошечную табличку с названием места.
Не знаю, было ли это прямо на станции или на подходе к ней.
Над путями, где стоял наш поезд, висел маленький, еле заметный указатель с надписью: «Треблинка».
Я никогда не слышал о Треблинке, о ней никто ничего не знал: это не населенный пункт, не город, даже не деревня.
Евреи всегда мечтали, что когда-нибудь станут свободными.
Эта мечта была смыслом их жизни, воплощением их мессианских ожиданий.
В лагере она приобрела особое значение.
Каждую ночь, раз за разом, мне снилось, что скоро все изменится.
Не просто мечта – мечта, не дающая умереть надежде…
Первый эшелон выехал из Ченстоховы в день Йом Кипур.
Накануне Суккота отправился второй эшелон… в котором был и я.
В глубине души у меня было нехорошее предчувствие: немцы забирают детей, стариков, а это дурной знак.
«В лагере вы будете работать», – говорили им.
Но что там делать дряхлой старухе, грудному ребенку, пятилетнему малышу?
Абсурд! Но все-таки приходилось им верить – а как иначе?
Чеслав Боровий (Треблинка)
Он здесь родился, в 1923 году, и до сих пор тут живет.
Он всегда жил в этом самом доме?
Да, именно здесь.
Значит, у него была прекрасная возможность наблюдать за происходящим?
Естественно.
Можно было смотреть вблизи, можно – с расстояния. У его семьи есть участок земли по другую сторону станции. Чтобы туда добраться, надо перейти железнодорожные пути; и вот, когда он их переходил, он все видел.
Помнит ли он о прибытии первого эшелона с евреями из Варшавы 22 июля 1942 года?
Да. Он хорошо помнит первую партию заключенных.
Когда сюда согнали всех этих евреев, люди стали спрашивать друг у друга: «Что с ними собираются сделать?»
Они прекрасно понимали, что евреев хотят убить, но еще не было известно как.
Когда мы понемногу начали понимать, что происходит, то пришли в ужас; втихомолку мы судачили о том, что со дня основания мир еще не видел, чтобы убивали столько народа и таким способом.
Когда у людей на глазах происходили такие вещи, продолжали ли они вести обычную жизнь, скажем, работать на полях?
Конечно, они продолжали трудиться, но не так, как раньше, без прежней охоты.
Им приходилось работать, но, когда они видели, что тут происходит, они говорили себе: «А что, если ночью за нами тоже придут?»
Боялись ли они за евреев?
Он говорит, что, если я порежу палец, он боли не почувствует. Но они, конечно, видели, что происходит с евреями, потому что все транспорты, которые прибывали сюда, отправлялись в лагерь и там исчезали.
Крестьяне деревни Треблинка
У него было поле в ста метрах от лагеря.
Он продолжал на нем работать и во время оккупации.
Он работал на своем поле?
Да.
И там он увидел, как немцы травят евреев газом, услышал, как они кричат. Он видел все.
На поле был небольшой пригорок, и оттуда ему открывался хороший вид.
Что говорит этот человек?
Он говорит, что нельзя было останавливаться и смотреть. Это было запрещено. Иначе украинцы открывали стрельбу.
Им разрешали работать на поле, даже если оно находилось всего лишь в сотне метров от лагеря?
Да, разрешали, разрешали. Время от времени, когда украинцы отворачивались, он наблюдал за лагерем.
Значит, он работал, опустив глаза?
Да. Он работал буквально в двух шагах от ограждения из колючей проволоки, откуда слышались ужасающие крики.
Его поле было именно там?
Да, оно было совсем близко к лагерю. Он мог на нем работать, это не было запрещено.
И он работал? Возделывал его?
Да. Его поле даже заходило на территорию лагеря.
А, его поле частично заходило на территорию лагеря.
Туда нельзя было зайти, но все было слышно.
Не мешали ли ему работать близость лагеря и все эти ужасные крики?
Вначале он действительно не мог их выносить. Но потом привык.
Ко всему можно привыкнуть?
Да.
Сейчас ему все это кажется совершенно… немыслимым, однако же так было.
Чеслав Боровий
Он видел, как составы прибывали на станцию: в каждом было от шестидесяти до восьмидесяти вагонов, и еще там было два локомотива, которые везли составы в лагерь.
Каждый раз к локомотивам прицепляли по двадцать вагонов.
По двадцать вагонов… И они возвращались пустыми?
Да.
Помнит ли он…
Значит, это делалось так: к локомотиву прикрепляли двадцать вагонов и он вез их к лагерю.
Занимало это около часа, после чего вагоны пустыми возвращались сюда, локомотив отвозил в лагерь еще двадцать вагонов, и за это время успевали умертвить тех, кого доставили в предыдущих двадцати.
Железнодорожные рабочие со станции Треблинка
Они ждали, они плакали, они просили воды, они умирали. Иногда их везли совершенно голыми – до ста семидесяти человек в одном вагоне.
Здесь евреям давали воду.
Где им давали воду?
Здесь. Когда прибывали составы с евреями, здесь им давали выпить воды.
Кто давал воду евреям?
Мы, поляки, кто же еще? Рядом есть небольшой колодец, мы набирали воду в бутылки и давали им.
Давать им воду было опасно?
Это было очень опасно. За бутылку или стакан воды, предложенные евреям, человека могли убить. Несмотря на это, им давали воду.
Крестьянин из Треблинки
Зимой здесь очень холодно?
Когда как. Иногда тут бывает минус двадцать пять или даже минус тридцать.
Что, по его мнению, евреям было труднее перенести – лето или зиму? То есть когда им приходилось ждать своей очереди в поезде.
Думаю, что труднее было зимой, потому что они страшно мерзли.
Внутри вагона они, может быть, и не чувствовали холода – туда столько народа забивалось! Летом они задыхались, потому что стояла сильная, очень сильная жара. Евреи страдали от жажды и пробовали выбраться наружу.
Умирали ли заключенные в пути в своих вагонах?
Ясное дело, умирали. Теснота там была такая, что выжившим приходилось сидеть на трупах, потому что не хватало места.
Пытались ли вы заглядывать в вагоны через щели между досками, когда состав стоял на платформе или на путях, а вы проходили мимо?
Да, заглядывали. Время от времени мы рассматривали их, когда проходили мимо. Иногда, если нам разрешали, мы давали им воду.
Да. Но скажите мне, как евреи пытались выбраться из поезда?
Они открывали двери?
Нет, окна. Они отдирали колючую проволоку…
Так, окна были заделаны колючей проволокой…
…И выбирались через окна.
Они прыгали вниз?
Ну да, они прыгали. Иногда они сами искали смерти: выбирались из вагона, садились на землю и спокойно ждали, пока подойдут охранники и пустят им пулю в затылок.
Железнодорожные рабочие со станции Треблинка
Они прыгали из вагонов.
Это надо было видеть.
Как-то раз мать с ребенком…
Еврейка?
Да, мать с ребенком.
Она пыталась бежать, и ей выстрелили в сердце, убили ее выстрелом в сердце.
Убили мать?
Да, мать.
Месье живет здесь уже очень давно и никак не может этого забыть…
Крестьянин из Треблинки
Он говорит, что когда думает об этом сейчас, то не понимает, как человек мог сделать такое с другим человеком.
Это непостижимо, это невозможно понять. Один раз евреи стали просить воды, но рядом расхаживал охранник-украинец, и он запретил давать им пить. Тогда еврейка, просившая воды, бросила ему в голову кастрюлю, которую держала в руках. Украинец немного отошел, метров на десять, и стал палить без разбора по людям в вагоне. Всюду были кровь и выбитые мозги.
Чеслав Боровий
Да, многие открывали двери или выбирались через окна; случалось, что украинцы стреляли по людям через стены вагонов.
Особенно ночью, потому что, когда евреи начинали разговаривать, украинцы, которым не нравился шум, приказывали им замолчать. Евреи смолкали, охрана отходила от вагонов, но евреи опять заводили разговор друг с другом на своем языке.
«Ра-ра-ра» – так месье изображает их речь.
Что он имеет в виду под этим «ля-ля-ля»? Что он пытается изобразить?
Их язык.
Нет, нет, спроси его! Это был какой-то особый звук, специфический еврейский звук?
Они говорили по-еврейски.
Они говорили по-еврейски… Месье Боровий понимает еврейский язык?
Нет.
Абрахам Бомба
Мы сидели в своем вагоне, поезд мчал нас на восток.
Упомяну одну любопытную деталь – говорить об этом неприятно, но я все-таки скажу.
Подавляющее большинство поляков, видя наш поезд – в этих вагонах нас везли как скот, только глаза и были видны, – начинали смеяться, хохотать, ликовать: наконец-то решили избавиться от евреев!
А что творилось в вагонах!
Давка, крики:
«Где мой ребенок?»,
«Воды, ради всего святого!»
Люди умирали от голода, к тому же стояла страшная духота, жара.
Евреям, как всегда, «повезло»: обычно в сентябре дождливо, сыро, а тут – адская жара!
Даже для грудных детей вроде моего сына, ребенка трех недель от роду, негде было достать воды.
Неоткуда было достать воды ни для ребенка, ни для матери – ни для кого.
Генрик Гавковский (Малкиня)
Слышал ли он крики позади него, в вагонах, которые тянул его локомотив?
Конечно, ведь локомотив же совсем рядом с «пассажирскими» вагонами. Евреи кричали, они просили пить.
Когда из вагонов, примыкающих к локомотиву, доносились крики, он очень хорошо их слышал, различал слова…
Он к ним привык?
Нет, нет. Для него это было настоящей пыткой. Он знал, что те, кого он везет в вагонах, такие же люди, как и он.
Немцы, надо сказать, не забывали снабжать его самого и его товарищей водкой, и они напивались. Потому что, если бы они не пили, они бы не смогли… Нам полагалась премия, но эту премию выплачивали не деньгами, а водкой.
Те, кто работал на других поездах, не получали такой премии.
Он говорит, что они выпивали буквально все, что получали, потому что без алкоголя было бы невозможно переносить запах, который они чувствовали, приходя сюда. Они даже сами покупали себе спиртное, чтобы напиться до бесчувствия.
Абрахам Бомба
Приехали мы утром, часов в шесть или, пожалуй, в полседьмого.
На соседних путях я увидел другие поезда, стоящие перед платформой. Я присмотрелся… и заметил, что со станции регулярно куда-то отправляются составы по восемнадцать-двадцать вагонов. Примерно через час они возвращались, но уже без людей. Наш поезд стоял на станции почти до полудня.
Генрик Гавковский
Сколько километров от станции до той рампы внутри лагеря, где людей заставляли выходить?
Шесть километров.
Абрахам Бомба
Пока мы ждали на станции своей очереди отправки в лагерь, к нам подошли эсэсовцы и спросили, нет ли у нас каких-нибудь ценностей. Мы ответили: «У некоторых из нас есть золото, бриллианты, но мы хотим пить». «Хорошо, давайте бриллианты, вы получите воду». Они взяли бриллианты, но воды мы так и не увидели.
Сколько времени длилось ваше путешествие?
Путь от Ченстоховы до Треблинки занял примерно двадцать четыре часа, включая остановку в Варшаве и ожидание на станции в Треблинке.
Наш поезд был последний в очереди. Но, как я уже говорил, я видел множество поездов, возвратившихся на станцию пустыми.
Я спрашивал себя: «Куда деваются пассажиры? Никого не видно».
Рихард Глацар
Мы ехали двое суток.
На второй день, утром, мы увидели, что пересекли границу Чехословакии и едем на восток. Нас охраняли не эсэсовцы, а шуповцы в зеленой форме. Мы ехали в обычных пассажирских вагонах. Все места были заняты. Нельзя было самому выбрать себе место – все пронумеровано, четко распределено. В моем купе ехала пожилая пара. Помню, супруг вечно хотел есть, а его жена ворчала, что, если так пойдет дальше, у них ничего не останется про запас.
На вторые сутки я увидел табличку с названием станции: «Малкиня». Еще какое-то время мы продолжали ехать.
Внезапно поезд резко сбавил скорость, свернул с главного пути и черепашьим шагом потащился через лес. И когда мы выглянули в окно, которое нам удалось слегка приоткрыть, мы увидели рядом с путями человека… тот, видимо, гнал коров на выпас… и один старик из нашего купе знаками спросил его: «Где мы?» И тогда тот сделал странный жест рукой. Вот так! Провел рукой по горлу.
Это был поляк?
Да, поляк.
Где это было? На станции?
Это произошло в том месте, где наш поезд затормозил и остановился. С одной стороны был лес, с другой – луга.
И мимо вас проходил крестьянин?
И мы увидели коров, которых гнал молодой парень… с фермы… батрак.
И один из вас спросил…
Спросил – но не словами, а знаками: «Что здесь происходит?»
А тот ответил жестом. Таким. Но мы тогда не обратили на него внимания, мы его не поняли.
Крестьяне деревни Треблинка
Как-то раз из-за границы приехали евреи, они были такие зажравшиеся…
Зажравшиеся?
Они приехали в пассажирских вагонах, у них даже был вагон-ресторан; им давали пить, разрешали гулять, и они говорили, что приехали работать на заводе. Когда они увидели лес, то поняли, какой «завод» их ждет. Все показывали им этот жест…
Какой жест?
Им показывали, что их убьют.
Вы тоже показывали им этот жест?
Да, и евреи не поверили. Евреи не верили.
Но что означает этот жест?
Что их ждет смерть.
Чеслав Боровий
Когда у людей была возможность подойти к евреям, они показывали им этот жест, предупреждая их…
И он тоже это делал? Он сам делал этот жест рукой? Спроси его…
…Что они будут повешены, убиты.
Да.
Евреи, приехавшие из-за границы – из Бельгии, Чехословакии, из Франции, из Голландии и других стран, – этого не знали.
А польские – знали. Потому что в окрестных городах и местечках обо всем этом уже говорили. То есть польские евреи были предупреждены, а другие – нет.
И кого они предупреждали? Польских евреев или евреев из других стран?
Тех и других. Он говорит, что евреи из западных стран приезжали сюда в пульмановских вагонах, что они были хорошо одеты – все в белых рубашках, что в вагонах стояли цветы, что пассажиры играли в карты…
Генрик Гавковский
Но, насколько мне известно, евреев из западных стран редко привозили в пассажирских вагонах. Большинство из них приезжало в вагонах для скота.
Нет, это не так, это не так.
Не так? А что говорит мадам Гавковская?
Мадам Гавковская говорит, что, может быть, ее муж не все видел.
Да.
Он говорит, что видел все. Как-то раз на станции Малкиня один еврей из тех, что приехали из-за границы, вышел из вагона что-то купить в буфете, но поезд тронулся, и он побежал вслед за ним…
Чтобы догнать его?
Да.
Чеслав Боровий
Значит, он подходил к этим пассажирским вагонам, к этим «пульманам», как он их называет, и показывал этот жест иностранным евреям, которые были слишком спокойны и ничего не подозревали?
Да. Хотя, в принципе, не только им, но всем евреям.
Прямо шел по платформе и показывал? Спроси его!
Да, дорога проходила там же, где и сейчас; когда охранник не смотрел или куда-нибудь отходил, он показывал им этот жест…
Генрик Гавковский
Ева, спроси месье Гавковского, почему у него такой грустный вид.
Потому что я видел, как людей ведут на смерть.
Далеко ли мы сейчас от того места?
Не так далеко, примерно в двух – двух с половиной километрах…
Что именно там было? Лагерь?
Да.
А почему он показывает на этот тракт?
Там… там была дорога… железная дорога, ведущая в лагерь!
Доводилось ли месье Гавковскому, помимо тех составов, которые он вел из Варшавы и Белостока на станцию Треблинка, также вести поезда с заключенными со станции непосредственно в лагерь?
Да.
Часто ли он это делал?
Два-три раза в неделю.
И в течение какого времени?
Примерно полутора лет.
То есть на протяжении всего существования лагеря?
Да.
Вот рампа. Итак, он прибывает сюда, здесь конечная точка пути. Позади его локомотива двадцать вагонов, так? Спроси его об этом.
Нет, вагоны находились впереди.
То есть он их толкал?
Именно. Он их толкал.
Он их толкал…
Ян Пивоньский (вокзал Собибора)
В феврале 1942 года я начал работать здесь помощником стрелочника.
Здание вокзала, рельсы, платформа – все осталось таким же, каким было в 1942-м? Изменилось ли что-нибудь с 1942 года?
Ничего.
В каком именно месте начинался лагерь? Где проходила его граница?
Пойдемте. Я вам покажу точное место. Вот здесь стоял забор, который шел вон до этих деревьев. И был еще один забор, который шел в сторону вон тех деревьев.
Значит, если я сделаю шаг сюда, то окажусь на территории лагеря, не так ли? В самом лагере.
Именно так.
А здесь, в пятнадцати метрах от станции, мы уже за его территорией? Тут польская территория, а тут зона смерти?
Да. По приказу немцев польские железнодорожники обязаны были разделять составы на несколько частей: локомотив с двадцатью вагонами отправлялся в сторону Хелма; у развилки он разворачивался и вез состав в лагерь, толкая вагоны перед собой… Он ехал по другому пути, вон по тому. Там начиналась рампа.
Значит, если я правильно понял, это место находится за пределами лагеря… Но стоит вернуться сюда, и мы уже внутри него… По сравнению с Треблинкой в Собиборе станция фактически является частью лагеря. Так, здесь мы снова на территории лагеря…
Эта дорога проходила внутри него.
Та самая… та самая дорога?
Да. Та самая.
Она не изменилась с того времени.
Значит, сейчас мы находимся в месте, которое называлось рампой, так?
Да, мы стоим на рампе, куда высаживались жертвы, обреченные на уничтожение.
Выходит, мы на той самой рампе, откуда двести пятьдесят тысяч евреев, высадившись с поезда, отправлялись в газовые камеры?
Да!
В каких вагонах приезжали сюда евреи из других стран? В пассажирских, как это было в Треблинке?
Не всегда.
Нередко обеспеченные люди – из Бельгии, Голландии, Франции – приезжали в пассажирских вагонах, иногда даже в пульмановских, и, как правило, охрана обращалась с ними лучше, чем с другими узниками.
Обычно это были евреи из западной Европы, которые ожидали здесь своей очереди… Польские железнодорожники видели, как женщины красят губы, расчесывают волосы; они не знали, что их ожидает через несколько минут.
Они прихорашивались…
Прихорашивались…
И польские железнодорожники никак не могли их предупредить, потому что охрана, которая смотрела за поездом, запрещала вступать в контакт с будущими жертвами.
Тогда стояли погожие дни, как сейчас?
Увы! Деньки стояли еще лучше, чем теперь!
* * *
Рудольф Врба (Нью-Йорк), бывший узник Освенцима
Рампа была конечным пунктом поездов, прибывающих в Освенцим.
Они приезжали днем и ночью, иногда по одному в день, иногда по пять, – приезжали со всего света.
Я работал на этой рампе с 18 августа 1942-го по 7 июня 1943 года.
Поезда без конца сменяли друг друга: за время моей работы я видел на рампе сотни две составов. Со временем это превратилось в рутину. Люди беспрерывно прибывали отовсюду, ничего не зная об участи, постигшей предыдущие составы. Но я прекрасно знал, что 90 % вновь прибывших через два часа будут отправлены в газовые камеры. Я не понимал, как люди могут вот так исчезать…
Они пропадают, и как ни в чем не бывало приезжает следующий состав. И пассажиры каждого нового состава ничего не знают о судьбе предыдущего. И это продолжается месяц за месяцем. Порядок был примерно такой: допустим, в два часа ночи ожидалось прибытие «еврейского» поезда.
Сначала о его приближении к Освенциму докладывали частям СС. Потом эсэсовцы будили нас и под конвоем вели на рампу, в ночь… Нас было человек двести. Все озарялось светом. Вдоль рампы в сиянии прожекторов выстраивались эсэсовцы: через каждый метр стояло по солдату с оружием наперевес. Окруженные ими, мы ждали поезда, ждали приказов. Когда все было готово, подъезжал состав. Он двигался очень медленно. Наконец локомотив прибывал на рампу; он шел всегда впереди вагонов. Это был конец дороги, конец путешествию. С прибытием поезда на рампе выстраивалась вся бандитская верхушка; через каждые два или три вагона – иногда перед каждым вагоном – стоял унтершарфюрер с ключами, готовясь открыть двери вагонов, которые были заперты на замок.
В вагонах, конечно, были люди. Они смотрели из окон, не понимая, что эта остановка будет для них последней: ведь некоторым из них пришлось чуть ли не десять дней провести в дороге и много раз останавливаться на различных станциях.
Двери вагонов открывались, и первый приказ был «Alle Heraus» – «Все на выход!».
Чтобы люди поняли, чего от них хотят, немцы пускали в ход палки: удары обрушивались на одного, другого, третьего… Вагон был битком набит. Если в один день прибывало пять или шесть составов, высадка производилась в экстренном режиме: людей били, оскорбляли.
Но в обычных условиях они могли действовать иначе, могли проявить добродушие и юмор, сказав: «Добрый день, мадам, выходите, прошу вас».
Неужели?
Да, да. Или вот еще образец их остроумия: «Какое счастье, что вы приехали сюда. Извините за неудобство, сейчас мы все исправим…»
Абрахам Бомба
Попав в Треблинку, мы не могли понять, кто все эти люди с красными и синими повязками на рукавах: мы не знали о еврейских зондеркомандах…
Выскакивая из поезда, толкая и задевая друг друга, мы растворялись среди воплей и приказов охранников. Стоило людям сойти на перрон, как их делили на две колонны: мужчины направо, женщины налево. У нас даже не было времени оглядеться по сторонам: немцы чем ни попадя лупили по голове. Боль… дикая боль. Никто не знал, что происходит, невозможно было собраться с мыслями, вопли охраны сводили с ума – кроме них, мы ничего и не слышали.
Рихард Глацар
И вдруг началось: крики, приказы.
«На выход! Все на выход!»
Не просто крики, а какой-то гвалт, какофония!
«На выход, на выход, багаж оставить!»
В отчаянной давке мы выбрались из вагонов. Мы увидели людей с синими повязками на рукавах; некоторые были вооружены хлыстами. Мы заметили эсэсовцев: черные мундиры, зеленые мундиры… Мы превратились в толпу; толпа несла каждого из нас, не давала возможности сопротивляться: толпа должна была переместиться из одного места в другое. Я увидел, как другие начали раздеваться, и услышал: «Снять одежду!
На дезинфекцию!» И когда я, раздевшись, ждал своей участи, я заметил, что эсэсовцы отбирают некоторых из нас, отводят в сторону и приказывают одеться. Вдруг рядом появился эсэсовец, остановился передо мной, смерил меня презрительным взглядом и сказал: «Иди к остальным, живо, и одевайся. Ты будешь здесь работать и, если постараешься, можешь стать начальником бригады или капо».
Абрахам Бомба
Я уже разделся и голым стоял рядом с другими «пассажирами» своего поезда, как вдруг к нам подошел человек и сказал: «Вы… вы… и вы…» Мы вышли из строя, и он отвел нас в сторону. Некоторые в толпе понимали, что происходит, предчувствовали, что их не оставят в живых. Они пятились, отступали назад, отказывались идти дальше – они уже знали, куда их ведут, что находится за теми большими воротами…
Слезы, крики, вопли… То, что там происходило, не описать словами… Их мольбы и крики стояли у меня в ушах днем и ночью, не выходили из головы. Ночами я не мог заснуть до утра. Внезапно, как по команде, все стихло.
За воротами, за которыми исчезали люди, установилась тишина, как будто все живое там умерло.
Тогда нам сказали очистить рампу от одежды тех двух тысяч человек, которые тут только что стояли, – все унести, все убрать. Причем немедленно!
Немцы и другие – там еще были украинцы – начали бить нас и кричать, чтобы мы быстрее укладывали себе на спину тюки с одеждой, чтобы быстрее несли их на центральную площадь, где уже высилась огромная гора одежды, обуви и т. д.
В мгновение ока рампа стала голой, как будто там ничего не произошло. Как будто там никого не было. Ничего. Никого. Никогда. Не осталось ни единого следа пребывания там людей. Ни следа! Все исчезло, как по волшебству.
Рудольф Врба
Перед приездом каждого нового состава рампу убирали так, что комар носу не подточит. Не должно было остаться ни следа от предыдущего поезда. Ни следа.
Рихард Глацар
Нас отвели в барак. От него шло жуткое зловоние. Посредине – гигантская груда вещей, метра полтора в высоту: пожитки пассажиров, перемешанные в одну бесформенную массу. Все, что люди привезли с собой, – одежда, чемоданы и прочее в том же роде – свалено в одну кучу.
И сверху по этой куче как заведенные сновали люди… Они делали тюки и выносили их из барака. Меня прикомандировали к одному из них. На его нарукавнике виднелась надпись: «Начальник бригады». Он прокричал какой-то приказ, и я понял, что должен, как и другие, связывать вещи в тюки и относить в указанное место. Не прерывая работы, я спросил у него: «Что происходит? Где другие – те, что разделись?»
И он ответил: «Toït» – «Все погибли». Но я не понимал его. Я все еще не мог поверить. Он ответил на идише. Должен признаться, что тогда я в первый раз слышал речь на этом языке. Он произнес это слово не очень громко, и я увидел слезы в его глазах. Внезапно он стал кричать, поднял свой хлыст…
Я заметил краем глаза приближающегося эсэсовца. И я понял, что не должен больше задавать вопросов, а должен просто нести куда нужно мой тюк с одеждой.
Абрахам Бомба
С этого времени мы стали работать в лагере, который назывался Треблинка.
Но я все-таки не мог поверить в то, что произошло по другую сторону ворот, где люди как будто сгинули, растворились в тишине. Но скоро, порасспросив тех, кто начал работать там раньше нас, мы все поняли.
«Как! Вы еще не знаете? Их отравили газом, они все мертвы!»
Мы не могли произнести ни слова; мы будто окаменели. «Но где моя жена? Где ребенок?» «Какая жена? Какой ребенок? Никто не уцелел».
«Никто не уцелел!» Но как же они их убили? Как они убили газом столько человек одновременно?
У них был свой метод…
Рихард Глацар
Единственное, о чем я в тот момент думал, была судьба моего друга, Карела Унгера.
Он ехал в задней части поезда, в той части, которую отделили от поезда и оставили на станции. Мне был нужен кто-то. Рядом со мной. Вместе со мной. И тогда я его увидел. Он был во второй группе; ему тоже оставили жизнь. И он каким-то образом все узнал по дороге, он уже все знал… Он посмотрел на меня и сказал только: «Рихард! Мои отец и мать, мой брат…»
Он уже знал об их участи.
Через сколько времени после прибытия произошла эта встреча с Карелом?
Она произошла минут через двадцать после моего прибытия в Треблинку.
Потом я вышел из барака и в первый раз заметил огромную площадку…
Она называлась Сортировочной площадью – но об этом я узнал позже.
Площадка была завалена грудами всевозможных предметов.
Горам и одежды и обуви высотой в десять метров. Я подумал и сказал Карелу: «На нас обрушился жестокий ураган и унес в открытое море. Мы потерпели кораблекрушение. Но мы выжили. И сделать мы ничего пока не можем. Будем просто ждать новой волны, держаться на ней и ждать следующей… любой ценой оставаться на плаву. Вот и все».
Абрахам Бомба
Так прошел день: двадцать четыре часа без воды, без всего. Мы не могли ни пить, ни есть – в рот ничего не лезло, не было аппетита. При одной мысли о том, что всего лишь минуту, всего лишь час назад у вас была семья – жена, муж… и вдруг разом все исчезло… Нас поместили в особый барак. Я спал недалеко от прохода, и та, первая, ночь была для всех самой ужасной, потому что мы вспоминали погибших родных и все совместно пережитое: радость, счастье, рождение детей, свадьбы, все остальное…
И внезапно, в одну секунду оказались отрезанными от них – без всякой причины, ни за что. Вся наша вина состояла в том, что мы были евреями. Для большинства из нас это была бессонная ночь: мы пытались поговорить друг с другом, но это нам запретили. Охранник спал в том же бараке. Нельзя было ни общаться, ни обмениваться мыслями. В пять утра мы стали выходить из барака; когда произвели перекличку, выяснилось, что четверо или пятеро из нашей группы не пережили ту ночь.
Не знаю, как это произошло: должно быть, у них был с собой цианид или какой-нибудь другой яд, и они им отравились. Во всяком случае, двое из них были моими близкими друзьями. Они ничего не сказали; никто не знал, что у них с собой яд.
Рихард Глацар
Кое-где виднелись островки зелени. В остальном повсюду – песок. Ночью нас поместили в барак. Под ногами один песок. Просто песок. И мы, зайдя внутрь, просто повалились на землю. Буквально на месте. Сквозь сон я слышал, как кто-то из моих сокамерников пытается повеситься. Мы никак не прореагировали. Смерть стала чем-то почти обыденным. Ведь каждый из тех, за кем захлопывались ворота Треблинки, оказывался во власти Смерти, попадал в ее лапы, потому что никто и никогда не должен был выйти отсюда живым и рассказать миру правду.
* * *
Берлин.
Инге Дойчкрон; уроженка Берлина, в котором она оставалась всю войну (с февраля 1943 года – нелегально); сейчас живет в Израиле
Это больше не моя страна. Не моя, раз они смеют утверждать, что не знали…
не видели…
«Да, здесь были евреи, но потом исчезли; вот и все, что нам известно».
Как они могли не видеть! Это продолжалось почти два года! Не проходило и недели, чтобы кого-нибудь не забирали прямо в его доме. Как немцы могли настолько ослепнуть? В тот день, когда Берлин очищали от последних остававшихся там евреев, никто не хотел выходить из дому; улицы опустели. Чтобы не видеть, как это будет, немцы заранее запасались продуктами. Была суббота: люди спешно закупали продукты на воскресенье и исчезали за дверями своих домов. Я помню тот день, как будто все произошло вчера: по берлинским улицам разъезжали полицейские машины, людей забирали прямо из домов. Их хватали на заводах, в квартирах – всюду – и свозили в одно место, в «Клу». Так назывался ресторан с танцзалом, очень большой ресторан. Оттуда их забрали и в несколько этапов депортировали. Их отправляли с вокзала Грюнвальд, он здесь недалеко. И в тот день… я внезапно почувствовала себя совсем одинокой, всеми покинутой: я поняла, что с этого времени нас остается лишь горстка – много ли еще в Берлине таких же, как я, нелегалов?
И я ощутила вину за то, что не дала себя депортировать, за то, что попыталась избежать судьбы, которая была уготована другим. Понимаете, в городе не осталось теплоты, не осталось ни одной родственной души. Понимаете?
Мы могли думать только о депортированных: «А Эльза? А Ганс? Где он? Где она? Боже, а ребенок?»
Такие у нас были мысли в тот страшный день. И главное – чувство одиночества и чувство вины за то, что не уехала с ними. Как мы решились? Какая сила побудила нас бежать от своей судьбы и от судьбы нашего народа?
Франц Зухомель, унтершарфюрер СС
Вы готовы?
Да.
Мы можем…
Можно начинать.
Как ваше сердце? В порядке?
Пока да, все нормально. Если будут боли, я вам скажу. Тогда нам придется прерваться.
Да, конечно. Но в целом ваше самочувствие…
В такую погоду я хорошо себя чувствую. Сегодня высокое атмосферное давление – для моего организма это хорошо.
Выглядите вы, во всяком случае, очень неплохо. Ладно. Давайте начнем с Треблинки.
Как вам будет угодно.
Да, я думаю, лучше всего начать с этого. Не могли бы вы описать Треблинку? Какой она вам показалась в день вашего приезда? Вы, кажется, прибыли туда в августе? 20 августа. Или 24-го?
18 – го.
18-го?
Приблизительно. Это было в районе 20 августа… я приехал вместе с семью моими товарищами.
Вы приехали из Берлина?
Из Берлина.
Через Люблин?
Из Берлина я прибыл в Варшаву, из Варшавы в Люблин, из Люблина обратно в Варшаву, а из Варшавы в Треблинку.
Понятно. И какой была Треблинка в тот период?
Треблинка в тот период работала на пределе своих возможностей.
На пределе своих возможностей?
На пределе своих возможностей. Это происходило, когда… В те дни вывозили людей из Варшавского гетто. За два дня прибыло целых три состава с тремя, или четырьмя, или пятью тысячами человек, и все из Варшавы. В это же время прибывали составы из Кельце и из других мест. Итак, прибыло три состава, и, поскольку в самом разгаре было наступление на Сталинград, их пока оставили на вокзале. К тому же вагоны в прибывших поездах были французские, из листовой стали.
Таким образом, хотя в Треблинку доставили пять тысяч евреев, три тысячи из них успели умереть в дороге.
Еще не выходя из вагонов?
Да, не выходя из вагонов. Одни вскрывали себе вены, другие умирали сами… К нам поступали полутрупы и полупомешанные. В составах, прибывающих из Кельце и других городов, по крайней мере половина пассажиров умирала по пути в лагерь. Их выгружали здесь, здесь, здесь и здесь. Тысячи тел складывали штабелями, одно на другое…
На рампе?
Да, на рампе. Их складывали, как штабеля дров. Но и тем евреям, которые прибывали живыми, приходилось два дня ждать своей очереди, поскольку газовые камеры не могли справиться с таким объемом работы. В тот период они работали днем и ночью.
Не могли бы вы как можно точнее описать ваше первое впечатление от Треблинки? Как можно точнее. Это очень важно.
Первое впечатление от Треблинки у меня и части моих товарищей было чудовищным. Потому что нам не говорили, как и что… Не говорили, что здесь убивают людей. Об этом не говорили.
Вы не знали?
Нет.
Но это невероятно!
Но это так. Я не хотел туда ехать. Я доказал это во время процесса по моему делу. Мне сказали: «Господин Зухомель, там находятся большие мастерские, где работают портные и сапожники; вы будете за ними присматривать».
Но вы знали, что это лагерь?
Да. Мне было сказано: «Фюрер отдал приказ о действиях по перемещению. Это приказ фюрера».
По перемещению… Действиях по перемещению.
При этом ни разу не прозвучало слово «убивать».
Да, да, понимаю. Месье Зухомель, сейчас мы говорим не о вас, а исключительно о Треблинке. Ваше свидетельство имеет первостепенное значение, ведь вы можете объяснить, что представляла собой Треблинка.
Хорошо, но не упоминайте моего имени.
Да, конечно, я же обещал. Итак, вы приезжаете в Треблинку.
Офицер по фамилии Штади показал нам все, что было в лагере, вплоть до мельчайших деталей… И как раз в тот момент, когда мы проходили мимо газовых камер, двери открылись… и оттуда посыпались тела – как картошка. Конечно, это ошеломило и шокировало нас. Мы вернулись к себе, уселись на наши чемоданы и разревелись, как две старые бабы. Каждый день из числа заключенных выбиралось сто человек, для того чтобы сгребать тела в ямы. Вечером украинцы загоняли их в газовые камеры или расстреливали. Каждый день. Стояла сильная августовская жара. Земля вздыбливалась, как будто по ней шли волны. Из-за газа.
Из-за трупов?
Вообразите себе: ямы глубиною, наверно, шесть-семь метров доверху заполнены трупами. Тонкий слой песка сверху – и жара! Понимаете? Настоящая преисподняя!
Вы сами это видели?
Да. Один раз, в первый день. Нас тошнило, и мы плакали.
Плакали?
Да, плакали. Запах стоял невыносимый.
Невыносимый?
Да, потому что беспрерывно происходила утечка газа. Воняло страшно, за несколько километров было слышно.
Километров?
Да, километров.
Запах чувствовался всюду? Не только в лагере?
Всюду. Из-за ветра. Все зависело от ветра. Ветер разносил вонь. Понимаете? Прибывали все новые и новые составы, а у нас не хватало средств, чтобы обработать всех пассажиров. Эти господа хотели побыстрее очистить Варшавское гетто. А у наших газовых камер была слишком маленькая производственная мощность. Слишком маленькие газовые камеры. Евреям приходилось ждать своей очереди день, два, три дня. Они предчувствовали свою участь. Они предчувствовали. Кто-то, может быть, и сомневался, но многие знали наверняка. Например, некоторые еврейки ночью резали вены своим дочерям, а потом вскрывали вены себе. Другие травили себя ядом. Они слышали шум мотора, выхлопные газы которого поступали в камеры. Это был мотор танка.
В Треблинке использовали только выхлопные газы машин. «Циклон» применялся в Освенциме. Из-за этих задержек Эберль – он был начальником лагеря – позвонил в Люблин. Он сказал: «Так больше продолжаться не может, я так больше не могу.
Нужно приостановить операцию». И как-то ночью к нам прибыл Вирт. Он все осмотрел и скоро уехал. И потом он вернулся с парнями из Белжеца… со специалистами.
И Вирт добился приостановки потока поездов. Он очистил лагерь от скопившихся трупов. То была эпоха старых газовых камер. Люди мерли как мухи, и трупов было столько, что мы не знали, куда их девать, и сваливали прямо у газовых камер, где они оставались по нескольку дней. Под грудой тел образовывалась настоящая клоака – кишащая червями лужа крови вперемешку с дерьмом, глубиною сантиметров в десять. Никто не хотел убирать трупы. Евреи предпочитали расстрел подобной работе.
Предпочитали расстрел?
Это было страшно. Хоронить своих и видеть своими глазами… Когда в руках остаются куски мяса, отделяющиеся от тел… И вот Вирт сам пришел туда с несколькими немцами… и приказал нарезать длинных ремней, которыми обвязывали тела жертв и тащили в ямы.
И кто это делал?
Немцы.
Вирт?
Немцы и евреи.
Немцы и евреи?! Евреи тоже?
Евреи тоже.
Да, но что делали немцы?
Они заставляли евреев работать…
Они их били?
… Или сами принимали участие в расчистке территории.
Кто из немцев этим занимался?
Люди из нашей охраны, которых отобрали для этой задачи.
Это были немцы?
Им пришлось.
Они отдавали приказы?
Они отдавали приказы… Они получали приказы… и отдавали их.
Мне все-таки кажется, что работали евреи.
В подобных случаях немцы не боялись замарать руки.
Филип Мюллер, чешский еврей, бывший узник Освенцима, член зондеркоманды, переживший пять ее ликвидаций
Филип, сколько тебе было лет в тот майский воскресный день 1942 года, когда ты первые оказался в крематории Освенцима-1?
Двадцать. Это случилось в мае, в воскресный день. Мы сидели в подземной камере, в одиннадцатом блоке.
Наше существование держали в тайне. Внезапно появились эсэсовцы и куда-то повели нас по лагерю. Мы вошли в какие-то ворота, и метров через сто, метрах в ста от ворот, внезапно показалось здание, плоское здание с трубой. С задней стороны здания я заметил вход. Я не знал, куда нас ведут; думал, нас собираются казнить. Внезапно у входа, под маленьким фонарем, который находился в самом центре здания, появился молодой унтершарфюрер и заорал: «Сюда, грязные свиньи!» И мы оказались в коридоре. Он погнал нас по этому коридору. Скоро я начал задыхаться от смрада и копоти. Мы продолжали бежать дальше. Через какое-то время я различил очертания двух первых печей. Между ними сновало несколько заключенных из нашего лагеря. Мы попали в главный зал крематория лагеря Освенцим-1. Оттуда нас погнали в другой большой зал. Мы получили приказ снимать одежду с трупов. Я огляделся… вокруг лежали сотни мертвых тел. Они были одеты. Вперемешку с трупами валялись чемоданы, свертки… и почти повсюду – странные сине-фиолетовые кристаллы. Мне все это показалось просто непостижимым. Я был оглушен, будто громом поражен. Я даже не знал, где нахожусь! И как можно за один раз убить столько людей?! Мы уже сняли одежду с нескольких тел, когда поступил приказ заправить печи. Внезапно ко мне бросился один из унтершарфюреров и сказал: «Иди, ты будешь перемешивать трупы!» Но что значит «перемешивать трупы»? Я вошел в зал, где производилась кремация тел. Там находился один из заключенных по имени Фишель, впоследствии ставший начальником бригады. Он посмотрел на меня, и я увидел, как он шурует в печи большой кочергой. И он сказал мне: «Делай как я, если не хочешь, чтобы эсэсов цы тебя убили». И я взял кирку и стал повторять его действия.
Кирку?
Кочергу, железный прут. И я подчинился приказу Фишеля. В тот момент я находился в состоянии шока и был готов выполнить любое приказание – меня будто загипнотизировали. Я настолько обезумел, настолько перепугался, что делал все, как говорил Фишель. Так мы заправили печи, но по неопытности… не выключали вентиляторы дольше, чем требовалось.
Вентиляторы?
Да. Там были вентиляторы, для того чтобы огонь лучше горел. Они слишком долго работали. Огнеупорные кирпичи внезапно треснули, и их обломки завалили каналы, связывавшие печи Освенцима с дымоходом.
Кремация приостановилась. Печи перестали работать. Ближе к вечеру приехали грузовики, и нам пришлось грузить на них оставшиеся тела – около трехсот трупов. На этих грузовиках нас доставили… я до сих пор не знаю куда, по всей вероятности, это был лагерь Биркенау. Нам приказали вытащить трупы и бросить их в ров. Там был ров, искусственная яма… Внезапно поднялась вода и залила тела. Ночью нам приказали прекратить этот страшный труд и вернули в Освенцим. На следующий день нас отвезли на то же место. Но вода поднялась еще выше. Приехала пожарная машина с эсэсовцами, они откачали воду.
Нам пришлось спускаться в эту зловонную яму, чтобы складывать туда трупы. Но они были липкими… Например, когда я дотронулся до одной из женщин, ее руки… ее рука оказалась скользкой, липкой; я хотел оттащить ее в яму… но упал назад, в воду, в грязь. Другим приходилось не лучше. Наверху, стоя у края ямы, Аумейери Грабнер кричали: «Пошевеливайтесь там, сволочи, подонки! Мы вас научим слушаться, дерьмо собачье!»
И при таких… при таких… обстоятельствах, если можно их так назвать, двое моих товарищей не выдержали. Одним из них был французский студент.
Еврей?
Оба евреи… Эти двое дошли до полного изнеможения. Они остались в яме, прямо в грязи, не в силах встать на ноги. Тогда Аумейер крикнул одному из эсэсовцев: «Иди, прикончи эту мразь!»
У людей не осталось сил. И вот моих товарищей убили на месте.
В тот период в Биркенау еще не было крематориев?
Нет. Их еще не было. Биркенау тогда еще не достроили. Пока существовал только лагерь B1, позднее ставший женским лагерем. Лишь весной 1943-го евреев – инженеров и простых рабочих – заставили начать строительство четырех здешних крематориев.
Каждый крематорий имел по пятнадцать печей, большую раздевалку площадью примерно 280 квадратных метров и большую газовую камеру, где в один прием можно было умертвить до трех тысяч человек.
Франц Зухомель
В сентябре 1942 года были построены новые газовые камеры.
Кто их построил?
Всю работу проделали евреи под руководством Хакенхольда и Ламберта.
Во всяком случае, основную часть. Ворота соорудили украинские плотники. Что касается дверей газовых камер, это были бронированные двери, снятые с бункеров. Думаю, их привезли из Белостока, там было много русских бункеров.
Какова была производительность новых газовых камер? Их было две, не так ли?
Да. Но старые камеры уничтожать не стали. Когда прибывало много составов с заключенными, старые камеры приходилось снова пускать в дело. А здесь… евреи утверждают, что тут с каждой стороны было по пять камер; мне лично кажется, что четыре, хотя я не уверен. Во всяком случае, использовался только один ряд, с этой стороны.
А почему не с другой?
Потому что убирать трупы отсюда было бы затруднительно.
Слишком большое расстояние?
Да. По распоряжению Вирта здесь был построен «лагерь смерти», который обслуживался командой евреев-рабочих. У нее был постоянный состав – около двухсот человек; эта команда всегда обслуживала только «лагерь смерти».
Но какова была производительность новых газовых камер?
Новых газовых камер?.. Дайте подумать… За два часа там можно было уничтожить до трех тысяч человек.
А сколько человек можно было умертвить в одной камере за один прием?
Ну, точную цифру я вам не скажу. Евреи говорят, что двести.
Двести?
Да, двести. Представьте себе помещение размером с эту комнату.
Но в Освенциме туда вмещалось еще больше народа!
Но Освенцим был настоящей фабрикой смерти!
А Треблинка?
У меня и для нее есть определение. Так вот, Треблинка была конвейером – довольно примитивным, но бесперебойным.
Конвейером?
…Конвейером смерти. Понимаете?
Да. Он был примитивным?
Примитивным. Да, примитивным. Но он был бесперебойным, этот конвейер смерти.
Белжец был еще более примитивным?
Белжец был лабораторией. В ней командовал Вирт. Вирт ставил там все свои немыслимые опыты. Сначала у него все шло не так. Ямы были переполнены, перед эсэсовской столовой под ногами сочилась зловонная жижа. Стоял смрад… Перед самой столовой… Перед их казармой.
Вы сами бывали в Белжеце?
Нет. Какие только эксперименты не проводили там Вирт со своими людьми… Францем, Обергаузером и Хакенхольдом. Этой троице приходилось самой укладывать трупы в яму, чтобы Вирт знал, каков должен быть ее размер. Когда они не хотели этого делать – когда, например, Франц упрямился, – Вирт бил их кнутом. Франца и Хакенхольда, представляете?
Курта Франца?
Курта Франца. Таким был Вирт. Набравшись опыта в Белжеце, он прибыл в Треблинку.
Мюнхен.
В пивной, Йозеф Обергаузер
Скажите мне… Сколько литров пива вы продаете ежедневно? Можете сказать?
У меня есть причины молчать.
Почему вы не отвечаете? Сколько литров пива вы продаете ежедневно?
Другой служащий
Ответь ему!
Йозеф Обергаузер
Что ответить?
Другой служащий
Ну, примерно. Скажи, сколько примерно мы продаем?
Йозеф Обергаузер
Четыре-пять гектолитров.
Сколько?
Четыре-пять гектолитров.
Четыре-пять гектолитров. Как много! И как долго вы здесь работаете?
Примерно двадцать лет.
Двадцать лет. Но зачем скрывать…
У меня есть причины.
…свое лицо?
У меня есть причины.
Какие причины? Скажите, зачем? Вы узнаете этого человека? Нет? Это Кристиан Вирт… Месье Обергаузер! Вы помните Белжец? У вас остались воспоминания о Белжеце? Нет? О переполненных ямах? У вас не осталось воспоминаний?
Списс, главный прокурор на процессе по лагерю Треблинка, проходившем во Франкфурте в 1960 году
Начало операции «Рейнхард» было отмечено крайней неорганизованностью.
Например, по недосмотру коменданта Эберля в Треблинку прибыло больше эшелонов, чем этот лагерь мог «обработать». Это была настоящая катастрофа – всюду лежали горы трупов! Слухи о некомпетентности Эберля дошли до Одило Глобочника, руководившего операцией «Рейнхард» из Люблина.
Глобочник приехал в Треблинку, чтобы разобраться во всем на месте. Имеется очень подробный отчет об этом путешествии, основанный на рассказе шофера Глобочника, Обергаузера.
Это произошло в жаркий августовский день… Весь лагерь пропитался запахом гниющей человеческой плоти. Заходить на территорию лагеря Глобочник посчитал ниже своего достоинства; он остановился здесь, перед командным пунктом. Вызвав доктора Эберля, он приветствовал его такими словами: «Как ты смеешь принимать по столько составов, если не можешь прикончить больше трех тысяч в день?»
Операция была приостановлена, Эберль уволен, на место Эберля назначен Вирт, которого вскоре сменил Штангль.
Лагерь был полностью перестроен. Действие операции «Рейнхард» распространялось на три лагеря смерти: Треблинку, Собибор и Белжец. Их называют также «лагерями смерти на Буге», ибо все три стоят на реке Буг (или находятся в непосредственной близости от нее). Сердцем лагеря были газовые камеры, их строили в первую очередь – иногда посреди леса, иногда в поле, как в случае с Треблинкой.
Во всем лагере только газовые камеры делались из кирпича. Все остальное, то есть бараки, строили из дерева – лагеря не были рассчитаны на длительное существование. Гиммлер спешил осуществить «окончательное решение еврейского вопроса». Решено было воспользоваться успешным наступлением на востоке и в обстановке строжайшей секретности осуществить в глубоком тылу массовое убийство.
Таким образом, наладить идеальную работу этого механизма убийств удалось не сразу, а лишь спустя три месяца.
Ян Пивоньский (Собибор)
К концу марта 1942 года сюда стали свозить довольно значительные группы евреев – в каждой от пятидесяти до ста человек. Прибыло несколько составов с материалом для сборки бараков, со столбами, колючей проволокой, кирпичами, и началось строительство лагеря, лагеря в полном смысле этого слова.
Евреи разгружали вагоны и тащили строительные блоки к будущему лагерю. Немцы установили очень сжатые сроки, просто безумный ритм. Увидев, в каком темпе работают заключенные, – с ними обращались как со скотом – увидев сооружение, которое они возводили, затем ограду, по которой можно было определить, какого огромного размера будет лагерь, мы поняли, что немцы задумали что-то ужасное. В начале июня прибыл первый эшелон. В нем было, вероятно, вагонов сорок с небольшим. Эшелон сопровождали эсэсов цы в черной форме. Это было во второй половине дня, я как раз заканчивал работать.
…Но он взял свой велосипед и поехал домой.
Почему?
Я просто подумал, что эти люди приехали сюда работать на строительстве лагеря, вроде тех, что трудились до них. Кто мог догадаться, что этот состав везет первую партию обреченных на смерть? И кто мог догадаться, что Собибор станет местом массового уничтожения еврейского народа? Когда на следующее утро я пришел сюда на работу, на станции царила мертвая тишина, и, поговорив с польскими железнодорожниками, которые здесь работали, мы поняли, что здесь произошло что-то совершенно невообразимое.
Во-первых, раньше, во время строительства лагеря, звучали приказы немцев, слышались окрики, выстрелы, евреи бегали туда и сюда, выполняя приказы; теперь не было видно никаких рабочих команд, установилась тишина – полная, абсолютная тишина. Накануне прибыло сорок вагонов, а люди как будто в воду канули. Все это было очень и очень странно.
Значит, они все поняли благодаря этой тишине?
Да, это так.
Может ли он описать эту тишину?
Ну, эта тишина… В лагере ничего не происходило, ничего не было видно, ничего не было слышно – никакого движения. И тогда они стали спрашивать друг у друга: «Куда делись те евреи?»
Филип Мюллер
Нашу зондеркоманду держали в одиннадцатом секторе Освенцима-1, в камере № 13.
Это была подземная камера, изолированная от других. Мы стали «хранителями тайны», смертниками, которым дана отсрочка. Никто из нас не должен был разговаривать и вступать в контакт ни с одним другим заключенным. И не только с заключенными, но и с эсэсовцами. За исключением тех, кто участвовал в операции «Рейнхард». В камере было окно, через которое можно было услышать, что происходит во дворе. Казни, крики жертв, вопли. Но видеть мы ничего не видели. Так продолжалось несколько дней. Как-то ночью появился эсэсовец из политического отдела. Было около четырех часов утра. Лагерь был погружен в сон, в лагере все спали. Во всем лагере не было слышно ни звука. Нас опять заставили выйти из камеры и отвели к крематорию. И там я в первый раз увидел, что происходит с узниками лагеря. Нас выстроили у стены и строго приказали ни с кем не разговаривать. Деревянные ворота в ограде крематория распахнулись, впуская длинную вереницу людей: стариков, женщин – человек двести пятьдесят – триста. Мешки в руках… звезда Давида на рукаве. Несмотря на разделявшее нас расстояние, я понял, что это польские евреи, прибывшие, вероятно, из Верхней Силезии, из Сосновецкого гетто, что в тридцати километрах от Освенцима. Я уловил обрывки разговоров, услышал слово fachowitz, что означает «квалифицированный рабочий», а также Malach-ha-Mawis – «ангел смерти» на идише и harginnen, то есть «нас собираются убить». По тем словам, которые доносились до меня, я понял, какая борьба происходит в душе у этих людей. То они говорили о работе – быть может, на что-то надеялись… То вспоминали Mалах га-Мавета, ангела смерти.
Противоречивые слова свидетельствовали о противоречивости чувств.
Вдруг, как по команде, разговоры во дворе крематория смолкли. Взгляды всех устремились к плоской крыше здания.
И кто же там стоял? Эсэсовец Аумейер, глава политического отдела Грабнер и унтерштурмфюрер Гёсслер. И вот Аумейер берет слово: «Вы прибыли сюда, чтобы работать на наших солдат, которые воюют на фронте.
Тем, кто будет хорошо работать, нечего опасаться».
Видно было, что у людей появил ся проблеск надежды. Это очень явственно ощущалось. Так палачи преодолели первое препятствие. Тогда Грабнер в свою очередь сказал: «Нам нужны каменщики, нам нужны электрики. Нам нужны специалисты любого профиля». Потом Грабнера сменил Гёсслер. Он указал пальцем на какого-то маленького человечка из толпы. Этот человек до сих пор стоит у меня перед глазами.
– Кто вы по профессии? Человек ответил:
– Я портной, господин офицер.
– Вы портной? И что вы шьете?
– Я мужской портной. Хотя нет, я шью и для мужчин, и для женщин.
– Замечательно! Такие люди нужны в наших мастерских!
Потом он обратился к одной из женщин:
– А вы кто по профессии?
– Медсестра.
– Отлично! Нам нужны медсестры, чтобы ухаживать за нашими солдатами в госпиталях.
Вы все нам нужны. А пока – раздевайтесь…
Вы должны пройти дезинфекцию.
Нам важно ваше здоровье.
Я увидел, что сказанное успокоило и обнадежило их, и они начали раздеваться.
Даже если они сомневались… Когда хочешь жить, нужно на что-то надеяться.
Одежда осталась во дворе. Она была разбросана повсюду. Аумейер так и сиял, гордый тем, как он ловко все провернул. Он возвратился к своим эсэсовцам и сказал им: «Такой вот метод! Учитесь». Благодаря этой уловке ему удало сь совершить качественный скачок: теперь даже одежда заключенных не пропадала зря.
Рауль Хильберг, историк (Барлингтон, США)
Я старался не касаться глобальных вопросов, поскольку опасался, что не смогу найти на них удовлетворительных ответов.
Взамен этого я решил систематизировать различные мелочи и детали, чтобы на их основании выстроить схему, структуру, которая позволила бы если не объяснить, то по крайней мере более полно описать то, что произошло. Поэтому я представил процесс уничтожения – по существу, это была бюрократическая процедура – в виде последовательно сменяющих друг друга этапов, которые подчинялись определенной логике и вытекали главным образом из опыта, из предшествующего опыта.
Это касается как административных мер, так и психологических средств и даже пропаганды. В действиях нацистов было удивительно мало нового, пока они не изобрели нечто, не имевшее аналогов в прошлом, – убийство людей в газовых камерах, массовое уничтожение. Так бюрократы превратились в изобретателей. Но, как все экспериментаторы, они не запатентовали свое открытие – они предпочли безвестность.
А что нацисты взяли из прошлого?
Вспомните содержание законов, которые они принимали: например недопущение евреев к общественным должностям, запрет на смешанные браки, запрет брать на работу в еврейские семьи женщин арийского происхождения моложе сорока пяти лет, указы об особых «опознавательных знаках», обычно в виде желтых шестиконечных звезд, предписание жить в гетто, вмешательство государства в составление завещаний в тех случаях, когда существовал риск, что еврей откажется оставлять наследство христианину.
Родоначальниками многих таких мер на протяжении тысячи с лишним лет выступали церковные власти, от которых приняла эстафету светская власть.
Накопленный подобным образом опыт стал для нацистов ценным источником, из которого они на удивление много почерпнули.
Вы считаете, что все предпринятые ими меры имеют аналог в прошлом?
Большое число нацистских законов и указов можно сопоставить с аналогичными законоположениями прошлых веков; можно провести четкие параллели, отметить совпадения вплоть до мельчайших деталей, как будто у людей в свое время сформировалась историческая память, которая просуществовала до 1933, 1935, 1939 годов и далее.
В этом смысле нацисты ничего нового не изобрели?
Они изобрели очень мало нового. Даже образ еврея они позаимствовали из книг, восходящих к XVI веку.
Таким образом, даже в области пропаганды, той сферы, где должны были проявиться их фантазия, воображение, они просто шли в фарватере идей, предложенных их предшественниками, – от Мартина Лютера до разного рода деятелей XIX века. Здесь они ничего нового не придумали. Но они выступили с идеей «окончательного решения еврейского вопроса». Это было их главным изобретением, которое радикальным образом отличалось от всего, сделанного их предшественниками. Поэтому разработка идеи об «окончательном решении еврейского вопроса», или, вернее, бюрократическое оформление этой идеи стало поворотным пунктом в истории. Впрочем, и здесь можно говорить о цепи событий, приведших к логическому завершению, к кульминации, если ее можно так назвать.
Ведь почти с самого начала, с IV, V, VI веков христианские миссионеры объявляли евреям: «Вы не можете жить среди нас с вашей еврейской верой». Пришедшие им на смену в эпоху высокого Средневековья светские власти сократили данный постулат. «Вы не можете больше жить среди нас», – решили они.
В результате нацисты постановили: «Вы вообще не должны жить».
Таким образом, вы выделяете три этапа: сначала насильственное обращение евреев в христианскую веру, затем – создание гетто, «геттоизация»…
Выселение с обжитых мест.
И третьим этапом было «территориальное» решение, реализованное на территориях, которые находились под немецким контролем, что исключало эмиграцию: этим решением, «окончательным решением», была Смерть. Понимаете, «окончательное решение» действительно было окончательным: если новообращенные евреи могли втайне оставаться приверженными своей религии, если, будучи изгнанными, они могли вернуться в родные места, то уж с мертвыми-то подобных проблем возникнуть не должно было.
В том, что касается последнего этапа, нацисты были настоящими первооткрывателями?
Да, они придумали нечто беспрецедентное и совершенно новое.
Как начальство сообщало подчиненным о необходимости подобных действий? Ведь и для самих нацистов дело было новое.
Да, дело было новое, и поэтому невозможно найти ни одного документа, ни одного конкретного распоряжения, ни одной «директивы», в которой черным по белому было бы написано:
«С этого момента надо убивать евреев». Решения принимались на основе общих формулировок.
Общих формул?
Сам термин «окончательное (полное или территориальное) решение еврейского вопроса» позволял бюрократам сделать соответствующие «выводы».
Ни в одном из документов, даже в письме Геринга Гейдриху (лето 1941 года), в котором содержалось краткое предписание (два абзаца) приступить к «окончательному решению еврейского вопроса», не было четких инструкций, ничего похожего.
Ничего похожего?
Да. Это были полномочия на применение новых методов, на использование средств, для которых еще не существовало нужных слов. Так я это понимаю.
То же самое происходило и в других областях?
Разумеется. Изобретать новое приходилось на всех стадиях операции. Неудивительно: ведь все задачи были по-своему уникальны – как обеспечить массовое истребление евреев, как распорядиться их имуществом, как скрыть от мира правду. Возникло множество проблем… Все приходилось делать в первый раз.
* * *
Франц Шаллинг (Германия)
Прежде всего, объясните мне, пожалуйста, как вы оказались в Кульмхофе, он же Хелмно. Вы жили в Лодзи, не так ли?
Да, в Лодзи.
Она же Лицманштадт?
Да, Лицманштадт. Мы дни и ночи стояли в карауле. Во время визитов Гитлера в Восточную Пруссию охраняли мельницы, дороги. Довольно скучное занятие. Однажды нам сказали: «Нам нужны люди, которые устали от этой рутины». Мы как раз были такими людьми. Нас снабдили зимним обмундированием – шинелями, меховыми шапками, ботинками на меху и т. д. – и дня через два или три объявили: «В путь!» Затем посадили на два – не помню, может быть, на три – грузовика, где вдоль бортов кузова стояли скамьи, и мы ехали, ехали, ехали, пока не достигли нужного места. Всюду сновали эсэсовцы и полицейские. Первым нашим вопросом было: «Что здесь происходит?» «Увидите!» – сказали они.
«Увидите»?
Да, «увидите».
Вы служили не в СС, а в…
В полиции.
В какой полиции?
В лагерной охране. А потом был дан приказ о сборе: «Все в Дойче хаус!» (единственное каменное здание во всей деревне). Нам велели войти. Вскоре появился эсэсовец и сказал: «Расписка о неразглашении!»
Неразглашении?
«Расписка о неразглашении. Подпишите здесь». Каждому из нас пришлось расписаться. Нам давали готовые формуляры.
Что они из себя представляли?
«Расписка… расписка о неразглашении» и т. д. Я даже не прочитал полностью, что там было.
Вы должны были принять присягу?
Нет, поставить свою подпись. Расписаться в том, что мы будем держать язык за зубами.
Держать язык за зубами?
Да, никому ни слова. После того как мы все расписались, нам сказали: «Окончательное решение еврейского вопроса». Мы не поняли.
А кто-то сказал…
Он сообщил нам, что мы будем делать.
Значит, кто-то упомянул об «окончательном решении»? Сказал, что вы будете заниматься «окончательным решением»?
Да. Но что это значит, никто не знал. Тогда он объяснил.
Когда именно это происходило?
Дайте подумать… когда же это было?.. Зимой, зимой 1941/42 года. Потом нас распределили по постам. Наш сторожевой пост находился у обочины. Постовая будка, перед самым замком.
Значит, вы были в «команде замка»?
Да.
Можете описать, что видели?
Мы все видели, наш пост был прямо перед входом, когда прибывали евреи… оборванные, полузамерзшие, оголодавшие, грязные… Полуживые. Старики, дети. Только представьте! Столько ехать в кузове грузовика, и все на ногах, в жуткой тесноте! Догадывались ли они? Трудно сказать. Подозрения у них были, уж это-то точно. После стольких месяцев в гетто! Я услышал, как к ним обращается эсэсовец: «Сейчас вас очистят от вшей, помоют, и вы будете здесь работать».
Евреи соглашались. «То, что нужно», – говорили они.
Замок был большим?
Довольно большим. Огромное крыльцо, лестница, эсэсовец у входа.
И что происходило потом?
Евреев гнали наверх, на второй этаж, собирали в двух-трех больших залах. Им приказывали снять с себя всю одежду и отдать все драгоценности – кольца, золото и все остальное.
Да. И сколько времени евреи там оставались?
Им давали время только на то, чтобы раздеться. Потом, все с себя сняв, они спускались по другой лестнице в подземный коридор, через который попадали на рампу, где их ждал газенваген.
Они добровольно садились в газенваген?
Нет, их били. Немцы раздавали удары направо и налево. Евреи понимали, что их ждет, кричали…
Ужасно! Просто ужасно! Я об этом знаю потому, что, когда их загоняли в газенваген, мы должны были спускаться в подвал, где открывали камеры с командами евреев-рабочих. Их заставляли собирать во дворе одежду, которую сбрасывали из окон на втором этаже.
Опишите мне газенвагены.
Большие грузовые фургоны.
Очень большие?
Хм… дайте подумать… Отсюда до окна – вот такой они были примерно длины. Обычные автофургоны с двустворчатыми дверцами.
И как работала эта система? Как и чем их убивали?
Выхлопными газами.
Выхлопными газами?
Все происходило так. Один из поляков кричал: «Газ!» Шофер залезал под грузовик и вставлял патрубок в отверстие, через которое газ поступал внутрь машины. Газ от мотора грузовика.
Как туда поступал газ?
Через шланги. Трубы. Водитель забирался под грузовик и шуровал там. Куд а именно вставлял, я не знаю.
Использовались только выхлопные газы?
Да.
Кем были шоферы грузовиков?
Они были эсэсовцами. Все они были эсэсовцами.
Много ли было этих шоферов?
Не знаю.
Их было двое, трое, пять, десять?
Нет. Не так много: двое или трое, не больше. Грузовиков было, я думаю, два… Один большой, другой поменьше, кажется, так.
Итак, шофер садился в кабину?
Да, после того как двери закрывались, он садился в кабину и включал мотор.
Включал его на полную мощность?
Этого я не знаю, нет, не знаю.
Но вы слышали рев мотора?
Да, шум мотора слышался уже от ворот.
Громкий был звук?
Обычный. Обычный шум мотора.
Мотор работал на холостом ходу?
Да.
Да…
Потом грузовик трогался с места, мы открывали ворота, и он уезжал в лес.
Люди в кузове были уже мертвы?
Этого я не знаю. Все успокаивалось. Из машин – ни звука.
Ни звука?
Нет. Все смолкало.
Мордехай Подхлебник, бывший узник лагеря в Хелмно (Кульмхофе), переживший первый этап уничтожения заключенных, так называемый за´ мковый период
Он говорит, что это случилось в конце 1941-го, за два дня до Нового года. Ночью их вывели из лагеря, утром они прибыли в Хелмно. Там был замок. Когда он оказался во дворе замка, он уже знал: тут произошло что-то страшное. Он уже понял. Они увидели одежду и обувь, разбросанные по двору. Он увидел, что, кроме них, вокруг никого, а он знал, что его родители тоже были здесь. В живых не осталось ни одного еврея. Им приказали спуститься в подвал. На одной из стен было написано: «Отсюда никто не выходит живым».
На стенах виднелись надписи на идише. Он увидел много имен. Он думает, что это евреи из окрестных деревень, побывавшие в Хелмно раньше него, оставили на стенах свои имена.
Одним прекрасным утром, через несколько дней после Нового года, мы услышали шум подъезжающего грузовика.
Потом эсэсовцы вывели из него людей и приказали им подняться на второй этаж замка. Евреев обманывали, говоря, что их ведут на помывку в баню. Им велели спуститься с другой стороны замка, где стоял грузовик. Немцы не отходили от них, заталкивали внутрь, били прикладами, чтобы те побыстрее залезали в машины. Он услышал, как люди запели молитву «Шма Исраэль» и как закрылись дверцы грузовика.
Он слышал, как они кричали, но крики становились все слабее и слабее; потом установилась мертвая тишина и грузовик уехал.
Его вместе с четырьмя товарищами вывели из подвала, они поднялись во двор и должны были собирать одежду, которая лежала перед этой мнимой баней.
Понимал ли он в тот момент, как они умерли?
Да, понимал. Во-первых, об этом ходили упорные слухи. И потом, когда он вышел из подвала, он увидел грузовики с закрытыми дверцами. И он все понял.
Понял ли он, что эти грузовики… что людей убивают газом прямо в грузовиках?
Да, потому что он слышал крики и слышал, как эти крики слабеют, а потом увидел, как грузовики уезжают в сторону леса.
Как выглядели те грузовики?
Они напоминали фургоны, в которых у нас здесь развозят сигареты, – такие же закрытые, с двустворчатыми дверцами сзади.
Какого цвета они были?
Ну, такого, зеленого, какой был в ходу у немцев.
Мадам Михельсон (Германия), жена педагога из немецкой школы в Хелмно
Сколько в Хелмно-Кульмхофе было немецких семей?
Полагаю, десять или одиннадцать: волынские немцы и две семьи из Рейха, Бауэры и мы.
И вы?
И мы, Михельсоны…
Но каким образом вы оказались в Кульмхофе?
Я родилась в городе Лаге, но меня направили в Кульмхоф. Тогда искали добровольцев для колонизации польских земель… вот я и записалась. И приехала сюда. Сначала в Вартбрюкен (Коло), потом – в Хелмно (Кульмхоф).
Из Лаге прямо сюда…
Нет, я выехала из Мюнстера.
Но вы выбрали Кульмхоф?
Нет, я выбрала Вартеланд.
Почему?
Дух авантюризма!
Вы были молоды?
Да, я была молодой, я была совсем молодой.
Вы хотели служить родине?
Да.
И каково было ваше первое впечатление о Вартеланде?
Дикость, первобытная дикость.
Что вы хотите этим сказать?
Даже не дикость – хуже.
Но я не совсем понял. Почему?..
Санитарные условия были просто катастрофическими. Приходилось ездить в центр, в Вартбрюкен, потому что только там был нормальный туалет. С другими местами – просто беда. Катастрофа.
Почему «катастрофа»?
Там не было туалетов!
Да?
Вместо них – деревенские сортиры. Невозможно описать, какая здесь царила дикость!
Странно. Почему же вы выбрали такое дикое место?
Ах! Когда ты молод, тебе кажется, что ты на все готов. Ты даже не представляешь, что где-то есть подобные места. Просто не можешь себе этого представить. Весь ужас, который я вам описала. Это была деревня. Очень маленькая деревушка. Несколько домов вдоль дороги, и все. Церковь, замок, магазин, здание местной администрации и школа. Замок соседствовал с церковью. Они были окружены высоким забором. Да.
Сколько метров отделяло ваш дом от церкви?
Мой дом стоял прямо перед ней, метрах в пятидесяти.
Вы видели газенвагены?
Нет. То есть видела, но только снаружи! Эти грузовики так и сновали туда и сюда. Но я не видела, что там было внутри, не видела евреев! Я видела эти грузовики только снаружи: прибытие евреев и их отправку… и как их сажали в машины.
Со времен войны 1914–1918 годов замок был полуразрушен. Только часть его помещений была пригодна для использования: именно туда и отводили евреев.
То есть этот полуразрушенный замок..
… Служил местом размещения поляков, удаления у них вшей и т. д.
Евреев, а не поляков!
Да, да, евреев.
Почему вместо «евреев» вы говорите «поляков»?
Бывает, я их путаю.
Но ведь между поляками и евреями есть разница?
Да, да. Ах да, да.
Чем же они отличались?
Ну… поляков не истребляли. А евреев истребляли. Вот чем они отличались. Внешнее различие, не так ли?
А внутреннее?
Ну, об этом я судить не берусь, я не сильна в психологии и антропологии… Разница между поляками и евреями?.. Знаю точно только одно – они ненавидели друг друга.
Грабов (Польша).
Клод Ланцман читает письмо перед зданием, которое когда-то было грабовской синагогой
19 января 1942 года грабовский раввин Якоб Шульман писал своим друзьям в город Лодзь следующее:
«Дорогие друзья, я так долго не отвечал вам потому, что не знал ничего определенного относительно тех сведений, которые мне сообщили. Увы! К величайшему сожалению, теперь мы знаем все. У меня дома побывал очевидец событий, чудом спасшийся от смерти. От него я все и узнал. Место, где совершалась казнь, называется Хелмно (это недалеко от города Домбе); тела жертв закапывали в соседнем Жуховском лесу. Евреев убивали двумя способами: их или расстреливали, или травили газом.
Вот уже несколько дней туда тысячами свозят евреев из Лодзи и расправляются с ними подобным образом. Не подумайте, что я пишу вам это в приступе безумия. Увы, описанное мною – трагическая, страшная реальность.
„Люди, случилось что-то ужасное. Рвите на себе одежду, посыпайте голову пеплом, бегите на улицы и танцуйте, как будто вы объяты безумием“. Я так устал, что мое перо не может больше писать. Творец вселенной, приди нам на помощь!»
Творец вселенной не пришел на помощь евреям Грабова. Через несколько недель все, включая раввина, были убиты в автомобилях-«душегубках» деревни Хелмно. От Грабова до Хелмно ровно девятнадцать километров.
Жительницы Грабова
Раньше в Грабове было много евреев?
Много. Их депортировали в Хелмно.
Мадам всегда жила рядом с синагогой?
Да. В просторечии она называется не синагога, а buzinica. Она говорит, что сейчас там мебельный склад, но что в религиозном смысле с синагогой ничего плохого не сделали, не осквернили.
Помнит ли мадам раввина из той синагоги?
Мадам говорит, что ей уже восемьдесят лет, память у нее уже не та, а евреев в их городе нет по меньшей мере сорок лет.
Семейная пара из Грабова
Барбара, скажи мадам и месье, что у них очень красивый дом. Они согласны с этим? Считают ли они свой дом красивым?
Да, да.
Какой интересный у дома декор, какие красивые двери! Этот декор что-то обозначает?
Когда-то такой орнамент был в моде.
Значит, они сами решили так декорировать свой дом?
Нет, нет, таким он был еще при прежних владельцах, евреях.
А, значит, его построили евреи…
Этим дверям по меньшей мере сто лет.
Им по крайней мере сто лет. В доме жила еврейская семья?
Да, во всех окрестных домах жили евреи.
Во всех домах на этой площади жили евреи?
Да, во всех этих домах – и напротив, и дальше. Да.
А где жили поляки?
Со стороны двора, там, где стояли туалеты.
А, поляки жили сзади, рядом с туалетами…
Здесь раньше был магазин, лавка…
Чем в ней торговали?
…Она была продовольственная.
Ею владели евреи?
Да.
Стало быть, если я правильно вас понял, еврейские дома выходили на улицу, а польские – на двор, где стояли туалеты?
Да.
Как давно вы здесь живете?
Пятнадцать лет, они здесь уже пятнадцать лет.
А где они жили раньше?
На другой стороне площади, с выходом во двор.
Значит, они разбогатели?
Да!
Как им удалось разбогатеть?
Они много работали.
Сколько лет месье?
Семьдесят.
Он выглядит очень молодо, бодро. Помнят ли они евреев Грабова?
Да. Даже то, как их депортировали.
Они вспоминают депортацию грабовских евреев?
Месье говорит, что хорошо знает еврейский.
Месье говорит по-еврейски?
Да. Когда он был маленьким и играл с еврейскими детьми, он говорил по-еврейски! …Так вот, сначала евреев собирали там, где сейчас находится ресторан, или прямо на этой площади и требовали у них золото. Так вот, у евреев был старейшина, который собирал золото и отдавал жандармам. Когда у евреев не осталось золота, их собрали в католической церкви.
У них было много золота?
Да, у евреев было много золота, а еще у них были очень красивые подсвечники.
Местный житель
Знали ли они, поляки, что евреев везут в Хелмно на казнь?
Да, они это знали. Но и сами евреи знали это не хуже них.
Сами евреи тоже знали… Но пытались ли евреи как-то помешать этому, взбунтоваться, сбежать?
Молодые пытались бежать, но их ловили и убивали с еще большей жестокостью, чем других. В каждом селе и деревушке две-три улицы делали закрытой зоной – там под присмотром полиции жили евреи. Они не могли покидать территорию своего квартала. Впоследствии их загнали в польскую церковь, здесь, в Грабове, а затем перевезли в Хелмно.
Семейная пара
Они забирали даже детей – таких вот маленьких, как эти. Они хватали их за ноги и бросали в грузовики.
Мадам сама это видела?
И стариков тоже.
Немцы бросали детей в грузовики?
Да.
Знали ли поляки, что в Хелмно евреев убивают газом? Знал ли об этом месье?
Да.
Другой местный житель
Помнит ли он депортацию грабовских евреев?
Да, в то время месье работал на мельнице.
Да? Напротив того места?
Да, напротив. Они все видели.
И как месье относился к происходящему? Переживал?
Да, переживал. Грустное было зрелище, не до веселья!
Назовите наиболее распространенные профессии у евреев.
Большинство работало кожевниками, торговцами, портными. Да. Некоторые занимались бизнесом: продавали яйца, кур, сливочное масло.
Первый местный житель
Среди них было немало портных, а также торговцев. Но обычно они работали кожевниками. Они носили бороды и эти… как их… пейсы. В общем, особой красотой не отличались.
Не отличались особой красотой?
Да, и к тому же от них воняло.
От них воняло?
Да.
А почему от них воняло?
Потому что они имели дело с кожей, а кожа воняет.
Жительницы Грабова
Мадам говорит, что среди евреек встречались настоящие красавицы. Польские мужчины очень любили крутить романы с еврейками.
Значит, польки довольны, что еврейки исчезли из этих мест?
Она говорит, что… женщины одного с нею возраста тоже в свое время были не прочь крутить романы.
То есть еврейки были для них соперницами?
Поляки обожали прекрасных евреек, просто сходили по ним с ума!
А поляки тоскуют по прекрасным еврейкам?
А как же! По таким красавицам! Конечно!
Почему? Неужели они были столь красивыми?
Ну да, они были красивыми, потому что ничего не делали. Польки-то работали. А еврейки ничего не делали, только и думали, что о своей внешности, они хорошо одевались.
А еврейки не работали?
Никогда ничего не делали.
Почему?
Они были богатыми. Они были богатыми, а поляки должны были служить им и работать на них.
Я слышал слово «капитал»…
У них… в общем, она сказала, что в руках евреев был капитал.
Да, но ты это не перевела. Спроси у мадам насчет капитала: значит, он был в руках у евреев?
Вся Польша была в руках евреев.
Первый местный житель
Рады ли они, что здесь больше нет евреев, или они из-за этого переживают?
Их это особо не волнует, но вообще, знаете ли, до войны вся промышленность в Польше находилась в руках евреев и немцев.
А в целом поляки испытывали какую-то симпатию к евреям?
Хм… нет, поляки не испытывали к ним особых симпатий, к тому же евреи вели себя непорядочно.
Непорядочно! Как он считает, в Грабове лучше жилось, когда здесь были евреи, или сейчас, когда их нет?
Об этом он не может судить.
Он не знает. Почему он говорит, что евреи были непорядочными?
Они эксплуатировали поляков. Этим и жили.
Каким образом они эксплуатировали поляков?
Они устанавливали свои цены.
Жительница Грабова
Спроси ее, нравится ли ей собственный дом?
Да, но ее дети живут в гораздо более хороших домах.
В современных домах?
У всех ее детей высшее образование.
Браво! Это хорошо, прогресс налицо.
Да, ее дети – самые образованные люди в деревне.
Браво, мадам, это просто здорово! Да здравствует образование! Но скажите, у вас ведь старый дом?
Да, в этом доме раньше жили евреи.
Понятно, значит, до нее здесь жили евреи. Она их знала?
Да.
Как их звали?
Нет, она не знает.
Чем они занимались?
Их фамилия была Бенкель.
И чем они занимались?
Они держали мясную лавку.
Держали мясную лавку… Почему мадам смеется?
Хозяин был мясником. Она смеется потому, что месье сказал ей, будто в этой лавке можно было очень недорого купить себе говядины.
Говядины.
Первый местный житель
Что он думает о том, что евреев травили газом в грузовиках?
Он говорит, что это его отнюдь не радует. Если бы все местные евреи по собственной воле уехали в Израиль, может, он и обрадовался бы. Но то, что их просто убили, – очень неприятно.
Другой местный житель
Ему не хватает евреев?
Да, потому что среди них попадались очень хорошенькие женщины; в молодости ты ценишь такие вещи.
Уроженки Грабова
Жалеют ли они о том, что в их городе больше нет евреев, или они рады этому?
Что я в этом во всем понимаю? Я никогда и в школу-то не ходила. Я сужу только по тому, как мне живется сейчас и как жилось тогда. Сейчас мне живется очень неплохо.
Сейчас она в лучшем положении, чем раньше?
До войны ей приходилось копать картошку, а сейчас она торгует яйцами: конечно, сейчас ей живется намного лучше…
И чем она это объясняет? Депортацией евреев или достижениями социализма?
Ей все равно. Главное, что сейчас ей неплохо живется.
Семейная пара
Как месье отнесся к потере стольких школьных товарищей?
Он до сих пор чувствует боль этой утраты. Да, да.
Им жаль евреев?
Конечно! Мадам говорит, это были хорошие евреи.
Мадам Михельсон
Евреев привозили в грузовых машинах. Позднее – в поездах по железной дороге, по узкоколейке. В битком набитых кузовах грузовиков или в вагонах коротких составов. В основном женщин и детей, иногда мужчин, но по большей части уже пожилых. Самых сильных отбирали для работы в лагере. Они ходили с цепями на ногах, с утра шли к колодцу за водой, искали еду и т. д.
Их убивали не сразу. Это происходило позднее. Я не знаю, что с ними стало. Но ясно, что они не выжили.
Кроме двоих…
Кроме двоих.
Они были закованы в цепи?
Ноги были закованы.
У всех?
Да, среди них – у всех. Остальных почти сразу убивали.
И эти евреи проходили по деревне с цепями на ногах?
Да.
Разрешалось ли с ними говорить?
Нет, нет. Это было невозможно.
Почему?
Никто не осмеливался.
Что?
Никто не осмеливался.
Да.
Вы поняли меня?
Да. Никто не осмеливался. Но почему? Это было опасно?
Да. Их сопровождала охрана. И вообще люди предпочитали держаться от них подальше, не правда ли? Когда видишь такое каждый день, нервы могут не выдержать. Какая жестокость – заставлять всю деревню присутствовать при этой трагедии. Видеть, как прибывают евреи, как их загоняют в церковь или в замок… И эти крики! Ужасно! Невыносимо! И день за днем – все та же картина…
Ужасно, это было ужасно. Печальное зрелище. Они кричали. Они прекрасно понимали, что их ждет. Сначала евреи верили, что у них просто будут выводить вшей. Но они быстро все понимали, и их крики становились все безумней. Просто ужасающие крики. Крики агонии! Потому что они понимали, что их ждет.
Вам известно, сколько евреев было здесь уничтожено?
Кажется, цифра начинается на «четыре». То ли четыреста тысяч человек, то ли сорок тысяч…
Четыреста тысяч.
Значит, четыреста тысяч… Я же говорила – начинается на четыре. Грустно, грустно.
Симон Шребник, бывший заключенный лагеря смерти в Хелмно, переживший второй этап уничтожения заключенных, так называемый период церкви
Когда солдаты маршируют по улице, Девушки открывают Окна и двери в доме.
Мадам Михельсон
Вы помните еврейского мальчика? Ему было тринадцать лет. Он был членом команды евреев-рабочих. Он пел на реке.
На Нере?
Да.
Он жив?
Да, он жив. Он пел немецкую песню, которой его научили эсэсовцы из Хелмно: «Когда солдаты маршируют по улице…»
Мадам Михельсон
…Девушки открывают Окна и двери в доме…
Симон Шребник
Когда солдаты маршируют по улице, Девушки открывают Окна и двери в доме.
Группа крестьян из деревни Хелмно, обступивших Симона Шребника
Сегодня в Хелмно праздник?
Да.
Какой праздник?
Рождество Богородицы. Сегодня ее день рождения.
Сегодня Рождество Богородицы!
Да, да.
И ведь масса народа собралась!
Обычно бывает больше. Но сегодня плохая погода, дождь идет…
Они рады снова увидеть Шребника?
Очень. Для них это большая радость.
Почему?
Да, для них это большая радость, потому что они снова его увидели и потому что им известно все, что он пережил. Сегодня, видя, каким он стал, они очень, очень радуются.
Почему вся деревня помнит о нем?
Ну, они хорошо его помнят, потому что он ходил с цепями на лодыжках и пел на реке. Он был такой юный и такой худой, что, казалось, уже одной ногой стоял в могиле. Он был таким худым, что казалось, это не жилец.
А вид у него был веселый или грустный?
Когда она увидела этого ребенка, она сказала немцу: «Послушайте, да отпустите же его!» Тогда тот спросил: «Но куда он пойдет?» «К отцу и матери!»
Тогда немец посмотрел на небо и сказал ей: «Да, скоро он туда отправится – прямо к отцу и матери!»
Немец так и сказал?
Да.
Помнят ли они времена, когда евреев держали в этой церкви?
Да, они это помнят. Евреев на грузовике привозили сюда, в церковь.
В какое время их привозили на грузовике?
Весь день и даже ночью.
И как же это происходило? Могут ли они подробно все описать?
Сначала евреев доставляли в замок; только потом их стали держать в церкви.
Да, на «втором этапе».
А утром их вывозили в лес.
И как же их доставляли в лес?
В очень больших бронированных грузовиках. Снизу туда подавался газ.
То есть их перевозили в газенвагенах?.. Так?
Да, в газенвагенах.
И куда за ними приезжали грузовики?
За евреями?
Да.
Сюда, к воротам церкви.
Там, где они сейчас стоят?
Нет, грузовики подъезжали к самому входу.
Грузовики подъезжали к самому входу в церковь! И все знали, что это смертоносные автомобили, в которых евреев травят газом?
Да, невозможно было этого не знать!
Слышали ли они крики по ночам?
Они стонали, стонали от голода.
Стонали от голода!
Они были заперты в церкви, им хотелось есть.
У них совсем не было еды?
Нельзя было смотреть в их сторону. Нельзя было заговаривать с евреем.
Нельзя?
Да. И даже если ты шел мимо по дороге, в ту сторону нельзя было смотреть.
Но они все-таки смотрели?
Да, сюда приезжали грузовики, на которых евреев перевозили дальше. Мы смотрели – тайком!
Ах, тайком!
Да.
Краем глаза?
Именно так. Мы смотрели искоса.
Какие крики, какие стоны доносились до них ночью?
Евреи взывали к Иисусу, деве Марии и к милосердному Богу; иногда они молились по-немецки, как говорит мадам.
К Иисусу, деве Марии и милосердному Богу!
А в доме священника устроили склад, где лежала груда чемоданов.
И это были чемоданы евреев?
Да, и там было золото.
Там было золото. И откуда мадам знает, что там было золото? Спроси ее… А, вот и процессия! Тогда прервемся? Евреев в церкви было столько же, сколько сегодня христиан?
Почти.
И сколько требовалось газенвагенов, чтобы их всех вывезти?
Ну, в среднем штук пятьдесят.
Требовалось пятьдесят грузовиков, чтобы вывезти их всех из церкви! Машины шли непрерывным потоком?
Да.
Недавно мадам упомянула, что в соседнем доме хранились конфискованные у евреев чемоданы. Что было в этих чемоданах?
Кастрюли с двойным дном.
Что владельцы чемоданов прятали в кастрюлях с двойным дном? Что было в кастрюлях под вторым дном?
Они прятали драгоценности, различные ценные предметы. Еще они прятали золото в… складках одежды. Когда мы давали им еду, евреи бросали нам то драгоценности, то деньги.
Но только что вы сказали, что с евреями нельзя было говорить, что немцы запрещали это.
Это было строжайше запрещено.
Жалко ли им евреев?
Конечно. Мы все плакали, как и они, говорит мадам. А месье Кантаровский давал им еду – хлеб и огурцы.
Почему, по их мнению, все это приключилось с евреями?
Потому что они были богаче всех! Поляков тоже немало пострадало, кстати! Священников, например. Месье Кантаровский хочет рассказать то, что слышал от одного из друзей. Это произошло в Миндьевицах, под Варшавой.
Евреев Миндьевицей собрали на площади, и раввин решил обратиться к ним с речью. Он спросил у эсэсовца: «Могу я с ними поговорить?»
И тот ответил: «Да».
Тогда раввин сказал, что очень, очень давно, около двух тысяч лет назад, евреи осудили на смерть Иисуса Христа, который ничем перед ними не провинился. И вот, когда евреи это сделали, когда осудили его на смерть, они испустили крик: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда раввин сказал им: «Быть может, настал как раз тот момент, когда нам придется ответить за его кровь. Давайте же не будем сопротивляться, идемте, сделаем то, чего от нас требуют. Идем!»
Значит, он считает, что евреи таким образом искупили свою вину за смерть Христа?
Он…
Он так не считает, он вообще не думает, что Христос хотел, чтобы за него мстили. Нет, он совсем другого мнения. Так сказал не он, а раввин!
Ах, так сказал раввин!
Это была Божья воля, вот и все.
Да, да… что она говорит?
Так что Понтий Пилат умыл руки. Он сказал: «Этот человек невинен, я не хочу участвовать в расправе» и послал на казнь Варавву. Но евреи завопили: «На нас кровь его!»
Вот и конец истории, теперь вы все знаете!
Пан Фальборский
Была ли дорога от деревни Хелмно до леса, где закапывали тела жертв, заасфальтирована или асфальт положили позже?
Дорога была не такой широкой, как сейчас, но да, она была асфальтирована.
В скольких метрах от дороги закапывали тела?
Примерно в пятистах, шестистах или семистах метрах от дороги; даже если смотреть с обочины в том направлении, ничего не увидишь.
На какой скорости двигались грузовики?
Они двигались со средней скоростью, скорее даже медленно. Это делалось нарочно, потому что по пути нужно было уничтожить всех, кто сидел внутри. Когда грузовики ехали слишком быстро, люди были еще живы, когда машина прибывала в лес. Когда машины двигались медленнее, немцы успевали убить тех, кто сидел внутри.
Один раз машину занесло на крутом повороте. Где-то через полчаса после этого я зашел к леснику, которого звали Сендяк. И он мне говорит: «Как жаль, что ты опоздал.
А то бы увидел грузовик, который занесло на повороте. Кузов открылся, и евреи вывалились на дорогу. Они были еще живы. Тогда один гестаповец, глядя на этих евреев, ползающих по дороге, вытащил револьвер и начал по ним стрелять. Он их всех прикончил. Потом привели евреев, которые работали в лесу, и с их помощью подняли грузовик и уложили туда трупы».
Симон Шребник
Вот по этой дороге ездили газенвагены. В каждый помещалось восемьдесят человек. Когда они прибывали на место, эсэсовцы приказывали: «Открыть двери!»
Мы подчинялись. Из машин тут же начинали выкатываться трупы. Эсэсовец командовал: «Два человека в машину!» Пара заключенных обслуживала печи, у них имелся необходимый опыт.
Другой эсэсовец вопил: «Кидайте быстрее. Быстрее! Сейчас приедет другой грузовик!»
И мы работали, пока все тела не сгорали в печах. И так весь день… вот так все и было. Помню, один раз их привезли еще живыми, печи были заполнены до отказа, поэтому их оставили лежать на земле. Они стали шевелиться, приходить в себя… И когда их бросали в печи, все были в сознании. Их сожгли заживо. Когда мы построили печи, я спросил, зачем они.
Какой-то эсэсовец мне ответил: «Здесь будет производиться древесный уголь! Для утюгов». Так он мне сказал. Я ничего не знал. Когда достроили печи, положили дрова, добавили бензина и разожгли огонь, когда прибыл первый газенваген, мы узнали, для чего понадобились печи. То, что я увидел, никак на меня не подействовало. И второй, и третий грузовик не подействовали тоже. Мне было всего тринадцать, и в жизни я не видел ничего, кроме смертей и трупов. Может быть, я не понимал.
Если б я был постарше, тогда, возможно… Наверно, я просто не понимал. Я никогда не видел ничего другого. В гетто я видел… В Лодзинском гетто люди падали замертво на каждом шагу. Я думал: так и должно быть, это нормально. Когда я гулял по улицам Лодзи, на каждые сто метров пути приходилось по двести трупов…
Людям нечего было есть. Они шли и падали, падали… Сын отбирал хлеб у отца, отец – у сына, каждый цеплялся за жизнь. Поэтому, когда меня привезли сюда, в Хелмно, я был уже… мне было все равно… Еще я думал: если останусь жив, хочу лишь одного – чтобы мне дали пять батонов хлеба. И я бы их ел… И больше ничего не нужно. Так я думал. И еще мне казалось: если я выживу, то останусь единственным человеком на свете. Кругом – ни души. Только я. Один. На планете никого, кроме меня, не останется, если только я выйду отсюда.
Секретное дело из архива Третьего рейха
Берлин, 5 июня 1942 года
Проект изменений, которые предлагается внести в конструкцию специальных транспортных средств, используемых в городе Кульмхоф (Хелмно) в настоящее время (или находящихся в стадии производства).
Начиная с декабря 1941 года тремя такими транспортными средствами было обработано (verarbeitet) девяносто семь тысяч единиц. Серьезных инцидентов не отмечено. Однако, учитывая высказанные пожелания, необходимо внести следующие технические усовершенствования:
1. Средняя вместимость грузовых автомобилей составляет примерно девять-десять единиц на квадратный метр. В грузовиках фирмы «Заурер», которые отличаются излишней громоздкостью, максимальное использование пространства кузова невозможно. Данное обстоятельство обусловлено не столько возможностью перегрузки автомобиля, сколько риском снизить устойчивость его движения в случае полной загрузки кузова. Поэтому представляется необходимым сокращение объема полезного пространства. Вместо того чтобы решать проблему устойчивости автомобиля за счет уменьшения числа загружаемых, как это делалось вплоть до настоящего времени, необходимо на один метр уменьшить пространство загрузки. Первый из упомянутых способов плох тем, что требует большего времени функционирования машины, поскольку образовавшийся пустой участок должен, как и все пространство, заполниться окисью углерода. Если, напротив, уменьшить пространство загрузки и вместе с тем заполнять автомобиль до отказа, время функционирования машины можно существенно сократить. Конструкторы грузовиков заявили нам в частной беседе, что уменьшение задней части машин может привести к серьезному нарушению равновесия всего транспортного средства. Они утверждают, что на передний мост будет приходиться избыточная нагрузка. В действительности же равновесие непроизвольно восстанавливается вследствие того факта, что во время функционирования машины груз имеет тенден цию смещаться к задним дверям и в конце операции сосредотачивается преимущественно сзади. Таким образом, на передний мост не приходится никакой избыточной нагрузки.
2. Необходимо обеспечить большую сохранность осветительных ламп. На них должны быть надеты защитные металлические решетки, чтобы избежать возможных повреждений. Практика показывает, что без ламп вполне можно обойтись, так как они, по-видимому, почти никогда не находят себе применения. Однако было замечено, что в момент закрытия створок машины, с внезапным установлением темноты, начинается активное движение груза к дверям. Это происходит ввиду естественного притяжения груза к свету после наступления темноты и приводит к возникновению трудностей с закрытием дверей. Кроме того, было замечено, что в силу известных свойств темноты, которая склонна вызывать страх, в момент закрытия дверей слышатся крики погружаемых. Поэтому было бы целесообразным заранее зажигать свет в машине и не гасить его в первые минуты процесса.
3. Для эффективной очистки кузова необходимо проделать в центре днища герметично закрытое сливное отверстие. Затычка отверстия, диаметром от 200 до 300 мм, должна быть оснащена наклонным сифоном с целью вывести из машины легкие жидкости уже в процессе работы машины. Открытием затычки из грузовика выводятся плотные жидкости, грязь. Если речь идет о машинах, находящихся в данный момент в эксплуатации, технические усовершенствования, которые мы упомянули в этом отчете, следует вносить только во время прохождения машинами ремонта. Что касается десяти новых автомобилей, заказанных в фирме «Заурер», они, по мере возможности, должны быть произведены с учетом всех рационализаторских предложений, выведенных из практики и опыта.
Передано на рассмотрение группенляйтеру второго департамента СС оберштурмбанфюреру СС Вальтеру Рауффу.
Подписано: Юст.
Фильм второй
Франц Зухомель, унтерштурмфюрер[3] СС
Твердый шаг, прямой и зоркий взгляд,
Весело и бодро
Зондеркоманда идет на работу.
Сегодня для нас нет ничего, кроме Треблинки:
она – наша судьба.
Едва прибыв в Треблинку,
Мы стали с ней единым целым.
Все, что мы знаем, – это приказы.
Нами движут лишь послушание и долг.
Мы хотим служить, еще и еще служить,
Пока однажды нам не улыбнется счастье.
Ура!
Еще раз, и погромче, пожалуйста!
Да. Вот мы смеемся, а между тем это грустно!
Никто не смеется!
Не сердитесь на меня. Вам нужна история, я вам ее рассказываю. Слова придумал Франц. Мелодию позаимствовали из Бухенвальда, где Франц когда-то служил в охране. Когда в лагерь поступали новоприбывшие…
То есть евреи-рабочие…
Да. Они должны были быстро выучить эту песню наизусть, чтобы тем же вечером ее исполнить.
Понятно, но спойте ее еще раз.
Хорошо.
Отлично! Только погромче, пожалуйста!
Ладно…
Твердый шаг, прямой и зоркий взгляд,
Весело и бодро
Зондеркоманда идет на работу.
Сегодня для нас нет ничего, кроме Треблинки:
она – наша судьба.
Едва прибыв в Треблинку,
Мы стали с ней единым целым.
Все, что мы знаем, – это приказы.
Нами движут лишь послушание и долг.
Мы хотим служить, еще и еще служить,
Пока однажды нам не улыбнется счастье.
Ура!
Довольны? Это эксклюзив. Больше ни один еврей не знает этого гимна!
Как в Треблинке в отдельные дни удавалось «обработать» восемнадцать тысяч заключенных?..
Восемнадцать? О нет…
Но я читал в протоколах…
Ну да.
«Обработать» восемнадцать тысяч человек… Ликвидировать восемнадцать тысяч человек…
Месье Ланцман, это преувеличение, можете мне поверить.
Сколько же тогда?
От двенадцати до пятнадцати тысяч, хотя в такие дни нам приходилось полночи возиться с ними. В январе составы прибывали в шесть утра.
Всегда в шесть?
Не всегда. Но часто.
Да.
Они не приезжали в строго установленное время.
Да.
Иногда один приезжал в шесть утра, другой – в полдень, третий – поздно вечером. Понимаете?
Хорошо. Прибывает поезд.
Не могли бы вы как можно точнее описать весь процесс в период наибольшей активности лагеря?..
Составы перемещались со станции Малкиня на станцию Треблинка.
Сколько километров от Малкини до Треблинки?
Примерно десять километров. Треблинка была деревней. Маленькой деревней. Станция с этим названием стала известной только за счет «спецпоездов» с евреями. В одном составе могло быть от тридцати до пятидесяти вагонов. Мы делили составы на части – по десять, двенадцать и даже пятнадцать вагонов в каждой, – и отгоняли отцепленные вагоны к рампе, в лагерь. Другие вагоны с запертыми внутри людьми оставались ждать своей очереди на станции Треблинка. Окна в поезде были заделаны колючей проволокой, чтобы никто не мог выйти. На крыше вагонов дежурили «сторожевые псы» – украинцы и латыши. Латыши были самыми жестокими. На рампе перед каждым вагоном стояли по два еврея из «синей» команды, следившие за тем, чтобы все прошло как можно быстрей. «На выход, живее, живее!» – кричали они. Кроме них, поезд встречали украинцы и немцы.
Сколько было немцев?
От трех до пяти человек.
Так мало?
Да. Клянусь вам.
И сколько украинцев?
Десять.
Десять украинцев, пять немцев.
Да, да.
Двое евреев… То есть двадцать человек из «синей» команды.
Да. Члены «синей» команды находились здесь… а здесь они отправляли людей внутрь. А тут работала «красная» команда. Да.
Что входило в обязанности «красной» команды?
Уборка одежды! Они должны были собирать одежду мужчин, одежду женщин и незамедлительно нести ее сюда.
Сколько времени, сколько минут проходило между высадкой на рампе и раздеванием?
Дайте подумать… если брать женщин, если брать женщин, это занимало… ну, скажем, час. Час; может быть, полтора. Если весь поезд, то два.
Да.
Через два часа все было кончено…
Между прибытием…
…И смертью.
…И смертью проходило всего два часа?
Два часа; иногда два с половиной – три.
За два часа уничтожали весь поезд?
Весь поезд.
А сколько времени уходило на каждую новую партию?
Невозможно определить: вагоны следовали один за другим, люди текли сплошным потоком. Понимаете? Мужчин, которые сидели здесь в ожидании своей очереди, вскоре отправляли наверх через так называемую кишку. Женщины входили последними… Под конец. Они тоже должны были туда подниматься, и они часто ждали здесь. Их отправляли всегда по пять человек, понимаете, по пять. Пятьдесят человек, шестьдесят женщин с детьми, которым приходилось ждать, пока не освободится место.
Они ждали голыми?
Да, голыми! И летом, и зимой.
Зимой в Треблинке бывает очень холодно.
Ну да, зимой, в декабре, особенно после Рождества…
Да.
Но и до Рождества там стоял… собачий холод! Температ у ра была где-то между 10 и 20 градусами мороза. Я-то знаю: сначала мы тоже буквально умирали от холода. У нас не было теплой одежды. Мы тоже мерзли.
Но еще холодней было…
…этим несчастным…
…в «кишке»…
…в «кишке» было очень, очень холодно. Очень холодно.
Да. А вы можете поподробней описать эту «кишку»? Что она из себя представляла? Сколько в ней было метров? Что делали люди в этой «кишке»?
«Кишка» имела в ширину около четырех метров. Как эта комната. Она была окружена изгородями – примерно такой высоты или, скажем, такой.
Стенами?
Нет, нет Колючая проволока с густо вплетенными в нее ветками, сосновыми ветками, понимаете? Это называлось «камуфляж». В лагере имелась «камуфляжная команда», состоящая из двадцати евреев, которые каждый день ходили собирать ветки.
В лес?
Да, в лес. И заделывали все щели. Все до одной. Ничего не увидишь: сплошная стена и справа, и слева. Абсолютно ничего. Сквозь нее ничего нельзя было увидеть.
Невозможно?
Невозможно. Та же картина здесь, здесь, здесь и здесь… и здесь… Сквозь нее ничего невозможно увидеть.
Треблинка, в которой уничтожили столько народа, была ведь небольшим лагерем, да?
Он не был большим. Пятьсот метров в самой протяженной части. По форме не прямоугольник, а скорее ромб. Видите: здесь поверхность ровная, а тут начинает возвышаться. На вершине холма находилась газовая камера. Туда нужно было подниматься.
«Кишка» называлась «дорогой на небо», да?
Евреи прозвали ее «вознесением», а также «последним путем». Я слышал только эти два выражения.
Так, я хочу представить. Они входят в «кишку»… И что дальше? Они совершенно голые?
Совершенно голые. Здесь стояли два охранника-украинца.
Да.
В основном для усмирения заключенных-мужчин. Понимаете? Если мужчины начинали артачиться, их били – ударами кнута. Кнутом. И здесь тоже. И здесь.
Да.
Принуждали только мужчин, но не женщин.
Не женщин?
Нет, их не били.
Откуда вдруг такая гуманность?
Сам я этого не видел.
Да.
Я сам этого не видел. Может быть, их все-таки били.
Почему бы и нет?
Почему бы и нет?
Все равно их ждала смерть. Так что почему бы и нет?
В газовых камерах? Да, конечно.
Абрахам Бомба
Абрахам, скажите, как это произошло? Как вас выбрали?
Поступил приказ немцев отобрать парикмахеров для какой-то работы. Для какой именно, мы тогда не знали, но мы собрали всех парикмахеров.
Сколько времени вы к тому моменту пробыли в Треблинке?
Около четырех недель.
Приказ был отдан утром?
Да, часов в десять утра, после прибытия очередного состава, когда женщин отвели в газовую камеру. Немцы вызвали к себе несколько человек из команды евреев-рабочих и спросили, нет ли среди них парикмахеров. До войны я довольно долго проработал парикмахером. Мои земляки – жители Ченстоховы и соседних местечек – знали об этом. Поэтому они выбрали меня; ну, и я тоже назвал нескольких парикмахеров, с которыми был знаком.
Профессиональных парикмахеров?
Да… И мы стали ждать… И вот нам приказывают следовать за ними, за немцами. Они отвели нас в газовую камеру, расположенную в другой части лагеря.
Идти пришлось далеко?
Нет, не очень далеко, но весь путь был скрыт за изгородями из колючей проволоки, перемешанной с ветками, чтобы никто не мог увидеть, предположить, что эта дорога ведет в газовые камеры.
Эсэсовцы называли этот проход «кишкой»?
Нет, они говорили… постойте… «путь на небо».
Himmelweg?
Да, да, himmelweg, путь на небо. Мы знали о нем еще до того, как начали работать в газовой камере. К нашему приходу немцы поставили в камере скамейки, чтобы женщинам было куда сесть. И чтобы они не подозревали, что это будет их последнее пристанище, последний миг, последний вздох. Чтобы они ни о чем не догадывались.
Сколько дней вы работали внутри газовой камеры?
Мы работали там неделю, а может, дней десять. Потом они решили, что мы будем стричь волосы в бараке для раздевания.
А как же газовая камера?
Она была слишком маленькой – комната размером четыре на четыре метра. И в такую комнату они загоняли целую толпу женщин. Те буквально на головах друг у друга стояли… Но, как я уже говорил, мы не знали, какую работу нам надо будет делать. Вдруг появился капо: «Парикмахеры, вы должны действовать так, чтобы женщины, войдя сюда, думали, что им предстоит только стрижка и душ и что потом они спокойно отсюда уйдут». Но мы уже знали, что отсюда не уходят, что это конечная остановка, что они не вернутся живыми.
Можете рассказать поподробнее?
Рассказать поподробнее… Мы ждали… Вдруг появляется партия заключенных… Женщины с детьми, целое море… Мы, парикмахеры, начали подстригать их, и некоторые – пожалуй, почти все – поняли, что с ними будет. Мы старались сделать все от нас зависящее…
Нет, нет…
…Старались быть как можно гуманнее.
Простите! Когда они появились перед газовой камерой, вы уже были там или вы вошли вслед за ними?
Я же вам сказал: мы уже были там, мы их ждали.
Внутри?
Да, в газовой камере.
И вот внезапно появлялись они?
Да, они входили в камеру.
Как они выглядели?
Они были раздеты – совершенно голые, без одежды, без всего.
Они были совершенно голыми?
Совершенно голыми – и женщины, и дети.
Дети тоже?
Дети тоже, потому что перед этим их всех вели в раздевалку – нужно было раздеться, прежде чем идти в газовую камеру.
Что вы испытали, когда в первый раз увидели, как они голыми входят в камеру?
Я подчинялся приказам, стриг волосы, как обычный парикмахер, который делает свою работу, с тем отличием, что стричь надо было очень коротко. Им нужны были женские волосы, они переправляли их в Германию.
Вы их стригли наголо?
Нет, просто коротко: нужно было заставить их поверить, что все идет как обычно.
Вы пользовались ножницами?
Да, ножницами и расческой. Не машинкой. Мы как будто просто делали им мужскую стрижку. Не стригли «под ноль», создавали иллюзию, что все идет как обычно.
Зеркал не было?
Нет. Ни зеркал, ни стульев, только скамейки и шестнадцать-семнадцать парикмахеров… А их было так много! На каждую уходило минуты две, не больше: стольких еще надо было обслужить.
Можете показать? Как вы работали?
Что ж!.. Мы работали очень быстро – свое дело мы знали. Как это выглядело?.. Мы стригли здесь, здесь… здесь… и здесь… с этой стороны… с другой – и работа была закончена.
Такими размашистыми движениями?
Размашистыми, конечно, у нас ни минуты свободной не было: за дверью уже ждала новая группа женщин, которым предстояло пройти ту же процедуру.
Значит, парикмахеров было всего шестнадцать?
Да.
Сколько женщин вы обслуживали за один прием?
За один прием… около… шестидесяти или семидесяти.
После этого двери газовой камеры закрывались?
Нет. Когда заканчивали с первой группой, входила вторая: в общей сложности набиралось сто сорок или сто пятьдесят человек. Немцы сразу же приступали к делу. Они приказывали нам ненадолго уйти из камеры – ну, скажем, минут на пять: тогда они пускали газ и умерщвляли этих женщин.
Где вы были в это время?
За дверями газовой камеры. А с другой стороны… ну, они входили с этой стороны… а с другой дежурили члены зондеркоманды, которые вытаскивали из камеры уже мертвых людей, хотя не все успевали умереть. И уже через две минуты… нет, пожалуй, даже раньше – через минуту… все было вынесено и вычищено до блеска: новая партия заключенных могла войти в камеру, где их постигала та же участь.
У женщин были длинные волосы?
Мы не смотрели, длинные они или короткие: мы должны были делать свою работу. Немцам нужны были волосы для каких-то своих целей.
Я вас спрашивал: «Что вы испытали, когда в первый раз увидели, как они голыми входят в камеру вместе с детьми, что вы почувствовали?» Но вы мне не ответили.
Знаете, какие там чувства… Там было очень трудно вообще что-то чувствовать: представьте, каково это – день и ночь работать среди мертвецов, среди трупов. Чувства атрофируются, человек становится бесчувственным, глухим ко всему на свете.
Хочу вам кое-что рассказать: в тот период, когда я работал парикмахером в газовой камере, прибыл поезд с женщинами из моего родного города, из Ченстоховы. Многих из них я знал.
Вы их знали?
Да, я знал их, мы жили в одном городе. На одной улице. С некоторыми из них я близко дружил. И вот когда они меня увидели, то буквально вцепились в меня: «Аби, что ты тут делаешь? Что с нами будет?» Что я мог им сказать? Что я мог им сказать? Со мной рядом работал мой друг, он тоже был моим земляком и хорошим парикмахером. Когда его жена и сестра вошли в газовую камеру…
Продолжайте, Аби. Вы должны. Это необходимо.
Слишком страшно…
Прошу вас. Мы должны это сделать. Вы сами это знаете.
Я не смогу.
Нужно. Я знаю, насколько это трудно, знаю. Простите.
Не продолжайте это…
Прошу вас. Не останавливайтесь.
Я вас предупреждал: будет очень тяжело. Они складывали волосы в мешки и отправляли в Германию. Ладно. Продолжим.
Хорошо. Что сказал этот человек, когда в камеру вошли его жена и сестра?
Он пытался с ними поговорить, с одной и с другой, но как он мог им сказать, что это последние мгновения их жизни, когда у них за спиной стояли нацисты, эсэсовцы, и он знал, что если скажет хоть слово, то разделит судьбу этих двух женщин, обреченных на смерть? Однако он делал для них все, что мог: не отпускал их от себя лишнюю секунду, минуту, обнимал их, целовал. Ведь он знал, что никогда больше их не увидит.
Франц Зухомель
В «кишке» женщины должны были ждать своей очереди. Они слышали рев моторов со стороны газовых камер. Возможно, они слышали также крики и мольбы заключенных.
Тогда ими овладевал смертный ужас. А человек, объятый смертным ужасом, не может сдерживаться, у него опорожняется или желудок, или мочевой пузырь… Поэтому там, где они ждали, впоследствии нередко находили экскременты в пять или шесть рядов.
И они вот так, стоя…
Нет, нет, они могли сесть на корточки, хотя могли и стоя… В общем, я не видел сам процесс, я видел только экскременты.
Ждали только женщины?
Да. С мужчинами все было иначе. Их гнали по «кишке» бегом. Женщины оставались там, пока не освобождалась газовая камера.
А мужчины?
Нет. Их гнали вперед. Кнутом.
Ах да.
Понимаете?
Они всегда заходили туда первыми?
Мужчины всегда заходили в камеры первыми.
Они не ждали?
Им не давали времени ждать. Нет, нет. Нет.
А смертный ужас?
Смертный ужас заставляет человека непроизвольно испражниться. Это широко известный факт… с человеком, если он знает, что скоро умрет, такое может произойти даже в кровати. Я видел, как моя мать опустилась на колени перед кроватью…
Ваша мать?
Да, моя мать… И возле нее образовалась большая куча… Вот. Ведь это установленный медициной факт, не так ли? Раз уж вы хотите знать правду: с момента приезда или даже с момента отправки – из Варшавы и других мест – людей постоянно били.
Били сильно – сильнее, чем в Треблинке, я вам ручаюсь. Потом – транспортировка в поезде: всю дорогу – на ногах, никакой гигиены, ни воды, ничего, кошмар. Потом открывались двери и начиналось!
Bremze, bremze, bremze.
Shipshe, shipshe, shipshe… –
не могу выговорить с моим протезом. Bremze, shipshe[4] – это по-польски…
Что означает «bremze»?
Это украинское выражение, означающее «Живее! Живее!». Снова гонка. Град ударов кнутом. У эсэсовца Кюттнера был кнут величиной с него самого, не меньше! Женщины налево! Мужчины направо! Удары снова и снова!
Людей гнали без передышки?
Без передышки. Туда! Сюда! Shipshe, shipshe! Представляете?
Бегом!
Всегда бегом, всегда.
Беготня, крики!
Да, так их «приканчивали»…
Это делалось целенаправленно?
Целенаправленно. Не забывайте: все должно было пройти быстро! В задачу «синей» команды входило также вести стариков и больных в «госпиталь». Ведь старики и больные затормозили бы ход операций в газовых камерах. Со стариками они продолжались бы значительно дольше. Немцы сами решали, кого и когда отправить в «госпиталь»: евреи из «синей» команды были лишь орудием казни – они просто вели людей в «госпиталь» или доставляли туда на носилках. В госпиталь посылали старух, больных детей, детей, у которых болела мать или была слишком старая бабушка: ребенка оставляли с бабкой, все равно она ничего не знала. «Госпиталь»!
У входа висело белое полотнище с красным крестом. К входу вел коридор. До самого конца они ничего не подозревали. Потом… они видели ров с мертвыми телами.
Да.
Тогда им приказывали раздеться и сесть на насыпь, после чего убивали пулей в затылок. Они падали в ров. Там ни на минуту не затухал огонь – бумага, отходы и бензин не давали ему погаснуть, да и само человеческое тело тоже очень неплохо горит.
Рихард Глацар
«Госпиталь» представлял собой узкий клочок земли, почти вплотную примыкающий к рампе. Туда отводили стариков. Мне и самому порой приходилось это делать. Лагерный «госпиталь», место казни заключенных, был открытым помещением без крыши, но при этом тщательно замаскированным, чтобы никто не мог увидеть, что происходит внутри. К нему вел узкий проход, очень короткий и напоминавший Schlauch – кишку. Настоящий лабиринт, хотя и в миниатюре. В самом центре «госпиталя» был вырыт ров. Слева от входа, около сарая, немцы соорудили что-то вроде помоста. Или трамплина. Люди должны были вставать на «трамплин», а если у них не было сил стоять – садиться на него… после чего, как говорили у нас в Треблинке, унтершарфюрер Мьете «давал каждому по пилюле». То есть пускал пулю в затылок. В дни наибольшей «активности» лагеря это происходило ежедневно. Ров, который имел три с половиной – четыре метра в глубину, был переполнен трупами. Иногда случалось, что по какой-то причине дети прибывали в лагерь одни, разлученные с родителями, – почему, не знаю. Этих детей тоже вели в «госпиталь» и убивали. «Госпиталь» и для нас, рабов Треблинки, был последним пристанищем. Не газовая камера. Мы оканчивали наши дни в «госпитале».
Рудольф Врба
Всегда находились люди, которые по прибытии поезда не выходили из вагонов: одни умирали в пути, другие были настолько больны, что никакие побои не могли заставить их сдвинуться с места.
И вот они оставались в вагонах. Нашей главной задачей было подняться в вагон, вытащить мертвых и умирающих и доставить на место, причем laufschritt, как говорили эсэсовцы, то есть бегом.
Да, laufschritt;
все надо было делать бегом…
…Immer laufen…
…Immer laufen – нас все время заставляли бегать… Немцы такие спортсмены, знаете… очень спортивная нация!
Мы должны были вытаскивать трупы из вагонов и почти бегом перетаскивать их к грузовику, который ждал у края рампы. Там всегда стояло наготове несколько грузовых машин: пять или шесть, иногда больше, когда как… Первая из них предназначалась для мертвых и умирающих. Немцы не очень-то старались определить, кто действительно умер, а кто просто притворяется. Понимаете, попадались и симулянты… Мы забрасывали трупы в грузовики. После этого машины трогались с места: первым шел грузовик с мертвецами, направляясь прямо в крематорий, который находился приблизительно в двух километрах от рампы.
В двух километрах? В то время? Это было еще до строительства новой рампы?
Да, до строительства новой. Это была старая рампа. Именно через нее прошли первые жертвы – миллион семьсот пятьдесят тысяч евреев. Через эту старую рампу. То есть большинство. Новая рампа была построена лишь потому, что планировалась «блиц-операция»: уничтожение миллиона венгерских евреев. Механизм уничтожения основывался на следующем принципе: люди не должны знать ни куда они прибыли, ни что их ждет.
Они должны без паники, очень организованно отправляться прямым путем в газовые камеры. Особенно опасным было бы распространение паники среди женщин с маленькими детьми. Поэтому нацисты следили, чтобы никто из нас не произнес лишнего слова, способного посеять панику, – следили до последнего момента. Всякого, кто пытался вступить в контакт с новоприбывшими, или избивали до смерти, или отводили за вагоны и расстреливали. Если бы возникла паника, бойню пришлось бы устраивать прямо на месте, на платформе, а это грозило затормозить работу всего механизма!
Очередной состав нельзя пускать на станцию, пока там лежат трупы и кровь повсюду! Ведь от такого зрелища паника только увеличится. У нацистов было незыблемое правило: все должно пройти гладко, без сучка и задоринки. Поэтому времени зря они не теряли.
Филип Мюллер, член зондеркоманды, переживший пять ее ликвидаций
Перед каждой «обработкой» людей газом эсэсовцы принимали усиленные меры предосторожности. Крематорий окружали кордоном СС; другие эсэсовцы занимали двор с собаками и пулеметами наготове. Справа от входа начиналась лестница, ведущая в подземную раздевалку. В Биркенау было четыре крематория: II, III, IV и V.
Крематории II и III были идентичными. Во втором и третьем крематориях раздевалка и газовая камера находились под землей. Большая раздевалка, площадью около 280 квадратных метров, и большая газовая камера, где можно было убить газом до трех тысяч человек за один прием. IV и V крематории были другого типа: они не имели подземной части, все постройки были надземными. В IV и V крематориях размещались три газовые камеры: их производственная мощность была рассчитана на умерщвление максимум 1800–2000 человек. При приближении к крематорию люди видели все… эти ужасные приготовления, войска СС по периметру здания, лающих собак, пулеметы. Люди начинали догадываться, особенно польские евреи. Кое-кого, вероятно, начинали посещать мрачные предчувствия. Но никому из них даже в страшном сне не могло присниться, что через три-четыре часа от него останется лишь горстка пепла. Когда они попадали в раздевалку, им казалось, что они очутились в каком-нибудь международном информационном центре! К стенам прибиты крючки для одежды, каждый со своим номером.
На полу стоят деревянные скамейки, чтобы люди могли «раздеться с комфортом», как говорили немцы. На многочисленных опорных столбах раздевалки развешены плакаты с надписями на всех языках мира: «Будь чистым!», «Вши – твоя смерть!», «Умывайся!», «Вперед! На дезинфекцию!». Все эти плакаты имели своей целью обманом заставить людей раздеться перед входом в камеру. Слева, перпендикулярно входу, – сама газовая камера, оснащенная массивной дверью. В крематориях II и III так называемые эсэсовцы-дезинфекторы распыляли кристаллы циклона через отверстия в потолке, а в крематориях IV и V – через отверстия в стенах. Пяти-шести ящиков циклона хватало, чтобы умертвить две тысячи человек. «Дезинфекторы» приезжали на грузовике с изображением красного креста, сопровождая колонны людей, чтобы те поверили, будто их ведут в баню. Но на самом деле красный крест был не более чем ширмой: в грузовике лежали ящики с циклоном и молотки, которыми их вскрывали. Смерть наступала от отравления газом через десять-пятнадцать минут. Самым страшным моментом было открытие газовых камер. Зрелище просто невыносимое: тела, спрессованные в единую массу, как базальт, как глыбы камня. И вот они вываливаются из дверей камеры! Я видел это несколько раз. И это было тяжелее всего перенести. К такому не привыкнешь никогда. Это невозможно.
Невозможно.
Да. И надо иметь в виду, что, когда газ начинал действовать, он распространялся снизу вверх. И в чудовищной битве, которая разыгрывалась после этого, – а это была настоящая битва – свет в камере выключался, наступала кромешная тьма, и самые сильные лезли вверх по головам других.
Вероятно, они чувствовали, что чем выше они поднимаются, тем больше становится воздуха, тем легче дышать. Начиналось настоящее сражение. И одновременно почти все устремлялись к дверям. Срабатывал психологический фактор, дверь была рядом… они кидались к ней, как будто надеялись ее взломать! В этой смертельной битве человеком двигал слепой инстинкт. Вот почему дети, а также самые слабые и старые из взрослых оказывались внизу, под грудой тел. А самые сильные – наверху. В этой смертной битве ребенок мог оказаться погребенным под телом собственного отца.
А когда открывали дверь камеры?
Тела вываливались наружу… вываливались как каменные глыбы… как груда камней из кузова грузовика. Там, где рассыпали циклон, людей не было. Рядом с кристаллами – ни души. Да. Пустое пространство. Вероятно, жертвы чувствовали, что в этих местах сильнее всего действие газа. На телах… виднелись раны, поскольку в темноте начиналась свалка, люди толкались, дрались. Грязь, нечистоты, кровоподтеки – кровь сочилась из ушей, из носа. Уже не раз отмечали, что тела, лежащие на полу, были из-за страшной давки деформированы до неузнаваемости… у детей проломлены черепа…
Да.
Что?
Ужасно.
Да. Рвота, кровь. Из ушей, из носа… Также, может быть, менструальная кровь – да, почти наверняка! Все смешалось в этой битве за жизнь… смертельной битве. Страшное зрелище. Ху же не придумаешь. Не было смысла говорить правду тем, кто переступал порог крематория. Все равно уже никого не спасешь. Слишком поздно. Помню, в 1943-м – я тогда работал в крематории V – прибыл состав из Белостока. И один из членов зондеркоманды в раздевалке узнал в какой-то женщине жену друга. Он сказал ей без обиняков: «Они вас убьют. Через три часа от вас останется горстка пепла». Женщина поверила, поскольку его знала. Она побежала к другим женщинам и сообщила им: «Нас всех собираются убить! Нас отравят газом!» Матери с детьми на руках не хотели этого слышать. Они решили, что та женщина сошла с ума. Они оттолкнули ее. Тогда она пошла к мужчинам. Но тоже впустую. Не то чтобы они ей не верили – слухи о казнях доходили до Белостока, до Гродненского гетто и до других мест… Но никто не хотел это слышать! И когда женщина увидела, что никто ее не слушает, она расцарапала себе все лицо – от отчаянья. Находясь в состоянии шока. И она запричитала. И чем же это закончилось? Всех отправили в газовую камеру, а эту женщину задержали. Нас построили перед печами. Сначала они пытали ее, страшно пытали, потому что она не хотела выдать его имя. В конце концов она все-таки назвала того, кто все ей рассказал. Его вывели из строя и бросили живым в печь. Нам же сказали так: «Любой, кто будет болтать языком, закончит, как он!» Мы часто совещались между собой, между членами нашей зондеркоманды: как сказать людям правду? Как сообщить им?.. Но опыт – ведь этот случай был не единственным, подобное происходило несколько раз – показывал, что это бесполезно. Что это сделает последние мгновения людей еще более трудными. «Если уж на то пошло, – думали мы, – с польскими евреями или с бывшими узниками Терезиенштадта (чешского „семейного“ лагеря), которые уже шесть месяцев живут в Биркенау, еще имеет смысл о чем-то говорить».
Но с другими… представьте себе евреев из Греции, Венгрии, с Корфу, которые провели десять или двенадцать дней в пути без еды и воды, умирая от жажды! В лагерь они прибывали в состоянии легкого помешательства. С ними немцы обращались по-другому. Им говорили: «Раздевайтесь, сейчас вам принесут чай». И эти евреи находились в таком состоянии, были настолько измотаны бесконечной дорогой, что все их мысли, все мысли крутились вокруг одного и того же: как бы утолить жажду. И палачи хорошо это знали. Я бы назвал это заранее спланированным и рассчитанным процессом уничтожения: их доводили до такого состояния, не давая пить, чтобы они сами бежали в газовые камеры. На самом деле эти люди фактически были уничтожены еще до того, как заходили туда. Представьте себе детей. Они молили матерей, кричали: «Мама, ради Бога, воды, воды!» Да и взрослые, не пившие несколько дней, не могли думать ни о чем другом. Говорить с ними не имело никакого смысла.
Корфу.
Бывший узник Освенцима
Это мои племянники, они сгорели в печах Биркенау. Сыновья моего брата. Их отвели в крематорий вместе с их матерью. Все трое сгорели в печах Биркенау. Мой брат был болен, поэтому его бросили в печь крематория и сожгли там, в Биркенау.
Моше Мордо
Моему старшему было семнадцать лет, другому – пятнадцать. Еще двое детей были убиты вместе с их мамой, да, всего четыре ребенка.
И ваш отец тоже?
Да, папа тоже.
Сколько лет было вашему отцу?
Папе было восемьдесят пять, он был уже старый.
Он погиб в Освенциме?
Да, в Освенциме, прожил восемьдесят пять лет и умер в Биркенау.
Ему пришлось проделать все путешествие отсюда до Освенцима?
Да, погибла вся семья. Сначала газ, потом – крематорий.
Армандо Аарон, председатель еврейской общины Корфу
9 июня 1944 года, в пятницу утром, все члены еврейской общины Корфу, с трудом сдерживая страх, пришли сюда и предстали перед немцами.
Площадь кишела войсками СС и полицейскими, мы двинулись дальше. С нами шли даже братья Реканати, афинские евреи, предатели, которые после войны были приговорены к пожизненному заключению.
Но сейчас они уже на свободе. Мы двинулись дальше; нам дали приказ идти вперед, вот мы и шли…
Вы шли по этой улице?
Да, по этой.
Сколько вас было?
Приблизительно тысяча шестьсот пятьдесят человек.
Но это же целое шествие?
Да, целое шествие, целое шествие. Христиане стояли вон там. Да, христиане; они смотрели.
Где они были? На углу улицы?
Да. И на балконах. И когда мы собрались здесь, сзади подошли гестаповцы с пулеметами.
В котором часу это было?
В шесть часов утра.
День был ясный?
День ясный. Да. В шесть часов утра.
Тысяча шестьсот пятьдесят человек – это ведь целая толпа…
Тут собрались все. Христиане прослышали, что здесь собрали евреев. И тоже пришли сюда.
Зачем?
Для них это было бесплатное кино. Надеюсь, что такое никогда больше не повторится.
Чувствовали ли вы страх?
Мы были очень напуганы. Когда видишь такое… Собрали всех: молодежь, пациентов больниц, маленьких детей, стариков, душевнобольных и т. д. Когда мы увидели, что они пригнали сюда даже сумасшедших, что они забрали пациентов из больниц, мы очень испугались и подумали, что опасность нависла над всей общиной.
Что именно вам сказали?
Что мы должны собраться перед этой крепостью, откуда нас отправят на работы в Германию. То есть в Польшу, отправят в Польшу. Немцы обклеили все стены в Корфу объявлениями, которые были обращены к евреям: вы должны собраться в указанном месте. И что, когда мы соберемся и уедем, без нас жизнь в Греции станет намного лучше. Бумага была подписана префектами, полицейскими начальниками и мэрами.
Слова о том, что без евреев станет лучше жить?
Да. Мы сами видели, когда сюда вернулись, правда?
На Корфу есть антисемитизм? Всегда ли он существовал?
Он существовал, да, он существовал, но в предвоенные годы был не таким уж сильным.
Почему?
Потому что тогда люди не думали о евреях плохо.
А сегодня?
Сегодня его нет, мы свободны.
Какие сегодня у вас отношения с христианами?
Хорошие. Очень хорошие.
Что говорит месье?
Он спрашивает, о чем вы меня спрашиваете. Он тоже говорит, что они хорошие, отношения с христианами.
Все евреи были вынуждены жить в гетто?
Да, большая часть.
Что произошло после депортации евреев?
У нас забрали всю собственность, у нас забрали все золото, какое у нас было с собой, у нас забрали ключи от наших домов и все там разграбили.
Кто грабил?
По закону все переходило греческому государству. Но греческому государству досталась лишь небольшая часть; все остальное было разграблено, захвачено.
Кем захвачено?
Всеми, в том числе немцами.
Из той тысячи семисот человек, которых депортировали…
…Выжило сто двадцать два человека. 95 % погибло.
Поездка из Корфу в Освенцим была долгой?
Нас задержали здесь 9 июня, а на место мы прибыли 29-го. И в тот же день ночью почти всех сожгли в печах.
Ваше путешествие длилось с 9 по 29 июня?
Первые пять дней мы оставались здесь. В этой крепости. Никто не пытался бежать, не желал бросать отца, мать, братьев. У нас была солидарность – и религиозная, и семейная. 11 июня отбыла первая партия. Я был отправлен со второй партией 15 июня.
На каких судах вас перевозили?
Они назывались zattera – их сколачивали из досок и бочек. Нас тянул на буксире небольшой корабль с немцами на борту. Нашу посудину охраняли всего лишь один-два, может быть, три немца, то есть жалкая кучка людей, но страх, как вы понимаете, был эффективнее любого охранника.
В каких условиях проходила ваша поездка?
В ужасных условиях. Ужасных. Без еды, без воды, по девяносто человек в вагонах для скота, рассчитанных на двадцать голов; всю дорогу на ногах – многие умирали в пути. Мертвецов просто перекладывали в другой вагон, присыпав хлоркой. Всех, даже мертвых, потом сожгли в Освенциме.
Вальтер Штир, бывший член нацистской партии, бывший начальник 33-й канцелярии Райхсбана (железных дорог Рейха)
Вы сами не видели ни одного поезда?
Нет, никогда. Никогда. Мы были завалены работой, я не выходил из своей конторы. Мы работали днем и ночью.
Gedob. Gedob расшифровывается как…
«Главное управление восточных железных дорог». В январе 1940 года меня прикомандировали к краковскому отделению «Гедоба». В середине 1943-го я был переведен в Варшаву. Меня назначили начальником департамента по планированию железнодорожных маршрутов. Вернее, начальником отдела по планированию железнодорожных маршрутов.
Но ваша деятельность после 1943 года оставалась прежней?
Да. С единственной разницей, что меня сделали начальником.
Каковы были ваши обязанности в восточном отделении «Гедоба» во время войны?
Работа была практически такой же, как в Германии. Составление расписаний, координация движения «специальных» поездов с обычными поездами.
За них отвечали разные канцелярии?
Да. Тридцать третья канцелярия занималась «специальными поездами» и… обычными поездами. Все «специальные поезда» были в ведении тридцать третьей канцелярии.
Вы лично всегда имели дело со «спецпоездами»?
Да.
Чем специальный поезд отличается от обычного?
На обычный поезд может сесть любой, достаточно купить билет. Специальный поезд нужно специально заказывать – состав формируется только по заказу – и пассажиры платят по групповому тарифу.
И они сохранились до наших дней?
Разумеется. Точно так же, как раньше. Да.
Для «групповых» туристических поездок используются спецсоставы?
Да. Например, когда рабочие-иммигранты едут к себе на родину на праздники, их вниманию предлагаются спецсоставы. Без этого было бы невозможно регулировать движение поездов.
Вы говорили мне, что после войны занимались составлением расписаний официальных поездок?
Да, после войны.
Когда в Германию по железной дороге прибывает монарх иностранной державы, он едет в специальном поезде?
Да, в специальном. Но процедура не такая, как в случае со спецпоездами для «групповых» и прочих рейсов. Государственные визиты находятся в ведении министерства иностранных дел.
Но почему во время войны специальных поездов было больше, чем до ее начала или после ее окончания?
А! Понимаю, куда вы клоните. Вы намекаете на «составы с перемещенными лицами», не так ли?
Да, да, я спрашиваю о «перемещенных лицах».
Так их называли. Эти поезда находились в ведении министерства транспорта Третьего рейха. Заказ поступал из министерства транспорта Третьего рейха.
То есть из Берлина?
Да, из Берлина. А практическим исполнением заказа занималось Главное управление восточных железных дорог в Берлине.
Да, да. Понимаю.
Достаточно ли ясно я описал ситуацию?
Да, вполне. Но кого главным образом «перемещали» в ту эпоху?
Ну, этого мы не знали. Только после бегства из Варшавы мы узнали правду: «перемещали» евреев, уголовников и других…
Евреев, уголовников…
Да, разного рода уголовников.
«Специальные поезда» для уголовников?
Да нет, это просто эзопов язык. Ведь о таких вещах говорить запрещали. Если тебе дорогá собственная жизнь, держи рот на замке!
Но знали ли вы тогда, что эти составы, направляющиеся в Треблинку или Освенцим…
Ну разумеется, знали! Моя канцелярия была последней инстанцией: без меня эти поезда не могли бы достигнуть цели. Например, если из Эссена отправляли поезд, он должен был проехать через Вупперталь, Ганновер, Магдебург, Берлин, Франкфурт-на-Одере, Познань, Варшаву и т. д. И я…
Знали ли вы, что Треблинка – место массового уничтожения евреев?
Разумеется, нет!
Вы не знали?
Великий Боже, нет! Откуда мы могли бы об этом узнать? Я никогда и близко не подходил к Треблинке. Я оставался в Кракове и Варшаве, по горло увязнув в работе.
Вы были…
Я был простым чиновником.
Понимаю. Но удивительно, что вы, возглавляя департамент специальных поездов, ничего не знали об «окончательном решении еврейского вопроса».
Шла война…
Но на железной дороге были и другие, кто знал. Например, начальники поездов…
Они да, они видели, видели, но для меня то, что происходило…
Чем была для вас Треблинка? Освенцим?
Да, да. Треблинка, Белжец и т. д. были для нас названиями концентрационных лагерей.
Конечными пунктами поездов…
Да, и ничем иным.
Но не лагерем смерти.
Нет, нет. Временным пристанищем. Например, прибывает поезд из Эссена, или из Кельна, или из какого-либо другого города; нужно где-то разместить пассажиров. Идет война, союзники подступают все ближе… и нам нужно разместить этих людей в лагере.
Когда именно вы узнали?
Ну… когда пошли слухи… разговоры… конечно, втихомолку, не открыто. Иначе бы за вами тут же пришли!.. Это были просто отголоски разговоров…
Слухи?
Да, слухи…
Во время войны?
Ближе к концу войны.
А в 1942-м?
Нет, нет. Что вы, нет! Никакого намека! Мы что-то услышали, кажется, только в конце 1944-го…
В конце 1944-го?
Не раньше.
И что вы…
Рассказывали, что людей отправляют в концентрационные лагеря и что те, кто не очень развит физически, не выживают.
Массовое уничтожение оказалось для вас неожиданностью?
Да, полной неожиданностью.
Вы не имели представления о происходящем?
Ни малейшего! О том, например, что творилось в этом лагере… как же его… он еще входил в округ Оппельн… а, вспомнил: Освенцим!
Да. Освенцим входил в округ Оппельн.
Да, Оппельн. Освенцим был недалеко от Кракова.
Верно.
Однако я никогда и ничего о нем не слышал.
От Освенцима до Кракова всего шестьдесят километров.
Да, действительно совсем близко! А мы ничего не знали. Абсолютно!
Но ведь вам, наверное, было известно, что нацисты и Гитлер не любят евреев?
Да. Это был давно известный, растиражированный факт. Никто не делал из этого тайны. Но то, что их массово убивали, стало для меня полной неожиданностью! Даже сегодня есть сомневающиеся. «Невозможно поверить, что было так много жертв!» Правы ли они? Не знаю, но такое мнение существует.
Что бы ни говорили, это настоящее свинство, простите за выражение!
Что именно?
Массовое уничтожение. Все его осудили. Все честные люди! Но чтобы мы об этом знали… нет, нет!
Да, но, например, поляки – польское население – знали все.
Ничего удивительного, доктор Зорель[5]… Они жили рядом с лагерями, прислушивались, переговаривались… И они не обязаны были держать язык за зубами!
Рауль Хильберг
Вот «расписание» маршрута № 587, типичное расписание для специальных поездов. Номер дает представление об их количестве.
Внизу надпись: «Nur für den Dienstgebrauch» («Только для внутреннего пользования») – не самый высокий уровень секретности. Тот факт, что на документах, касающихся «поездов смерти», – ни на этом, ни на других, – нет слова geheim («секретно»), кажется мне удивительным. Но если подумать, термин «секретно» мог бы возбудить любопытство, вызвать лишние вопросы, привлечь к себе внимание. А ведь в основе всей операции, если говорить о ее психологической стороне, лежал иной принцип: не распространяться о том, что происходит. Поменьше говорить. Делать дело. Не описывать, что именно они делают. Отсюда это указание: «Только для внутреннего пользования». Обратите внимание, сколько у документа получателей. Буквами Bfe обозначены станции. На этой линии у нас их… восемь, предпоследняя – Малкиня, сразу за ней – Треблинка. Таким образом, у документа было восемь получателей, несмотря на сравнительно короткий маршрут – Ченстохова – Радом – Варшавский округ: восемь получателей было потому, что состав проходил через восемь станций и на каждой приходилось оповещать местное начальство. И зачем расходовать на документ два листа, если можно обойтись одним? Мы видим аббревиатуру PKR, которая обозначает «поезд смерти», едущий к месту назначения, и в то же время пустой состав, сделавший остановку в Треблинке и возвращающийся обратно. То, что он пуст, видно по стоящей здесь букве L (leer – «пустой»).
Да. «Ruckleitung des Leerzuges», что означает «возвращение пустого поезда».
Обратите внимание на то, сколь стандартна их система нумерации: за 9228 идет 9229, потом 9230, 9231, 9232. Никакой оригинальности, самый обычный график поездов.
График смерти?
График смерти. Вот поезд выезжает из гетто, которое собрались ликвидировать, и направляется в Треблинку. Он отходит 30 сентября 1942-го в 4:18 утра – во всяком случае, так указано в расписании, – и прибывает в Треблинку следующим утром, в 1 1: 2 4. Состав очень длинный, поэтому он и двигается так медленно. Это поезд типа 50G, то есть пятьдесят грузовых вагонов, до отказа забитых людьми; в общем, «тяжелый» транспорт. Время прибытия – 11: 2 4 утра, время отправки – 15:59. За этот промежуток времени поезд нужно разгрузить, очистить и подготовить к отправке обратно. Пустой поезд продолжает путь с тем же номером. Он отходит в четыре часа дня, направляясь к очередному городу, где забирает новых жертв. В три часа ночи он вновь берет курс на Треблинку, которой достигает на следующий день.
Можно ли считать, что речь идет о том же поезде?
Поезд тот же, да, тот же, только номер каждый раз меняется. Вот он возвращается в Треблинку. Еще один дальний рейс. Поезд прибывает, идет по третьему кругу. Та же ситуация, тот же маршрут. Состав снова направляется в Треблинку и наконец 29 сентября прибывает в Ченстохову. Круг замыкается. Это и называется «расписанием маршрута». И если вы посчитаете поезда с людьми… окажется, что до десяти тысяч евреев были доставлены в лагеря смерти за одну эту «поездку».
Больше десяти тысяч!
Не будем преувеличивать.
Но почему этот документ так впечатляет? Я был в Треблинке, и когда сопоставляешь увиденное с таким документом…
Когда я беру подобный документ особенно если это оригинал, я сознаю, что кто-нибудь из числа нацистской бюрократии держал его в своих руках. Это артефакт. Единственное, что сохранилось от того времени. Мертвые нам ничего не расскажут. Райхсбан готов был переправить кого угодно и куда угодно, были бы деньги. В том числе доставить евреев в Треблинку, Освенцим, Собибор и другие места при условии, что им оплатят их транспортировку по действующим ценам: сколько-то пфеннигов за каждый километр пути.
Система не менялась в течение всей войны: за детей моложе десяти лет платили половину стоимости билета, для детей младше четырех билеты были бесплатные. Взрослым покупали билет в один конец. Лишь охранникам в стоимость билета включали обратную дорогу.
Простите, получается, что детей моложе четырех лет, отправленных в лагеря смерти, убивали безо всяких издержек?
Да, им обеспечивали бесплатный проезд. Кроме того, поскольку плательщик – отдел гестапо, подчинявшийся Эйхману, – сам выступал в роли заказчика поездов и поскольку у него вечно были проблемы с наличностью, Райхсбан согласился на «групповой» тариф. Евреев, таким образом, перевозили по льготному тарифу. Последний предусматривает наличие по меньшей мере четырехсот пассажиров; его еще называют чартерным тарифом. Но в данном случае он действовал, даже если «пассажиров» было меньше четырехсот; взрослых, как и детей, перевозили за полцены.
Далее. Если обнаруживалось, что вагоны испачканы или повреждены – а это происходило нередко, вследствие протяженности маршрутов, а также высокой смертности среди «пассажиров» (от 5 до 10 %), – агентство выставляло дополнительный счет. Но в принципе, если нацисты платили, они получали транспорт. Иногда Райхсбан перевозил заключенных в кредит, а оплата осуществлялась задним числом. Понимаете, всем этим – и групповыми, и индивидуальными перевозками – ведала обычная транспортная компания, «Центральноевропейское трансагентство». Именно оно занималось расчетами, билетами…
Неужели обычное агентство?
Конечно, совершенно обычное трансагентство! Одних оно отправляло на смерть в газовые камеры, других – на отдых на любимые курорты. Та же организация, та же процедура, та же система расчетов.
Никакой разницы!
Никакой разницы. Каждый занимался своим делом, как будто ничего странного не происходило.
Но ведь происходило же!
Конечно. Причем они не забывали выполнять все необходимые финансовые операции на межгосударственных границах, которые нередко приходилось пересекать.
Например?
Ну, любопытнее всего история с греческими составами, отправленными в лагеря из Салоник весной 1943 года: жертв – сорок шесть тысяч человек, дорога неблизкая. Несмотря на то что расчет велся по групповому тарифу, сумма доходила до двух миллионов марок. Огромные деньги! В основе таких операций лежал принцип, и сейчас действующий во всем мире. То есть с Райхсбаном расплачивались немецкими марками, но железнодорожным компаниям других стран, через которые поезда шли в лагеря, расходы возмещались в их национальной валюте.
Отправляясь из Салоник, они должны были ехать по греческой территории… Значит, надо было расплачиваться драхмами.
Да, потом они пересекали Сербию и Хорватию и оказывались в Германии, где Райхсбан требовал у них марки. По иронии судьбы у военного коменданта Салоник, ответственного за операцию, не было марок. Но у него были драхмы. Деньги поступали от реализации конфискованного у евреев имущества. Его пускали в продажу именно с этой целью: обеспечить «самоокупаемость» операции. Эсэсовцы и солдаты реквизировали у евреев имущество и расплачивались за их транспортировку деньгами с их банковских счетов.
Выходит, евреи сами оплачивали свою смерть?
Именно так. Не забывайте: в бюджете не было статьи на уничтожение евреев. Итак, деньги у евреев конфискованы, но на их счетах лежат греческие драхмы. А Райхсбан требует марок! Как обменять драхмы на марки? Вы контролируете валютно-обменные операции по всей Европе. Решение проблемы: найти марки на месте, в самой Греции. Но как? Во время войны это было не так просто. И вот в первый раз произошел сбой: поезда отправились в Освенцим бесплатно.
* * *
Филип Мюллер
Жизнь зондеркоманды зависела от спецсоставов с несчастными, обреченными на смерть. Когда их было много, состав зондеркоманды «раздувался». Немцы не могли бы обойтись без команд, им было не до «отбраковки» лишних. Но когда поездов становилось меньше, это грозило нам неминуемой гибелью. Мы – те, кто работал в зондеркоманде, – знали, что отсутствие поездов для нас равносильно смерти. Зондеркоманда жила в условиях чрезвычайной ситуации. Каждый день у нас на глазах тысячи невинных исчезали в печах. Мы могли увидеть своими глазами подлинную сущность человека: в лагерь прибывали ни в чем не повинные мужчины, женщины и дети… и бесследно исчезали… а мир молчал!
Мы чувствовали себя всеми покинутыми. Миром, человечеством. Но именно в таких условиях мы полностью осознавали то, что означает возможность остаться в живых. Ведь мы могли осознать безграничную ценность человеческой жизни. И мы убедились, что надежда не умирает в человеке, пока он жив. И что он не должен, пока жив, отказываться от надежды. И поэтому мы продолжали бороться, несмотря на всю тяжесть своей жизни, – боролись изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Мы думали, что если не будем терять надежду, то, может, нам удастся, даже если все будет совсем безнадежно, спастись из этого ада.
Франц Зухомель, унтершарфюрер СС
В тот период – в январе, феврале, марте – новые поезда почти не приходили.
Без поездов было плохо?
Я бы не сказал, что евреям было плохо без них. Им стало плохо, когда они поняли… Об этом нужно говорить особо, это отдельный вопрос.
Я знаю, что это отдельный вопрос.
Евреи (я имею в виду евреев-рабочих) сначала думали, что их оставят в живых. Но в январе их перестали кормить, поскольку Вирт счел, что их слишком много – в лагере I их было человек пятьсот-шестьсот…
Вон в том месте?
Да. И чтобы они не взбунтовались, их не расстреливали и не травили газом, но морили голодом, и тогда начались эпидемии: тиф, одна из разновидностей тифа. После этого евреи уже ни во что не верили. Их морили голодом, и они мерли как мухи. Все было кончено. Они больше ни во что не верили. Напрасно мы говорили им… я… мы повторяли им каждый день: «Вы будете жить!» Мы сами почти поверили в это! Когда кого-то приходится обманывать, потом сам начинаешь верить в собственную ложь. Но они мне отвечали: «Нет, начальник, мы – живые мертвецы!»
Рихард Глацар
«Мертвый сезон», как мы его называли, начался в феврале 1943 года, после больших транспортов из Гродно и Белостока. Полный штиль. С конца января до начала марта – весь февраль – стояло затишье. Ничего. Больше не прибывали поезда, лагерь был пуст, и тут неожиданно начался голод. Голод все усиливался… пока однажды – в самый разгар кризиса – перед нами не предстал обершарфюрер СС Ку р т Франц и не бросил нам: «Так… С завтрашнего дня снова будут приходить составы!» Мы ничего не сказали, просто посмотрели друг на друга, и каждый из нас подумал: «С завтрашнего дня прекратится голод». В тот период мы уже были поглощены подготовкой восстания. Каждый мечтал дожить до него. Составы прибывали из концентрационного лагеря в Салониках. В нем собрали евреев из Болгарии, из Македонии. Это были обеспеченные люди, приехавшие в пассажирских вагонах, которые ломились от всякого добра. Тогда нас всех охватило страшное чувство, меня и моих товарищей: ощущение полного бессилия, чувство стыда. Потому что мы набросились на еду. Группа заключенных несла ящик с галетами и ящик с вареньем. Они нарочно уронили ящики и стали, делая вид, что натыкаются друг на друга, набивать себе рот галетами и вареньем. Поезда из балканских стран привели нас к осознанию страшной истины: мы – рабочие на фабрике под названием Треблинка, мы полностью зависимы от «производственного процесса», то есть от процесса уничтожения.
Это осознание пришло к вам неожиданно, после прибытия новых составов?
Возможно, оно было не таким уж неожиданным, но именно эти транспорты с Балкан помогли нам увидеть ситуацию ясно, без прикрас. Почему? Двадцать четыре тысячи человек, среди которых не видно ни больных, ни калек: все абсолютно здоровые и сильные. Помню, мы наблюдали за ними из нашего барака; они, уже раздетые, возились со своими пожитками, и Давид, Давид Брат, сказал мне: «Маккавеи! В Треблинку прибыли Маккавеи!» Да, это были крепкие, физически сильные люди, в отличие от нас…
Бойцы?
Они могли бы быть бойцами. Все это казалось нам просто невероятным, потому что никто из этих холеных мужчин и женщин даже не подозревал, что их ждет. Даже не подозревал. Никогда еще машина смерти не работала с такой точностью и быстротой. Никогда. Мы же испытывали чувство стыда и понимали, что так дальше продолжаться не может, нужно что-то делать. Причем действовать не разрозненно, а сообща.
В ноябре 1942 года у нас уже созрела мысль о восстании. Начиная с ноября 1942-го мы стали замечать, что нас пока, если можно так выразиться, берегут.
Мы увидели и узнали, что начальник лагеря Штангль решил для лучшей производительности лагеря какое-то время не трогать людей с навыками работы, специалистов в разных областях: сортировщиков одежды, переносчиков трупов, парикмахеров, которые стригли женщинам волосы, и т. д.
Именно это обстоятельство позднее дало нам возможность подготовить, организовать восстание.
В январе 1943 года у нас уже созрел план, получивший кодовое название «Час». В условленный час мы должны были атаковать эсэсовцев всюду, где в тот момент они будут находиться, захватить их оружие и взять штурмом комендатуру.
Но это не удалось осуществить, потому что начался «мертвый сезон» и разразилась эпидемия тифа.
Филип Мюллер
Осенью 1943 года, когда стало ясно, что никто нам не поможет, если только мы не поможем себе сами, главный вопрос заключался в следующем: есть ли у нас, членов зондеркоманды, возможность остановить волну массовых убийств и при этом сохранить себе жизнь? Мы решили, что выход один – вооруженное восстание. Мы придерживались мнения, что, если нам удастся захватить оружие и добиться участия в восстании всех узников лагеря, это восстание имеет шанс на успех. Участие всех заключенных было необходимым условием. Поэтому наши связные установили контакт со штабом движения Сопротивления – сначала в Биркенау, затем в Освенциме-1, – чтобы составить план всеобщего восстания. Нам ответили, что в штабе Сопротивления, штабе движения Сопротивления лагеря Освенцим-1, согласны с нашим планом и готовы к сотрудничеству. К сожалению, среди руководства движения Сопротивления почти не было евреев.
Большую их часть составляли политические заключенные, чья жизнь не подвергалась непосредственной опасности, для которых каждый новый день представлял большую надежду на выживание. Для нас, членов зондеркоманды, все было наоборот.
Рудольф Врба
Освенцим-Биркенау был не только лагерем уничтожения; он был также классическим концентрационным лагерем, который имел свой внутренний распорядок наподобие Маутхаузена, Бухенвальда, Дахау и Заксенхаузена. Но если в Маутхаузене главным продуктом рабского труда был камень, добываемый из карьеров, в Освенциме продуктом № 1 была Смерть. Все было подчинено работе крематория. Он воплощал главную цель: заключенные строили крематории, дороги, которые к ним вели, бараки, где жили они сами. Но Освенцим также был классическим концентрационным лагерем: Крупп и Сименс, например, размещали свои заводы прямо на территории лагеря и использовали труд заключенных – рабский труд.
Традиционно в концентрационных лагерях содержались политические заключенные: профсоюзных деятелей, социал-демократов, коммунистов, ветеранов гражданской войны в Испании. Парадоксальная ситуация: весь штаб движения Сопротивления в Освенциме находился в руках германо язычных антифашистов, немцев по рождению, которых нацистская верхушка считала расово чистыми. Обращались с ними лучше, чем с другими заключенными. Но, конечно, по головке не гладили! Со временем им удалось завоевать авторитет эсэсовского начальства в лагере; результатом стало систематическое улучшение условий жизни для всех заключенных концентрационного лагеря.
Если в 1942… и 1943 годах, особенно в декабре и январе, для Биркенау обычным делом была гибель четырехсот человек в день, в мае 1943-го, не столько по милости природы, сколько благодаря деятельности Сопротивления, прогресс стал столь очевидным, что смертность в лагере существенно снизилась. Для них это было большой победой. Но улучшение условий жизни в концентрационном лагере, вероятно, не шло вразрез с политикой высших чинов СС, поскольку не препятствовало основному назначению лагеря – то есть умерщвлению прибывающих туда людей. Как правило, те из них, кто был способен к труду, – здоровые люди, не старики, не подростки, не дети, не женщины с детьми – поступали в концентрационный лагерь в качестве свежей рабочей силы, чтобы заменить собой умирающих. Я был свидетелем следующей сцены: только что прибыл состав… то ли из Голландии, то ли из Бельгии точно не знаю, – и вот врач-эсэсовец стал выбирать здоровых на вид людей из числа вновь прибывших, обреченных на смерть в газовых камерах и не избежавших своей судьбы. Но эсэсовец, присланный из концентрационного лагеря, их забраковал. Они начали спорить, и я услышал, как врач говорит: «Почему ты их не берешь? Посмотри, какие эти евреи раскормленные – разжирели на голландских сырах, они просто созданы для лагеря». Его собеседник, гауптшарфюрер СС Фрис, ответил: «Я не могу их взять, потому что сейчас они мрут не так быстро, как раньше». Этим он хотел сказать следующее: если потребность лагеря в рабочей силе составляла, скажем, тридцать тысяч человек и если пять тысяч из этих тридцати умирало, их заменяли новой партией рабов, взятых из числа прибывших с еврейскими транспортами.
А если умирала всего тысяча человек, их заменяли, соответственно, одной тысячей заключенных. Зато больше народа отправлялось в газовые камеры. Таким образом, улучшение условий жизни в концентрационном лагере приводило к увеличению числа тех, кого посылали в газовые камеры.
Но уменьшало смертность среди других заключенных в лагере. Тогда я понял, что улучшение ситуации в концентрационном лагере нисколько не мешает процессу массового уничтожения жертв. По этой причине я так представлял себе задачи движения Сопротивления и его цели: улучшение условий – лишь первый этап борьбы; движение должно ясно осознавать, что его главная задача – остановить процесс массового уничтожения, фабрику смерти.
И вот настал момент собраться с силами и атаковать эсэсовцев изнутри: даже если такая попытка равносильна самоубийству, нужно разрушить машину смерти! В этом отношении я считал цель разумной и полностью оправданной. Но также я знал, что такое не сделаешь за один день, без приготовлений и благоприятных обстоятельств. Поскольку в движении Сопротивления я был лишь винтиком, то ничего не знал и не мог решать. Но мне было ясно, что любая из акций Сопротивления в концентрационном лагере вроде Освенцима не может быть такой же, как в Маутхаузене или Дахау. Ведь если в двух последних лагерях усилия Сопротивления позволяли заключенным выжить, в Освенциме эти благородные усилия вели лишь к совершенствованию и отладке механизма массового уничтожения.
Руфь Элиас (Израиль), бывшая узница Освенцима, депортированная туда из Терезиенштадта
Очередной транспорт отбыл из Терезиенштадта на восток, и на этот раз в нем были мы. Нас погрузили в вагоны для скота; это продолжалось два дня и одну ночь… Стоял декабрь [1943-го], но в вагонах было жарко, потому что мы нагрели воздух своими телами. Вечером поезд остановился на второй день пути, двери открылись и послышался громовой голос: «На выход, на выход, на выход!» Мы были ошеломлены: что происходит? Где мы? Мы видели только эсэсовцев с собаками. Вдалеке виднелся ряд огней. Но где мы? Откуда эти тысячи огней? Но мы лишь слышали крик: «На выход! На выход! На выход!»
Raus!
Да, именно, а потом: «Живее! Живее! Живее!» Мы вылезли из вагонов. Нас построили в шеренгу. Появились люди в полосатой форме. И я спросила у одного из них по-чешски: «Где мы?» Это был поляк, он понял меня и ответил: «В Освенциме!» Мне это ни о чем не говорило. Что за Освенцим? Я ничего о нем не знала… Нас отвели в лагерь, который назывался семейным лагерем BIIB: мужчин, женщин и детей согнали туда без разбору, не отделив одних от других. Подошли заключенные из мужского лагеря и сказали нам, что Освенцим – лагерь массового уничтожения, что в нем сжигают людей. Мы не поверили. В лагере BIIB уже находились наши товарищи по Терезиенш та д т у, которых увезли в сентябре, за три месяца до нас. Они тоже не верили – ведь мы воссоединились. Никто никого никуда не уводил, никто никого не сжигал, и мы не верили, что нас это ждет.
Рудольф Врба
Евреев из Терезиенштадта, гетто, расположенного под Прагой, разместили в отдельной части лагеря, которая называлась Бауабшнитт IIB (BIIB). В те дни я регистрировал заключенных из лагеря BIIA. Лагеря BIIA и BIIB разделяла лишь ограда; она была под напряжением – через такую не перелезть, но переговариваться – можно.
Утром я изучил ситуацию. В глаза бросилось несколько необычных деталей: семьи – мужчины, женщины, дети – не были разделены, никто не отправлен в газовую камеру. Им позволили взять с собой багаж, не стали стричь, разрешили оставить длинные волосы. То есть их положение сильно отличалось от условий, в которых жили другие заключенные. Я ничего не понимал, и никто не понимал. Но в главном регистрационном отделе знали, что у этих людей есть специальная карточка с надписью: «SB и шестимесячный карантин». Мы знали, что значит SB: Sonderbehandlung – «особое обращение», то есть смерть в газовой камере. И что такое карантин, мы тоже знали! Но нам казалось абсурдным держать человека в лагере в течение шести месяцев только для того, чтобы потом убить. Поэтому мы стали думать, всегда ли SB, «особое обращение», означает смерть в газовой камере? или в некоторых случаях у него есть другой смысл. Шесть месяцев должны были закончиться 7 марта. В декабре, где-то в двадцатых числах, из Терезиенштадта прибыл новый транспорт, еще одна партия из четырех тысяч заключенных, которых, как и людей с первого транспорта, отправили в лагерь BIIB. И снова их семьи не разделяли, не трогали ни стариков, ни молодежь… им не стригли волосы, не отбирали багаж, они продолжали носить гражданскую одежду. Они получили право на особое отношение. В одном из бараков создали школу, дети вскоре организовали там театр. Но их жизнь, конечно, не была безоблачной: в бараках царила теснота, и за шесть прошедших месяцев из четырех тысяч человек, прибывших с первым транспортом, одна тысяча успела умереть.
Должны ли они были работать?
Да, должны, но только в своем лагере: прокладывать новую дорогу и обустраивать бараки. Главное, эсэсовцы заставляли их писать родным, оставшимся в Терезиенштадте, и сообщать им, что семьи живут вместе и т. д.
Их кормили лучше?
Конечно, их лучше кормили, с ними лучше обращались. Да, условия были настолько хорошими, что за шесть месяцев из всех заключенных умерла «только» четверть, включая стариков и детей. Для Освенцима такая цифра казалась невероятной! Эсэсовцы любили ходить в детский театр, играть с детьми, устанавливать связи с людьми. Конечно, в мои задачи входило искать среди чешских евреев людей, не утративших волю к сопротивлению, устанавливать контакты.
Вы уже были членом Сопротивления?
Да. Мое положение позволяло мне перемещаться по лагерю под разными предлогами, как будто бы для доставки бумаг администрации, отправлять послания и получать ответы. И поскольку мой лагерь соприкасался с лагерем чехов, мне было поручено выяснить, есть ли среди них люди, способные образовать ядро сопротивления. Мы быстро нашли нескольких ветеранов международных испанских бригад, так что очень скоро у меня на руках был список человек из сорока, имеющих опыт борьбы с нацистами.
Мы обнаружили исключительную личность – человека по имени Фреди Хирш. Это был немецкий еврей, который в свое время эмигрировал в Прагу. Он проявлял исключительный интерес к воспитанию находившихся в лагере детей. Помнил каждого по имени и благодаря своей порядочности и исключительному достоинству стал своего рода духовным лидером всего семейного лагеря. Но приближалось 7 марта. И нам нужен был какой-нибудь знак, чтобы понять, что нас ждет. Мы мучились неопределенностью.
Филип Мюллер
В конце февраля я работал в ночную смену в крематории V. Около полуночи прибыл обершарфюрер СС Хус т е к из политического отдела и вручил обершарфюреру Фоссу конверт. В то время обершарфюрер Фосс ведал всеми четырьмя крематориями. Я увидел, как Фосс вскрывает конверт и начинает бормотать про себя: «Да, да, вечно им нужен Фосс. Что бы они делали без Фосса! И что теперь?» Он задавал этот вопрос себе самому. Внезапно он сказал мне: «Иди позови капо!» Я позвал капо… Шлойме и Вацека.
Они вошли, и Фосс спросил у них: «Сколько еще осталось штук?» Он имел в виду трупы. «Приблизительно пятьсот штук». «К завтрашнему дню от них должна остаться горстка пепла. Их точно пятьсот?» «Приблизительно». «Что? Ах вы, засранцы! Что значит „приблизительно“?» И он ушел, чтобы самому осмотреть трупы, которые были свалены кучей в раздевалке, поскольку в крематории V раздевалка служила также местом складирования мертвых тел.
Тех, кто побывал в газовых камерах?
Тела тех, кто побывал в газовых камерах, тащили в раздевалку. Фосс отправился туда, чтобы самому все проверить. Ушел, забыв на столе конверт. Я воспользовался случаем и заглянул в него, и то, что я там прочитал, меня потрясло. В письме говорилось, что в крематории все должно быть готово для «особого обращения» с обитателями чешского семейного лагеря. Утром, когда пришла дневная смена рабочих, я столкнулся с капо Каминским, который был одним из главных лидеров Сопротивления в зондеркоманде, и я сообщил ему новость. Он рассказал мне, что в крематории II уже идут приготовления. Что там тоже печи приведены в состояние готовности. «У тебя есть товарищи, – говорил он, – твои соотечественники[6]. Иди к ним. Среди них есть слесари, им разрешают ходить по лагерю, значит, они могут попасть в BIIB.
Пусть предупредят людей о том, какая судьба их ждет, и сообщат им, что, если они решат постоять за себя, мы вместе превратим крематорий в груду пепла. И пусть они в лагере BIIB уже сейчас поджигают свои бараки». Мы были убеждены, что следующей ночью их отправят в газовые камеры. Но не видя больше, чтобы кто-то работал в ночную смену, мы почувствовали облегчение. Исполнение казни откладывалось… на несколько дней. Но многие заключенные, и среди них чехи из семейного лагеря, обвиняли нас в том, что мы сеем панику, что мы распространяем ложные слухи.
Рудольф Врба
В конце февраля [1944 года] нацисты распространили слух: семейный лагерь будто бы переводится в местечко под названием Хайдебрек. Прежде всего они отделили первую партию прибывших от второй и в одну из ночей перевели их в карантинный лагерь BIIA, в мой лагерь. С того момента я мог напрямую общаться с этими людьми. У меня состоялся разговор с Фреди Хиршем, и я объяснил ему, что в числе причин их перевода в карантинный лагерь могло быть решение отправить их 7 марта в газовые камеры. Он спросил меня, уверен ли я в этом. Я сказал, что нет, но что вероятность этого очень велика, поскольку ничего не слышно о поезде, готовом вывезти их из Освенцима. В администрации, где у Сопротивления были свои люди, знали бы о нем. Но никаких сведений о составе нет. Я обрисовал ему уникальность ситуации: в первый раз в лагере оказались люди в сравнительно хорошей физической форме, которые еще не совсем пали духом, хотя и обречены на гибель по законам лагеря смерти. И они узнают, что их ждет. Их не получится обмануть. Пришла пора действовать! И конечно, восстание придется начинать именно им, ведь над другими тоже нависла угроза неминуемой смерти: члены зондеркоманд, работающие в крематории, периодически уничтожаются. И они готовы – если только чехи накануне отправки в камеры нападут на эсэсовцев – присоединиться к восставшим. Фреди Хирш высказал свои возражения. Он был рациональным человеком. По его мнению, было бы бессмысленно сохранять им жизнь целых шесть месяцев, давая детям молоко и белый хлеб, только для того чтобы потом отправить в газовую камеру.
На следующий день члены Сопротивления подтвердили, что готовится очередная «газация»: зондеркоманда получила уголь для печей; там точно знали, сколько человек собираются убить и кого именно… Они говорили, что это решенное дело! Я снова связался с Фреди и объяснил ему, что сомнений больше нет: весь чешский транспорт, включая и его самого, будет отправлен в камеру в ближайшие сорок восемь часов. Его стали мучить сомнения. Он все повторял: «Что же будет с детьми в случае восстания»? Он был очень привязан к ним.
Сколько было детей?
Сто.
А взрослых, способных драться?
Ядро сопротивления состояло человек из тридцати, но в такие минуты забываешь об осторожности, и тогда… кто знает… В такой час даже дряхлая старуха, бывает, берет в руки камень. Трудно предугадать, кто решится на бой! Но нужна была организация, нужен был лидер. Без этого не обойдешься. И вот он мне сказал: «Если мы поднимем восстание, что станет с детьми? Кто позаботится о них?» Я ответил: «Могу сказать одно: их не спасешь. Они все равно погибнут. Сомневаться не приходится. Тут мы ничего поделать не можем. Но кое-что от нас зависит: сколько врагов мы заберем с собой? Скольких эсэсовцев мы убьем? Удастся ли нам остановить маховик смерти? Я уж не говорю о том, что некоторым в ходе битвы удастся бежать, найти лазейку из лагеря, ведь, когда начнется восстание, оружие может перейти к нам в руки». И я объяснил Фредди: нет никаких шансов, чтобы он или кто-нибудь другой из его транспорта – насколько можно судить – выжил по истечении сорока восьми часов.
Где это происходило?
В моей комнате, в корпусе. Я сказал Фредди, что восстанию нужен лидер и что мы выбрали его. Он сказал, что понимает ситуацию, но не может решиться из-за детей: он не представляет себе, как мог бы оставить их на произвол судьбы. Он им как отец. Ему всего тридцать лет. Но с детьми его связывают очень близкие отношения. Разумеется, он понимает логику моих рассуждений, но ему нужно подумать час-другой. Могу ли я ему дать час на раздумья? В свое время мне для работы выделили отдельное помещение, поэтому я оставил Фреди в своей комнате, где стояли стол, стул, кровать, имелись письменные принадлежности. Вернувшись в комнату через час, я обнаружил его корчившегося на кровати в агонии. Лицо посинело, на губах выступила белая пена. Я понял, что он принял яд. Но он не умер. Я был знаком с доктором по фамилии Клейнман. Это был французский еврей польского происхождения, хороший специалист.
Я немедленно привел его и попросил сделать для Хирша все возможное. Ведь он был важным для нас человеком. Клейнман констатировал отравление большой дозой барбитала. Он сказал, что, возможно, сумел бы его спасти, но что тот еще не скоро встанет на ноги. А поскольку в ближайшие сорок восемь часов его все равно убьют, он, Клейман, считает предпочтительным оставить все как есть и ничего не делать. После самоубийства Фреди Хирша события стали развиваться очень быстро. Прежде всего я предупредил других, так же как раньше предупредил Хирша. Потом отправился в лагерь IID, чтобы установить контакт с лидерами Сопротивления. А они ограничились тем, что дали мне для чешских евреев немного хлеба! Немного хлеба и лука! Они мне сказали, что решение еще не принято, и просили зайти попозже… В тот момент, когда я раздавал хлеб, в лагере объявили комендантский час: административная деятельность была приостановлена, охрана удвоена, карантинный барак окружен пулеметчиками. Я потерял связь с заключенными. Тем же вечером их отправили в газовые камеры. Людей увозили на грузовиках. Они знали. Все держались очень достойно. Надежда оставалась… до самого конца. Ведь эсэсовцы снова пообещали доставить их в Хайдебрек. Чтобы выехать из лагеря, надо было повернуть направо; но если они свернут налево, это может означать лишь одно: через пятьсот метров их ждет крематорий.
Филип Мюллер
В ту ночь я работал в крематории II. Не успели люди вылезти из грузовиков, как им в лицо направили прожекторы и погнали по коридору к лестнице, которая вела в раздевалку. Их гнали бегом, ослепленных светом. По дороге били. Тех, кто бежал недостаточно быстро, эсэсовцы забивали до смерти. По отношению к ним была проявлена неслыханная жестокость. Причем совершенно неожиданно…
Без всяких объяснений, не сказав и слова…
Никаких объяснений, ничего. Стоило им спуститься с грузовиков, как на них градом посыпались удары. Когда они вошли в раздевалку, я стоял у задней двери, и с этого места мне открылась ужасающая картина. Вошедшие были все в крови; теперь они знали, где очутились. Они видели колонны так называемого Международного центра информации, о котором я уже говорил, и это их пугало. То, что они там читали, не успокаивало их, а, наоборот, повергало в ужас, потому что им все было известно: еще в лагере BIIB они узнали, что здесь происходит. Они были в отчаянии; дети обнимали друг друга, матери, родители, старики плакали, объятые ужасом. Внезапно на ступеньках появилось несколько эсэсовских офицеров, и среди них начальник лагеря Шварцхубер, который в свое время дал этим людям слово офицера СС, что они будут доставлены в Хайдебрек. Все начали кричать, умолять его: «Хайдебрек оказался большим обманом! Нас надули! Мы хотим жить! Мы хотим работать!» Они смотрели прямо в глаза эсэсовским палачам. А те оставались бесстрастными, невозмутимо взирая на них.
Неожиданно в толпе произошло движение: вероятно, люди хотели пробиться к этим солдафонам, чтобы высказать им в лицо, до какой степени они чувствуют себя обманутыми. Но тут появились охранники, вооруженные дубинками, и еще несколько человек было избито.
Прямо в раздевалке?
Да. Вакханалия достигла своего пика, когда они решили насильно заставить их раздеться. Мало кто подчинился. Горстка людей. Большая часть отказалась выполнить приказ. И внезапно зазвучал хор. Хор… Все начали петь. Голоса наполнили собой все помещение: они пели гимн Чехословакии, потом – Хатикву. Это так тронуло меня… это… это… Давайте остановимся, прошу вас! Это произошло с моими соотечественниками… и я понял, что моя жизнь потеряла всякий смысл. Зачем жить? Для чего? Тогда я вошел вместе с ними в газовую камеру и решил умереть. С ними. Внезапно ко мне подошли несколько человек, которые меня знали. Ведь я пару раз со знакомыми слесарями приходил в семейный лагерь. Ко мне приблизилась группа женщин. Они посмотрели на меня и сказали: «Ты уже в газовой камере?»
Ты был уже внутри?
Да. Одна из них сказала мне: «Значит, ты хочешь умереть? Но чего ты этим добьешься? Твоя смерть не вернет нас к жизни. Это не дело. Ты должен уйти, ты должен выступить свидетелем наших страданий и издевательств, которым мы подверглись».
Рудольф Врба
Таков был конец первого транспорта. С того времени мне стало ясно, что цель Сопротивления – не восстание, а выживание. Выживание участников Сопротивления. Поэтому я принял решение, которое они сочли анархистским и индивидуалистским: устроить побег – оставить сообщество, за которое я вместе с ними нес ответственность в тот момент. Это решение, идущее вразрез с политикой Сопротивления, было принято без долгих раздумий. И я вместе со своим другом Вецлером ускорил приготовления. Вецлер играл в нашем побеге ключевую роль. Прежде чем бежать, я переговорил с Уго Ленеком. Тот руководил ячейкой Сопротивления среди тех, кто прибыл со вторым транспортом. Я объяснил, что ему нечего ждать от центра Сопротивления, кроме раздачи хлеба. И в решающий момент они смогут рассчитывать только на себя. Что касается моей роли, то я думал, что, если мне удастся бежать и без промедления рассказать всю правду нужным людям, это может оказаться полезным. Возможно, я смогу привлечь помощь извне. Я был убежден, что Освенцим возможен либо потому, что жертвы, которые прибывают в лагерь, не знают, что там происходит, либо… если кто-нибудь за пределами лагеря и знает… скажем… Они не знали… Вот в чем дело! Мне казалось, что если правда о лагере станет известна в Европе, особенно в Венгрии, откуда в Освенцим ожидалось прибытие миллиона местных евреев еще с мая месяца – об этом я был осведомлен, – то Сопротивление мобилизует свои силы для оказания помощи Освенциму. Итак, мы разработали план побега. Я бежал из лагеря 7 апреля [1944 года].
Значит, это было одним из главных мотивов вашего побега?
Да, мотивом была необходимость безотлагательных действий. Другими словами, я решил не терять времени, как можно скорее бежать из лагеря и открыть миру глаза.
На то, что происходит…
Да.
В Освенциме?
Да.
* * *
Ян Карский, университетский профессор (США), бывший курьер польского правительства в изгнании
Сейчас… я попытаюсь вернуться в прошлое на три дцать пять лет… Нет, не могу… нет… нет… Теперь я готов… В середине 1942 года я возобновил свою деятельность связного между польским Сопротивлением и польским правительством в изгнании, находившимся в Лондоне. Об этом известили еврейских лидеров Варшавы. Было решено устроить между нами встречу за пределами гетто. Их было двое. Они не жили в гетто. Оба представились: один был представителем Бунда, другой – сионистом.
Ну что вам рассказать? О чем шел разговор? Во-первых, надо заметить, что я не был к нему готов. Моя деятельность в Польше носила, в общем-то, ограниченный характер. Я был плохо информирован. С момента окончания войны прошло тридцать пять лет. Я не вспоминаю прошлое. Я преподаю вот уже двадцать шесть лет, но никогда не обсуждал с моими студентами еврейский вопрос. Я понимаю необходимость вашего фильма. Это свидетельство для истории, поэтому я попробую… Они рассказали мне, что происходит с евреями. Знал ли я? Нет, не знал. Они мне объяснили, что положение евреев беспрецедентно, не идет ни в какое сравнение с положением поляков, или русских, или какого-либо другого народа. Гитлер проиграет эту войну, но прежде уничтожит всю еврейскую нацию! Понимаете? Союзники воюют за свой народ. За Человечество. Союзники не имеют права забывать, что евреям в Польше грозит полное уничтожение. Оно грозит польским евреям и евреям всей Европы. Они были на грани нервного срыва. Они ходили по комнате, они шептали, понижали голос. Мне это казалось настоящим кошмаром.
В их голосе чувствовалось отчаяние?
Да. Несколько раз за время разговора они теряли контроль над собой. Я просто сидел на стуле и слушал, вот и все. Я никак не реагировал, не задавал вопросов. Я просто слушал.
Они хотели вас убедить?
Думаю, они с самого начала почувствовали мою неосведомленность, мое незнание вопроса.
После того как я согласился доставить их послания, они принялись разъяснять мне положение вещей. Я никогда не бывал в гетто! Я никогда не интересовался еврейскими делами!
Вы знали, что бóльшая часть варшавских евреев к тому времени была уничтожена?
Знал, но сам этого не видел. Мне никто не рассказывал. Я никогда не был там… Одно дело – статистика… Были убиты сотни тысяч поляков, русских, сербов, греков – это мы знали. Это статистика!
Но говорили ли они о совершенно исключительном характере проблемы?
Да. Они поставили перед собой задачу убедить меня – а я, в свою очередь, должен был убедить людей, с которыми встречусь, – что нынешнее положение евреев не имеет прецедентов в истории. Такого не делали египетские фараоны. Такого не делали вавилоняне. То, что мы наблюдаем сейчас, происходит в первый раз за всю человеческую историю… И они пришли к следующему выводу: если союзники не примут беспрецедентных мер, не связанных с военной стратегией, евреи будут полностью уничтожены. А они не могут этого допустить.
Значит, они требовали исключительных мер?
Да, по очереди: то об этом говорил бундовец, то сионист… Так чего же они ждут? Какие послания я должен доставить? Тогда они передали мне свои послания. Разные послания. В первую очередь для правительств союзников. Я должен был войти в контакт со всеми политическими лидерами, с какими только удастся связаться. С польским правительством. С президентом польской республики. С влиятельными евреями всего мира. С видными фигурами в политической и интеллектуальной сферах. «Свяжитесь со всеми, с кем только сможете». Потом они сообщили мне детали: какие послания кому передать. У меня были с ними две кошмарные встречи. Просто кошмарные! Наконец они представили мне свои требования. Целый список. Послание было таким: нельзя позволить Гитлеру продолжать истребление евреев. Каждый день дорог. Союзники не имеют права рассматривать войну лишь с точки зрения военной стратегии. С помощью стратегии они выиграют войну. Но к чему нам такая победа? Мы не выживем в этой войне! Союзники не могут оставаться в стороне. Мы внесли свой вклад в развитие человечества, век от века давали миру ученых. Мы стоим у истока многих религий. Мы люди. Вы понимаете это? Понимаете? То, что сегодня происходит с нашим народом, не имеет примеров в истории. Может быть, хоть этим мы сможем привлечь к себе внимание? Конечно, у нас нет своей страны. Нет правительства. Нет ни одного голоса в государственных парламентах. Поэтому мы прибегли к вашей помощи. Вы готовы? Вы выполните эту миссию? Свяжитесь с лидерами стран-союзников. Мы требуем официальной декларации союзных держав, в которой было бы зафиксировано, что, независимо от военной стратегии, призванной обеспечить скорейшую победу, вопрос о массовом уничтожении евреев стоит отдельным пунктом. Пусть союзные державы объявят – прямо и публично, – что это их проблема, что они включают ее в свою глобальную стратегию в этой войне. Что их цель – не только победить Германию, но и спасти остатки еврейского народа. После опубликования декларации – ведь у союзников есть авиация, они же бомбят Германию, – почему бы не разбросать над германской территорией тысячи листовок, которые сообщат немцам о том, что их правительство делает с евреями? Может быть, они не знают! И после этого пусть они еще раз объявят, объявят официально: если немецкая нация не продемонстрирует, что пытается изменить политику своего правительства, ее будут считать ответственной за совершаемые преступления. При отсутствии каких-либо изменений пусть союзники предупредят, что определенные объекты в Германии будут подвергнуты бомбардировке, разрушены в отместку за преступления, совершенные против евреев. Пусть эти бомбардировки не преследуют никаких военных целей и связываются исключительно с еврейским вопросом. Пусть немцам сообщают до и после бомбардировок, что эти и последующие акты возмездия служат ответом на уничтожение евреев в Польше. Это поможет… возможно! Ведь они могут это сделать. Да, могут! Такова была моя первая миссия. Перехожу ко второй. Вот они оба, особенно сионист, снова мне шепчут, снова бормочут: «Мир еще узнает о нас. Так говорят евреи из Варшавского гетто, особенно молодежь. Они хотят сражаться. Они говорят об объявлении войны Третьему рейху. Войны, единственной в истории. Войны, равной которой еще не было. Они хотят умереть с оружием в руках. Мы не можем отказать им в праве на такую смерть». Я тогда не знал, что Еврейская боевая организация уже создана. Они ничего мне не сказали. Только: «Мы еще дадим знать о себе. Евреи готовы сражаться. Им нужно оружие. Мы связались с Армией Крайовой, подпольной польской организацией, участвующей в Сопротивлении. Наша просьба была отвергнута. Людям нельзя отказывать в оружии, если оно у вас есть, а мы знаем, что оно у вас есть!» Это послание предназначалось главнокомандующему польской армии генералу Сикорскому, который должен был приказать своим людям передать евреям оружие.
Третья миссия: «В разных странах мира живут лидеры еврейского народа. Установите с ними контакт. Скажите им: „Вы – лидеры еврейской нации. Эта нация умирает. Скоро евреев совсем не останется. И чьими лидерами вы тогда будете?“ Мы двое тоже погибнем. Мы не пытаемся бежать, мы остаемся здесь. Пусть другие осаждают министерства в Лондоне и прочих столицах, пусть требуют решительных действий. Если они ничего не добьются, пусть выходят на митинги протеста, пусть устраивают голодовки, не едят и не пьют. Пусть умирают. На глазах у всего человечества! Кто знает, может быть, это тронет сердца людей!» Из этих двух еврейских лидеров – если говорить о моих личных ощущениях, – я чувствовал большую симпатию к бундовцу. Вероятно, благодаря его манере вести себя. Своими повадками он напоминал польского аристократа, дворянина. Благородная осанка, жесты, чувство собственного достоинства. Думаю, что я ему тоже очень понравился. В какой-то момент ему неожиданно пришла в голову идея. «Месье Витольд[7], – сказал он, – я знаю Запад. Вы отправляетесь на переговоры с англичанами, чтобы передать им устное сообщение. Я уверен, что вы будете более убедительны, если сможете им сказать: „Я видел все собственными глазами“. Мы можем организовать вам посещение гетто. Вы согласны? Если согласны, я буду вас сопровождать. И сам позабочусь о вашей безопасности».
Через несколько дней мы связались друг с другом. В тот период границы Варшавского гетто уже не были такими, какими они оставались до июля 1942 года. Из четырехсот тысяч евреев, обитавших в гетто, примерно триста тысяч уже были депортированы. Ге т то, окруженное по всему периметру стеной, включало четыре участка. Главным из них было «центральное гетто». Участки отделялись друг от друга особыми зонами, часть которых уже была заселена арийским населением, другая – пустовала. Там было одно здание… Его задняя часть переходила в стену, окружавшую гетто. Фасад был обращен на арийскую сторону. Под домом – подземный ход: мы добрались без малейших затруднений. Но внезапно он стал другим человеком! Этот бундовец, напоминавший польского аристократа. Я шел рядом с ним: он весь поник, сгорбился, как будто сам был узником гетто, как будто провел в нем всю жизнь. По-видимому, это была его стихия, его мир. Мы шагали по улице. Он шел слева от меня. Мы мало разговаривали… Так. Вы хотите, чтобы я продолжал? Ладно. На улице – голые мертвые тела! Я спрашиваю: «Почему они здесь?»
Трупы?
Да, трупы. Он говорит: «Проблема в том, что, когда умирает кто-нибудь из евреев и семья хочет его похоронить, нужно заплатить налог. И вот мертвых оставляют на улице».
Они не могли заплатить нужную сумму?
Да, у них не было средств. И он мне говорит: «Любая тряпка стоит денег. Поэтому родственники снимают одежду с покойников. А трупами, оставленными на улице, занимается Еврейский совет». Женщины при всех кормят младенцев грудью, но… у них нет грудей… все плоское. Младенцы смотрят на нас безумным взглядом.
Это был абсолютно другой мир? Другой мир?
Это был какой-то антимир! Не человеческий мир! На улицах – столпотворение. Море людей. Можно подумать, в домах никого не осталось. Все стараются выменять друг у друга хоть что-то из еды. Каждый продает что-нибудь из своих скудных запасов. Три луковицы. Две луковицы. Печенье. Все кругом торгуются. Все кругом просят милостыню. Плач. Голод. И эти жуткие дети. Одни бегают по улицам без всякого надзора, другие – рядом с матерями, сидят тут же рядом. Это не человеческий мир. Это просто… просто… ад какой-то. Здесь, в этой части гетто, в его центральной части, можно было встретить немецких офицеров. По окончании службы гестаповцы возвращались домой через гетто, чтобы срезать путь. И вот мы видим немцев в форме, они приближаются… Тишина! При виде их все застывают в страхе. Больше ни слова, ни движения. Ничего. Со стороны немцев – презрение. Ведь перед ними гнусные недочеловеки. Разве можно считать их людьми?! Вдруг – паника. Евреи убегают с улицы, по которой мы идем. Мы кидаемся к дому. Он шепчет: «Откройте дверь! Откройте!» Дверь открывается.
Мы входим. Бросаемся к окнам, которые выходят на улицу! Возвращаемся к двери, где стоит женщина, которая нам открыла. Он говорит ей: «Не бойся, мы евреи!» И толкает меня к окну: «Смотрите! Смотрите!» Я вижу двух юнцов приятной наружности, в форме. Членов гитлерюгенда. Они идут по улице. При каждом их шаге евреи бегут прочь, прячутся. Юнцы болтают. Внезапно один из них сует руку в карман, не раздумывая. Выстрел! Шум разбитого стекла! Крики. Спутник стрелявшего поздравляет его с удачным выстрелом. Они уходят. Я был ошеломлен. Тогда женщина, открывшая нам дверь, – она, вероятно, поняла, что я не еврей, – обняла меня и сказала: «Уходите, уходите, это не ваш мир. Уходите».
Мы ушли из дома. Мы ушли из гетто. Он сказал мне: «Вы видели не все… Хотите вернуться? Я пойду с вами. Я хочу, чтобы вы увидели все». «Хорошо». На следующий день мы вернулись в гетто. Тот же дом, тот же путь. В этот раз я уже не был так шокирован происходящим. Зато я почувствовал другое: вонь… грязь… вонь. Всюду удушливый запах. Замусоренные улицы. Суета. Давка. Психоз. Вот и площадь Мурановского. На углу площади играют дети. Играют с тряпками. Кидают тряпками друг в друга. И он сказал мне: «Видите, они играют. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается». На это я ответил: «Они просто делают вид, что играют. Они не играют».
В гетто росли деревья?
Всего несколько, да и то чахлые. Ну вот. Мы шли. Вдвоем. Ни с кем не заговаривая. Шли около часа. Время от времени он меня останавливал: «Взгляните на этого еврея!» Тот неподвижно стоял на месте. Я спрашивал: «Он умер?» Он отвечал: «Нет, нет, он жив. Месье Витольд, запомните его! Он находится на последней стадии умирания. Он умирает. Посмотрите на него. Расскажите им там! Вы видели. Не забудьте!» Мы продолжаем идти. Жуть! Время от времени он бормотал: «Запомните это, запомните все». Или, в другой раз: «Посмотрите сюда!» Он показывал на женщину. Я несколько раз спрашивал его: «Что с ними?» Его ответ был: «Они умирают». И все время: «Запомните это, запомните!»
Мы бродили еще около часа. А потом ушли. Я больше не мог этого вынести. «Уведите меня отсюда». Никогда больше я его не видел. Мне стало плохо. Я не… Даже сейчас я не хочу… Я понимаю, что вы делаете… Но я живу настоящим. Я не буду возвращаться в прошлое. Я больше не мог вынести этого… Но я выполнил свою миссию: я рассказал обо всем, что видел! Это был параллельный мир. Не человеческий мир. Я был из другого мира. Я к нему не принадлежал. Я никогда не видел ничего подобного. Никто не мог бы описать такую вселенную. Я не видел ничего похожего ни в одной пьесе, ни в одном фильме! Это был параллельный мир. Мне говорили, что там живут люди. Но они не были похожи на людей. И мы ушли. Он обнял меня: «Удачи!»
«Удачи!»
Больше я никогда его не видел.
Доктор Франц Грасслер (Германия), помощник доктора Ауэрсвальда, нацистского комиссара Варшавского гетто
У вас сохранились воспоминания о том времени?
Очень смутные. Я гораздо лучше помню походы в горы до войны, чем весь военный период в Варшаве. Потому что… в целом это было трагическое время. Таков уж человек: он, слава Богу, легче забывает плохие моменты, чем хорошие… Неприятные моменты он вытесняет из памяти.
Я помогу вам вспомнить. В Варшаве вы были помощником доктора Ауэрсвальда.
Да.
А доктор Ауэрсвальд был…
Комиссаром еврейского района Варшавы.
Доктор Грасслер, вот дневник Чернякова[8]. В нем говорится о вас.
Да?.. Его напечатали… он существует?
Он вел дневник, который недавно был опубликован. 7 июля 1941 года он пишет…
7 июля 1941 года? В первый раз за все время я узнаю конкретную дату… Дайте-ка я ее запишу. 8 конце концов, мне самому это интересно. Значит, в июле я уже был там!
Да, и вот 7 июля он пишет: «Утро в Общине…» – то есть в штаб-квартире Еврейского совета, – «…позднее с Ауэрсвальдом, Шлоссером…»
Шлоссер был…
«…и Грасслером. Текущие вопросы». Это первый раз, когда вы…
В первый раз упомянуто мое имя? Да, но, понимаете, мы там втроем… Шлоссер – он… кажется… он был из экономического департамента. У меня его имя ассоциируется с экономикой.
Второй раз вы упомянуты 22 июля.
Он делал записи каждый день?
Да, каждый день. Это самое удивительное…
Как же они сохранились? Просто невероятно, что они сохранились!
Рауль Хильберг
Адам Черняков начал вести дневник в первую неделю войны, еще до вступления немцев в Варшаву и до своего назначения главой еврейской общины. Он делал записи каждый день, доведя дневник до того вечера, когда совершил самоубийство. Он приподнял завесу над жизнью еврейской общины, позволив нам наблюдать за ней до конца ее существования. Общины, которая находилась в состоянии агонии и которая, говоря по правде, с самого начала была обречена. Таким образом, Адам Черняков сделал очень важное дело. Он не спас свой народ. Так же как и другие еврейские лидеры, он не спас его. Но он описал все, что происходило с евреями в гетто, зафиксировал их жизнь день за днем. И это при том, что ему приходилось заниматься всеми текущими делами! Он был из тех людей, которые привыкли работать, не зная ни сна, ни отдыха. Черняков писал почти каждый день: о погоде, о своих утренних встречах – обо всем. Главное, что он никогда не переставал писать. В нем было что-то, что помогало, держало, подталкивало его в течение нескольких лет – в течение почти трех лет жизни при немцах. И, может быть, еще потому, что его стиль лишен всякой напыщенности, мы теперь знаем, как он относился к тем или иным событиям, как он их воспринимал, определял, как он на них реагировал. И даже там, где он предпочитает молчать, мы догадываемся, что стоит за этим молчанием. В его дневнике постоянно встречаются упоминания о неизбежном конце. В духе греческих мифов Черняков уподоблял себя Герак л у, надевшему отравленную тунику. В глубине души он знал, что евреи Варшавского гетто обречены. Некоторые пассажи из его дневника в этом смысле просто поразительны; так, в декабре 1941-го он саркастически – если только здесь уместно данное слово – замечает, что начала вымирать интеллигенция! До того времени умирала беднота, а теперь пришла очередь интеллигенции…
Почему он выделяет интеллигенцию?
Потому что в гетто было несколько порогов чувствительности к голоду, которые различались в зависимости от классовой принадлежности. На нижней ступени – беднота, потом – средний класс. На самом верху – интеллигенция. Когда она тоже стала вымирать, это был очень, очень плохой знак. Не забывайте: средняя норма питания на человека равнялась в гетто 1200 калориям[9].
Другой пример: к Чернякову подходит человек и говорит: «Одолжите мне денег: они мне нужны не на еду, а на оплату квартиры; мне надо заплатить за квартиру, я не хочу умереть на улице».
Черняков считает это событие достойным занесения в дневник. Признак чувства собственного достоинства. Он одобряет это.
Кто-то обратился к нему с просьбой?.. Попросил денег?
Да, но не на еду. «Мне нужно заплатить за квартиру, я не хочу умереть на улице». Люди умирали сплошь и рядом; трупы прикрывали газетами.
Почему крыша над головой была важнее хлеба?
Этот человек ел так мало, что все равно бы не выжил, но он не хотел упасть от голода прямо на улице.
Значит, смерть ему все равно была обеспечена, и он хотел умереть у себя дома…
Конечно. Это один из примеров той самой мрачной иронии, которая была столь свойственна Чернякову. У него все время встречаются диковинные описания: духовой оркестр перед зданием похоронного бюро; повозка с катафалком, управляемая пьяным кучером; мертвый ребенок, который бегает туда-сюда. Он относился к смерти с иронией. Он жил со смертью.
Доктор Франц Грасслер
Бывали ли вы в гетто?
Да, но редко. Тол ько в тех случаях, когда надо было встретиться с Черняковым.
И как оно выглядело? Какими были условия жизни?
Ужасающими. Просто чудовищными.
Да?
Увидев, что творится в этом гетто, я решил, что больше туда ни ногой, если только не будет крайней необходимости. Поэтому за все время я побывал там лишь раз или два. Комиссариат старался сохранить гетто, чтобы иметь под рукой рабочую силу, но главное – чтобы предотвратить эпидемии, предотвратить распространение тифа. Ведь тиф – опасная штука.
Да. Расскажите мне немного о тифе…
Ну, я не врач, я знаю только то, что тиф – очень опасная эпидемия, которая способна унести почти столько же жизней, сколько чума, и что, возникни она, стены гетто не смогли бы удержать ее распространение! Если бы началась эпидемия тифа – не думаю, что она началась бы, но опасность-то была реальной, – болезнь не пощадила бы ни поляков, ни нас.
Но откуда в гетто взяться тифу?
Болели ли там тифом, я не знаю. Но опасность такая была. Вследствие сильного голода. Эти люди слишком плохо питались. Вот что ужасно… Службы комиссариата делали все от них зависящее, чтобы накормить людей, именно для того, чтобы гетто не превратилось в очаг эпидемий. Уже не говоря о гуманитарных соображениях, это было просто необходимо. Ведь если бы распространился тиф – а этого не произошло! – он бы не ограничился территорией гетто.
Черняков тоже пишет, что одной из причин строительства стены, окружавшей гетто, были опасения немцев насчет этой эпидемии. Да, да. Совершенно точно! Страх распространения тифа.
Он говорит, что немцы считали евреев разносчиками тифа.
Да, может, и так. Не знаю, насколько это было обоснованно… Однако представьте себе всю эту людскую массу, сосредоточенную в гетто. Ведь только сначала там жили одни варшавские евреи, потом привезли и других. Опасность становилась все серьезней.
Рауль Хильберг
Одна женщина из гетто влюбилась в мужчину. И вот его ранили, тяжело ранили: из живота выпали внутренности. Она своими руками вставила их на место, отнесла возлюбленного в больницу. Он умер. Тело бросили в общую могилу; она его выкопала и похоронила отдельно. Чернякову подобный эпизод казался высшим проявлением добродетели.
Он никогда не бунтовал?
Он выше этого. Никем не возмущается. Ни к кому не питает отвращения, разве что к некоторым евреям: к тем, кто бросил общину, при первой возможности сбежав за границу, или к тем, кто сотрудничал с немцами, как Гайнцвах. Ни одного неприязненного слова о немцах. Он выше этого… Он не критикует самих немцев. И, судя по его записям, он очень редко оспаривал какие-либо их постановления. Он не спорит с ними. Он защищает, ходатайствует. Он не спорит. Он решает возразить лишь тогда, когда ему приказывают не только окружить гетто стеной, но еще и оплатить строительство.
«Если стена, – говорит он, – это санитарный заслон, защищающий немцев и поляков от еврейских эпидемий, почему же тогда за нее должны платить евреи?
За вакцину должны платить те, кому делают прививку. Пусть платят немцы!»
Ауэрсвальд говорит на это: «Прекрасный аргумент, у вас будет возможность развить его… на одной из международных конференций. А пока – платите!»
Черняков фиксирует весь эпизод, включая ответ Ауэрсвальда. Его критика немцев никогда не идет дальше подобных возражений. Что бы они ни делали, его ничего не удивляло. Он предчувствовал все, что случится с евреями, предвидел самое худшее.
Доктор Франц Грасслер
Проводили ли немцы особую политику по отношению к Варшавскому гетто? В чем она состояла?
Ну, вы слишком многого от меня хотите. О политике, которая привела к массовому уничтожению, к «окончательному решению еврейского вопроса», мы, конечно, ничего не знали. Наша задача состояла в том, чтобы приглядывать за гетто, по возможности беречь жизни еврейского населения, необходимого в качестве рабочей силы. У комиссариата были совсем не такие планы, как у тех, кто позднее начал массовое уничтожение.
Но разве вы не знаете, сколько народу умирало в гетто каждый месяц в 1941 году?
Нет. Если и знал, то забыл.
Но вы не могли не знать; есть точные цифры.
Да, наверно, знал…
Да. Каждый месяц умирало пять тысяч человек.
Да? Пять тысяч в месяц? Хм…
Это огромная цифра.
Конечно, конечно. Но в гетто было огромное количество народа! Пожалуй, даже слишком много народа, вот в чем загвоздка.
Слишком много?!
Слишком много!
Хочу задать вам философский вопрос. Что, по вашему мнению, представляет собой гетто?
О Боже милосердный! Гет то появились не вчера: насколько я знаю, они существовали испокон веков. Преследование евреев – тоже не немецкое изобретение, и началось оно задолго до Второй мировой войны. Поляки тоже их преследовали.
Но Варшавское гетто находилось в самом сердце крупного города, в столице государства…
Да, не очень типичная ситуация.
Вы говорите, что хотели сохранить гетто.
Наша миссия состояла не в том, чтобы уничтожить гетто, а в том, чтобы обеспечить его существование, сохранить его.
Но что представляло собой «существование» в таких условиях?..
В этом-то и была проблема. В этом и была вся проблема…
Но люди умирали прямо на улицах. Всюду валялись трупы.
Именно… какой парадокс!
Вы полагаете, парадокс?
Я в этом уверен.
Но почему «парадокс»? Можете объяснить?
Нет.
Почему «нет»?
А что объяснять?
Но это странный способ «сохранить» гетто! Ведь евреи каждый день подвергались уничтожению. Черняков пишет…
Чтобы действительно обеспечить жизнь его обитателям, нужно было бы существенно увеличить размер пайка и уменьшить скученность населения.
Но почему бы не увеличить размер пайка? Почему? Ведь его устанавливали немцы?
Никто не стремился специально морить голодом обитателей гетто; решение о массовом уничтожении было принято намного позднее.
Да, да. Позднее, в 1942-м.
Именно, именно так.
Через год.
Совершенно верно. Наша миссия – насколько я помню – состояла в осуществлении общего контроля над гетто. И естественно, при столь скудном рационе и перенаселенности повышенная и даже очень высокая смертность была неизбежна.
Да. Но в чем же тогда заключалось «сохранение» гетто? При таких условиях питания, гигиены и т. д.? Что могли сделать евреи в подобной ситуации?
Евреи ничего не могли сделать.
Рауль Хильберг
До войны Черняков видел фильм, где капитан пассажирского судна, готового пойти ко дну, велит оркестру играть джаз. 8 июля 1942 года, меньше чем за две недели до смерти, он сравнивает себя с капитаном тонущего судна. И он решает устроить в гетто праздник для детей. Да, шахматные турниры, спектакли, различные детские празднества продолжаются до последнего момента. Они глубоко символичны! Эти культурные мероприятия не только укрепляют мораль, как хочет думать Черняков, – они служат символами того положения, в котором постоянно находилось гетто. Там лечат или пытаются лечить больных, которым вскоре предстоит быть отправленными в газовые камеры; стараются воспитать детей, которым никогда не суждено вырасти; дают людям работу и создают рабочие места в такой обстановке, которая не дает надежд на спасение. Они делают вид, что продолжается обычная жизнь.
Они прочно уверовали в спасение гетто, несмотря на то, что все свидетельствует об обратном. До самого конца стратегия оставалась одинаковой: «Мы должны выстоять. Это единственная стратегия. Мы должны минимизировать ущерб, убытки, потери, мы должны жить дальше». Продолжать вести обычную жизнь – единственная гарантия спасения.
Но когда он сравнивает себя с капитаном тонущего судна, он уже знает, что все…
Да, знает. Я думаю, он знал, вернее, догадывался, о близком конце с октября 1941 года; именно в это время он отмечает в дневнике тревожные слухи о том, какая участь уготована варшавским евреям следующей весной. Также он фиксирует разговор с эсэсовцем Бишоффом, отвечающим за поставку продовольствия, который говорит ему, что гетто – не более чем временное образование, не уточняя, что имеет в виду. Он знал, у него были предчувствия – ведь в январе заговорили о прибытии литовцев… Его беспокоит отъезд Ауэрсвальда в Берлин 20 января 1942 года – мы-то знаем, что это дата проведения той самой Ванзейской конференции, где «еврейский вопрос» был «окончательно» решен.
И хотя он, Черняков, живя за стеной гетто, ни о чем таком не подозревает, его мучает вопрос об этой поездке Ауэрсвальда. Ему неизвестна ее причина, но он уверен: ничего хорошего это не сулит. В феврале слухи множатся, в марте положение проясняется: Черняков фиксирует в дневнике депортацию евреев из Люблинского, Мелецкого, Краковского и Львовского гетто. И он замечает, что, может быть, что-то готовится и в самой Варшаве. С этого времени в каждой из записей Чернякова чувствуется тревога.
Когда в марте 1942 года Черняков узнаёт о депортации евреев из Люблина, Львова и Кракова – теперь мы знаем, что их отвезли в Белжец, – задается ли он вопросом, куда их отправили и зачем?
Нет. Никогда. Он не называет ни одного конкретного населенного пункта. Но мы сегодня не можем определить, знал ли он о тех лагерях. Он просто не писал о них в своем дневнике, вот и все! Однако мы знаем, что в Варшаве о существовании лагерей смерти знали по крайней мере с июня.
Доктор Франц Грасслер
Почему Черняков покончил с собой?
Видимо, потому, что понял: у гетто нет будущего. Вероятно, он осознал – раньше меня, – что евреи из гетто будут убиты. Полагаю… как бы это сказать… что у евреев уже тогда была прекрасная разведывательная сеть. Они знали больше, чем должны были знать, больше, чем мы.
Вы полагаете?
Да, я так думаю.
Евреи знали больше, чем вы?
Я убежден в этом. Убежден.
В это трудно поверить.
Немецкая администрация не была осведомлена о том, что собираются сделать с евреями.
Когда произошла первая депортация евреев в Треблинку?
Полагаю, незадолго до самоубийства Ауэрсвальда.
Ауэрсвальда?
Ой, простите… Чернякова.
То есть 22 июля?
Видимо… в эти дни… Значит, 22 июля 1942-го начались депортации.
Да.
В Треблинку.
А Черняков покончил с собой 23-го.
Ну да, на следующий день. Вероятно, он осознал, что его идее – полагаю, это была его идея – о необходимости честного сотрудничества с немцами на благо евреев – он понял, что этой его идее, этой иллюзии не суждено сбыться.
Понял, что его идея – иллюзия.
Да, и когда его мечта была разрушена, он решил свести счеты с жизнью.
Рауль Хильберг
Когда Черняков делает последнюю запись в своем дневнике?
За несколько часов до самоубийства.
И что он пишет?
«Сейчас 15 часов. К депортации готово уже четыре тысячи человек. К 16 часам их должно быть девять тысяч». Это последние слова человека, который умрет вечером того же дня.
Первая «партия» варшавских евреев отбывает в Треблинку. 22 июля 1942 года, а на следующий день Черняков совершает самоубийство.
Именно так. 22-го к Чернякову является ответственный за «перемещение» эсэсовец Хёфле, которому даны все полномочия на проведение операции. Итак, 22-го в десять утра – и здесь надо мимоходом отметить следующую деталь: Черняков так потрясен, что путает дату, написав «22 июля 1940 года» вместо «22 июля 1942 года», – в кабинет Чернякова входит Хёфле, приказывает отключить телефоны и увезти детей, играющих перед зданием юденрата, и сообщает: «Все евреи без различия пола и возраста будут, за некоторыми исключениями, депортированы на восток». Опять на восток! «С этого момента вы должны будете каждый день к шестнадцати часам доставлять нам шесть тысяч человек. Минимум шесть тысяч каждый день». Чернякову сообщают об этом 22 июля 1942 года. А он все продолжает хлопотать, добиваться исключения из числа депортированных членов Еврейского совета и разных вспомогательных органов. Но особенно его мучает то, что немцы собираются депортировать детей-сирот, и он беспрестанно просит оставить их. К 23-му Чернякову так и не удается получить гарантии, что детей не тронут. Если он не может защитить сирот, значит, он проиграл войну, проиграл битву.
Но почему именно сирот?
Они самые слабые. Это маленькие дети. За ними будущее. И они не могут сами себя защитить. Если сирот не исключат из числа депортируемых, если он не добьется от эсэсовцев положительного ответа, не получит обещания, которому, правда, он знает цену, если ему не дадут гарантию хотя бы на словах – что же тогда думать? Если он больше ничего не может сделать для детей… Говорят, что, уже закрыв дневник, он оставил записку со словами: «Они хотят, чтобы я собственными руками убил детей».
Доктор Франц Грасслер
Значит, вы считали, что гетто было явлением в чем-то положительным, примером самоуправления, не так ли?
Да, самоуправления.
Государство в миниатюре?
Еврейское самоуправление неплохо работало!
Да, но все это самоуправление работало на смерть, не так ли?
Да. Сегодня мы об этом знаем. Но тогда…
Тогда тоже знали!
Нет.
Черняков писал: «Мы марионетки; у нас нет никакой власти».
Да.
«Никакой власти».
Ну да… конечно…
Хозяевами были вы, немцы.
Да.
Хозяевами, господами.
Да, наверно.
И Черняков был лишь орудием…
Да, орудием. Но хорошим орудием. А еврейское самоуправление работало хорошо: уж поверьте мне, я знаю.
Хорошо работало три года… в 1940, 1941, 1942-м… два с половиной года, а в конце…
В конце…
В каком смысле «хорошо работало»? Какова была его конечная цель?
Самосохранение!..
Нет, смерть!
Да… но…
Самоуправление, самосохранение… сохранять себя, а потом идти на заклание!
Сейчас легко говорить!
Но вы признаёте, что условия были бесчеловечными… чудовищными… жестокими?..
Да, да.
Значит, уже тогда все было ясно…
Нет. Насчет массового уничтожения – нет… Сегодня-то нам все ясно!
Но уничтожение не произошло внезапно: это был комплекс последовательно принятых мер: одна, вторая, третья, четвертая…
Да.
Но чтобы понять этот процесс, нужно…
Повторяю: процесс уничтожения не происходил на территории самого гетто – по крайней мере на первых порах; он берет начало с момента первых отправок транспорта.
Каких?
Транспорта, отправленного в Треблинку. Гетто можно было бы уничтожить силой оружия и тысячью других способов. Что в конце концов и сделали. После восстания. Когда меня уже там не было… Но в начале… Господин Ланцман, так мы ни к чему не придем. Мы не откроем тут ничего нового!
Вообще-то я не думаю, что тут можно открыть что-то новое…
Тогда я не знал того, что знаю сейчас.
Вы были помощником комиссара еврейского района Варшавы…
Да, да!
Вы были очень важной персоной.
Вы преувеличиваете мою роль.
Нет. Вы были помощником комиссара еврейского района Варшавы…
Но… без реальной власти!
Но как же так? Вы были частью гигантской государственной машины Германии.
Совершенно верно. Но очень небольшой частью. Вы преувеличиваете роль помощника, которому в то время было двадцать восемь лет.
Тридцать лет.
Двадцать восемь.
Тридцать лет – это уже зрелый возраст.
Да, но для юриста, получившего дип лом в двадцать восемь лет, это лишь начало.
Вы уже имели звание доктора.
Звание ничего не доказывает.
Ауэрсвальд тоже был доктором?
Нет. Но звание не имеет никакого отношения к делу.
Доктор права… А чем вы занимались после войны?
Я работал в издательстве, выпускающем литературу по альпинизму.
Да ну?
Да, да. Я написал и опубликовал несколько путеводителей по горным маршрутам. Я издавал журнал для альпинистов.
Альпинизм – ваш любимый спорт?
Да, да.
Горы, воздух…
Да.
…Солнце, чистый воздух…
Не то что воздух в гетто.
Нью-Йорк.
Мадам Гертруда Шнайдер и ее мать, бывшие узники гетто
Die Wörter, die welche ich schreib zu dir,
seinen nit mit Tint, nur mit Treren,
Jahren, die beste, geendigt sich,
und schoin verfallen nit zu werden.
Schwer ist’s, zu verrichten, was ist zerstört,
und schwer ist’s, zu verbinden unsere Liebe,
ah, schau, die Treren deine,
die Schuld, sie ist nit meine,
weil azoi muss sein.
Azoi muss sein, azoi muss sein,
mir müssen beide sich zerscheiden,
azoi muss sein, azoi muss sein,
die Liebe, die endigt sich von beiden.
Zu gedenkst du, wenn ich hab dich gelassen im Weg,
mein Goirel hat gesagt, ich muss von dir aweg,
weil in den Weg will ich schon keinmal mehr nit steren weil azoi muss sein[10].
* * *
Музей борцов гетто (Кибуц Лохамей-ха-Гетаот), Израиль
28 июля 1942 года в Варшавском гетто была официально образована Еврейская боевая организация. После первой массовой депортации евреев в Треблинку, приостановленной 30 сентября 1942-го, в гетто оставалось около 60 000 евреев. 18 января 1943 года депортации возобновились. Несмотря на острую нехватку оружия, члены Еврейской боевой организации при звали к вооруженному сопротивлению и напали на немцев, к полной неожиданности последних. Бой продолжался три дня. Нацисты отступали с большими потерями, бросая оружие, которое доставалось евреям. Депортации прекратились. Теперь немцы понимали, что гетто не сдастся без боя. Он произошел вечером 19 апреля 1943 года, накануне еврейской пасхи (Песаха). Это была битва на уничтожение.
Ицхак Цукерман по прозвищу «Антек»,
заместитель командира Еврейской боевой организации
После войны я начал пить. Трудно мне пришлось… Клод, вы спросили о моем состоянии. В сердце накопилось столько горечи, что ею можно было отравиться, как ядом.
По просьбе Мордехая Анелевича, командира Еврейской боевой организации, за шесть дней до начала наступления немцев Антек покинул гетто. Ему поручили добиться от лидеров польского Сопротивления передачи евреям оружия. Те отказались.
Получилось так, что я покинул гетто за шесть дней до восстания. Я хотел вернуться 19-го, накануне Пасхи, накануне праздника. Написал письма Мордехаю Анелевичу и Цивии. Цивия – это моя жена. В ответ получил очень учтивое, вежливое послание от Мордехая Анелевича и очень резкое – от моей жены Цивии, которая писала: «Ты до сих пор еще ничего не сделал. Ровным счетом ничего». Но я все равно решил вернуться. Слишком поздно!
В то время я абсолютно ничего не знал о приготовлениях немцев, не мог такого себе представить. Но Симха и его товарищи задолго до меня узнали об окружении территории гетто немцами.
Симха Ротем (по прозвищу «Казик»)
Во время празднования Песаха мы чувствовали: просто так они нас не оставят. Ощущалось какое-то напряжение. Вечером немцы начали атаку. Не только немцы – с ними были украинцы, литовцы, отряды польской полиции, латыши. И вся эта орда двинулась на нас. Мы почувствовали: это конец. В первый день вступления немцев в гетто бой развернулся в центральном районе. Мы находились в стороне от него; до нас доносились лишь звуки взрывов, выстрелов, свист пуль, отраженный эхом. Мы знали только, что в центральном гетто идет ожесточенный бой. В течение первых трех дней битвы перевес был на стороне евреев. Немцы быстро отступили к выходу из гетто, унося десятки раненых. С этого момента все их действия сводились к ударам, наносимым извне, – авианалетам и артиллерийским обстрелам. Мы были не в состоянии что-либо противопоставить ударам с воздуха, особенно целенаправленному поджогу домов. Гетто превратилось в сплошное пожарище.
С улиц исчезли все признаки жизни. Мы врылись в землю, укрылись в подземных бункерах и уже оттуда продолжали свои действия. Мы действовали ночью. Немцы обычно появлялись в гетто днем, а ночью ретировались, потому что ночью, по правде говоря, они очень боялись входить на территорию гетто. Надо сказать, что бункеры строило местное население, а не сами восставшие. Когда у нас не осталось сил продолжать сопротивление наверху, мы нашли убежище в бункерах. Все бункеры внутри выглядели одинаково. Больше всего в них поражала теснота – нас было очень много – и жара – жара такая чудовищная, что нечем было дышать; даже свечи в этих бункерах не горели. Иногда, чтобы совсем не задохнуться в этой духоте, приходилось ложиться вниз лицом к земле. Тот факт, что мы, участники восстания, не позаботились об устройстве подземных убежищ, ясно показывает, что мы не надеялись выжить в этой схватке с немцами. Мне кажется, что человеческий язык неспособен описать весь ужас, пережитый нами в гетто.
По улицам – хотя эту груду развалин лишь с большой натяжкой можно было назвать «улицами» – приходилось идти, переступая через трупы, лежащие как попало, один на другом. Все мостовые и проходы были завалены ими. Нам выпало бороться не только с немцами, но также с голодом и жаждой; мы не имели никаких контактов с внешним миром; мы были полностью изолированы и отрезаны от него. Мы дошли до такого состояния, что уже перестали понимать смысл этой борьбы с немцами.
Мы решили попытаться прорваться из гетто в арийскую часть Варшавы. Перед самым первым мая нам с Зигмундом поручили установить контакт с Антеком в арийской части Варшавы. В конце концов нам удалось обнаружить под Бонифратерской подземный ход, который соединял гетто с арийской частью Варшавы. Ранним утром мы неожиданно очутились на обычной городской улице, залитой светом. Вообразите: первое мая, солнечный день, и тут среди нормальных людей, на нормальной улице, появляемся мы, словно пришельцы с другой планеты. Навстречу тут же бросились какие-то субъекты, привлеченные нашим необычным видом – истощенностью, бледностью, лохмотьями, в которые мы были одеты.
На подходах к гетто постоянно дежурили бдительные граждане из числа поляков, которые ловили евреев, пытавшихся сбежать. Нам чудом удалось ускользнуть. В арийской части Варшавы жизнь текла своим обычным, размеренным ходом, как будто ничего не произошло. Были открыты кафе и рестораны, работали кинотеатры, ходили автобусы и трамваи. Ге т то было островком горя посреди нормальной жизни. Нашей задачей было войти в контакт с Ицхаком Цукерманом (Антеком) и попытаться организовать спасательную операцию. Попробовать спасти тех немногих оставшихся в живых бойцов, которые еще могли находиться на территории гетто. Нам удалось установить контакт с Ицхаком Цукерманом. Также мы привлекли к делу двух рабочих из Службы варшавской канализации. В ночь с 8 на 9 мая мы решили вернуться в гетто вместе с одним из наших товарищей по имени Рижек и двумя рабочими с канализационной станции, и после объявления комендантского часа мы спустились в канализацию.
Пришлось доверить свою жизнь этим двум рабочим, поскольку только они знали «подземную» топографию города. В середине пути они вдруг решили повернуть назад, не желая больше сопровождать нас, так что даже пришлось пригрозить им оружием. Мы все дальше углублялись в подземные коридоры, пока в какой-то момент один из рабочих не сказал нам, что мы находимся непосредственно под территорией гетто. Рижек остался сторожить рабочих, чтобы они не могли сбежать. Поднатужившись, я сам открыл канализационный люк. И вот я в гетто, один. В бункере на улице Мила, 18[11], я уже никого не застал – опоздал на целые сутки. Мой тайный визит состоялся в ночь с 8 на 9 мая, а бункер был обнаружен немцами еще 8-го утром.
Большая часть находившихся в бункере людей покончили с собой или были отравлены газом.
Потом я отправился в другой бункер – на Францисканскую, 22. Когда я выкрикнул пароль, никто не отозвался, и мне пришлось продолжить свой путь в глубь гетто. Внезапно я услышал женский голос, который доносился из развалин. Стояла ночь, непроглядная ночь, ни зги не видно, кругом ни огонька, ни просвета, только развалины и дома, готовые в любую минуту превратиться в развалины, и этот голос, одинокий голос; он показался мне каким-то наваждением, знаком судьбы – женский голос, доносящийся откуда-то из-под земли. Я… я обошел развалины домов. Время я, конечно, не засекал, но думаю, что добрых полчаса кружил среди обломков домов, пытаясь определить место, откуда доносится голос; к сожалению, сделать это мне не удалось.
Кругом горели дома?
Не то чтобы они в прямом смысле слова горели, потому что я не видел над ними пламени. Однако в воздухе стоял дым и еще этот нестерпимый запах, запах обгоревшей плоти – от мертвых тел, от людей, сгоревших заживо. Я продолжал свой путь. Посетил другие бункеры, где надеялся найти кого-нибудь из товарищей, но каждый раз повторялась та же история: я выкрикивал пароль «Ян»…
Ян – это польское имя?
Да… И никакого ответа. От одного бункера я бежал к другому, за несколько часов обошел все гетто, но вернулся ни с чем.
В тот момент он был один?
Да, я все время был один. Не считая женщины, чей голос я слышал в развалинах, и мужчины, на которого я наткнулся, когда вылез из канализации, в течение всех своих поисков я был один; по пути мне не встретилась ни одна живая душа. Помню, в какой-то момент я испытал чувство покоя, безмятежности и сказал себе: «Я последний еврей; остается ждать утра, остается ждать немцев».
Елена Петровская Клод Ланцман: уроки нового архива
В 2015 году фильму Клода Ланцмана «Шоа» исполнилось тридцать лет. Эта лента остается одним из самых значительных – если не самым значительным – документальным свидетельством ужасов последней мировой войны. Что изменилось за эти тридцать лет? Прежде всего ушли те живые свидетели событий, тогда уже немногочисленные, на чьих мучительных воспоминаниях и строится этот фильм, изобразительная – иллюстративная – сторона которого предельно минимизирована. Сегодня их голоса и лица – это настоящие призраки, хотя призрачность, как будет показано ниже, составляет неотъемлемое свойство самого кинематографа. В этих условиях появление книги, в которой воспроизводится текст фильма, на русском (эта книга уже выходила на других языках) продолжает жизнь документального исследования Ланцмана, только делает это дополнительными по отношению к кинематографическому образу средствами. Проще говоря, фильм «Шоа» с самого начала содержит в себе разные возможности оказывать воздействие на зрителя, и текстуальное многоголосие – одна из них. Раньше мы только вслушивались в неповторимые интонации этих взволнованных голосов, теперь мы можем внимательнее вчитаться в сами свидетельства.
Фильм «Шоа» ставит того, кто собирается о нем писать, в трудное, я бы даже сказала, беспрецедентное в своей основе положение. Дело не только в самой теме – «окончательном решении еврейского вопроса» или, называя вещи своими именами, массовом уничтожении евреев, планомерно проводившемся нацистами на всем протяжении Второй мировой войны. Очевидно, что геноцида такого масштаба и такой степени бесчеловечности история не знала. Ланцман, однако, далек от того, чтобы погрузить зрителя в состояние полнейшего ступора. Его фильм – это фильм-свидетельство, снятый, впрочем, почти без привлечения архива. Как таковой, он предполагает возможность – и даже необходимость – говорить о самом невозможном. О Холокосте вспоминают те немногие, кому удалось выжить, – иначе говоря, свидетели этого не поддающегося описанию события.
Однако если фильм «говорит», если сам режиссер выступает в роли не знающего жалости интервьюера – им руководит только одно: желание собрать сведения, сохранить воспоминания ради исторической правды (historical record), – то говорить в ответ, то есть комментировать увиденное и услышанное, – почти невыполнимая задача. Фильм словно накладывает некий запрет не на высказывание как таковое, а на тот способ понимать и говорить, который столь привычен для нас и, как нам кажется, единственно возможен. Это особый запрет, обусловленный не только несоразмерностью речи событию или же «коллаборационизмом» самого языка, немецкого в первую очередь. То, что Ланцман нам показывает, – а это все равно фильм, то есть последовательность образов, даже если в нем нет ни фотографий, ни хроники, относящихся к рассматриваемому времени (взамен – пустыри и леса на месте прежних концентрационных лагерей, крупным планом – лица тех, кто вспоминает спустя десятилетия), – все это содержит в себе императив, который отзывается в нашем молчании. В то же время это фильм, требующий от своих зрителей реакции, причем сегодня требующий ее не менее настоятельно, чем тридцать лет назад назад, в момент первой его трансляции по французскому общенациональному телевидению.
Если, с одной стороны, возникает трудность в подборе и использовании слов, трудность формулирования собственно зрительской реакции, то, с другой стороны, столь же проблематичен и формальный анализ «Шоа» в качестве документального фильма. Доказательством «от противного» служит внушительный корпус литературы, продолжающий только расти. Однако я настаиваю на том, что, даже если предпринимается попытка выделить составляющие фильма или осмыслить использованные режиссером приемы (преобладающие планы, характер монтажа и проч.), фильм сделан так, что запрещает рассматривать их по отдельности в качестве тематических или структурных единиц. В этом смысле перед нами новый кинематографический опыт, который в идеале требует самостоятельного – небывалого – языка описания.
Этот опыт, безусловно, связан с тем, что составляет материю фильма. Если попытаться определить ее в самых общих словах, то речь идет о памяти. Память, которую исследует Ланцман, – это совсем иное, чем память архива. (Замечу, что парадоксальным и непостижимым образом пристрастие к документальной точности приводит некоторых к отрицанию реальных исторических событий[12].) Для Ланцмана образ из архива – это образ без воображения; он останавливает мысль и уничтожает всякую способность к припоминанию[13]. Между тем память должна быть восстановлена; это труд, добавлю от себя, в котором соучаствует и зритель. Однако именно потому, что память не восстановима в полном ее объеме, точно так же как и боль, которая должна быть вытеснена и забыта, – именно поэтому фильм становится еще и обоюдным испытанием свидетеля и зрителя, и это несмотря на то, что в нем различима (особенно при повторных просмотрах) четко выстроенная хронологическая линия.
Я хочу задержаться на формулировке «образы без воображения» (images sans imagination). Наверное, их ближайшим аналогом была бы фотография. (Эта догадка подтверждается той полемикой, в которую вступает с Ланцманом Жорж Диди-Юберман по поводу четырех фотографий, тайно снятых в 1944 году одним из заключенных, работавших в Овенциме. Согласно Юберману, нельзя понять – проинтерпретировать – эти снимки, то, что вызвало их к жизни, без привлечения воображения.) Воображение, упоминаемое вскользь Ланцманом, можно истолковать как то особое сочетание образа и слова, которое существует только в кино – в силу самой его природы. В одном из своих последних интервью Жак Деррида так комментирует причину воздействия фильма: «Прежде чем стать исторической, политической, архивной, сила „Шоа“ является… в своей основе кинематографической. Кинематографический образ позволяет самой вещи (свидетелю, который говорил в некоем месте, когда-то) быть не воспроизводи мой, но производимой заново в ее „вот она сама“. Непосредственность этого „вот оно“, но без изобразимого присутствия, возникающая при каждом просмотре, составляет, как и в фильме Ланцмана, сущность кино»[14]. При этом как образы, так и произносимые слова являются «как бы изображением» (quasi-présentation) того «вот оно», которое напрочь, решительно отсутствует: оно относится к миру, чье прошлое всегда будет неизобразимым в своем «живом настоящем». Именно поэтому кино есть «абсолютный симулякр абсолютного выживания» [15].
По мысли Деррида, отсутствие прямых образов уничтожения, то есть образов, в принципе воспроизводимых, и ставит зрителя в отношение к «Шоа» как к событию, которое само по себе не может быть ни восстановлено, ни воспроизведено. «Шоа» должно оставаться в рамках «это имело место» и в то же время в рамках невозможности того, что «это» могло иметь место и сделаться изобразимым [16]. Нетрудно догадаться, что фильм Ланцмана удерживает в себе след в двойном смысле этого слова: след выживания (то есть призрачность, присущую кинематографу в качестве языка, или средства) и след того, что не оставляет следов, а именно самого истребления. Только потому, что здесь свидетельствует «опыт чистого выживания» [17], – «Шоа» спасает то, что остается без всякого спасения, – зритель и оказывается столь захваченным фильмом.
Нельзя не согласиться с Деррида в его оценке эффективности избранной Ланцманом изобразительной стратегии.
Подчеркну, что фильм развертывается в настоящем, о чем зрителю сразу же сообщается в титрах: «Действие начинается в наши дни в польской деревне Хелмно. Расположенная в восьмидесяти километрах к северо-западу от Лодзи, в центре региона, где значительную часть населения до войны составляли евреи, эта деревня стала первым на территории Польши местом массового уничтожения евреев с помощью газа. ‹…› Из четырехсот тысяч мужчин, женщин и детей, которые были отправлены в Хелмно, выжили только двое: Михаэль Подхлебник и Симон Шребник. Симону Шребнику, сумевшему спастись во время второго этапа уничтожения узников, было тогда тринадцать с половиной лет. ‹…› [После освобождения] вместе с другими выжившими он уехал в Тель-Авив. В Израиле я его и нашел. Я убедил маленького певца вернуться вместе со мной в Хелмно». («Я» – молчаливый голос рассказчика, только отчасти совпадающий с голосом режиссера фильма; Ланцман появится в кадре позднее.) Симон Шребник показан плывущим в лодке по реке Нарве и поющим, как его принуждали это делать в годы заключения. Он идет по полю, где размещался лагерь и где теперь – как, впрочем, и тогда, когда ежедневно там сжигали две тысячи трупов, – стоит поразительная тишина. Он перемещается вдоль периметра какого-то здания, может быть, огромного барака. Звучит его голос: «Об этом невозможно рассказать. Никто не может себе представить, что здесь творилось. Невозможно представить. И никто не может этого понять. Даже я сам сего дня не могу…» Полагаю, что обращение к настоящему, из которо го ведется этот небывалый по характеру рассказ, явля ет ся важной этической установкой фильма в целом. Если вернуться к тому, о чем говорилось ранее, то Ланцман де-фак то предлагает новую концепцию архива, причем его усилие как аналитика и режиссера далеко от теоретизирова ния в привычном смысле этого слова. «У меня не было общего представления, – говорит Ланцман, поясняя свое видение Холокоста, – у меня были навязчивые идеи… Одержимость холодом… Одержимость неожиданностью. Первым шоком. Первым часом пребывания евреев в лагере, в Треблинке, первыми минутами. ‹…› Одержимость последними мгновениями, ожиданием, страхом. ‹…› Такой фильм нельзя создать теоретически. ‹…› Фильм такого рода выстраивается в голове, в сердце, в животе, в кишках – везде» [18]. Впрочем, не следует интерпретировать эти слова в простом психологическом ключе. То, что открывается зрителю в фильме «Шоа», – вовсе не ужас, взывающий к сопереживанию и дарующий в финале катарсис в соответствии с логикой классического представления. Взамен «Шоа» предлагает такой тип знания, который не имеет ничего общего с традиционно историографическим, основанным на прецедентах (например, гетто существовали всегда) и парадоксальным образом приводящим к забвению. Знание, предлагаемое «Шоа», – это больше чем знание фактов. Хотя внешне оно может предстать интересом к «мелочам или деталям» (minutiae or details), если воспользоваться выражением Рауля Хильберга, выдающегося исследователя Холокоста, чьей работой всегда вдохновлялся Ланцман. Детали, складываясь в некий «гештальт» (буквально – образ, форму), образуют «структуру», которая, как Хильберг поясняет в фильме, «позволила бы если не объяснить, то по крайней мере более полно описать то, что произошло». Уклоняясь от постановки «глобальных вопросов», историк Холокоста – а вместе с ним и режиссер – как раз и занят воссозданием этой «структуры».
Надо признать, что структура получается особенной. Наверное, первостепенную роль в ее оформлении играет характер свидетельствования. Кто говорит? О чем эта речь? Даже без обращения к дополнительным источникам, где об этом сообщается открыто[19], становится ясным, что свидете ли говорят от лица других – тех, кто не может свидетельство вать. В фильме «Шоа» есть показательный в этом плане эпизод. Филип Мюллер, бывший член спецподразделения (зондеркоманды) Освенцима, вспоминает о том, как в 1944-м был доставлен транспорт из так называемого чешского семейного лагеря. Именно тогда, услышав звуки гимна, который запели перед смертью его соотечественники, он понял, что его жизнь больше не имеет смысла. И он решил пойти в газовую камеру вместе с ними. Но там к нему подошли женщины, и одна из них сказала: «Твоя смерть не вернет нас к жизни. Это не дело. Ты должен уйти, ты должен выступить свидетелем наших страданий и издевательств, которым мы подверглись». Это единственный момент, когда Мюллер просит остановить съемку, – он начинает плакать. Такие же мгновения прерывания речи переживают и другие очевидцы – Абрахам Бомба, Мордехай Подхлебник. Но это не просто нахлынувшая вдруг эмоция. Замечу, что и Мюллер, и Бомба рассказывают не впервые. Иногда возникает ощущение, что они не могут избежать этой участи – свидетельствовать, что это долг и даже в некотором роде принуждение. Тем знаменательней момент, когда их речь сбивается.
По-видимому, само свидетельство может строиться только посредством разрыва. Свидетель, согласно Примо Леви, – это по определению выживший, а стало быть, обладающий в той или иной степени преимуществом. Тот, кто не выжил, – будь то «мусульманин», то есть «обычный лагерник», «доходяга», перестававший говорить уже при жизни, или, как в «Шоа», безмолвная жертва истребления, от которой не должно было сохраниться никаких физических следов, – погибший и есть «подлинный свидетель», заведомо обреченный на молчание. Однако можно ли говорить от чьего-то имени, кроме своего? Если разобраться, свидетельство по своей структуре предусматривает клятву, отсылающую к некоторой очевидности: клянусь, здесь, сейчас, говорить правду, свидетельствовать о том, что видел своими глазами. Это и выражено словом «очевидец». Но выживший, повторю, находится в особом положении. Одна из свидетельниц в фильме Ланцмана сознается в чувстве вины, вызванном тем, что ей удалось выжить: она не была со своим народом, не разделила его судьбу. Выживший словно знает о цене, которая заплачена за выживание. И цена эта действительно необычайно высока. Самим условием выживания и человечности становится тот, кто не выжил. Говорить от его имени невозможно. Но речь отныне значима – и возможна – постольку, поскольку инкорпорирует в себя этот пробел, эту, так сказать, бесчеловечность.
По-другому выражаясь, свидетельство одновременно скрепляется и разрывается неизвестным прежде опытом. Не будет преувеличением сказать, что речь идет о поворотном моменте в истории, о моменте, радикально меняющем наше представление о самих исторических событиях, равно как о способах их записи и последующей трансляции. Картина, скрупулезно собираемая Ланцманом, остается «всего лишь» описанием. Не забудем, однако, на пересечении каких средств (фиксации и выражения) возникает такое описание. Во-первых, это голос, звучащий в настоящем, причем настоящее время будет возвращаться каждый раз заново – при каждом новом просмотре. В этом смысле перед нами такое настоящее, которое само по себе пребывает: оно не может устареть или стать неактуальным. Это настоящее время самого кинематографа, а вернее – наше настоящее, время, в котором зритель будет всегда актуально подключен к голосу свидетеля. Во-вторых, это кинематографические образы, тоже взятые из настоящего, некий нейтральный фон, ничего не сообщающий и при этом вопиюще достоверный. Образы распадаются на два преобладающих ряда: лица свидетелей, в основном даваемые крупным планом, и безмятежный пейзаж, где происходили описываемые очевидцами события. Только сегодня в этих полях, лесах, жилых домах, поездах и станциях не угадывается ничего зловещего. На вопрос Ланцмана «Тогда стояли погожие дни, как сейчас?» польский очевидец отвечает: «Увы! Деньки стояли еще лучше, чем теперь!»
Нетрудно уловить мотив, звучащий в таком сопоставлении: это невозможно. Но невозможность – не универсальное свойство События, а тот разрыв, который каждый раз познается впервые. Невозможно понять, как рядом с лагерями шла обычная жизнь: польские крестьяне обрабатывали свои поля прямо под их обнесенными колючей проволокой стенами. Невозможно понять, как шли и шли вагоны – специальный транспорт, – в которых везли сотни и тысячи напуганных до смерти, голодных или же, напротив, ниче го не подозревающих людей. Невозможно представить, через что прошли заключенные, работавшие в спецподразделениях, чьими обязанностями было извлечение из газовых камер слипшихся, окаменевших тел или раскапывание и уничтожение останков тех, кого захоронили наспех. Наконец, невозможно понять, как продумывалась и рационализировалась машина смерти, как если бы речь шла о каком-то заурядном производстве. Понять и в самом деле невозможно. Но Ланцман делает так, что эта невозможность приходит к зрителю как знание, в которое он включен нетеоретически, иными словами, которое он должен разделить. Именно поэтому оборотной стороной речи, звучащей в фильме, становится молчание – не результат переживаемого потрясения, а шрам, рассекающий речь.
Говоря еще определеннее, свидетельство, каким является фильм «Шоа», меняет тех, к кому оно обращено. Это не «еще один» фильм о Холокосте, не фильм, восполняющий прореху в исторических знаниях, и не фильм-покаяние. Это фильм, требующий памяти как опыта живого настоящего, причем эта память трансформирует нас. Мы вступаем в отношение с теми, кто в противном случае остался бы статистической записью в длинных списках воен ных потерь. Морис Бланшо, определяя отношение к Другому, называл его «бесконечным», или «отношением без отноше ния»[20]. Ланцман как будто знает, что прикоснуться к бездне можно, лишь опустившись на самое дно. Прямые пути никуда не ведут. Надо зано во строить систему обра зов и речи, чтобы просмотр фильма стал потребностью, как простые нужды, удовлетво рение которых поддержива ет жизнь. Напомню, что в нужде (в голоде) формировалось призрачное братство заключенных. «Шоа», таким об разом, – это императив, исходящий от самой продолжающейся жизни. Именно поэтому фильм и устанавливает отношение к невозможному, но тем не менее реальному событию, к неохватному множеству поглощенных им Других.
Суммируя все сказанное, мы оказываемся перед новым пониманием архива. Главное заключается в том, что в силу присущей ему событийности – здесь, сейчас, то есть во времени настоящего, – он не замыкается, не позволяет забыть. И это при том, что Ланцман не скрывает своей позиции и даже предубежденности, если угодно[21]. Не раз отмечалась фрагментарность и несопоставимость звучащих в фильме свидетельств – ведь вспоминают не только жертвы, но и бывшие нацисты и бюрократы периода Третьего рейха: те, кто трудился над отлаживанием «конвейера смерти» (характеристика Треблинки, данная унтершарфюрером СС Ф. Зухомелем), или работники отделов по планированию железнодорожных перевозок. Вспоминают также сторонние наблюдатели, преимущественно польские крестьяне. Очевидно, что такие свидетельства никогда не сложатся в общую картину, потому что общей картины быть здесь не может. Этот тезис никак не противоречит установке на описание, высказанной Хильбергом (мы помним: описание может быть лишь «более полным»). Особенность данного архива такова, что он остается принципиально открытым, не достраиваемым до какого-либо целого. Это нетрудно объяснить: беспрецедентный исторический опыт взрывает саму способность спекулятивной мысли работать в режиме тождества и представления[22]. Ланцману удается донести это до своего зрителя, даже если зритель не обладает специальной подготовкой. Создаваемая им картина без картины дублирует, как бы изображает отношение без отношения, в которое зритель оказывается поставленным к Другому. Это и есть тот самый момент молчания, погружения на дно («…канувшие – подлинные свидетели…»[23]), когда не знаешь, сможешь ли говорить вообще, и понимаешь, что говорить, вырываясь из тисков молчания, необходимо. Новый архив, таким образом, обращен к абсолютно Другому: он сохраняет свидетельство как след, как саму возможность выражения.
Эта мысль как будто подтверждается и чисто внешним обстоятельством. На каком языке сделан фильм «Шоа»? И почему Событие названо именно «Шоа», а не более привычно – Холокостом? Рискну высказать свою догадку. Не секрет, что вокруг Холокоста (помимо сомнительного употребления этого слова в истории) стала складываться если не мифология, то по крайней мере корпус достаточно стандартных представлений. Полагаю, что фильм «Шоа» – даже если так получилось непреднамеренно – уже самим своим названием полемизирует с архивом старого типа, в который, по Ланцману, и не должно превратиться то, что случилось в годы нацизма. Это опасность не только забывания и стереотипизации, но и сакрализации, когда по тем или иным причинам вводятся определенные табу в виде фигур умолчания. Если напоследок снова обратиться к фильму, то эта девятичасовая лента звучит на разных языках. В нее включены не только сами свидетельства, но и перевод, который делается тут же, на месте. Вообще, это фильм многих голосов, а отсюда и многих свидетельств, даже если метаязыком в силу эмпирических причин остается – почти неощутимым образом – французский. Такое многоязычие создает своеобразную дифракцию, когда передаваемое сообщение начинает дробиться, расслаиваться уже на этапе передачи. Это, пожалуй, еще один индикатор того, что нет и не может быть «истины» Холокоста, что Событие возвращается лишь серией мучительных прикосновений…
Сноски
1
Поскольку режиссер часто общается с героями через переводчика, первое и второе лицо иногда заменяется третьим: если крестьяне говорят – «мы думаем», в пересказе переводчицы это выглядит как «они думают». То же относится и к репликам режиссера. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – примеч. пер.)
(обратно)2
То есть, видимо, сам Филипович. Переводчица называет его «месье».
(обратно)3
Так в тексте. В первой части он был назван унтершарфюрером.
(обратно)4
По всей видимости, искаженные польские слова «prędzej» (чит. «прендзей») и «szybciej» («шибчей»). Оба слова означают «быстрее».
(обратно)5
Имеется в виду сам Ланцман, который назвался вымышленным именем.
(обратно)6
Филип Мюллер был чешским евреем. (Примеч. автора.)
(обратно)7
Ян Карский выполнял курьерские задания под псевдонимом «Витольд».
(обратно)8
Адам Черняков – глава юденрата (Еврейского совета) Варшавы. (Примеч. автора.)
(обратно)9
«Норма», рассчитанная с учетом контрабанды и черного рынка; официальная норма для евреев в гетто составляла 184 калории.
(обратно)10
Слова я не чернилами пишу, они слезами пролились к тебе. Ушли года в небытие и растворились, как во сне. Содеянного не исправить, Любовь былую не вернуть. Ах, глаза твои в слезах, виной тому не я, ведь так должно быть. Так быть должно, так быть должно, И расставанья нам не миновать. Так быть должно, так быть должно, Любви двоих прерваться суждено. Ты будешь помнить, как покинула тебя в пути, Судьба мне подсказала, что я должна уйти, Ведь не хочу тебе я на пути мешать, Ведь так должно быть (идиш; пер. Ольги Денисенко). (обратно)11
В этом бункере располагался штаб Еврейской боевой организации. (Примеч. автора.)
(обратно)12
В качестве наиболее одиозного примера назову имя французского исследователя Робера Фориссона, так и не нашедшего «доказательств» существования газовых камер.
(обратно)13
См.: Didi-Huberman G. Images malgré tout. Paris: Minuit, 2003. P. 120.
(обратно)14
Derrida J. Le cinéma et ses fantômes // Cahiers du cinema. 2001. Avril. № 556. P. 81. На русском языке интервью «Кино и его призраки» было опубликовано в сокращенном виде в журнале «Сеанс» (2005. № 21–22. Февраль).
(обратно)15
Ibid. P. 80.
(обратно)16
Ibid. P. 81.
(обратно)17
Ibid. P. 80.
(обратно)18
Цит. по: Felman Sh., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psycho analysis, and History. New York; London: Routledge, 1992. P. 223.
(обратно)19
На ум приходит Примо Леви и анализ его документальных сочинений, предпринятый Джорджо Агамбеном в книге «Homo Sacer. Что остается от Освенцима: Архив и свидетель» (1998). «Повторяю, не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели», – настаивает Леви (Леви П. Канувшие и спасенные / Пер. Е. Дмитриевой. М.: Новое издательство, 2010. С. 68).
(обратно)20
О внутренней связи философии Бланшо и его восприятия событий Холокоста см.: Blanchot M. L’Entretien infini. Paris: Gallimard, 1969. P. 191 ff.
(обратно)21
Так, по вопросам и отдельным репликам заметно, что режиссер отнюдь не симпатизирует полякам, жившим в поселках, расположенных поблизости от концентрационных лагерей. Вскрывая их подчас латентный антисемитизм, Ланцман, в свою очередь, как будто зациклен на этом. С другой стороны, он вовсе не скрывает от зрителя того обстоятельства, что нарушает обещание, данное им бывшим эсэсовцам: не показывать их на экране и не упоминать их имен.
(обратно)22
См.: Lyotard J.-F. Le différend. Paris: Minuit, 1983.
(обратно)23
Леви П. Указ. соч.
(обратно)
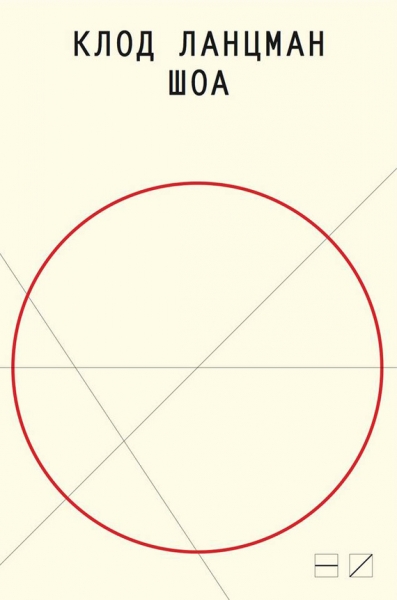







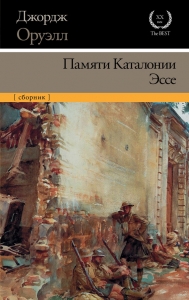
Комментарии к книге «Шоа», Клод Ланцман
Всего 0 комментариев