БОРИС ПАНКИН
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Независимо от «стажа» личного знакомства, ты знал его, кажется, всю твою жизнь... и вообще не можешь, как ни старайся, провести грань между тем временем, когда известно тебе было лишь имя, творчество его, и тем, когда познакомился с ним — человеком.
И вот — не могу воспоминания о нем отделить от размышлений. И не знаю, надо ли это делать. В конце концов насадить, как рыбу на кукан, эпизод за эпизодом на ось времени — дело нехитрое. Константин Симонов прожил долгую жизнь, он с ранних лет находился — и в этом судьба его — в крутоверти людской, он, как магнитом, до последнего часа привлекал внимание к себе, и, наверное, не у десятка, не у сотен даже из встречавших его нашлось бы что вспомнить, о чем рассказать.
...Три стихотворения Симонова: «Жди меня...», «Не сердитесь — к лучшему...» и «Майор привез мальчишку на лафете...» — всегда стоят в его сборниках рядом и помечены одним годом — сорок первым. Но только недавно я узнал, что они и написаны были в один день. Узнал и не удивился. Мне и поныне звездными часами в жизни и творчестве Симонова представляются военные годы, а звездною его тропой — стихи той поры.
Этой записи, в общем-то, немногих личных встреч с писателем я не могу не предпослать рассказа о своем, всего моего поколения мальчишек военной поры увлечении Константином Симоновым, который был для нас в те военные и послевоенные годы одновременно и символом, и реальностью, и человеком, и книгой. Книгой, строкой из газеты даже больше, чем живым, во плоти и крови человеком...
Сколько раз, бывало, уже в позднюю пору его жизни, и сам-то уже не мальчик, прогуливаясь с ним рядом по улицам ли Москвы, по окрестностям ли Тбилиси или по дорожкам больничного двора — чаще и дольше всего именно здесь,— я на мгновение как бы уходил в себя, переставал слышать его глуховатый, с хрестоматийной — ни у кого другого такой не было — картавинкой голос и твердил себе, что вот этот человек, с которым рядом чинно, на равных беседуя, ты вышагиваешь уже второй час подряд, и есть обладатель, сущность, реалия того имени — Симонов, которое внутри тебя живет, кажется, ровно столько, сколько ты себя помнишь.
Стремительное и мстительное — в наши дни как никогда — время вносит поправки в наши чувствования и представления. Наивным и недалеким назовем мы, наверное, того, кто, став уже мужем взрослым и косматым, живет и руководствуется исключительно впечатлениями и представлениями тридцатилетней и более давности. Но и жалок, достоин лишь сострадания тот, для кого сегодняшнего, умудренного и отягощенного грузом пережитого, они, эти впечатления былого, ничего не значат, если он еще, не дай ему бог, и чурается их.
Самостоятельно, для себя, а не потому, что «урок», «задано», я начал стихи читать и запоминать, кажется, в тринадцать-четырнадцать лет. Точно помню, что это были не Пушкин, и не Лермонтов, и не Некрасов, которых именно «проходили» и которые поэтому заучивались, но не запоминались в ту пору и пришли снова позднее. Не могу теперь с уверенностью сказать, что именно это было, но знаю определенно, что первым поэтом, которого я прочитал для души, тем поэтом, который, собственно, и сделал меня человеком, причастным поэзии, был Константин Симонов. И так было, я знаю, не со мной одним. Мы влюблялись по Симонову, ссорились и «мучались от разлук» по Симонову. По Симонову учились ненавидеть врага и дружить терпкой, горьковатой, как дымок его неизменной трубки, мужской дружбой. Тогда мы, я уверен, не задумывались, почему мы любим Симонова, зачитываемся Симоновым, верим ему...
Пленяло все — музыка стихов, их тематика и настрой... Пленял сам облик Симонова, овал его смуглого, знакомого лишь по портретам лица, нос с неуловимой горбинкой, усы равнобедренным треугольником... К тому же он всегда на фронте, всегда там, где жарко, он любит и любим, и свидетелей его любви — миллионы, и любовь у него не такая, как у других...
И, быть может, оттого именно, что так рано познакомились мы с его стихами, он всегда казался — и я знаю, не мне одному— старше, не возраста своего, а вообще старше... Это ощущение жило долго — и в ту уже пору, когда возрастная грань начала стираться все заметнее.
Теперь, умудренный, я пытаюсь разобраться в юношеских своих мечтаниях, перечитываю строки, которые, в общем-то, и до сих пор во множестве помню наизусть, и вновь попадаю под обаяние этих поэтических прозаизмов, этого в замедленном темпе, с толчкообразной, как у Гейне, мелодией речитатива, которым поведал он и своему «боев жестокою страдой» завязанному «в железный узел поколенью», и нашему, идущему вослед, о простых и мужественных истинах, о высоких радостях честно исполненного воинского долга, хорошо сделанной работы, яростной, истовой любви и беззаветной ненависти... Помните эти строки, написанные еще в 1938 году?
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел навсегда.
Наше личное знакомство произошло в ту пору, когда с юных лет светивший тебе ореол имени, личности сиял по-прежнему и пo-прежнему обладал свойствами магического круга, переступить который мешало что-то заветное в душе. Но в ней же, умудренной, зрел и неизбежный протест против собственной, казалось, инфантильности. Хотелось говорить на равных, так сказать, грубым голосом, без оглядок на разницу в возрасте и прочем. И Константин Михайлович как будто бы шел навстречу этому желанию, которое он, чувствовалось, все чаще стал улавливать в людях и удовлетворить которое ему самому было проще и удобнее.
«У каждого писателя своя походка,— любит повторять один мой знакомый литератор.— В природе пишущего,— уверяет он меня,— заложены потребность и необходимость «подавать» себя, то есть, фигурально говоря, выше поднимать голову, шире расправлять плечи и напрягать голос, чтобы заметили». Точность, говорят, вежливость королей. Вежливостью Симонова, его «походкой» была именно вежливость. И подавал он себя простотой обращения и с малыми и с большими сими, предупредительностью, деловитостью манер. Иной стиль был чужд. Его коробило, когда он с этим «иным» сталкивался.
К примеру, он что-то написал для газеты, а вам в качестве редактора или литсот- рудника предстоит «работать с этим материалом». Так вот он первым был готов забыть и действительно забывал, сколько на своем веку он написал таких «материалов», а сколько вы и сколько уже было на его пути разных редакторов и литсотрудников. Перед ним была работа, которую он сделал и завершить которую в рамках и условиях газетной специфики можно только совместными усилиями.
И точно так же он забывал обо всем привходящем, о своем и собеседника своего творческом опыте, возрасте, «послужном списке», когда надо было оценить ему принесенное — прозу или стихи, хороши они были или плохи. Были стихи, и надо было сказать о них все, что ты думаешь, помня при этом, что значит для собеседника каждое твое слово, доброе или суровое, какой резонанс может от этого слова быть...
Вспоминаю, как в «Комсомольской правде» — я был тогда уже редактором ее и это был чуть ли не первый мой личный контакт с Константином Михайловичем — мы попросили его написать рецензию на книжку одного из его однополчан-публицистов. Первый вопрос, который он задал, согласившись, был:
— А сколько вы хотите, чтобы я написал по этому поводу,— две или три страницы? — И пояснил в суховатой и обстоятельной манере, словно отгораживаясь этой манерой от моих восторженных излияний насчет того, что, мол, почаще бы нам, бедным редакторам, слышать такие вопросы от таких знаменитых авторов: — Для меня, понимаете ли, размер — это элемент формы. Я об этой книге мог бы написать и пятнадцать страниц, но это уже скорее для журнала, да. Для газеты же в данном случае будет как раз, я думаю, если написать две с половиною-три страницы. Такое вот дело. Так что если вы мне эту площадь гарантируете, я вам через три дня три странички занесу.
И занес — точно через три дня и точно три странички.
Вспоминаю, как позднее, когда мы уже были знакомы ближе, Константин Михайлович сам пришел в газету и, сказав, что готовится к докладу о публицистике на писательском пленуме, попросил ведущих журналистов «Комсомолки» собраться, как мы тогда это называли, «за круглым столом» и поделиться своими соображениями. Идея, конечно же, вызвала энтузиазм, вопросник, который Симонов предложил заранее, подлил масла в огонь. О Симонове в ходе разговора почти забыли — а ему, пожалуй, только это и надо было. Потом, слушая и читая его доклад — мы печатали его в «Комсомолке»,— дивились тому, как точен и цепок у него и слух и нюх, как много удалось ему выловить из пучины этого эмоционального и хаотичного, как нередко бывало в «Комсомолке», разговора. Порадовались и тому, как рачительно, с каким уважением к собеседникам он отнесся ко всему добытому. И долго еще потом на редакционных летучках, всевозможных «круглых столах» и собеседованиях «у самовара» приводили мы самим себе в пример и поучение, что вот, мол, какой принципиальный документ нашей литературы родился на шестом этаже.
Еще одним, и, пожалуй, самым впечатляющим, эпизодом сотрудничества Симонова с «Комсомолкой» 70-х годов был его знаменитый очерк «В свои восемнадцать лет».
Многие, наверное, помнят эту трагическую быль — подвиг комсомольца Анатолия Мерзлова из маленького городка под Рязанью, который погиб, спасая от пожара, вспыхнувшего на хлебной полосе, свой трактор. «Во первых строках» своего очерка Константин Михайлович пишет: «Не сразу, а уже по дороге к Михайлову я задним числом подумал, что товарищи из «Комсомолки» в данном случае обратились ко мне, а не к другому писателю моего поколения, наверно, потому, что кто-то в газете вспомнил мою старую корреспонденцию, присланную тогда, в сорок первом, из Михайлова».
То был, конечно же, типично симоновский жест великодушия по отношению к братьям-газетчикам. Никто из нас, увы, не вспомнил в тот момент об этой оказавшейся в конце концов решающей детали. И приглашая Константина Симонова высказаться по поводу обильной почты, пришедшей в редакцию в связи с опубликованной в газете информацией о поступке Анатолия, мы и не мечтали о том, что он поедет в этот маленький городок под Рязанью. С его писательским и человеческим авторитетом достало бы и того, чтобы он просто высказал публично свое мнение — стоило или не стоило восемнадцатилетнему парню бросаться в огонь, смертельно рисковать из-за трактора, «какой-то железки».
Однако Симонов поехал, для него тут не могло быть двух решений. Он, маститый писатель, репортером «с лейкой и блокнотом» вновь отправился туда, где побывал впервые чуть ли не в возрасте своего героя.
Беседы с отцом, с матерью юноши, умершего от ожогов в больнице, с его друзьями, сослуживцами, односельчанами. Странствия по обширным совхозным угодьям, от дома к дому в поисках нелегкого ответа, который сегодня отыскать было, пожалуй, куда труднее, чем тридцать лет назад...
Очерк в газете, «полоса, как договаривались», новая буря читательских писем и долгие еще месяцы совместной с газетой работы над этими письмами, консультации документального фильма о молодежи, где происшедшее с Анатолием Мерзловым — сначала в поле, а потом на газетной странице — было в основе... И все это с заразительным чувством ответственности, почерком писателя и человека, для которого в данный момент ничего более важного не существовало.
Личное знакомство с писателем, знакомым и почитаемым издалека, не всегда, не обязательно приносит радость. И ожидаешь его с нетерпением, но и с боязнью. В Константине Михайловиче Симонове я чем дальше, тем больше обнаруживал человека, писателя, который живет, стремится жить по законам, предписанным им собственным, самым дорогим ему героям. Он хотел бы быть похожим на них, на всех вместе и на каждого в отдельности.
Это было нелегко даже для него самого — следовать примеру героев Симонова. Быть таким же, как они, мужественным и скромным, эмоциональным, но сдержанным в выражении своих эмоций. Испытывать аллергию к высоким словам и фразам, но быть преисполненным высоких чувств, идеальных стремлений.
Да, глубина чувств — и скупость при их выражении. Верность долгу и нежелание распространяться об этой верности. Культ немногословной мужской дружбы — и тоска по идеалу женщины... Все то, что адекватное себе выражение обретало в подчеркнуто суховатом, спартанском, порой даже как бы нарочито обедненном слоге его стихов и прозы, нежно-суровой их интонации.
Все главные герои Симонова в чем-то главном похожи друг на друга, а в целом — на того идеального человека, который, несомненно, жил в его представлении, каким он сам хотел и стремился быть. В каждом из них жила частица его самого. Его идеала, его представлений о настоящем герое, настоящем мужчине, настоящей девушке, настоящем воине, настоящем друге. Она, я уверен, была самой сильной в нем — эта страсть к настоящему. И то, что не всегда он умел, не всегда хватало сил следовать идеалу — было драмой его жизни. Но в том, что эта драма была, что он был способен на нее — можно ли так сказать? — в этом была и сила его творчества, которое одно лишь и способно искупить если не все, то хоть некоторые наши вины и беды.
«Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой»,— с грустной иронией написал поэт в одном из ранних своих стихотворений. Сам он родился счастливчиком, как судила молва, которая, как известно, всегда схватывает общее впечатление, нимало не заботясь о деталях. Ему, если верить этой госпоже, все давалось и удавалось легко, в том числе и творить добро. А то, что дается легко, таким же образом и ценится. Не раз и не два, думается, встречался Симонов в своей жизни с тенденцией окружающих, в том числе и достаточно близких ему людей, каким-то лукавством, быть может, даже позой объяснить бросающееся в глаза благородство тех или иных его поступков.
Поза? Как легко и привычно бывает для нас употребить лишний раз это слово, по сути — обвинение. Самоотверженность — поза. Доброе дело — поза. Негодование — поза тоже. Все, что выходит за ряд скучного, повседневного, заунывного,— поза. Все так, и тем не менее поспорить с ярлыком не под силу слову. С ним может спорить только поступок. Их в жизни Константина Симонова было немало. Последним «поступком» были последние годы, последние дни его жизни. О них и будет теперь мой рассказ.
Что мне, человеку, не так уж много лет знакомому лично с Константином Михайловичем, дает на это право? Быть может, поздние, но бурно развивающиеся отношения? Да нет, не было и этого. Не было ничего или почти ничего, что можно отнести к привычным аксессуарам дружбы: мы редко виделись, хотя всякий раз, кажется, с удовольствием. Не знались или почти не знались домами, ничего кинотеатрального или литературного сообща не сотворили и только один раз были вместе в служебной командировке. И все же, все же вопреки этим многочисленным «не» или помимо них, над ними что-то вырастало такое, что побуждало его говорить о сокровенном, как бы отрывая от нутра по фразе, по признанию... Обстоятельства, сводившие нас, тоже способствовали этому. Я слушал его и не подозревал, что так скоро настанет час переплавить услышанное тогда, в часы этих бесед, в воспоминания...
Подобно своим героям, которые не любили и бешено сопротивлялись тому, чтобы их действиям, для них вполне естественным, приписывались какие-то особо благородные мотивы, Симонов не любил «высокого штиля» в общении. Коробили его и фамильярность, и панибратство. Идеалом был «мужской язык» (из его письма матери), когда не зло, но остроумно подшучивают друг над другом, растроганность скрывают под покровом напускной строгости, нежное слово заменяют похмыкиванием или набиванием трубки... Последнего удовольствия, увы, он был лишен к концу жизни.
В октябре 1978 года проходили Дни советской литературы в Грузии. Мы с Константином Михайловичем, который был вместе с женой, оказались соседями «по квартире» в одном из загородных коттеджей, где жили и другие писатели. Симоновы задерживались из-за давшего вновь знать о себе нездоровья Константина Михайловича. Приехав наконец, он сразу стал «гостем из гостей» — человек с высоким и заслуженным ореолом друга Грузии, ее интеллигенции. Несмотря на его явные для всех хвори, за ним раньше всех приезжали по утрам и позже всех «возвращали» домой. Так что по-соседски мы с ним почти не виделись, и наблюдал я его издали — на трибуне, на сцене, в кругу других писателей, выступающих, читающих свои стихи и прозу шумному, впечатлительному тбилисскому слушателю, который валом валил на встречи со съехавшимися со всех концов страны разноязычными литераторами.
Симонов все время выглядел уставшим, но был одновременно оживлен и как-то по-особому собран и отзывчив на все говорившееся и происходившее вокруг. Особенно в ударе он был на вечере «Русские поэты о Грузии». Он вместе с одним грузинским литературным критиком вел этот вечер, состоявшийся в помещении Театра имени Руставели, и читал стихи. А когда слушал других, уходил, казалось мне, мысленно и чувствами в далекие-далекие пределы тех пространств и тех времен, от которых сохранились лишь стихи, те, что сейчас на русском и грузинском звучали со сцены. Там читали стихи и говорили о тех, кто их создавал в XVIII, XIX веках...
И казалось, что в глазах переполненного, жадно слушающего и мгновениями, так же как и он на сцене, уходящего в какие-то свои дали зала он был одним из той славной плеяды творцов, что веками строили словом, делом, дружбой своей мост между двумя великими культурами... Догадывался ли он сам об этом, не знаю, но мнилось, что он в те часы подсознательно прощался в этом зале с привычной, ставшей такой дорогой за прожитую жизнь атмосферой переполненного фанатиками поэзии зала — с ее аплодисментами бурей, восторженными выкриками, цветами, жаром юпитеров... Быть может, подобно Блоку «с белой площади Сената», он «тихо кланялся» с возвышения тбилисцам и Тбилиси, городу, который так был дорог для него и которому он посвятил главу в своем последнем прозаическом цикле.
Не знаю, угадал ли я. Но на следующий день мы собрались-таки вместе за завтраком, после которого он, проводив до своих дверей Ларису Алексеевну, попросил с неизменной вежливостью разрешения заглянуть ко мне. Посидели на веранде, подышали бодрящим октябрьским холодком тбилисских предгорий, полюбовались темно-золотыми слитками айвы на оголенных ветвях, поговорили о текущих литературных новостях. Он поднялся, направился было мягким шагом в мягких туфлях к двери, но — предчувствие не обмануло меня — разговор еще не был окончен. Вернулся к креслу, сел снова и, коснувшись моего колена, сказал как бы между прочим:
— Вот приеду в Москву и недели через две зайду, занесу, должны выйти одним томом мои лопатинские повести.
Я уж давно заметил, что, когда Симонов заговаривает о своем творчестве, речь его становится как бы невнятнее — он глотает окончания одних слов, проборматывает другие, повторяет без особой нужды третьи.
— Специально собрал эти повести под одной крышей... Назвал романом. Так называемая личная жизнь... Хочу, чтобы кто-то прочитал их подряд, только так, знаете ли, разом, залпом,— он повел рукой наискосок сверху вниз,— и сказал бы,— тут он кашлянул,— стоит ли дальше писать беллетристику.
Он снова поднялся и, не давая мне возможности ответить, не говоря более ни слова, двинулся к дверям и вышел, обернувшись на мгновение с порога, глянув глазами, которые все больше начинали походить на глаза замученной птицы.
Я вспомнил в те минуты, как несколько лет назад спросил его, почему он перестал писать стихи. И он ответил как-то очень просто, непринужденно, как бы об отболевшем, что стихи нельзя писать, если потерян «нерв любви».
— Лирические стихи я имею в виду,— добавил он после обычной для него паузы между фразами.— А в иных тем более смысла нет, в моем-то возрасте...
Случилось так, что книжку свою он сумел передать мне только через два месяца, когда мы вновь оказались рядом — пациентами одной больницы.
Сговорившись предварительно, мы в урочный час встречались в больничном дворе и прогуливались ежедневно по часу, а то и по два на протяжении двух примерно недель. Говорили о разном, и разговоры были достаточно сумбурными, что, наверное, неизбежно в таких ситуациях. Возвращаясь, однако, позднее мысленно к этим дням, я убеждался, что была в них своя логика, свой лейтмотив, и предложен он был, конечно же, Симоновым, который теперь еще острее, быть может, чем два месяца назад, нуждался не то что в собеседнике, а в выверке на слух каких-то итоговых своих размышлений.
В один из тех декабрьских вечеров показали по телевидению подготовленную Константином Михайловичем передачу о Булгакове. Она была первой из задуманного им цикла «Литературное наследие», трудно, по его рассказам, делалась, долго «лежала», и ее демонстрация доставила ему, это чувствовалось, глубокое, что-то отпускающее, распрямляющее в душе удовлетворение. Передачу эту, конечно же, смотрели все, и когда мы утром встретились на обычной своей прогулке, не было такого больного, а Симонова узнавал каждый, кто бы не поздравил его с успехом, не поблагодарил или просто не покачал бы головой: ну, мол, и ну...
Константин Михайлович рассказывал о треволнениях, связанных с созданием этой вещи, отвечал на приветствия, отшучивался, и в этот день так часто, как никогда раньше, я слышал знаменитый симоновский смех. Смех от наслаждения содеянным, оттого, что удалось еще что-то пробить. Очень многое стояло для меня за этим молодым смехом преждевременно состарившегося внешне Симонова. Смех этот напомнил мне о том Константине Симонове, которого я, собственно, и не знал, о котором только слышал, которого мог вообразить себе по фотографиям ранних лет, в частности и той, впервые с усами и в подполковничьих погонах, о которой мать писала ему в Москву из Перми: «Появился задор, что-то вроде самолюбования и горделивого удивления на себя со стороны: вот он я!» (Переписка К. М. Симонова с родителями готовится к публикации Л. А. Жадовой.)
И подстегнутый этим его прекрасным настроением, вновь явившейся бодростью, я отважился в бочку меда капнуть каплю дегтя. Я сказал Константину Михайловичу, что одно место в его передаче, несколько слов в ней меня, ну, покоробили, что ли... Это упоминание о том, что Сталин в критическую минуту велел оставить Булгакова в покое... Может быть, так и было. Но что же получается? Все кругом не понимают, и только Сталин приходит на помощь. А между прочим, сама атмосфера-то была создана...
Константин Михайлович зябко поежился, но, помолчав, сказал, что тем не менее действительно так оно на самом деле и было — именно благодаря Сталину Булгаков продолжал жить в Москве и писать. И молодец Булгаков, что в отличие от других не задумывался, что с ним может быть завтра.
— Почему Сталин так относился к Булгакову? — продолжал Симонов.— Он ценил храбрых и чувствовал это в Булгакове. Так же как в Фадееве.
Константин Михайлович приводил немало других реплик, резюме, указаний Сталина по различным поводам, нередко действительно поражавших, во всяком случае в мастерском пересказе Симонова, неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей обостренной до предела добросовестности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова стихией характера, которая капризна и может и одарить и покарать в одно и то же время.
За нами увязался невесть откуда взявшийся черный кот. Признаюсь, я не люблю черных котов. Этот упрямо волочился за нами по дорожкам больничного парка, то забегая вперед, то отставая, чтобы снова в два-три мягких прыжка догнать. Вскоре я почувствовал, что и Константин Михайлович следит за передвижениями кота так же бдительно и скрытно, как я. Не сговариваясь мы облегченно вздохнули, когда кот свернул за кем-то из тех, кто оказался у нас на пути. Тем горше было молчаливое наше разочарование, когда он вдруг снова дал о себе знать толчками тела о щиколотки.
— Не пе-еживайте,— вдруг сказал мой спутник.— Это он по моему поводу. Да-ом я, что ли, пот-евожил дух Булгакова?!
Через полгода со сломанным при падении с лошади позвонком я снова оказался в той же больнице. И в один далеко не прекрасный день, к тому же еще в душную, влажную, жаркую пору, увидел у своей постели Константина Михайловича, который только-только «поступил» в это же учреждение. Я лежал распластанный на спине — строго в соответствии с предписаниями врачей,— а он присел рядом и не то чтобы утешал, а старался приободрить, пошучивая, поругивая, картавя... Я смотрел благодарный и утешенный на него и вдруг впервые увидел, прочитал в его облике то, что, наверное, и называют печатью смерти: какое-то темное свечение исходило от его лица, и непонятно было, в чем же его природа, что давало этот холодящий душу эффект — иссиня ли выбритые щеки, глаза, глубоко сидящие в туго обтянутых потемневшей и тонкой, как пергамент, кожей глазницах?
Сам он, так казалось, свободен был от каких-либо предчувствий и объяснял, что попал в больницу «не по основному своему делу — легким, а так... для профилактики». При встречах говорил о работе, о планах на будущее, и когда врачи позволили мне вставать, а затем и ходить, великодушно предложил перейти на тот, прошлогодний, график прогулок. В одну из первых таких встреч с Константином Михайловичем был один из крупных наших военачальников времен Отечественной. Разговор, как и следовало ожидать, тут же повернул к тем временам — к Сталинграду (только так называли этот город мои собеседники), к Берлину... Посыпались названия знакомых и незнакомых мне мест, имена, фамилии, номера частей и соединений...
Их называли так уверенно, словно они постоянно на устах. И как будто бы невидимую грань провела между нами эта перекличка. Те же вокруг были аллеи больничного парка, те же деревья, дома за ними, но колдовская сила уже взялась за работу, и с каждым шагом мы, трое разновозрастных мужчин, уходили в далекое, но такое отчетливое время... Командарм Чуйков и военный корреспондент Симонов вели свою беседу у присыпанного землей блиндажа под зловещий аккомпанемент артиллерийской канонады. А я тринадцатилетним школьником в крохотном пензенском селе цепко держал счастливо попавший в руки газетный лист...
Встречи наши, увы, уже не могли быть такими регулярными, как полгода назад. Все чаще, позвонив Константину Михайловичу в урочную минуту, я слышал в трубке смущенное покашливание: «Медицина свирепствует». Да и ненароком заглянув к нему в палату, как правило, заставал врачей и сестер — то делали укол, то брали анализ, то подключали капельницу, причудливое сооружение из стеклянных и резиновых трубок.
Если же медицинская аппаратура отдыхала, палата становилась рабочим кабинетом: загорался зеленый глаз диктофона («Заведите диктофон, в наше время никуда от него не уйти»), приходили в движение кипы старых писем («Разбираю переписку военных лет с родителями — давний мой долг»), появлялись и исчезали стопки гранок— Симонов держал корректуру очередного тома собрания сочинений.
— А «Чужую тень»,— сказал он в одну из таких мимолетных наших встреч,— не включаю. Нечего было такое писать.— Сказал и словно поставил точку в каком-то давнем, не однажды зачинавшемся диалоге.
Кажется, последнее, над чем он работал в больнице, сначала с микрофоном, потом с пером в руках над гранками, была статья о Халхин-Голе. Симонов очень тужил, что не может быть в Монголии в дни, когда отмечалось сорокалетие событий, где он впервые выступил в роли военного корреспондента. И когда через несколько дней «Литературка» была у меня в руках, опять словно морозом сковало сердце: слишком много было об ушедших, слишком много прощаний...
Возвращаясь поневоле к своей болезни, Константин Михайлович рассказал, что настаивает на применении к нему одной, «говорят, небезболезненной, но радикальной процедуры», он назвал ее выкачкой.
— Надо попробовать,— говорил он, грассируя больше, чем обычно,— надо попробовать. Иначе нет смысла. Иначе нет никакого смысла...— И можно было только гадать, что он имел в виду...
Настал такой день, когда, позвонив ему дважды и трижды и не услышав ответа, я спустился несколькими этажами ниже и обнаружил палату пустой. Медицинские сестры с непроницаемыми лицами объяснили, что Константина Михайловича увезли на особый этаж...
И еще два штриха, как два огненных следа трассирующей пули, обозначили в моей памяти последнюю прямую в жизни Константина Симонова.
Разговор с женщиной-врачом у большого лифта.
— Скажите, вы не оттуда, не с...?
— Оттуда...
— Как у Константина Михайловича дела?
— Положение сложное, крайне сложное...
— Тогда спрошу грубее: есть надежда?
Вместо ответа отрицательное, на полный поворот шеи движение головой. И несколько слов затем — в утешение, в оправдание?
— К сожалению, медицина не все может. Наступает предел и ее возможностям.
— Но он в сознании?
— Да.
— Сколько же может... могут продлиться страдания?
— Этого никто с уверенностью не скажет. Никто не знает, сколько последних сил в организме... Но держится мужественно...
И просятся на уста слова о том, что эти две предсмертные недели были подвигом писателя и человека Константина Симонова. Он знал, что умирает, мужественно приготовился к смерти, с хладнокровием воина заглянув за тот предел, где его уже не будет...
Кому доведется хоть раз побывать в Риме, не миновать и собора Святого Петра. И там перед собором, у не менее знаменитой четырехрядной колоннады Бернини ему непременно покажут такую точку на выложенной камнем площади, с которой контуры всех четырех рядов колонн сливаются воедино. Никто не знает, был ли этот чудесный эффект задуман мастером или возник сам собой.
Во время одной из наших последних бесед Константин Симонов рассказывал мне, что замыслил пьесу, которую про себя называет «О моих четырех Я». И расшифровал: Я в довоенные годы, Я в 1945-м и в послевоенные годы и сегодня... Я сегодняшний больше знаю о тех временах, но меньше помню... Любопытно взглянуть на себя той поры с высоты сегодняшних представлений и на себя нынешнего из предвоенного далека...
Не искал ли и он в себе ту самую точку зрения, точку отсчета, с которой воедино слились бы для него драматические противоречия эпохи, судеб человеческих?
И не тем ли же самым — попыткой увидеть одного Симонова в тех, которых я знал,— являются и эти страницы моих записей?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




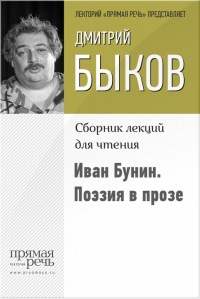

Комментарии к книге «Точка отсчёта», Борис Александрович Панкин
Всего 0 комментариев