Герман Шелков 1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы
Эпизоды курения и употребления спиртного в тексте являются неотъемлемой частью описываемой в книге эпохи.
Все совпадения случайны.
Предисловие
В ясный полдень на пляже, в середине лета, я лежал на спине и наблюдал за редкими облаками. В двух шагах от меня какой-то человек, сидя на песке, что-то бормотал. Он читал газету. Ему что-то не нравилось. Наконец он сказал: «Н-да, времена нынче тяжелые. Небывало ужасные времена. Что дальше-то будет?» И вдруг я услышал другой голос: «Это сейчас-то времена тяжелые? Ну, насмешили. Вы не жили в послевоенные сороковые годы, а пожили бы, нынешнее время показалось бы вам сказочным. Поглядите кругом: как хорошо! Замечательно!» Я повернул голову и увидел старую женщину в летней шляпе. Она приглядывала за маленькой девочкой, играющей с куклой. Человек с газетой был по виду дачник, не старше шестидесяти, и он не мог помнить, как жили сразу после войны. Однако он пожелал ответить старой даме: «Что вы сравнили! То было послевоенное время. В те годы не могло быть хорошо». Старушка сказала: «А почему бы мне не сравнивать? Я никогда не жила так трудно и тяжело, как в сороковые. И моя мама, и брат, и сестры тоже страдали, и все родственники и знакомые. О, что это было за время! Сколько раз я думала, что завтра уже не проснусь! Все последующие десятилетия казались мне удивительно прекрасными. Что угодно, лишь бы не сороковые. Если бы вы пережили то, что пережила я, вы посчитали бы, что сейчас просто-таки праздник».
Дачник молчал. А я подумал: «Видно, бабуся знает, что говорит. Ей, наверное, лет восемьдесят, а то и больше». Я захотел спросить ее о сороковых годах, но она неожиданно засобиралась, взяла девочку за руку и ушла. Вздохнув, дачник отшвырнул газету и сказал, что со старыми людьми не поспоришь: они могут помнить такое, с чем ничто в нынешнее время не сравнится, поскольку жили в сороковые. «То время нельзя сравнивать, – произнес он. – Оно несравнимо».
Эти слова засели у меня в голове. Что это за время такое, которое «несравнимо»? Что видели и испытали люди, жившие в послевоенные сороковые годы? Не написать ли мне об этом книгу, чтобы запечатлеть их воспоминания?
Этим же вечером я вернулся в Москву. Постучался к соседке, 1931 года рождения, и попросил ее: «Расскажите что-нибудь про сороковые годы. Вспомните, пожалуйста, какой-нибудь случай. Говорят, тогда жили очень трудно. Назовите, будьте добры, какую-нибудь характерную примету или особенность того времени». Соседка сказала: «Ах, я многое не помню! Память стала совсем слабая. Могу сказать, что жили очень плохо. Так плохо, что с тех пор такого никогда не было, а только лучше».
В течение недели я расспросил еще пятерых свидетелей того времени, и все они сказали примерно то же, что и моя соседка. Они помнили эпоху в целом, но подробности вспоминать не хотели. Сороковые годы не желали раскрываться передо мной. Я пожалел, что не остался в Подмосковье и не расспросил старую даму в летней шляпе, которую видел на пляже и которая, очевидно, хорошо помнила послевоенное время. Я снова выехал из Москвы и отправился в то место на реке, где отдыхал неделю назад, но старушку в шляпе так и не встретил.
Я понял, что мне предстоит немало потрудиться, чтобы разыскать тех людей, чьи воспоминания о сороковых годах не уместятся в одной фразе, чья память по-прежнему сильна, и у кого найдется большое желание говорить о совсем не радостных событиях. Кто захочет вспоминать трагические случаи?
И все же мне удалось найти таких людей. На это мне понадобился один год.
Вот что рассказали эти удивительные и замечательные старики и старушки.
Герман Шелков
* * *
Мария Ту-нова, 1933 года рождения: «Мы жили в подвале, три семьи, в каждой семье по двое-трое детей. Взрослых мужчин не было, только женщины. Даже дедушек не было – многие старые люди умерли в войну, в эвакуации. Наш дедушка умер в 1943 году в Барнауле, где мы пережидали военное время. Помню, его звали Иван Степанович, папа моей мамы. У моей подруги, тоже 1933 года рождения, дедушку звали Николай Иванович, он умер годом раньше, в 1942 году и тоже в Барнауле. Мою подругу звали Надя, по возвращении из эвакуации мы жили на одной улице, но ее семье повезло больше, у них положение было лучше, потому что их поселили в полуподвале. Что это означает? К ним проникал дневной свет, и они видели ноги прохожих! Это было счастье.
Мы жили отчаянно плохо. Недоедали, прозябали. Помню, как мама однажды принесла откуда-то новенькую, нераспечатанную коробку дорогих папирос, высшего сорта, положила на стол, стала радоваться и говорить: «Завтра поедим! Купим хлеба и жиров!» Мы с братом и с младшей сестрой очень любили это чудесное слово – «жиры». Это было топленое свиное сало. Его добавляли в кашу, чтобы было сытнее. А каша без жиров – это ужас что такое. И вот мама откуда-то принесла красивую, элегантную коробку папирос и выменяла ее на еду, на хлеб и «топленку». Наши продуктовые карточки не могли накормить нас досыта, это была утопия, сказка. Поэтому мы грезили только о еде, как все недоедающие люди. Это была наша мечта – поесть досыта. О, какая это радость, когда ты не голоден! Но В 1947 году, о котором я сейчас рассказываю, сытость была редким для нас состоянием.
Наша соседка тетя Света от голода часто сваливалась в обмороке. Бывало, выходит из своей комнаты, идет в кухню, падает в коридоре и затихает, будто мертвая. Ее поднимали, отливали водой. У нее тоже было двое детей, и они тоже жили только на продуктовые карточки. Но как бы плохо ей не было, едой с ней никто не делился. Это было не принято. Все выживали самостоятельно. Помрешь – твое дело. Так было в сороковые годы, наверное, повсюду, и во время войны, и сразу после. Все сами по себе. Такое было время. Мама отдавала последний кусок нам, своим детям, наша славная, святая для нас мамочка – наша спасительница. К другим людям в то время она была почти равнодушна. Таков, я думаю, материнский инстинкт любой женщины, обремененной детьми.
И все-таки из троих детей нашей мамы выжила только я. Брат и сестра умерли от болезней, связанных с неполноценным питанием. Сестра Жанна умерла в том же 1947 году, брат Дима на следующий год.
1947 год был тоскливый, очень голодный и пустой. Именно пустой. Радостей почти не помню, зато горя и забот было предостаточно.
Я и брат Миша учились в школе, а младшая сестра все время оставалась дома, болела из-за малокровия. Однажды мы приходим с занятий, а ее нет. Мама сидит на стуле бледная, молчаливая, губы поджаты. Сестра Жанночка, как мы ее звали, умерла. И ее уже забрали санитары, увезли. Мы, дети, не плакали. И никто не плакал. Мама нас молча накормила обедом, подала нам суп и хлеб. Брат Дима тоже часто болел, особенно страдал от простуды, у него воспалялось горло, поднималась температура. Он умер от пневмонии 2 февраля 1948 года в шесть часов вечера, и я осталась у мамы одна. Папа пропал без вести на фронте, мы о нем ничего не знали до 1955 года, когда вдруг где-то нашли останки наших солдат, и среди них он, погибший при взрыве. Мама надеялась, что он находится в каком-нибудь военном госпитале, лежит в беспамятстве после контузии, как иногда рассказывали про пропавших без вести – будто они живы, только ничего о себе не помнят. А папочка, оказывается, погиб еще в 1942 году.
В 1947 году было много бед. Год был очень тяжелый. Радости куда-то подевались. Радоваться было нечему. Вот в 1945 году люди радовались – война наконец закончилась, наступил мир, все должно быть теперь по-другому. Люди часто улыбались. С фронта возвращались родственники, знакомые. Ехали солдаты, пели песни. Они могли подарить нам, детям и подросткам, целую плитку шоколада, кулек семечек или буханку хлеба. И дарили! Это был праздник!
В войну люди ждали победы, разгрома фашистов, ждали с фронта родных и своего возвращения из эвакуации в оставленные города, потому многие держались, не унывали, не впадали в отчаянье, хотя было очень трудно. Нам было во что верить. А когда началась мирная жизнь, стало совсем по-другому. Я была подростком, но хорошо запомнила ощущение той атмосферы, в которой мы жили по возвращении из эвакуации. Атмосфера установилась подавленная. Нередко попадались люди, сильно удрученные, в отчаянье, глубоко растерянные и как будто замышляющие самоубийство.
1947 год был словно проклятый. Предыдущий 1946 год тоже был невероятно трудный, особенно когда наступила осень. Мама ходила по городу в поисках второй, дополнительной работы, возвращалась усталая, унылая и говорила: «Ничего нету. Все ищут, не я одна. Даже полы мыть не берут, и даже на ночь».
Представьте женщину с тремя детьми, которая боится думать о будущем. Впереди, голод, холод и постоянный страх, и мать троих детей гонит от себя мысли о завтрашнем дне. Это очень нелегко. Ведь женщины так устроены, что они обязательно должны думать о том, что их ждет впереди. А если в перспективе ничего хорошего, мрак, лишения – каково тогда женщине?
Мама работала в конторе дорожного и автохозяйства. Весь день писала, составляла какие-то списки, вела какой-то учет, подшивала наряды, учетные справки. Кончики ее пальцев часто были вымазаны чернилами. В конторской комнате ее стол был напротив двери, в невыгодном месте, потому что в холодное время из двери очень дуло. Люди входили и выходили, дверь открывалась и закрывалась, и мамочку обдавало холодом. Она ежилась, сжимала зубы. В холодное время под одеждой у нее были газеты. Я видела, как, вернувшись с работы, мама вынимала из нижнего белья газеты и аккуратно их складывала, чтобы назавтра использовать снова, так она спасалась от холода и от простуды. Обворачивала газетами бедра, попу. И вот что удивительно: она почти не болела, хотя питалась хуже нас, детей.
До войны мама была другая. Война, лишения изменили ее характер до неузнаваемости. В 1940 году я пошла в школу, в первый класс, и мамочка торжественно, высоко держа голову, привела меня за руку на школьный двор. Это была жизнерадостная женщина, грациозная и стройная, с красивым полненьким лицом, с красивыми длинными ногами. Она носила то шляпку, то беретку, и еще я помню маленькую малиновую сумочку. Можно сказать, мамочка была модница. На нее любовались мужчины. Бывало, она вынет из сумочки маленькое зеркальце, поглядит в него, поправит челку, проведет пальчиком по бровям, потом позволит на одно мгновение поглядеть в это зеркальце и мне. И часто она улыбалась! Но вот началась война, нас эвакуировали в Барнаул, и я больше никогда не видела мамулю прежней. Ежедневные тяжелые заботы сделали ее совершенно другой женщиной. Зеркальце куда-то исчезло. Исчезли мамины улыбки, смех. Пропали шляпка, беретка и малиновая сумочка. Чтобы нас прокормить, мама работала по двенадцать-четырнадцать часов. Приходила домой полумертвая от усталости. Засыпала сидя, в верхней одежде, во сне падала. Мы с братом Димой ее раздевали, укладывали спать. Утром она не могла подняться с постели, вставала с трудом, разбитая от забот и нервного напряжения. В такие моменты она почти не разговаривала.
Во время войны зимой в доме, где мы жили, было холодно, кругом сквозняки, на стенах плесень. Дрова по талонам, керосин, или «горючка», как его называли, тоже выдавался только по норме. Нормы были занижены, поэтому приходилось отчаянно экономить. Дрова стоили дорого, как и «горючка», и особенно дорого стоила любая еда. Мама просыпалась раньше всех, шла умываться неприятной студеной водой, к которой у меня с тех пор ненависть, готовила нам завтрак, и с каждым утром становилась другой, а прежняя наша мамочка исчезала. И однажды исчезла навсегда. Я помню этот день. Это были мамины именины, 11 февраля, и именно в этот день умер наш дедушка. Мама принесла откуда-то спирту, позвала в гости знакомую, пригласила ее за стол и сказала: «Давай выпьем за мои тридцать шесть лет! А когда папуля придет, выпьем еще с ним и за него, потому что он большой молодец, держится, никогда не жалуется, а ему очень-очень трудно, он старый, у него болезни!» И тут приходят какие-то люди и сообщают, что дедушку нашли на улице, возле ограды какого-то дома. Он умер просто, по-житейски: шел себе вдоль ограды, у него заболело сердце, он присел на кирпичное основание и скончался. Мама замолчала, наклонила голову, потом молча заплакала и стала смотреть на окно. Рот ее скривился. Но она не издала ни звука. Только позже она очень тяжело вздохнула и прошептала: «Ах, почему ты меня оставил? Вот как я теперь одна?» Дедушка тоже приносил домой деньги и продуктовые карточки, хотя он был пенсионер, ему было семьдесят три года, на работу его не звали. Он нашел место сам, самостоятельно. Занялся переписыванием бумаг в какой-то канцелярии. Он питался хуже нас всех, потому что меньше всех требовал, решительно отказывался от лишнего куска в пользу нас, детей. И никогда не жаловался. Его образ, образ мужественного человека, безропотно сносящего невероятные трудности, навсегда остался в моей памяти. Дедушка был щуплым, тонким от недоедания, страшно страдающим от холода, с болями в спине, в суставах, особенно в коленях, с сильно впавшими щеками. Но что за богатырская у него была воля! Он никогда не нервничал, не повышал голоса, старался как можно чаще улыбаться. Я думаю, он показывал нам пример стойкости. Он хотел, чтобы мы запомнили, каким должен быть истинный человек. И я до сих пор с той военной поры знаю: как бы тяжело ни было, нужно держаться, не падать духом.
После смерти дедушки мама надолго перестала улыбаться. Жить нам стало еще тяжелее, трудности наши удвоились. Теперь мамочка зарабатывала одна. Она даже перестала читать папины письма с фронта, хотя последнее мы получили уже давно, еще в 1942 году. А теперь был 1943 год. Мама перечитывала письма и вдруг бросила. Завела привычку тихо, негромким шепотом ругаться, обращаясь сама к себе. Вероятно, от этого ей становилось немного легче – таким способом, через сквернословие, она избавлялась от накопившейся злобы на жизнь, на судьбу. Но кто осудит женщину, работающую по четырнадцать часов, плохо питающуюся, живущую с тремя детьми в десятиметровой комнате?
В комнате у нас была только одна кровать, к счастью, широкая. Мы спали на ней втроем. Мама спала на большом сундуке, на тюфяке. Однажды вечером пришел какой-то милиционер, пришел вместе с мамой, и она сказала: «Вот он, сундук. Продаю. Берите его, не прогадаете. Поглядите, какой ладный, какой молодец! Ну, берете?» Милиционер сказал: «Хороший сундук, беру». И купил его, и увез. А эта вещь принадлежала не нам, а хозяйке комнаты. Что тут было, когда она узнала о пропаже! Она закричала: «Ах ты, дрянь такая! Где сундук, кому продала? А ну, пойдем в милицию! Давай адрес покупателя! Верни ему деньги! И выметайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было – ни тебя, ни твоих детей!» А мама спокойно ответила: «Еще чего! Катись-ка ты восвояси. Я тебе деньги за сундук потом верну, когда накоплю. Или новый сундук куплю. А эти деньги я уже потратила – мне детей кормить нужно. А если ты чего не поняла, пойдем на улицу, я тебе подробнее объясню – вот этим утюгом по твоей деревянной башке, добродетельная ты моя!» И мама вскочила и схватила со стола чугунный утюг. Хозяйка испугалась и выбежала. И почему-то не стала нас преследовать. Может быть, испугалась. А может быть, вошла в наше бедственное положение.
Этот поступок нашей мамы перевернул наше представление о ней. Она стала другой. Изменилась невероятно. До войны мамочка была интеллигентная женщина, а в войну интеллигентность уступила место решительности. Я не говорю о том, что по натуре наша мама стала хуже, испортилась. Нет. Она не сделалась склочницей, истеричкой или грубиянкой, она лишь распрощалась, как мне кажется, со всем романтическим, что есть в жизни. Она поставила себе цель – уберечь своих детей, и поэтому отбросила все, что мешало ей в достижении этой цели: слабость, неуверенность, пустые мечты и надежды, бессмысленные фантазии, наивные заблуждения. Разговаривала она теперь с людьми просто и ясно, без церемоний, иногда резко, иногда дерзко. Позже я поняла, что это был единственный способ не показаться слабой, простодушной и неумелой, чтобы не навлечь на себя беду, неприятности. Чтобы не пропасть. Ведь слабые и простодушные в войну быстро пропадали. А в эвакуации жилось чрезвычайно трудно, не легче, чем на фронте. На войне человека поджидала смерть, но и в тылу тоже – от недоедания, переутомления, нервозности, помешательства. Народу из числа приезжих, эвакуированных, умирало немало. Чаще, конечно, умирали старики, дети и нервные, неприспособленные к трудностям дамы.
Помню один трагический случай, произошедший в нашем доме. Рядом с нашей комнатой через коридор находилась другая комната, и там проживала некая тетя Валя С., эвакуированная из Ленинграда, и с ней ее мама. Чуть ли не каждую неделю в городе появлялись новые калеки с фронта, кто без ноги, кто без руки, кто вообще безногий или безрукий. Калек было немало. И не только мужчины! В нашем доме появилась фронтовая медсестра с палкой вместо ноги и без левой кисти. И еще без одного глаза. Деваться ей было некуда, но власти ее не бросили, а стали пристраивать. Ходили по домам, смотрели, можно ли куда-нибудь подселить несчастную женщину. И вот пришли в наш дом, поглядели везде, заглянули к соседям и нашли, что две дамы в одной комнате – это роскошь. И приказом военного коменданта определили фронтовую медсестру на жилплощадь к тете Вале С. и ее маме.
Принесли кровать, матрац, одеяло и подушку, тумбочку, чайник, кастрюлю, жестяную тарелку и кружку и сказали: «Живите здесь, товарищ сержант, а когда откроется дом инвалидов, мы вас туда переселим». Медсестра села на свою кровать, закурила и сказала: «Ну что, дамочки? Чаем не угостите? А я вас спиртом угощу». Выпив кипятку, а потом спирту, она стала дымить папиросой и рассказывать о войне. До войны это была простая женщина из рабочего поселка, нормировщица с завода, а в 1941 году ее послали на курсы медсестер, а оттуда сразу на фронт. И она полтора года отважно воевала. Вытаскивала из-под огня раненых бойцов, ползала под пулями в грязи и в снегу, оглушаясь взрывами гранат и снарядов. Стойкая, героическая женщина. Но однажды рядом с ней разорвался снаряд и лишил ее ноги, кисти и глаза. Настал ее последний день на войне. Героическую медсестру отправили во фронтовой госпиталь, а потом в тыл. И вот она очутилась в нашем доме, стала нашей соседкой. Работать она не могла, из дома выходила ненадолго, целыми днями сидела на кровати, курила и рассказывала о войне. Она делала то же, что делали все другие калеки, очевидцы фронтовых событий: без конца говорила о том, что пережила. Спустя всего несколько дней тетя Валя стала очень нервничать. Ходила бледная, кусала губы, трясла подбородком и бормотала: «Я больше так не могу, не могу!» Но ничего не объясняла. Зато объясняла ее мама, когда готовила в общей кухне: «Ах, как тяжело стало жить, просто невыносимо. Эта фронтовичка все время курит, пьет кипяток, грызет сухари и рассказывает об ужасах на фронте. Одно и то же! Вся комната в дыму – хоть в окно лезь, и без конца эти рассказы о том, кто как погиб, а кто заслужил медаль, а кому пулей ухо оторвало, и как ротный командир чуть не пристрелил струсившего старшину, а когда повел роту в атаку, его убил вражеский снайпер, пуля попала в сердце, и он лежал на снегу молодой, красивый и задумчивый. И прочее, и прочее. А потом снова кипяток, сухари, папиросы, и опять все сначала – о ротном командире, струсившем старшине, гибели, медалях, оторванном ухе и всем остальном. Что нам делать? Наших просьб эта дама не слышит! Простых слов не понимает! Куда нам деваться?»
У тети Вали не было детей, и наша мама ей сказала: «Подумаешь, рассказы о войне! Терпите! У вас ведь детей нет, забот вы тяжелых пока не знаете. Печетесь только о себе. Это еще ничего! Медсестру тоже можно понять. Конечно, можно. Она на фронте всякие ужасы повидала, натерпелась, калекой осталась, что ей за жизнь теперь? Вот однажды война закончится, вернетесь домой, в Ленинград, и будете вспоминать эту фронтовичку как нашу общую спасительницу. Вот поэтому и не скрипите зубами, остыньте. Все терпят, и вам надо держаться. Выше голову! Возьмите и сварите медсестре суп из перловки, наваристый, с салом. Окружите ее заботой, помогите ей, ведь вы же не инвалиды, у вас пока все хорошо…»
Тетя Валя С. не вняла этим словам нашей мамочки и продолжала волноваться и бледнеть. И однажды так разволновалась, что выбежала из дома и пошла куда глаза глядят. Стояла зима, морозы. Тетя Валя шла по дороге пешком, пока не очутилась за городом, в роще. Там она заблудилась, забегала, устала, села под деревом и замерзла насмерть. Ее убил психоз. Но смерть этой женщины впечатлила только ее собственную мать, что, конечно, естественно. А нашей маме было все равно. Она даже ничего не сказала, только пожала плечами. Героическая медсестра тоже, казалось, ничего не поняла: войны нет, снаряды не рвутся, отчего же ударяться в панику и умирать? Медсестра как будто и не заметила, что одной жиличкой в нашей квартире стало меньше.
Она продолжала дымить табаком, грызть сухари и рассказывать о войне. Через два месяца за ней приехала ее родственница и увезла куда-то на Дальний Восток.
Когда мы вернулись из эвакуации, мама была уже совсем другим человеком, нежели до войны. Нельзя сказать, что она стала чересчур строгой или замкнутой, или превратилась в скупердяйку и стяжательницу из-за постоянной нужды. Нет. Прежде у нее были кокетство и слабости, красивые мечты и фантазии модницы, непрактичность, капризы и расточительность, свойственные хорошенькой женщине, а теперь все это исчезло. Мама сделалась быстро соображающей, расчетливой и хладнокровной. Она узнала в жизни много горечи. Пережила смерть своих детей, самые страшные в ее жизни события. Она берегла сестру Жанночку и брата Диму, и все-таки они умерли от болезней.
Люди умирали после войны чаще всего из-за плохого питания. Скверное питание вызывало болезни крови, туберкулез, инфекции, бесконечные простуды, пневмонии. Была высокая детская смертность. Сужу по нашей семье и по тем семьям, которых знала лично, а также по рассказам знакомых. Когда я стала взрослой, я поняла, что ничего удивительного в этих смертях нет. Однообразная пища, в основном хлеб и крупа, без мяса и полноценных жиров, без молока, яиц забирала детские жизни. Мой брат Дима страдал простудами, судорогами, сонливостью именно из-за нехватки витаминов и прочих питательных веществ. Мама кормила нас перловой кашей с топленым свиным салом и говорила Диме: «Ешь, и станешь богатырем! Все богатыри ели кашу». Он ел и слабел, мучился простудами, кашлял, хрипел во сне, а иногда у него так сводило ноги, что он кричал, как ужаленный. Мама показывала его врачу, и тот выписывал какую-то микстуру, которую потом в аптеке наливали в наши бутылки и банки, потому что казенная посуда отсутствовала. Еще он говорил, этот врач, что детям следует давать молоко. Но откуда бы взялось молоко? В продаже молока не было, его отпускали только по талонам на усиленное питание, а эти талоны выдавали лишь людям с дистрофией и далеко не всем подряд. А у Димы не находили дистрофию, в его карточке писали: «Простуда, кашель, бронхит, воспаление легких». Теперь я понимаю, что если бы мои братик и сестренка пили по утрам молоко, ели хлеб со сливочным маслом, и хотя бы один раз в неделю на нашем столе были мясо и яйца, они бы не погибли. Но мясо, молоко, яйца и сливочное масло продавались только на базаре у частных лиц. На базар мама ходила, наверное, не чаще двух раз в месяц, когда выдавали аванс и зарплату. Потому что рыночные цены на продукты питания и мамочкина зарплата были несовместимыми понятиями. Иногда мама покупала на рынке два куриных яйца, варила их, мелко нарезала и добавляла в кашу. Но как часто мы ели яйца? Один раз в два месяца. Один раз в неделю ели селедку. Мяса не видели вообще, только сало. Мама покупала у торговцев за большие, немилосердные деньги соленое сало, чудесное на вкус, на вид розово-голубое, не топленое, нарезала ломтиками и делала маленькие бутерброды. Это было прелесть что такое! Мы улыбались от счастья, жмурились и урчали. С той послевоенной поры свежее розово-голубое свиное сало вызывает у меня почти ощущение культа, глубочайшее уважение. Сало спасло мне жизнь. Господь послал нам в помощь этот грандиозный продукт в самое тяжелое для нас время, и мы остались живы – не все, но выжили…
После смерти брата и сестры мама замкнулась. Ходила подавленная, словно пережила контузию. Часто брала в руки их вещи – одежду, ботиночки, ложки, еще что-то, прижимала к груди, к щеке и заходилась в сильном волнении. Еще бы: потерять детей восьми и одиннадцати лет! Слез у нее не было, зато тряслись голова, тело, руки. Потом мамочка отходила, садилась на кровать или на стул, подолгу молчала, ни с кем не разговаривала. Наша соседка тетя Нина, умудренная жизнью женщина, тоже пережившая смерть малолетних детей, только раньше, в 1932 году, научила маму: «Они сейчас в раю. Им хорошо. Ведь они безгрешны! Они бегают там по зеленой, сочной траве, играют, смеются, наблюдают за тобой с небес и шепчут: «Будь спокойна, мамочка, с нами все хорошо! Однажды мы с тобой увидимся и уже никогда не расстанемся. И будет у нас жизнь вечная и прелестная!» И мою маму эти речи поднимали, делали здоровее, спокойнее. Эти речи происходили из нашей великой христианской религии, а монотонные, упругие, металлические голоса, доносящиеся из радиоточки, официальные голоса нашего правительства, могли только убить, угробить, свести с ума. Эти свинцовые бормотания дикторов радио послевоенных сороковых годов казались дьявольщиной. Кто их придумал – такие бездушные? Помню морозное, унылое, тоскливое мартовское утро 1948 года. Мы сидим за столом – мама, соседка тетя Нина и я, поминаем моего братика Диму, умершего от пневмонии 2 февраля. Дима умер сорок дней назад, вечером, но мы собрались за столом утром. Передо мной кружка чая. Мама и тетя Нина пьют спирт. Они молчат. Им, женщинам и матерям, невероятно тяжело думать об умерших детях. И вдруг доносится металлический голос диктора: «В текущем году в стране увеличится выпуск товаров широкого потребления. Фабрики Министерства легкой промышленности с начала года увеличили производство тканей…» И мама вдруг усмехнулась и сказала: «У этого диктора такой голос, словно он сам не верит в то, что говорит». Затем мама вспомнила, что когда она заказывала гроб для Димы, гробовщик вздохнул и сказал: «Эх, настанут ли еще такие времена, когда гробы снова будут обивать тканью? Когда-то мы предлагали заказчикам шелк и бархат. А теперь даже усопшего накрыть нечем – не найдешь куска самой обычной материи!» Гробовщик жаловался на товарный голод. В сороковые годы это была эпидемия – отсутствие товаров. Ни одежды, обуви, ни мебели, ни предметов обихода в продаже вы не нашли бы, по крайней мере, в таких небольших городах, как наш. В нашем городе, казалось, магазины ничем не торговали, кроме чепухи. На полках стояли какие-то шкатулки, которых и до войны было много, рамки для фотографий, керосиновые фонари и еще что-то. Хочешь что-то купить из одежды, обуви или приличной еды – иди на базар. Только там, на рынке, и существовала торговля, но за каждую вещь просили большие деньги или драгоценные продукты – яйца, сливочное масло, сало, сахар. Можно было также расплатиться мылом. О мыле мечтали все. о нем вздыхали. Нам в школе говорили, что мыло – основа гигиены, а его в войну и сразу после войны нельзя было купить. Его доставали, выменивали. За мыло могли зарезать на улице, поскольку оно имело такую же ценность, что и деньги. Мамочкины пудреницы, малиновая сумочка, беретка и еще много чего ценного были выменяны в свое время всего на два небольших куска мыла.
В 1945—46 годах мама носила только вещи, приобретенные до войны. То есть каждому предмету было около восьми лет. Легко вообразить, насколько поношенная это была одежда. Остальное из своего довоенного гардероба мама продала в эвакуации, чтобы прокормить нас. Теперь продавать было нечего. Но на рынке мамочка ничего не могла для себя купить – ей это было не по карману. Она покупала только для нас. Правда, после одной-двух покупок на базаре мы еще туже затягивали пояса. И все-таки у мамы появлялись вещи, я это хорошо помню. Ее выручали кустари. Это были люди, которые предлагали товары, сделанные ручным способом в каких-то закрытых артелях и мастерами-надомниками. Они изготавливали обувь из автомобильной резины, перчатки, шапки и кепки из кожаной обивки дверей и диванов, платья, пиджаки, брюки и даже макинтоши и пальто из той же обивки, из портьер, штор, скатертей. Детям, может быть, и не приходило в голову, где кустари добывали материал, чтобы изготавливать такой необходимый для всех нас ширпотреб, но взрослые, конечно, понимали, откуда что берется. Все эти шторы, скатерти, обивки кресел и диванов в большинстве случаев были ворованные. Воры сбывали кустарям все, что им удавалось украсть, а воровство в сороковые годы было такой же эпидемией, как товарный голод.
Кустари обычно приходили по вечерам, когда все взрослые были дома, вежливо здоровались, показывали товар. Торговаться с ними было бесполезно – сколько помню, они всегда держались твердой цены, скидки не делали ни калекам, ни многодетным матерям. Такого понятия, как жалость не существовало. И все это хорошо понимали. В сороковые годы никто никого не жалел, сострадание было диковиной. Кустари хоть и казались приветливыми, но люди были жесткие, решительные, готовые дать отпор любой агрессии. Если с товарами приходили женщины, за их спиной непременно стоял бугай – «рожа как тыква, на лбу чуб, на губе папироса». У этих женщин частенько бывали дамские и детские вещи – сшитые из занавесок платья, пиджаки из старой, но еще вполне годной плюшевой портьеры или скатерти, обувь из какого-то «военного» материала. Мамочка сохранила детские ботиночки нашей покойной сестры Жанночки, купленные у кустарей, и однажды к нам – это были уже шестидесятые годы – пришел ремонтник, увидел их в серванте за стеклом и говорит: «Да это же футляр из-под бинокля!»
Помню, как в конце 1946 года наш город наводнили кустарные домашние тапочки, сшитые из какого-то материла, похожего на войлок. Сшиты они были кое-как, грубо, но поскольку стоили недорого, их покупали. Через год в городе появились такие же кустарные кофты, не шерстяные, не полушерстяные, а неизвестно из чего. Торговцы тапочками ходили по домам с доверху набитыми вещевыми мешками за плечами, потом с такими же мешками ходили продавцы кофт. Они произносили заманчивое, уютное слово «трикотаж». «Хозяйка, купите хороший трикотаж! – говорили они, развязывая мешки. – Купите сейчас, а то потом не будет!» Все торговцы упирали на то, что нам повезло – мы будто бы поймали счастливый момент. Мама купила и тапочки, и кофту. Кофта выглядела не нарядно и не украшала, но все-таки это был предмет одежды. Без одежды ведь совсем плохо.
В сороковые годы было много кустарных вещей. Мамочка носила пальто на вате, сшитое из диванной обивки темно-коричневого цвета. Вату для пальто добыли явно из того же дивана. Но мама была довольна, потому что настоящее пальто, фабричного производства, она купить не могла. В свободную продажу такие вещи в нашем городе не поступали, а спекулянты просили за одежду, сшитую на фабрике, слишком дорого. И хотя на рынке всегда можно было купить поношенную одежду – пальто, юбки, кофты и блузы, пиджаки и платья, она тоже стоила недешево. Это были ворованные вещи, привезенные из других городов. Бандиты нападали на дома, на прохожих, грабили их, сбывали добычу перекупщикам, а те увозили товар в другой город и сбывали на базаре.
Особенно плохо обстояло дело с дамским нижним бельем. О, это была всенародная беда! Мама надевала вниз, под одежду, белье, перешитое из солдатских кальсон. Когда мы ходили в городскую баню, я видела такое же белье из кальсон у многих женщин. Клапан, что был спереди на кальсонах, плотно и намертво зашивали, и чем аккуратнее это делалось, тем изящнее такое белье смотрелось. Фабричное же белье вызывало немалую зависть. Его берегли, за ним тщательно присматривали, поскольку в любую минуту его могли украсть. Впрочем, крали любую одежду – ведь ее всегда можно было выгодно сбыть, и притом очень быстро, уже через десять минут после кражи.
Сразу после войны трудно было раздобыть зубной пасты, зубных щеток. Зубной порошок, мятный, хорошо пахнущий, и зубные щетки привозили из крупных городов, из столиц республик, и, конечно, из Москвы. Люди, никогда не бывавшие в Москве, с открытым ртом слушали тех, кто посещал нашу главную столицу, и всегда расспрашивали, как выглядят столичные магазины, правда ли, что в московских универмагах можно купить одежду, обувь, нижнее белье, мыло, духи, пудру, принадлежности для бритья и стрижки, зубные щетки, коробочку зубного порошка. Москва была наглухо закрытым городом. В Москву пускали только по пропускам. Моя мама тоже спрашивала. Она, как и все другие женщины страны, завидовала столичным жительницам. Позже, через несколько лет, выяснилось, что многие рассказчики попросту выдумывали, сочиняли небылицы о снабжении Москвы, говорили, что оно высшей категории, «снабжение класса «экстра». Никто не знал, что это за снабжение такое – «экстра», существует ли оно на самом деле, и верили. Воображали себе богатые магазины, нарядные светящиеся витрины, улыбки и смех столичных дам, которых мужья и кавалеры приглашают посетить театр, кафе и прокатиться на таксомоторе. Слово «таксомотор» действовало на нас, живущих в ужасной нищете, волнующе и ободряюще. Всюду ходила такая фраза: «Быстро, как на столичном таксомоторе». Вероятно, это слово внушало нам надежду на восстановление нормальной жизни, на благополучие. А может быть, нам просто хотелось во что-то верить, ведь все давно уже устали страдать.
Как-то раз к нам пришел какой-то приезжий и спросил, здесь ли проживает такая-то семья. Фамилия этой семьи была нам незнакомая. Мы рассказали, что наш дом разбомбили, поэтому мы живем в чужом уцелевшем доме, в подвале, и ждем, когда наше жилье отстроят заново. Выяснилось, что этому человеку дали неверный адрес. Он расстроился, а потом развязал свой мешок и показал нам драгоценности: сахар, зубной порошок и мыло. «Купите что-нибудь или все сразу, – сказал он. – Мне срочно нужны деньги на обратную дорогу». А мама сказала: «Господи! Да где же вы все это взяли?» И приезжий ответил, что в Москве. Купил в универмаге. Мама задумчиво и зачарованно качала головой. Видимо, она представила себе этот универмаг: широкие лестницы, море электрического света, разноцветные люстры, служащие в униформе и, конечно, заваленные товарами прилавки. Незнакомец назвал сравнительно небольшую цену, но даже этих денег у мамочки не нашлось, и она отправилась занимать, кое-как собрала на мыло и зубной порошок, а сахар купила соседка, тетя Нина. И вот открытая коробочка зубного порошка стоит на столе, рядом лежит настоящее туалетное мыло в красивой бумажной обертке, и мы раз за разом наклоняемся и нюхаем эти драгоценные предметы. Это было в 1947 году. Брат Дима был еще с нами, а сестра Жанночка уже умерла… Я хотела позвать подругу Надю из дома напротив – пусть подивиться нашей удаче, но мама не велела этого делать. Я подумала, что она не хочет, чтобы нам завидовали. Ведь все мы были люди простые, обыкновенные, и зависть была естественным для нас свойством, но потом, повзрослев, я поняла: мама опасалась слухов и сплетен, которые могли навлечь на нас беду – воров или, еще хуже, налетчиков. Ведь наводчики не дремали, а ходили, вынюхивали, кто как живет, есть ли чем поживиться, слушали чужие разговоры, сплетни, домыслы. В то время все мы боялись за свою жизнь, потому что грабежи и убийства были частым делом. Поодиночке далеко старались не ходить, и если уж случалась такая необходимость, то одевались победнее, в последнее рванье. Вечером улицы пустели, а выходить ночью было равносильно самоубийству. Вообще люди очень боялись воров и бандитов и старались не болтать лишнего. Все ценное прятали подальше, деньги зашивали в одежду, а иногда клали в рот, изображали немых или контуженных. Я видела это собственными глазами.
Зубной порошок и мыло будоражили наше воображение еще только один день, а затем мама выгодно обменяла эти вещи на сало, сливочное масло и среднюю по величине соленую рыбину-селедку. Селедку она перетерла, смешала с частью топленого сала, и получилось селедочное сало, очень вкусное и калорийное. Сливочное масло она тоже растопила и тоже смешала с топленым салом, и мы ежедневно добавляли по полстоловой ложке этого лакомства в кашу, а селедочное сало один раз в день намазывали на хлеб. Хватило на полный месяц. Если бы мои брат и сестра питались так и все последующие месяцы, они, может быть, дожили бы до сегодняшних дней. Но, к нашему горю, этого не вышло.
Наверное, мама очень хотела оставить пудру себе, и мыло тоже, ведь она хорошо помнила то время, когда без манипуляций с пудрой, помадой, лаком и тенями не проходило ни одного ее дня. Но раздумывала ли она хоть минуту? Я уверена, что нет. Жертвуя чем-либо ради нас, она никогда не рассуждала, нужна ли эта жертва и можно ли поступить иначе.
Мамочка рано состарилась. В сорок лет выглядела так, словно ей за пятьдесят. Очень многие женщины и мужчины потеряли во время войны свою прежнюю привлекательность, особенно пострадали дамы. Всего за два-три года из полненьких, румяных и хорошеньких они превратились в сухих, бледных и хмурых. Это черное дело сделала война и ее верные помощники – плохая еда и вода, тяжелые жилищные условия, холод, тревоги и переживания, а также многочасовой труд и потери близких людей. Когда я смотрю на один мамочкин снимок 1940 года, где она особенно хорошенькая и веселая, я с горечью думаю: «Эта симпатичная женщина не знает, что через три года потеряет отца, через шесть лет младшую дочь, а через семь – сына. Также потеряет мужа. И будет жить в подвале, без солнечного света, недоедать, а вместо красивой одежды ей придется носить ужасные вещи, сшитые из диванной обивки и скатертей. И еще она не знает, что всего через пять превратиться совсем в другую женщину. Что за горькая судьба!» Да уж, судьбу женщин, подобных моей маме, переживших войну, иначе как горькой не назовешь.
Но мама не роптала. Она как будто поняла, что в жалобах нет никакого смысла, что это лишь жесты и звуки. Она впадала в задумчивость. А затем у нее появилась привычка читать газеты, потому что книг не было. Иногда книгами в войну отапливали помещения, но чаще их использовали как бумагу для письма – писали между строчками, так как обычная бумага была редкостью, и конечно, для курения махорки. А еще из них делали кульки для крупы, соли и семечек. Если книги были редкие и ценные, их можно было выгодно продать и обменять на продукты. Ноу нас не водилось даже самой захудалой книжки. Мы уезжали в эвакуацию налегке и вернулись ни с чем, и поэтому мама читала газеты. Напьется морковного чаю с сухарями, сядет за стол под лампой, подопрет рукой щеку и принимается за чтение. Газеты годились любые, без разбору, чаще всего они были старые, их использовали для свертков. За чтением мамуля проводила время, чтобы отвлечься. Ведь другого досуга не было. К тому же она была одинокая женщина. Кроме меня, у мамочки некого не осталось.
Сразу после смерти моего брата мама стала отчаянно меня беречь. Сделалась излишне подозрительной и маниакально заботливой. Зимой, весной и осенью каждый день щупала мне лоб, проверяла, нет ли температуры. Бросалась ко мне, сажала на стул, сама снимала с меня обувь, щупала носки или портянки. Если они бывали хоть немного влажные, мамочка восклицала: «Ах, насквозь сырые!» и тут же растирала мне ноги, закутывала их в одеяло, затем бросалась ставить чайник, чтобы поить меня кипятком. Даже самая крошечная мысль о том, что и я могу заболеть и умереть, делала ее безумной. Она постоянно думала о еде для меня и доставала ее, выменивала, покупала, заставляла есть хлеб с маслом, кашу с молоком, в обед и вечером запихивала в меня толченую вареную картошку с топленым салом, селедку и говорила: «Ты очень, очень худенькая, нужно поправляться, набирать вес!» В 1948 году мне исполнилось 15 лет, я была подростком, росла и вытягивалась, но особенной худобой не отличалась. Мама боялась, что я заболею туберкулезом, от которого люди умирали после войны тысячами. От этой болезни сгорела наша соседка тетя Нина. От туберкулеза умерла и моя подруга Надя. Мы учились с ней в одном классе. Надя умерла в 1948 году, в ноябре. В нашей квартире в подвале умерли еще двое детей. Тетя Нина жила с родной сестрой, у которой были два сына, два мальчика, семи и девяти лет. Один из них, семилетний, умер от пневмонии, как и мой брат. Вскоре после этого у тети Нины открылся туберкулез, она задумала уехать куда-то в теплые края, но не успела. И мамочка еще свирепее стала стеречь мое здоровье и кормить меня за покойных Жанночку и Диму.
Продукты питания, полноценные и в ассортименте, стали появляться на прилавках магазинов таких городов, как наш, в начале 50-х годов. И хотя продуктовые карточки отменили в 1947 году, да еще провели денежную реформу, с питанием было плохо. К тому же люди зарабатывали мало. При этом вокруг процветало воровство, тащили и крали все, что можно. Продавцы разбавляли молоко, обвешивали и устраивали пересортицу, мочили водой сахар, чтобы он прибавлял в весе, иногда даже мочили крупу и уверяли, что в таком виде ее доставили в магазин. Приезжие люди рассказывали о коммерческих магазинах, которые снова появились там и тут в крупных городах, и что в них можно купить все, что угодно – мясные изделия, рыбу, сыры, яйца, шоколад, сгущенное молоко, какао, кофе, сливки, конфеты, ликеры, наливки, шампанское и пирожные и прочие удивительные гастрономические вещи, но только по баснословной цене. А у нас в магазинах можно было купить хлеб, крупу и подсолнечное масло. Сахар, сливочное масло, мясные и рыбные консервы появлялись в продаже редко. Зато эти продукты всегда можно было купить на рынке.
Помню, как в 1949 году мы с мамой поехали в нашей родственнице, которая проживала в Горьком. Эту поездку я запомнила на всю жизнь. Кругом была ужасная бедность, люди были замкнуты и настороженны. Тревоги на лицах людей было больше, чем спокойствия или веселья. Хорошо помню, что в те годы люди решительно не доверяли друг другу. Никакую вещь не оставляли без присмотра – это было безумием. Не оставляли одних маленьких детей – их могли раздеть, то есть украсть одежду и обувь. Мы с мамой тоже все время глядели по сторонам. И вот мы приехали в Москву, в самый лучший город нашей страны, стали ждать на вокзале поезд до Горького. Народу в зале ожидания было много. Мы сидели на лавке, разглядывали людей, и тут я увидела вывеску «Буфет». Мама тоже ее заметила. Пойти и поглядеть, что продают в буфете, было для меня таким же развлечением, как посетить театр или цирк. И я стала умолять мамочку разрешить мне пойти и посмотреть, какой едой торгуют в столице. Мама отчаянно боялась за меня и все-таки разрешила: «Десять минут! Слышишь? Обещай мне!» Я пообещала и отправилась. Но вернулась раньше – прибежала и говорю: «Ах, что там такое! Кексы, шоколад, бутерброды с маслом и сардинами, пирожки с повидлом, чай, горячее молоко и… вареная курица!» И мамочка прошептала: «Неужели курица? Ах, в самом деле?» Она пошла посмотреть, а когда вернулась, долго качала головой и приговаривала: «Вот это да!» Курятина появилась на нашем столе нескоро, спустя несколько лет. Ее в любой день можно было купить в магазинах кооперативного потребсоюза, правда, по завышенной цене. Ну и, конечно, на базаре, где за нее тоже просили немало. Обычно мы покупали ее в выходные и праздничные дни.
На всю жизнь мама сохранила привычку кормить меня, как подростка. То есть до отвала. Даже когда я вышла замуж, и мама приходила к нам с мужем в гости, она щупала мои руки и плечи, проверяя, не прячу ли я худобу. Из ее сумки появлялись домашние пироги и пирожки, и я ела их и нахваливала, зная, что у мамочки станет хорошо и спокойно на сердце. Она будет улыбаться. Это было для меня очень важно. Я всегда мечтала видеть мою мамочку улыбающейся. Ведь она так много повидала горя!
Мама скончалась в 1974 году. Ей было шестьдесят семь лет. Думаю, что если бы не тяжелые потрясения сороковых годов, она, золотая моя, прожила бы на двадцать лет больше».
* * *
Анастасия Жел-ова, 1932 года рождения: «Первые послевоенные годы я помню хорошо, потому что было очень трудно. Людям было тяжело. Часто умирали от недоедания, от болезней, а еще можно было умереть от рук дерзких преступников. Помню, у нас были знакомые, дядя Вася П. и его жена Нина Георгиевна, они благополучно пережили войну, а в 1946 году погибли. Возвращались домой, свернули с улицы в свой двор, а в подворотне – налетчики. Нина Георгиевна закричала, а налетчики стали стрелять. Когда наших несчастных знакомых обнаружили, они были мертвые и раздетые. Преступники забрали одежду, или «ширпотреб», как тогда говорили. Из-за этого «ширпотреба» дядю Васю и его жену и застрелили. Это был обычный будний день в ноябре 1946 года, и обычный случай. Никого это происшествие не удивило. Только нам, детям, лишний раз прочитали наставление о том, что нужно быть очень осторожными, не ходить поодиночке и ни в коем случае в темные часы. Хотя мы и так хорошо знали, как много преступников охотятся на улицах за «ширпотребом», детским и взрослым. И очень боялись этих преступников. Страх в то время был самым распространенным и естественным чувством.
За два дня до гибели, дядя Вася П. и его жена были у нас в гостях. Уходя, дядя Вася забыл захватить свой футляр для очков. По забывчивости оставил его на подоконнике. Оказалось, что навсегда. Этот футляр долго лежал в нашем комоде среди других вещей, а теперь он у меня. Недавно я на него глядела. Старый-престарый потертый, незамысловатый футлярчик. Но когда я беру его в руки, сразу вспоминаю сороковые годы. Ох, до чего же непростое это было время!
Войну мы пережидали, как и многие другие, в эвакуации, за Волгой. А в нашем родном городе хозяйничали фашисты. Мы желали им смерти. Ведь они были душегубы, мучители. Все мы знали, что они ведут себя на нашей земле, как гнусное отродье, а бабушки говорили, что они как демоны. И мы мечтали, чтобы наша доблестная армия поскорее очистила наш СССР от этой нечисти.
В конце 1944 года нам разрешили вернуться в свой родной город. Я и два моих младших брата обрадовались, а мама приняла эту новость сухо и сказала: «Еще неизвестно, где мы будем жить. Вдруг наш дом разрушен?» Она боялась, что мы плохо устроимся и будем бедствовать. Мама сказала: «Пусть сначала другие поедут, а мы поглядим, что они расскажут». Но все решил папа. Он пришел однажды вечером и объявил: «Поедем! Я получил назначение. Буду заведовать отделом в городском Управлении здравоохранения. Нам выделят большую комнату в квартире и в дальнейшем обещают улучшить наши условия!» И мы поехали.
В эвакуации мы занимали половину крестьянского дома, жили тесно, но все-таки сносно. Мы привыкли. Мама работала на заводе. Папа служил в «аптечном хозяйстве», как он называл свою работу. Он был ответственным работником на складе медикаментов. Любил учет, порядок, был бережливым человеком. Хорошо помню, как аккуратно он носил свое пальто с барашковым воротником. Это пальто я запомнила на всю жизнь, потому что любила гладить воротник и говорить: «Барашек!» Мы, дети, скучали по животным. Потому что из-за войны животные совсем выпали из нашей жизни. Не было ни собак, ни кошек, ни голубей. Иногда можно было увидеть только унылых лошадей, которые работали как транспорт при заводах. Мы радовались каждой птичке на ветке, но и птиц было мало, и даже вороны куда-то подевались. В войну все переживали тягостное ощущение пустоты. Лишь летом 1947 года я впервые за долгое время увидела на улице собаку. Мы стали смотреть на нее, как на чудо. Живая собака! Мы пошли за ней, показывая на нее пальцами, желая ее потрогать, погладить. Молодой песик скакал и резвился, а мы счастливо улыбались и смеялись. Он принадлежал одному старшему офицеру, и тот всегда находился рядом, потому что собаку могли украсть и съесть. И украли бы, и съели, а из шкуры сшили бы варежки или детскую шапку. Жизнь сразу после войны была такая трудная, что крали и тащили все, что ни попадя. А уж собаку стащили бы несомненно, сварили бы в котле, набили бы себе брюхо. Или продали бы на рынке под видом баранины. Это было тогда легко сделать, поскольку из-за хронического недоедания многие люди потеряли бдительность относительно состояния и качества продуктов.
Еда занимает в моей памяти отдельное место. Слишком много с ней было связано, вокруг нее крутились чувства, желания и мечты. В сороковые годы она была главным нашим стремлением. О хорошей еде вздыхали. Все, что имело отношение к еде, было чрезвычайно серьезно, насчет этого не шутили. Ломтик свежего черного хлеба, посыпанный сахаром, – объедение, достойное восторга. Белый хлеб с яблочным повидлом – вершина детских радостей, выше только небеса и рай. Хорошая еда – это праздник, улыбки и смех, счастье и радость. Я мечтала вырасти, заработать много денег и купить себе повидла и сгущенного молока, белого хлеба и шоколада. Другие прелести жизни имели куда меньшее значение, а порой вовсе казались пустыми. Так я частенько рассуждала все сороковые годы.
Нашей повседневной едой была перловая или пшенная каша, перловый суп, черствый хлеб, сухари, консервы, топленое сало, сухой картофель. Раз в неделю или в десять дней папа доставал мясные консервы, селедку, а иногда сгущенное молоко и яичный порошок. В то время это были чрезвычайно ценные продукты питания. Как-то раз папа принес маленький сверток, а в нем оказалось сливочное масло. Мы нарезали хлеба, заварили морковный чай. Мама сделала бутерброды с маслом, и все не могли нарадоваться. Это было в 1943 году. Вовсю громыхала война, наши бесстрашные солдаты били фашистов, а мы в тылу работали на победу. Мне было одиннадцать лет, и я ходила после школьных занятий помогать маме. Работала в бригаде, которая вязала веревки и канаты для фронта. Однажды в бригаде появилась узбечка, очень хорошая, добрая женщина. Она привезла с собой мешочек сухофруктов и со всеми поделилась, хотя это было безрассудством. Я не помню, чтобы в сороковые годы люди делились едой. Моя цепкая детская память этого не схватила. Делиться едой в то время означало то же, что раздавать налево и направо золото и бриллианты. А та дама-узбечка взяла и раздала всей бригаде весь свой мешочек с сухофруктами. Я получила две горсти этого питательного лакомства, принесла домой, и у нас в этот день был праздник. Мы эти сухофрукты измельчили, сыпали на хлеб и ели, как сладость, как пирожное.
В войну всем было трудно. Но вот что удивительно: на базаре можно было купить такую еду, о которой все уже забыли. У частных торговцев можно было купить курятину и куриные яйца, рис, гречку, горох, крестьянское подсолнечное масло и даже какао. Какао! Торговцы предлагали соленое сало, не топленое, а куском, с мясными прожилками. Вся эта еда стоила невероятно дорого. За нее порой просили столько, что в нынешнее время это соответствовало бы такой покупке, как мебельный гарнитур. Однажды мы с мамой шли через базар, и одна торговка, рядом с которой крутился бугай, охранявший ее, предложила маме купить мешочек рису. Помню, она запросила цену, которая в наши дни соответствует цене хорошего телевизора или холодильника. А мешочек с рисом был не больше полулитровой банки. Торговка говорила: «Если будешь варить суп с тушенкой, хватит на два месяца». Рис хорошо разваривался, и в этом была его главная ценность. Но мама только вздохнула. Куда нам до риса! Таких больших денег у нас не водилось. А в другой раз торговка предложила нам кулек гороху. Боже мой! Горох! Но мама снова помотала головой. И тогда торговка сказала: «Если денег нет, могу сменять. На серебро – ложки, ножи, вилки. Или на спирт. Или на мыло. Или на медицинскую вату и марлю». Вата и марля были редкостью и имели огромную ценность, особенно для женщин. Брикет ваты можно было сменять на кусок сала. Брикет марли был в пять раз ценнее. А уж если у вас был спирт, это означало, что вы владеете неслыханной драгоценностью. Спирт в сороковые годы – могущественный продукт, как мыло. Мыло и спирт ценились выше золота. Бутылку спирта можно было сменять на набор из сливочного масла, сала, муки и сахара. А мыло порой было ценнее спирта.
Торговка не знала, что наш папа работает на аптечном складе, где хранятся и вата, и марля, и спирт. Узнав, она, наверное, сильно бы удивилась. Ей, возможно, показалось бы это невероятным: как можно работать на аптечном складе и не прихватить что-нибудь! Наверное, она не боялась присваивать государственную собственность. Рис скорее всего был ворованным, поскольку его не продавали в магазинах и не отпускали на рабочие карточки. Риса во время войны мы не видели. Его в военные годы было очень мало, он поступал лишь в госпитали и в прочие учреждения, где людям требовалось усиленное питание. Где же взять рис, если его нет в продаже? На государственном продовольственном складе. А как его взять? Украсть. То есть тайно присвоить себе. А потом продать его на базаре по баснословной цене или очень выгодно сменять. Так, наверное, и рассуждала бы торговка, узнай она, где работает наш папа. Но папа очень-очень боялся даже думать о воровстве, потому что был ответственным человеком. Прежде всего он отвечал за свою семью, за всех нас. Еще в 1942 году я слышала его слова, сказанные маме: «Что ты, Любаша! Возьми я хоть что-нибудь с полки в нашем складе и положи в карман – все, конец. Обвинят не в воровстве, а в саботаже. И по закону военного времени присудят высшую меру, расстреляют…» Это была страшная речь. Наверное, мама спросила папу, не может ли он тайно вынести со склада что-нибудь ценное, чтобы можно было поменять на еду. И он ей ответил. Мама испугалась и замолчала. И больше не спрашивала папу о его возможностях. Он был ей дорог, и она готова была терпеть лишения военного времени, лишь бы в нашей семье не случилось никакой беды.
В войну воровства на государственных предприятиях и в учреждениях было мало. Из-за страха, конечно. Все боялись угодить под скорый и безжалостный суд. Судили даже стариков и детей, никого не жалели, потому-то люди и боялись. Атмосфера повсюду была тяжелая. Люди приглядывали друг за другом, следили, а иногда доносили. А бывало и так, что некоторые нехорошие граждане любили пугать впечатлительных людей «законом военного времени», нарочно распускали слухи, что государство за воровство казенного имущества расстреливает всех подряд. У нас в бригаде все до ужаса боялись взять себе даже самый тоненький канатик или веревочку. Однажды я случайно сунула в карман моток бечевки, и пожилая работница, заметив это, сразу сказала: «Да ты что, деточка! В тюрьму захотела? А ну, вынь немедленно!» Я испугалась и впредь была очень внимательной.
Оттого-то я сейчас и удивляюсь, вспоминая, какие продукты питания некоторые торговки продавали на рынке: как они не боялись? Ведь продукты явно были украдены с государственного склада, особенно рис, гречка, сливочное масло, сахар, горох. За воровство можно было лишиться жизни, а люди все равно тащили! Ну и ну. А папа, повторю, даже думать боялся о том, чтобы прихватить что-нибудь, брикет марли, например, или спирту. Ведь мы без него пропали бы.
Папа был нашим спасением. Мы за него держались. Он был очень хороший человек. Преданный своей стране, честный. И до конца преданный нам, своей семье. На фотокарточках того времени у него круглое лицо и круглые очки. Он был немного похож на члена правительства Щербакова. Это мамина сестра так говорила, потому я и запомнила эту фамилию – Щербаков. Папа очень любил нас, своих детей. Когда началась война, его вызвали в военкомат, чтобы отправить на фронт, мама стала собирать его в дорогу, но вот он пришел домой и сказал, что ему запретили ехать на фронт, дали бронь и велели заниматься распределением медикаментов с аптечного склада. С этого дня какие-то недоброжелатели стали писать на него доносы. Папа часто приходил домой задумчивым и вздыхал. Мама спрашивала его, в чем дело, неужели неприятности? «Пашенька, разве что-то не сходится? – тревожно спрашивала она. – Неужто растрата?» Папа отвечал: «Нет, все сходится, все точно и аккуратно, как и положено. Но сегодня к нам приходили из НКВД, проверяли, расспрашивали. И назавтра вызвали на допрос к следователю. Вероятно, кто-то написал донос…» Ах, сколько раз папу проверяли и вызывали в НКВД! И всякий раз его не в чем было упрекнуть. Но доносы все шли и шли. Об этом папочка рассказал мне в 1954 году. Только тогда он узнал, кто желал ему зла, кто хотел для него тюрьмы и даже смерти. Летом 1954 года папа познакомился на футбольном матче с бывшим полковником из НКВД, рассказал ему про доносы во время войны, и тот пообещал разузнать. И вот что оказалось: доносы посылала одна наша хорошая знакомая, Лидия Петровна. Мы, дети, звали ее тетя Лидочка. Она была женой приятеля нашего папы, который тоже служил в «аптечном хозяйстве», но ему не дали бронь, а послали на фронт. Он там доблестно воевал, не погиб, и в 1945 году благополучно вернулся домой. Тогда же они с тетей Лидочкой пришли к нам в гости, и мы все очень радовались, веселились. Тетя Лидочка навещала нас и в войну, потому что эвакуировалась вслед за нами в тот же город, что и мы. Папа и мама с ней дружили, всегда были преданы этой дружбе, и вот оказалось, что это именно она хотела, чтобы папа пропал навсегда, сгинул. Мстила ему за то, что его не взяли на фронт, а мужа отправили воевать. Какая коварная дама! И надо же: когда она приходила к нам, то всегда улыбалась. Улыбалась, а в мыслях проклинала нас и желала, чтобы мы пострадали. Что за ужасный порок – зависть!
Когда муж тети Лидочки вернулся с войны, доносов стало меньше. То есть тетя Лидочка перестала заниматься своим черным делом. И вскоре эта семья перебралась в другой город. Оттуда они писали нам письма: «Все хорошо, тепло, много солнца, приезжайте погостить…» Один раз папа и мама приняли это приглашение и поехали. Все им понравилось.
И вот в 1954 году мы узнали, какой злой и опасный человек был рядом с нами. Вот какая была трудная и удивительная жизнь в то время.
Доносы, однако, поступали и от других людей. Вероятно, кто-то желал занять папину должность. Особенно много доносов и кляуз стало поступать с зимы 1946 года. Мы уже вернулись в свой родной город, поселились в многоквартирном доме, заняли большую комнату, 30 квадратных метров. На пятерых. Папа перегородил ее, и получились две комнаты. В одной мы, дети, а в другой родители.
Папа служил в Управлении горздрава, заведовал отделом. Что это означало в то время? Хороший дополнительный паек четыре раза в год и другие льготы. Будучи начальником отдела можно было сделать неплохую карьеру. Папа был коммунист, во всем и всегда разделял политику государства. Никогда, даже шепотом не высказывался о главе нашей страны плохо. Также не помню, чтобы он славил Сталина. Вероятно, он проявлял разумную сдержанность и добросовестно выполнял свои обязанности. Дела в своем отделе вел аккуратно, точно и в срок исполнял приказы начальства, не был строптивым, вспыльчивым, допускал лишь необходимую строгость в учете и организации. А на него писали доносы! По несколько штук в год. Тот полковник НКВД в 1934 году выяснил, что всего за несколько лет было написано тридцать шесть доносов! Но почему? Откуда у людей была на папу такая злость? Причина, видимо, вот какая: он казался удачливым, производил впечатление везучего человека.
У папы, как я уже говорила, было круглое лицо. А это в сороковые годы значило очень много. Не изможденные, не худые, а упитанные, округленные, физически складные люди производили особое впечатление. Они вызывали зависть и уважение. На таких мужчин с повышенным интересом глядели женщины, а если такой мужчина был еще и «прилично» одет, его принимали за высокое начальство или за невероятно удачливого, зажиточного человека. Упитанность была мерилом благополучия. А добротный гардероб свидетельствовал о больших возможностях. Ведь в войну и после войны люди жили в основном плохо. Питались кое-как, надевали на себя все что можно, и порой это были вещи, сшитые из скатертей, занавесок, диванной обшивки. А какая была обувь! Нередко ее изготавливали кустарным способом из автомобильной резины, брезента и низкосортного войлока. А папа носил костюм и пальто, сшитые в ателье. Ему повезло: какой-то его знакомый поделился с ним случайно добытым хорошим материалом, и оба они сделали заказы у портного. Это было в 1941 году, перед самой войной. Но ведь хорошие вещи еще нужно сберечь, и папе это удалось. Это в войну не многим удавалось, а папочка очень бережно относился к любым вещам, и его гардероб хорошо сохранился. А те, кто плохо знали папу, думали, что он богач. Должно быть, они фантазировали себе, что он время от времени приобретает все новые вещи, причем в магазинах и ателье, а не кустарные или поношенные с базара. А папа имел всего-то один костюм, вязаную жилетку, пару рубашек, пару галстуков, полуботинки да галоши. Ну, еще пальто и плащ на весну-осень. Вот и весь гардероб «богача». Однако людям этого не объяснишь. Если они внушили себе, что такой-то гражданин удачливый и зажиточный, разубедить их в этом непросто. Таково, видимо, свойство человеческой натуры.
Сейчас, когда я прожила свою жизнь и могу судить о различиях послевоенных десятилетий, я думаю, что тяжелее всего людям приходилось именно в сороковые годы. Я была подростком и хорошо запомнила многие события, явления и ощущения того времени. На улицах, к примеру, была такая ужасная преступность, что наша жизнь могла оборваться в любой день. Как мой папочка уберег себя от налетчиков – это просто-таки поразительно! В 1945—48 годах на людей, бывало, нападали даже днем, а уж шагнуть одному или вдвоем в ночь, в темный вечер – это было самоубийство. В темноте вас поджидали злые люди с пистолетами и ножами, чтобы добыть «ширпотреб» и другие ценности. Заглядывали в рот – нет ли золотых зубов и не спрятаны ли за щекой деньги. Забирали не только одежду и обувь, часы и украшения, прихватывали также портсигары, кисеты, футляры с очками. Бывали случаи, когда снимали с людей даже нижнее белье. Не раз и не два мы слышали вечером и ночью за окошком пальбу. Страх забирался к нам даже в постели, под одеяло. Помню, мой младший брат спросил меня, откуда взялись налетчики, из темноты? «Да, из темноты», – тихо сказала я. «А кто они?» – спросил брат. Я сказала, что разбойники. Но я и сама не знала, кто они, эти налетчики. Мне было тринадцать лет. Только позже, когда я подросла, я могла рассказать, откуда эти налетчики взялись.
В войну из-за комендантского часа, из-за патрулей не было такой преступности, как в первые послевоенные годы. Бродить по улицам в темное время суток запрещалось, на это нужно было иметь разрешение. После работы все сидели по домам и мечтали, как хорошо будет, когда мы победим фашистов. Папа, чтобы нас развеселить, рассказывал, какая хорошая жизнь настанет после войны. Будет «всё-всё-всё». Товары будут продаваться в больших, светлых и ярких магазинах. Полки затрещат от товаров. Появятся игрушки, а также сладости – конфеты, пирожные, торты, монпасье и, конечно, мороженое. Шоколадом и ситро будут торговать на каждом углу, даже в подворотнях. А сколько будет еды – об этом и говорить не стоит. Сто видов хлеба и булок! Сто видов колбас и сосисок! От таких папиных речей мы сладко дрожали. Как нам хотелось, чтобы фашисты поскорее сгинули!
Тогда наша великая страна-победительница будет производить огромное количество товаров. И мы будем счастливы. Папа говорил, что будут построены дома с просторными квартирами. Города засияют и засверкают. Папа говорил нам о мечте, и мы мечтали. Думаю, многие мечтали в то время о хорошей жизни, даже те, у кого не было ну совсем никакого воображения. Ведь люди не могут без мечты. Мечта – это надежда. А жизнь без надежды – это существование во мраке. Но вот война закончилась, люди вернулись в свои города, и как все устроилось? Стало очень трудно. Все населенные пункты разделили по категориям снабжения. Если ваш город промышленный, значительный для экономики страны, то он, как и центральные города, достоин первой категории снабжения. Это означает бесперебойную поставку хлеба и муки, сахара и жиров, молока, крупы и консервов, и даже мяса. Это столовые, закусочные и магазины. Еще это означает ускоренное восстановление и строительство домов. Вторая категория доставалась тем городам и областям, которые были обычными средними городами, а не индустриальными центрами. Также вторая категория снабжения назначалась тем районам, которые кормили нашу родину, то есть сельскохозяйственным центрам. Туда привозили хлеб и муку, жиры и крупу один или два раза в неделю. Там были плохие столовые, и ассортимент товаров был бедный. Третья же категория – для всех остальных. Те граждане, которые проживали в областях с третьей категорией снабжения, могли запросто умереть от недоедания в любом возрасте. Умирали целыми семьями. Умирали маленькие дети, школьники, студенты, зрелые люди и старики. Помню, как в 1948—49 годах одна наша знакомая, которая проживала в поселке с третьей категорией снабжения, потеряла всех своих трех детей, а также двух сестер и мать. Все они умерли от туберкулеза, пневмонии и малокровия, вызванных недоеданием.
Наш родной город был второй категории. И когда мы вернулись из эвакуации, то сразу это почувствовали. Все думали, что по случаю Победы отменят продуктовые карточки, но их не отменили. И все ждали, что развернется гражданское строительство, но оно не развернулось. И почти все предприятия находились еще в эвакуации. Поэтому в нашем городе была ужасная безработица. Люди искали себе место и не могли его найти – все было занято. Хуже всего было старикам и инвалидам, так как их вообще никуда не брали. Старики, пережившие войну, стали умирать. В нашем доме, например, в 1946 году умерли сразу четыре бабушки и два старичка. Для мамы тоже поначалу не нашлось места, она обошла, помню, весь город, но у нее ничего не получилось. Папа отчаянно старался ее устроить хоть куда-нибудь, и, наконец, летом 1946 года маму приняли на работу в заготовительную контору. Но сколько людей проиграли в попытке найти место! На улицах появились нищие. Люди бродили по дворам с гармошками, играли, прося подать хоть что-нибудь на жизнь, и нередко с ними были дети. Нищих можно было встретить повсюду, на базаре и возле городских бань, у торговых лавок с керосином, у дровяных складов. Они стояли или ходили, вытянув руку, унылые, осунувшиеся. Но им редко подавали. И они, конечно, умирали. Один такой нищий пришел во двор нашего дома, ходил-ходил, глядя на окна, а потом сел и умер. Кто он был такой, никому не было известно. Соседи позвали милиционера, тот пришел, оглядел нищего и ушел. А потом приехали санитары и увезли покойника. Я запомнила этот день еще потому, что в тот же вечер в наш двор пришел человек и наклеил на двери объявление: «Выступает знаменитый джигит Али-бек! Номер с кинжалами и саблей! Спешите видеть. Плата продуктами. Также берем дрова и вещи».
На следующий день во дворе появились какие-то люди с Кавказа, расстелили ковер, и на этот ковер вышел джигит Али-бек с двумя ножами и под гармошку стал исполнять танцевальный номер. Потом станцевал, размахивая саблей. Вокруг него собралась толпа, которой тут же напомнили, что за выступление Али-бек берет плату продуктами. Все мы страдали от скуки, потому что развлечения были редкостью. Жизнь протекала чрезвычайно однообразно, тоска была беспросветная, поэтому на Али-бека вышли посмотреть все. Потом помощник джигита стал собирать плату. Люди давали хлеб, муку, крупу, сахар, яичный порошок, сушеные яблоки, папиросы. Джигит ни от чего не отказывался. В 1946—48 годах во дворах выступали в основном лилипуты, джигиты и силачи. Силачи выглядели зрелищнее всего. Помню такое объявление: «Силач Магомед показывает чудеса силы и воли! Жонглирование двухпудовыми гирями! Разрывание цепей! Гнет кочергу! Пальцами сгибает гвозди!» Мы очень хотели поглядеть на этого Магомеда и ждали, когда он придет. И вот он появился, силач Магомед. Молодой мужчина с усами, невероятно мускулистый, с огромными плечами и шеей. Стал подбрасывать гири и ловить их. Потом согнул чугунную кочергу и отдал ее зрителем – пощупать и убедиться, что она действительно чугунная. После этого разрывал цепи, гнул гвозди. Представление длилось полчаса. Гири, цепи и гвозди лежали в тележке с одним колесом. Многие люди были ошеломлены: до чего же сильный человек! А мама удивлялась, сколько же этому Магомеду требуется еды, чтобы быть таким мускулистым и сильным. Она качала головой. Но все мы были довольны, что увидели представление. Жизнь была такая трудная и унылая, что люди редко улыбались. Лица у всех были озабоченные. Бедность, болезни, страх за свою жизнь и жестокое однообразие – вот как протекали сороковые годы. Бедность была повсеместная. Хорошего было мало. Смотреть решительно не на что. Наш город зимой утопал в снегу, весной и осенью – в грязи, а летом в пыли. Вечером улицы едва освещались. В домах часто не было воды, плохо работали уборные. Люди жили тесно, недоедали, ссорились и отчаивались. Наверное, не было домов, где не случались бы драки, склоки и самоубийства. Тяжелее всего, как оказалось, было мужчинам, вернувшимся фронта. Особенно офицерам.
На войне офицеры привыкли командовать, распоряжаться, привыкли к субординации и к тому, что многие заботы можно переложить на младших по чину. Еще офицеры привыкли проявлять свою натуру и полюбили внимание к себе. Ведь многие на войне становились храбрецами потому, что были на виду. И вот некоторые такие офицеры чувствовали себя в 1946—48 годах ужаснее всего. Им было очень-очень тяжело. Приехали с войны, поглядели, какая тут жизнь, затосковали и запсиховали. У нас в квартире проживал Максим Иванович, фронтовой капитан, так вот он голодал из-за того, что не мог найти работу, и от этого сходил с ума. Когда он приехал с войны, он каждый день улыбался, напевал, делал в своей комнате физзарядку. Это было в конце 1945 года, а зимой 1946 он стал как будто другим человеком. Продал свою военную форму, ремни, сапоги, шинель. Купил вещи похуже, сильно поношенные, невзрачные. Очень похудел, осунулся. И сильно помрачнел. Ему никак не удавалось найти место, и он не знал, на что жить. Уже никто не слышал, чтобы он напевал. И улыбок его уже никто не видел. Он ходил злой, бормотал что-то нехорошее. Судьба поставила его в невыносимые условия: нужно было научиться выпрашивать, унижаться. А он не мог, он был храбрец-удалец, ротный командир. И однажды он куда-то исчез. Пять дней его не было, а потом в нашей квартире запахло разлагающимся телом. Взломали его дверь, заглянули в комнату, а он висит в петле! На столе записка: «Это не жизнь! Ухожу добровольно. Прощайте. Ваш Максим, гвардии капитан». Его комнатка была самая маленькая, как чулан, и в этой маленькой комнатке фронтовой герой от голода, тоски и неудач и решился на самоубийство. Когда его вынесли на улицу и положили в санитарную машину, мы, дети, тоже вышли. Старая облупленная санитарная машина, грязная, унылая улица, серые неухоженные дома с тусклыми окнами, и мы – плохо одетые, бледные и грустные оттого, что наш сосед повесился. Думали ли мы о том, что жизнь изменится к лучшему, и все станет, как рассказывал папа? Мы, дети, наверное, еще думали. А вот взрослые, я полагаю, уже нет. Особенно те, кто вернулись с фронта. Некоторые из них, увидев, что мирная жизнь обернулась горькой действительностью, затосковали и занервничали. Были такие, которые говорили, что вой снарядов, визг пуль, внезапная гибель товарищей и прочие ужасы войны им привычнее, интереснее и ярче. Я сама слышала от фронтовиков такие речи. Мирная жизнь показалась им невыносимее войны. На фронте им было лучше. До сих пор помню, как ругался другой дядя-военный, который был соседом наших знакомых. Он ненавидел эту убогую жизнь и вопил: «За что я воевал? Вот за это?» Он попросту бесился от злобы. Надрывался: «Гады! Тыловая мразь!» Вероятно, он был недалеким, темным человеком. Верил в то, что пока он сражался на войне, нехорошие люди, прятавшиеся от фронта, превратили его страну в смрадную яму, в тоскливое болото. Видно, он считал, что перед ним, вернувшимся с победой, должна была развернуться другая картина: всюду яркие краски, море света, простор, новенькие дома, улицы, лакированные автомобили, улыбающиеся хорошенькие женщины, богатые витрины и вообще изобилие. А у него не было даже вдоволь табаку.
И он не мог позволить себе каждый день кружку пива или стакан вина. Карманы его вечно были пусты. Весь его гардероб – военная форма. В шкафе хранится только старая пижама. Купить ничего нельзя, нет в продаже. Каждый день диким злым зверем ходит по пятам голод. На обед и на ужин у него частенько один хлеб да кипяток. Он худеет и тускнеет. За лучшую жизнь нужно драться, нужно обивать пороги учреждений, предприятий, искать место, жалобно просить, упрашивать, клянчить. А кругом равнодушие и недоверие. Помогают только своим, выручают только самых близких. На героев войны смотрят просто, без интереса, как на пустое место. Но тяжелее всего дома, там настоящая война с теснотой, тоской, пустым желудком и не проходящей злостью на жизнь. «Мерзавцы! – кричал военный. – Мне, боевому командиру, некуда деться!» Но на его крики никто не обращал внимания. Это ведь было в 1946 году. За годы войны люди научились не обращать внимания на истерики, вопли и слезы. Разжалобить людей было почти невозможно. Хочешь отравиться – травись, только не на глазах у детей. Выбросился из окна – ну что ж, сам себе сделал развлечение. Поэтому, сколько бы тот военный ни кричал, никто ему не сочувствовал. Только говорили: «Слушай, мил-человек, шел бы ты во двор надрываться! Там над головой облака висят, вот к ним и обращайся». У военного от злости на лбу вздувались вены. Наконец его взяли в дорожную бригаду, строить дорогу. Это была временная работа, но все-таки лучше, чем ничего. И офицер немного успокоился. У него завелись деньги, он мог ежедневно выпивать вина и пива, а то и водки. Это ему помогало, примиряло его с действительностью. Однажды приходим в гости к своим знакомым, а он пьяный сидит на сундуке в общем коридоре и рассказывает дряхлой бабушке, которая ждала очереди в уборную, о том, как он жил на войне: «И этот немецкий городок мы захватили почти без боя… Потери, конечно, были, но малые. Да. И уже через час я имел в зубах сигару, в руке – стакан с коньяком, а еще ломоть вяленого мяса. И какие-то хрустящие галеты. И вот я сижу в старинном кресле, ем, пью и дым пускаю, и думаю о хорошей, белокурой мадам… Да. Ведь я был усач и герой, и кругом интересный мужчина. Думал: «Вот победим фашистов, заживем как положено!» И вот те на: приехали. Промахнулись… Тоска-а и чепуха-а… Представляешь, бабуся, я даже застрелиться хотел!»
Конечно, не все военные хныкали, психовали и впадали в истерику. Ведь все люди не могут делать одно и то же. Характеры все-таки разные. Родственник моей подруги, которого звали дядя Гриша, ни разу никому не пожаловался, хотя ему тоже было несладко. На войне он бил фашистов, а здесь, в мирное время и в родном городе, ему пришлось бить других врагов: безденежье, безработицу, тоску и голод. Сначала ему повезло – его взяли в бригаду возчиков. На телеге, запряженной лошадью, он подвозил бочки с водой. Но вскоре почему-то снова остался без работы. Когда я приходила к подруге, он всегда был дома, то чай пил, то курил, сидя на табуретке, то сапоги начищал. Бездельничал. А потом оказалось, что он «работает» по ночам. Все знали, что он сидит без дела, а у него между тем появились деньги на вино и закуску, и он даже мог одолжить тридцатку-другую соседям, выручить их. Добрый был человек. То есть всем так казалось. Но вот однажды за ним пришли из угрозыска. Вошли в квартиру и спрашивают у соседки: «Где комната Григория П.?» Она им указала, и они попросили ее позвать жильца, а тот неожиданно почувствовал опасность и затаился. Тогда они стали стучать в дверь и говорить: «Григорий Пос-ков, открывайте и сдавайтесь! Не то дверь вышибем и стрелять будем! Давайте без глупостей!»
Но дядя Гриша сдаваться не пожелал, а распахнул окно, вскочил на подоконник и полез на крышу. Мы с подругой как раз свернули с улицы во двор ее дома, поэтому все увидели своими глазами. Дядя Гриша отчаянно пытался сбежать от милиции, карабкался на крышу, а ему кричали: «Дурак! Куда лезешь, ведь застрелим! Сдавайся!» И вдруг начали стрелять. Ранили дядю Гришу, и он, раненый, ухватился за водосточную трубу и тоже закричал: «Все, все! Не стреляйте, сдаюсь!» Потом ему помогли влезть в окно соседней квартиры. Там его уже ждали. Выяснилось, что он налетчик из банды грабителей. Вот это да! И в банде этих налетчиков были одни бывшие фронтовые офицеры. Нападали на людей, грабили лавки, склады, магазины. Не знаю, приходилось ли дяде Грише стрелять и убил ли он кого-нибудь. Об этом не говорили. Ему присудили десять лет тюрьмы. Через десять лет он вернулся и снова поселился в той же квартире, у родственников. Но вскоре умер. Вот какая история про военных. Вспоминая дядю Гришу, я размышляю о том, что в сороковые годы не только отпетые негодяи шли в налетчики, а разочаровавшиеся в жизни военные, офицеры и солдаты. Вот кто, как оказалось, вместе с разбойниками появлялся из темноты с ножами и пистолетами.
Но мы боялись не только вечера и ночи, а еще утра, когда все шли на работу или на учебу. Дома оставались старые люди и малые дети, и они, бывало, все утро проводили в тревоге. На квартиру могла напасть какая-нибудь вооруженная шайка, или в форточку мог забраться малолетний вор. Мой младший брат однажды очень сильно испугался, когда увидел за окошком лицо незнакомого мальчишки. Это был «форточник», которого послали на «дело» воры повзрослее. «Форточник» думал, что в комнате никого нет, и уже собрался открыть форточку ножом. Если бы она не поддалась, то замазку смазали бы серной кислотой, и она размягчилась бы и отошла, и тогда стекло можно было бы выдавить. Мой брат болел ангиной, лежал в постели. Воришка появился за окном, когда он не спал, а читал книжку. И оба они – и братец, и воришка – испугались. Братец потом рассказывал нам, что он даже немного описался от страха. Он вскочил, выбежал в коридор, постучался к соседке, и та ворвалась в нашу комнату с криком: «Воры, воры!» Она была опытная женщина и знала: главное – поднять шум. Воришка спустился по водосточной трубе и убежал. Скорее всего, это был мальчик, потерявший в войну всю свою семью. Таких детей было много. Некоторые из них разрешили проблему собственного существования простым способом – воровством. Сбивались в шайки, воровали и грабили.
В первые послевоенные годы люди маниакально зорко присматривали за своими портфелями, сумками, свертками. Сумки, портфели, чемоданы держали как можно крепче. Свертки прижимали к себе и были готовы к тому, что в любой момент может появиться мальчишка и броситься под ноги. Падая, люди иногда выпускали из рук свое имущество, и тогда его подхватывали другие мальчишки, которые тут же быстро удирали. Нашу квартиру пытались ограбить каждый год. То «форточники» лезли в окна, то мошенники стучались с лестничной площадки в дверь, прося дать напиться или уточнить адрес, или разыгрывая сердечный приступ, или говоря, что к соседям приехал родственник или родственница. Являлись также фальшивые водопроводчики, электрики, просили открыть дверь и впустить их в квартиру. А один раз постучался фальшивый милиционер, одетый как все милиционеры, только китель и галифе у него были мятые, словно их перед тем, как надеть, он вынул из мешка. Это было утром, когда в квартире находились лишь две наши соседки, обе пожилые. Одна из них, Людмила Ивановна, была очень подозрительная женщина, и она, даже поглядев в скважину и увидев милиционера, не открыла дверь, а стала спрашивать: «Чего надо? К кому? Зачем?» Фальшивый капитан милиции сказал, что ведется особая перепись жильцов нашего дома, потребовал впустить его, а тетя Людмила Ивановна сказала: «Нет, не открою. Хотите – ломайте дверь, хотите – арестовывайте. Но вы не милиционер. Не верю». И не открыла. Капитан ругался, угрожал, но так ни с чем и ушел.
Воры лезли к нам в дом, вероятно, потому, что приметили, какое «приличное» пальто и «добрый» костюм у моего папы. Преступники устраивали за ним слежку, чтобы выяснить, где он живет. Пускали за ним мальчишку, и тот возвращался и называл адрес. Воры думали, что если у папы такие хорошие пальто и костюм, то и в доме у него найдется, чем поживиться. Впрочем, на папу с ножом и кастетом нападали и на улице, в самый обычный день, а один раз подбежали с обрезом ружья. Пытались его раздеть. И вот какое чудо: каждый раз папе удавалось отбиться. Осенью 1946 года он прибежал домой сильно запыхавшийся, но радостный, и рассказал, что несколько минут назад на него напали двое налетчиков и стали стаскивать плащ и рвать из рук портфель, и папа одного грабителя хотел лягнуть ногой по колену, но промахнулся и угодил в промежность, и тот упал на колени, а другому грабителю досталось портфелем по носу, да так сильно, что он закричал. Папочку пытались раздеть и ограбить даже на углу нашего дома. И каждый раз ему везло. Я думаю сейчас, что он был заговоренный, «отмоленный», потому что совершил хороший, светлый поступок: спас икону. Об этом мне незадолго до своей смерти рассказала мама.
Это был удивительный случай: зимой 1942 года, в морозный день, папа поехал на грузовике в какой-то поселок, и в дороге грузовик сломался. Водитель сказал, что пешком никто из них не дойдет, замерзнет, поскольку мороз стоит не шуточный, за тридцать градусов. Будет лучше, если они останутся на месте, потому что через три часа по этой дороге должен проехать еще один грузовик. И они остались сидеть в кабине. Но вот мороз стал пробираться в кабину, и вскоре оба так замерзли, что даже моргали с трудом. Тогда водитель принялся шарить под сиденьем, ища какую-нибудь тряпку, которую можно было бы поджечь. Кругом степь, пусто, деревьев никаких нет, костер развести не из чего. И вот, пошарив под сиденьем, водитель нашел икону. Он на этом грузовике работал недавно и об иконе ничего не знал. А она была большая, размером с крупную книгу. «Вот вам и деревяшка! – сказал водитель. – Мы ее сейчас разломаем, подожжем и согреемся. А то околеем». Но папа сказал: «Это же икона, товарищ. Разве можно ее жечь? Последнее дело. Лучше мы отдерем доску от борта вашего грузовика, наломаем щепок и разведем костер. И дождемся помощи. А икону сбережем. Правильно?» Услышав о порче государственного имущества, водитель испугался, замахал руками и завопил: «Вы что, ополоумели? За одну доску с борта нам могут присудить десять лет тюрьмы! Никогда, ни за что! Дайте сюда икону – за нее нам ничего не будет!» Папа икону не отдал. Вынул блокнот, вырвал страницу, отогрел дыханием окоченевшие пальцы и написал расписку, из которой следовало, что всю ответственность за порчу госимущества он берет на себя, а водитель ни при чем. Тогда водитель согласился оторвать доску. Так они и спаслись. И икону спасли. И после этого папе везло больше, чем его знакомым. Ни один донос, написанный на него, не повлиял на его судьбу, и ни один налетчик не причинил ему серьезного вреда. Вот как вышло: папа спас икону, а она спасла его. Ведь он ее забрал к нам домой, а потом отдал какому-то священнику. Совершив светлый поступок, папа смог уберечься от многих неприятностей.
Я узнала об этом только в восьмидесятые годы, когда папы уже не было. Но тогда, в сороковые, даже папа не знал, почему ему везет. Наверное, он не догадывался. А на него писали доносы. Его коллега по работе, которого, кажется, звали Дмитрий Степанович или Степан Дмитриевич, набивался ему в товарищи, стремился подчеркнуть свое доброе расположение, и при этом каждые три месяца отправлял в НКВД письмо-«сигнал», в котором перечислял все новые случаи папиной враждебной деятельности. Он писал, что папа в частном разговоре ругает правительство и хвалит Англию и Америку, критикует советские законы и порядки. Это выглядело примерно так: «Считаю своим долгом сообщить, что настроенный враждебно к правительству СССР гражданин П. 14 марта сего года при проверке документации в конторе склада намеренно устроил двойную проверку, чтобы затянуть или отложить отправку медикаментов со склада в лечебные учреждения… При этом он отрицательно отзывался о правительстве нашей страны, называя его работу некомпетентной… Говорил, что в Америке люди живут лучше…» Но поскольку доносов в НКВД поступало бесчисленное множество, то прочитать каждое письмо было трудным делом. Письмо, бывало, так и не распечатывали, а лишь клали в особый ящик для хранения. Этот Дмитрий Степанович клеветал на папу и ждал, что из этого выйдет. Очевидно, он очень надеялся, что папу лишат должности, «снимут с работы», как говорили в то время, чтобы самому занять папино место. Обычное дело в сороковые годы. В чем причина такого коварства и злобы? Зависть и желание улучшить свое материальное положение. Поэтому Дмитрий Степанович писал и писал свои доносы.
Иногда, как я уже говорила, папу вызывали в НКВД и устраивали расспросы. Спрашивали: «Зачем вы устроили двойную проверку документации? Затягивали отправку медикаментов?» Папа отвечал: «Хуже всего – это преступная халатность. Она играет на руку врагам. Враги только и ждут, чтобы наша страна утонула в халатности, безалаберности и некомпетентности. Представляете, что будет, если лечебное учреждение получит недостаточно лекарств и перевязочного материала только потому, что документы были оформлены неправильно? Но я устраиваю двойные проверки не всегда, а лишь в тех случаях, когда документами занимаются молодые работники». Порой папа чувствовал себя так, словно именно сегодня его заберут в тюрьму. Этого он боялся больше всего, потому что у него было трое детей. Без папы мы, наверное, сгинули бы. И когда он шел в НКВД, он волновался и тревожился. Но вот его отпускали, а через некоторое время из-за новых доносов вызвали снова. Такое было время!
Хорошо помню Новый год с 1946 на 1947. У папы на работе служащим разрешили устроить новогодний вечер, и каждому работнику позволили привести одного своего ребенка. Папа привел меня, а мои младшие братцы с нетерпением ждали, когда я вернусь, потому что знали: на вечере будет какое-то удивительное угощение, и что я обязательно принесу его домой и поделюсь. Я очень радовалась такому событию. Новогодний вечер! Праздничное угощение! Вечер должен был начаться в семь часов. В 1946 году 31 декабря и 1 января были рабочими днями, поэтому служащие папиного учреждения, закончив работу, всего-навсего сдвинули столы, развесили бумажные гирлянды и устроили праздничное чаепитие. Елки с игрушками не было. И на следующий день уже ничто не напоминало о празднике. Но вечером 31 декабря все веселись, улыбались, поздравляли друг друга. Я заняла место рядом с папой. Новогодним угощением был нарезанный треугольниками и завернутый в фольгу хлеб со сливочным маслом и с повидлом, что выглядело и празднично, и таинственно, а также карамельные конфеты и шоколад. Шоколад! Каждому досталось по кусочку, и так как папа отдал свою порцию мне, у меня были два кусочка, оба для младших братьев. Я их завернула в фольгу. И еще я отложила в сторону четыре карамельные конфеты и хлеб с маслом и повидлом. Тоже для братцев.
Вечер начался с поздравления – его произнес начальник учреждения. Потом поздравления произносили начальники отделов. Папа в своей речи сказал, что в наступающем 1947 году в стране будет производиться больше лекарств, больше продуктов питания и товаров повседневного спроса, и жизнь поэтому станет намного лучше. Правительство делает все для улучшения жизни людей и сделает еще больше. Вот так сказал папа, я это хорошо запомнила. А в 1954 году бывший полковник НКВД показал папе донос, в котором Дмитрий Степанович сообщал, что на новогоднем вечере в канун 1947 года папа восхвалял промышленность Соединенных Штатов Америки, говоря, что эта страна производит несравнимо больше лекарств, продуктов питания и изделий легкой промышленности. Ах, этот Дмитрий Степанович! Взял и все подло переврал! Наверное, он очень надеялся, что в наступающем году папу обязательно отправят в тюрьму или хотя бы снимут с работы. А ведь я сидела напротив этого человека и видела, как он улыбается и во всем поддерживает папу. Он восклицал: «Правильно! Верно!», хлопал в ладоши, а на следующий день отправил в НКВД донос.
На этом вечере все много смеялись. Молодые сотрудники изготовили уморительную новогоднюю стенгазету. Чья-то умелая рука нарисовала добрые по смыслу и веселые карикатуры на работников. Какому-то дяде вместо тела нарисовали градусник, а одной тете – бутылочку с микстурой. Я это хорошо помню. Эту газету сняли со стены и пустили по рукам, и в ней, кроме рисунков, были веселые стихи, сочиненные тоже весьма умело. Когда газету вернули на стену, один из служащих папиного отдела взял аккордеон и стал играть. Пели песни, танцевали. Два сотрудника по очереди пригласили на танец ту тетю, которую изобразили в виде бутылочки микстуры. После этого праздничный вечер закончился, все стали расходиться. Конечно, люди с большим удовольствием задержались бы еще на час или даже на два, но все понимали, как это опасно – ходить вечером по улице, пусть даже под Новый год. Мы с папой пошли домой как можно быстрее, мы почти бежали, и, слава Богу, добрались без происшествий. Братья ждали с нетерпением и сразу бросились ко мне: «Ты что-нибудь принесла? Какое угощение было на вечере? Покажи скорее!» Люди нынешнего поколения, наверное, сказали бы: «Какая чепуха – хлеб с маслом и повидлом!», но в то время никто не назвал бы это чепухой. А карамельные конфеты и шоколад – и подавно. Братцы подпрыгивали от радости, хотя папа сказал им, что эти подарки они могут съесть только после ужина. Ведь мама приготовила новогодний ужин. 1946 год был сложный, в последние месяцы стало плохо с хлебом, не говоря уже о других продуктах питания. А у нас на столе была крольчатина. Папа и мама откладывали деньги и купили на базаре мясо кролика, мама сделала из него жаркое. А еще у нас был рис! Немного. Каждому досталось по две ложки, но все-таки это был настоящий рис. Мама и папа выпили вина, поздравили нас и друг друга, пожелали счастья и здоровья. После этого нас уложили спать, а к папе и маме пришли гости, наши соседи, дядя Олег и тетя Зоя, хорошие, интеллигентные люди, только всегда грустные. У них умер маленький сын от какого-то воспаления, и кроме этого несчастья, были и другие серьезные неприятности. В войну они работали в тылу на заводе, жили очень плохо, в тесном бараке, причем раздельно, а когда война закончилась, их с завода не отпустили, а решили оставить на Урале. А они, эти дядя Олег и тетя Зоя, только и ждали того дня, когда наконец им разрешат уехать домой, то есть в наш город, потому что они здесь выросли, здесь проживали их родственники и знакомые. Другие рабочие того уральского завода тоже были возмущены: почему их не отпускают по своим городам, когда наступила Победа и больше не нужно изо всех сил трудиться для фронта? Однако никого не отпускали. Помню, что дядя Олег несколько раз рассказывал об этом папе и маме и всегда – очень печально. Он говорил, что некоторые рабочие самовольно покинули завод и уехали, то есть попросту сбежали, но их разыскали и арестовали. Сам дядя Олег тоже самовольно уехал с Урала на две недели, чтобы повидать свою маму и сестру, а когда вернулся, его также обвинили в дезертирстве и арестовали. Это было осенью 1945 года. Тетя Зоя продолжала работать на заводе, а ее муж находился в тюрьме. Наконец его и других арестованных выпустили, объяснив, что такова милость правительства по случаю Победы, но с Урала уезжать все же запретили. Многие были в отчаянье, как рассказывал дядя Олег. Ведь при заводе рабочие жили в невероятно трудных условиях, семьи нередко были разделены, многие скучали по родным, по своим городам, к тому же никому не нравилось такое ужасное отношение – точно к рабам. Вот уже наступил 1946 год, стране уже не требовались снаряды и патроны в прежнем количестве, а рабочих все равно не отпускали. И опять началось бегство людей. Убежало, как сказал дядя Олег, не меньше двухсот человек. Потом еще столько же. Никто не хотел оставаться и жить в бараках, в ужасной тесноте и тяжелых бытовых условиях. Многим не нравился климат. Но большинство людей хотели соединиться со своими родными, а еще они, конечно, волновались за свои дома и прочее имущество, оставленное в родных городах. А заводское начальство поступало жестоко – не принимало это в расчет. «Мы так тяжело трудились, – рассказывала тетя Зоя, – а с нами так скверно поступили. Предательски. Но за что? Разве мы не были преданы нашей стране? Разве мы не приближали Победу?» Дядя Олег и тетя Зоя смогли вернуться только летом 1946 года, в августе. Они были обижены на правительство за такое нехорошее к ним отношение и редко улыбались. Все сороковые годы они жили с ощущением разочарования и тревоги, будто каждый день ожидали подвоха со стороны властей. Впрочем, многие люди в то время относились к окружающей жизни недоверчиво. На моего папу писали доносы, и он знал об этом и все время ждал неприятностей. Завистливые люди хотели занять его место. Но папа не мог упредить их злые намерения – разве это возможно? В пятидесятые годы он сказал мне: «Не мог же я писать встречные доносы!»
В 1947 году в его отделе случилась неприятная история: из сейфа пропал ордер на покупку пальто. В то время одежду и обувь нельзя было купить в магазине свободно, это были товары повышенного спроса, и на их приобретение требовался ордер, а его выписывали только по решению руководства организации или предприятия. Ордерами награждали лучших работников. И вот кто-то украл ордер. Стали расследовать, расспрашивать и, наконец, нашли вора: им оказался один молодой работник, который сразу во всем сознался и вернул ордер. Его судьбу стали решать на собрании коллектива: отдавать человека под суд или пожалеть. Папа сказал: «Поскольку наш товарищ действовал на сиюминутном порыве, а не по хладнокровному расчету, как бандит, то его следует строго предупредить и простить. Иначе что его ждет?
Тюрьма. А что в ней хорошего? Она сломает человеку жизнь, и все из-за какой-то бумажки». Все согласились и простили молодого работника. А через несколько дней папу вызвали в Управление и сказали, что на имя начальника Управления поступили письма, в которых сообщалось, что именно папа придумал эту хитрую комбинацию с кражей ордера, втянув в преступление молодого служащего своего отдела. Будто бы папа задумал украсть ордер, купить по нему пальто и в тот же день продать его по спекулятивной цене, то есть в три раза дороже, и таким образом нажиться. Но когда воришку поймали, папа бросился выручать его из беды, предложив не отдавать его под суд, а простить. В Управлении папу спросили: «Ну, что скажете? Происходило что-либо подобное в действительности или нет?» Папа ответил, что даже в самые трудные моменты жизни, в войну, когда его дети недоедали, он ни разу не посягнул на чужое имущество, хотя на складе медикаментов, где он служил, было много ценнейших вещей и препаратов, которые можно было легко обменять на продукты питания. Тогда папе сказали: «Но ведь в Управление поступило сразу три письма с одинаковой версией преступления – это ведь тоже что-то значит! Если бы одно письмо, а то сразу три!» Это означало, что сразу три служащих папиного отдела написали на него донос. Но папа лишь повторил: «Я честный человек. Иначе я еще в войну занимался бы кражами и попался. Разве вы этого не понимаете?» Папе поверили. Он вздохнул и пошел домой.
Такие случаи, как этот, не только оскорбляли и унижали человека, они изматывали его нервную систему и подрывали здоровье. Атмосфера острой подозрительности, скрытого коварства и недоброжелательности продолжалась до пятидесятых годов. Так рассказывал мне папа в 1954—56 годах и позже. Сколько ему пришлось вытерпеть! Некоторые невоспитанные люди обвиняли его в том, что он отсиживался в тылу, пока они воевали и калечились на фронте. Такие слова, я помню, кричал наш сосед по лестничной площадке. На войне он был лихим танкистом, а в мирной жизни стал унылым, вечно недовольным пьяницей. Встречая папу, он раздраженно что-то бормотал. Папа обращался к нему: «Вы хотите что-то мне сказать? Скажите. Давайте решим это вопрос сейчас и навсегда». Бывший танкист сначала не решался, но однажды, напившись, принялся орать: «Поглядите, какое у него пальто! А откуда? И почему? Потому что в тылу отсиживался!» Конечно, он использовал другие слова, бранные и отвратительные, и с этим, как оказалось, ничего нельзя было поделать. Никто не мог его унять, даже собственная жена. Он срывал свое недовольство жизнью на человеке в «приличном» пальто и не бывавшем на фронте, и папе приходилось молча сносить эти оскорбления. В 1948 году наш сосед, напившись, замерз насмерть. Его жена очень горевала, долго ходила подавленная и потерянная. Еще бы: дождаться мужа с фронта и потерять его из-за пьянства.
Став пенсионером, папа сделался огородником и садоводом, до осени пропадал на даче, испытывая огромное удовольствие, выращивая овощи, собирая урожай груш и яблок. Долгие годы его жизнь была далека от блаженства, и вот, наконец, ему стало очень хорошо. Зимой папа часто ходил в библиотеку читать исторические книги. Он прожил семьдесят четыре года. Мамочка пережила его на пять лет. Приходя на могилу родителей, я всегда здороваюсь: «Здравствуй, мамочка, здравствуй, папочка». Иногда я подолгу гляжу на фотографию папы. Мы, его дети, живем на свете благодаря его честности, выдержке и огромному терпению, и если бы не эти папины качества, как бы сложилась наша судьба в очень-очень трудные сороковые годы? Наверное, мы пропали бы».
* * *
Виктор Те-ков, 1931 года рождения: «До войны мы жили в Москве, в районе Замоскворечье, войну пережидали в Кирове, а в 1944 году снова вернулись в столицу. Мы – это я и мама. Папа ушел на фронт, служил на флоте и утонул вместе с кораблем. Мама, узнав об этом, опустила голову, поджала губы и вздохнула. Это был миг ее самого напряженного волнения, а кто-нибудь, кто не знал мою маму, сказал бы, что она ничуть не переживает. Она была стойкая, упорная, непоколебимая женщина. Такой ее сделало военное время, лишения, невзгоды, смерти близких и знакомых.
Когда мы узнали, что можно вернуться в домой, в Москву, мама стала хлопотать о пропуске, поскольку столица была закрытым городом. Распродала вещи – тулуп, валенки, грубые варежки, железную кровать, одеяло, потому что они в Кирове стоили дороже, а в Москве дешевле. Откуда она это знала, не могу сказать, но она оказалась права. Мамочка была рациональной и до конца расчетливой дамой, что в сороковые годы выглядело вполне естественно. Эти качества спасали людей. Жизнь была очень-очень тяжелая, в любой день можно было пропасть, потерять здоровье, имущество и самую жизнь, потому-то мама действовала лишь в угоду себе. И тем самым спасла и себя, и меня. Люди, жившие в то время, всегда поймут мою мамочку.
Хорошо помню день, когда мы вернулись домой, зашли в подъезд нашего московского дома и поднялись по лестнице. Из нашей квартиры доносились отчаянные крики. Скандалили какие-то люди, голоса были разъяренные, даже дикие, кто-то топал, кто-то бил ладонью по стене. Мы сразу подумали, что наши соседи что-то не поделили, то есть цепь каких-то нехороших обстоятельств привела их к ссоре. Мы, конечно, не удивились. Крики, скандалы и яростная ругань в сороковые годы случались тут и там ежедневно. Оказалось, что наши соседи, отец и дочка, вернулись с фронта, а их комната занята, в ней проживает другой человек. Управдом поселил в комнате наших соседей какого-то инженера. И вот почему: на обоих наших соседей, и на отца, и на дочку, поступили похоронные извещения. То есть произошла ошибка, путаница. Люди оказались живы, а их посчитали погибшими и отобрали комнату. Они приехали к себе домой, а инженер стоит насмерть: «Не пущу, потому что комната теперь моя, я в ней жилец, а вы живите, где хотите». Увидев нас, соседи бросились к маме: «Веруша, подтверди, что мы тут прописаны!» Мама подтвердила. И даже сказала инженеру: «Встаньте на их место. Если бы вашу квартиру заняли, вы бы взбесились?» Инженер, с виду интеллигентный человек, тут же сказал, что ему хорошо и на своем месте, а комнату он ни за что не отдаст, готов отбиваться чем попало и даже грызть зубами. Мама сказала: «Э, сразу видно, кто вы такой: мазурик!» И мы вошли в свою комнату, предоставив соседям самим решать свою судьбу. На улице было холодно, но мама сняла светомаскировку и распахнула окно. Запах пыли стал не таким едким. Мы сели на диван, потом мама заглянула в шкаф – проверить, все ли на месте. А я смотрел на стену, на папину фотографию в раме. Затем увидел, что остановились настольные часы. Три года назад, уезжая в эвакуацию, мы хотели взять часы с собой и даже положили их в чемодан, но через минуту мама передумала. Тогда было девять часов утра. А теперь стрелки замерли на половине седьмого. Мне почудилось, что жизнь в нашей комнате тоже остановилась. Все осталось как было. А вот мы стали другими, потому что столько пережили за эти три года! Видели горе и лишения, страх и ненависть, злобу и коварство, тесноту и уныние, и смерть тоже. В эвакуации мы потеряли младшего брата, Никиту. Зимой 1942 года он заболел воспалением легких и через три дня умер. Ему было 7 лет. Его могила была теперь далеко-далеко, и навестить нашего братика мы уже не могли. Война забрала у нас папу, эвакуация – брата, но мы с мамой не впали в беспросветную печаль, как бы тоскливо ни было. В то время этого ни в коем случае нельзя было делать. Иначе можно было сойти с ума или умереть.
Первую неделю мама ходила по городу и искала себе место. Обходила знакомых, которые могли сделать протекцию. Мама говорила, что в Москве безработица. Объясняла, почему: большинство предприятий и учреждений еще не вернули из эвакуации, а москвичи все прибывают и прибывают, кто с севера, кто из Сибири, кто из Азии. Приехавшие вынуждены наниматься на любую работу, лишь бы прожить. Нужны связи, нужно давать взятки. До войны мама работала в системе торговли, а теперь ее учреждение было перепрофилировано, штат сотрудников укомплектован. Мама уходила утром и возвращалась в пять часов вечера. Искала и искала себе место. Говорила мне, что может работать и буфетчицей, и билетершей, и письмоводителем, и инспектором хозяйственной части, и называла еще десяток должностей. Я видел: мамочка никогда не теряет уверенности в себе. Всегда строгая, собранная. Думаю, она держалась в соответствии с обстановкой и общей атмосферой. Людей принимала по внешнему виду, по одежде, по манере говорить. Когда ей наконец удалось найти место – на товарной станции, она пришла домой очень довольная и стала рассказывать прежде всего о начальнике: солидный гражданин, носит драповое пальто на меху, сапоги на шнуровке, шерстяной вязаный шарф, перчатки. Курит только дорогие папиросы. «Серьезный мужчина, «в теле», – сказала мамочка. Это означало, что человек, о котором идет речь, хорошо питается и, следовательно, имеет достаток. То есть он умеет жить. Мама всегда уважала таких людей, любила говорить о них, обсуждать их имущество, приобретения, знакомства, связи. Если рассказывала о военных, сразу уточняла, какого состава эти военные – старшего или нет. Он уважала полковников и генералов, мечтала иметь знакомства среди высших офицерских чинов, потому что они обеспеченные люди. Невзгоды и лишения в годы войны так повлияли на людей, особенно на женщин, что они в огромной толпе сразу замечали мужчину в «приличном» пальто или шляпе, или с круглым, упитанным, румяным лицом, или даму в красивом платье, «сшитом у модистки», или в шубке и с муфтой. Страну охватила бедность, и люди с жадностью и завистью смотрели на удачливых граждан. Все устали жить плохо, и всем хотелось лучшей доли.
Нашим соседям повезло, они смогли вернуть себе свою комнату – подали в суд на инженера, и судья постановил, что новый жилец должен освободить занятую жилплощадь. Однако инженера пришлось выселять силой. Выехать их квартиры добровольно он отказался. Позвали милиционера, показали ему постановление суда. Потом пришел еще один милиционер, и оба они стали говорить инженеру: «А ну, гражданин, освободите жилплощадь!» А тот отвечает: «Как же я ее освобожу, если она моя? Мне ее государство предоставило по праву. Есть соответствующее постановление: если прежние жильцы умерли, то жилплощадь поступает в фонд жилья и распределяется среди нуждающихся. А то, что эти скандалисты оказались живыми, – это их дело. Они угодили под постановление, когда числились погибшими. Угодили, верно? Вот пусть и ищут себе новое жилье, а эта комната – моя. Никуда не уйду, хоть убивайте». Милиционеры растерялись. Тогда наша соседка, которая была ошибочно признанная погибшей, сказала своему отцу: «Вон как получается! Даже милиция ничего сделать не может. А я думала, что милиционеры такие же храбрецы, как наши герои на фронте». Эти слова подействовали. Один из милиционеров выхватил револьвер, подскочил к инженеру, схватил его за воротник и бешено заорал: «Я тебя, курва, сейчас по закону военного времени на месте расстреляю! За неподчинение органам правопорядка! Я представитель власти! Шутки вздумал со мной шутить? Или добровольно уберешься из квартиры, или тебя санитары морга вынесут!» Инженер испугался, задрожал, побледнел, быстро собрал чемодан и ушел. После этого наши соседи на радостях пригласили всех в свою комнату на чаепитие. Милиционеры отказались и ушли, а мы с мамой и другие наши соседи приняли приглашение. За столом говорили все больше о новых временах, которые наступят после победы, о том, что отменят комендантский час и продуктовые карточки, привезут товары и откроют магазины. Об инженере не вспоминали, словно его никогда и не было. Никто не рассуждал, до какого ничтожества дошли люди, если уж ведут себя так коварно и нахально. Потому что коварство и нахальство в то время были повсюду. Люди ожесточенно отстаивали свои интересы и яростно бились за свое имущество, порой насмерть. Такое это было время – сороковые годы.
Наши соседи, отец и дочка, не могли знать, что их ждет в будущем, но любили поговорить и помечтать о лучшем, как и все мы. Меньше чем через год в их жизни произошли существенные перемены. В 1945 году, после Победы, дочка, которую звали Мария Антоновна, познакомилась с бывшим майором-связистом и пригласила его жить к себе. Они перегородили комнату, стали жить вдвоем на одной крошечной половине. Антон Иванович, отец Марии Антоновны, сначала не одобрил выбор дочери и даже говорил моей маме, что майор-связист похож на шаромыжника. Но потом между ним и майором установилось поразительное взаимопонимание. Они ужинали теперь только все вместе, втроем, обязательно выпивали, даже пели песни. А вскоре моя мама заметила, что у Марии Антоновны появились новые и хорошие вещи. Вязаная кофта. Габардиновая юбка. Пальто и муфта. Ботиночки, отороченные мехом. Это были невероятно дорогостоящие предметы, мечта любой женщины. Майор и Антон Иванович тоже завели «приличные» вещицы и принарядились. Оба вынимали из кармана немецкие серебряные портсигары, носили хорошие шляпы и плащи. Вокруг был товарный голод, в стране ходил кустарный «ширпотреб» и наряды из перешитых старых пальто, костюмов и платьев. Многие носили военную форму, так как ничего другого у них не было. А наши соседи стали все чаще устраивать застолья, ужинать в коммерческих ресторанах, покупать продукты питания в коммерческих магазинах. У них на столе были пирожные, кофе и сыр. Эту еду в 1945—47 годах можно было увидеть только на коммерческих прилавках. На ее покупку требовались огромные суммы. Моя мамочка пристально наблюдала за этим движением в сторону благополучия и говорила мне: «Смотри, как стали жить! Что делается! Ах, неспроста это. Поглядим, что из этого выйдет». Мама догадывалась, что вся троица напала на какую-то жилу, то есть открыла какие-то возможности спекуляции или даже воровства и вовсю пользуется случаем. Вскоре выяснилось, что именно так и есть.
Устроив себе хорошую жизнь, соседи отделились от нас и уже не приглашали к себе и не заводили разговоров, а только здоровались. В то время люди редко чем делились, так что удивляться не пришлось. Война и эвакуация научили людей здоровому равнодушию, эгоизму и хладнокровию. Я говорю «здоровому», так как эгоизм, равнодушие и хладнокровие помогали сохранить жизнь и здоровье. Впечатлительные и слабонервные люди быстро пропадали. В эвакуации, в тесноте и голоде, слабые сходили с ума, решались на самоубийство или сгорали от болезней. У них открывались язвы, их мучали фурункулы, в них сразу поселялся туберкулез. Хладнокровие было ценным, жизнеспособным качеством. Наши соседи, очевидно, научились хладнокровию на фронте. Пируя в своей комнате, они ни разу не предложили никому из нас ни конфет, ни пряников, ни сыра. Даже детям. Как-то раз я вышел в уборную и, проходя мимо их комнаты, увидел через приоткрытую дверь полную коробку шоколадных конфет. Ах, в то время это было сказочное чудо – шоколадные конфеты! Раскрытая коробка лежала на столе. Рядом стояли бутылки вина и коньяку. Вечером, рассказывая маме о конфетах, я дергался от зависти. Мама строго сказала: «Еще неизвестно, чем это кончится! Чувствую – сгорят мазурики». И мама оказалась права: «мазурики» сгорели. В январе 1946 года их всех арестовали. Через месяц домой вернулась только Мария Антоновна, а ее отца и майора осудили на семь лет за хищение государственного имущества.
В стране начиналась эпидемия хищений, крали, все что можно, особенно стройматериалы – песок из карьеров, стекло и доски, краску, брезент и гвозди. В сороковые годы строительные материалы имели неописуемый спрос. Их не было в продаже, их отпускали только государственным предприятиям с государственных складов, а люди хотели строить себе дома, потому что жить было негде, с жильем было очень плохо. В 1946—48 годах гвозди, например, ценились выше сливочного масла, мыла и спирта. Гвозди куда-то подевались, их нигде не могли купить. Если мы выезжали за город, к нам непременно подходили какие-то местные жители и спрашивали: «Вы из города? Скажите, а вы можете достать гвозди? Мы могли бы их сменять на куриные яйца. Семь гвоздей – одно яйцо. Подумайте, это хорошее дело. Может быть, у вас есть знакомые, которые могут достать гвозди?» О гвоздях людей спрашивали так часто, что могло показаться, что дюжина гвоздей и кусок золота имеют равную ценность.
Наши соседи попались именно на гвоздях. Майор, который проживал с Марией Антоновной в ее комнате, работал на государственном складе скобяных изделий. Он и выносил оттуда гвозди, а Антон Иванович сбывал их по «дерзкой» цене в Подмосковье, брал за них и деньги, и вещи, и продукты. Роль его дочки заключалась в том, чтобы найти «надежных» покупателей. Невероятный спрос на гвозди принес этой троице огромную прибыль. Всю вторую половину 1945 года они жили в круговороте нескончаемых радостей, а зимой 1946, как я уже говорил, все закончилось. Имущество Антона Ивановича конфисковали. Его дочке оставили только комнату, а в ней кровать и шкаф. Видимо, майор и Антон Иванович заявили на следствии, что женщина ни при чем, и ее не судили. Но она снова осталась ни с чем. Распродала вещи, проела деньги и принялась искать себе место. Устроилась на почту и стала жить очень скромно, поскольку там за работу мало платили. Но к удивлению, Мария Антоновна даже виду не показывала, что чем-то расстроена, что в ее жизни произошли какие-то роковые события. Вероятно, на войне она научилась жить одним днем и никогда не отчаиваться. Она улыбалась, как ни в чем не бывало, и даже напевала у себя в комнате. А ее отец на Северном Урале валил лес. А где очутился майор-связист, мы не знали. Мария Антоновна о нем не рассказывала. Должно быть, быстро его забыла.
Один раз она постучалась к нам и попросила у мамы немножко соли. Мама отсыпала ей «спичечный коробок» и спросила: «Что, Машенька, скучаешь по балыкам, кофе и сыру? Вздыхаешь по гвоздям?» Мария Антоновна вздохнула. Было видно, что она очень жалеет, что ее отец и майор попались. Еще было заметно, что к государству эта дама абсолютно равнодушна и это безразличие неподдельно. Появись у нее новая возможность красть и тащить, согласилась бы, не раздумывая. Слова «государственные интересы» были для Марии Антоновны явно пустыми словами. Сразу после войны так жили многие. В 1946—49 годах люди желали себе счастья и благополучия, хотели жить сытно и в радости, и обсуждали только это. В 1946 году повсюду говорили только о личных интересах, спрашивали, когда появятся масло и хороший белый хлеб, мясные изделия, «мануфактура», «ширпотреб», то есть одежда и обувь. Тема интересов государства была, очевидно, туманной и далекой. Люди хотели хорошо жить сию минуту, а не в перспективе. Я слышал эти разговоры каждый день, стоя в очередях. Мама тоже говорила только о нас, о личном. О правительстве, о политике я от мамочки никогда не слышал ни слова, будто не было в нашей стране ни правительства, ни политики.
В тот вечер, когда Мария Антоновна одолжила у нас соли, мама, закрыв за ней дверь, показала мне жестом, чтобы я сидел тихо, и вытащила из-под кровати небольшой картонный чемоданчик, раскрыла его и вынула сверток. В нем лежали гвозди – штук двести. Но какие! То ржавые, то кривые, то с погнутыми шляпками. Это были старые, довоенные гвозди, выдернутые гвоздодером. Тут же, в чемоданчике, лежали маленькая наковальня и молоток. Мама взяла один кривой гвоздь и молотком выпрямила его. Потом достала из своей сумочки кусок наждачной бумаги для металла и сказала: «Это драгоценность! Выменяла на мыло». И очистила гвоздь от ржавчины. Потом подала молоток мне, и я весь вечер, стараясь не шуметь, выпрямлял гвозди, а мама их очищала. На следующий день она унесла их и продала. В тот же вечер у нас на столе появились мясные фрикадельки, сметана и одно пирожное. Мы были счастливы. Однако мамочка потратила на еду не все деньги. Отложила, спрятала. Она была умная и бережливая.
Через три дня в том же картонном чемоданчике мама принесла новую партию старых гвоздей, и мы снова принялись за дело. История с нашими соседями подсказала ей, в каком направлении нужно действовать: гвозди! Каждую неделю, два или три раза, мы занимались гвоздями, большими, средними и мелкими, и наши дела стали поправляться. Мама купила себе ботиночки, отороченные мехом, пальто и муфту. А еще она мечтала поскорее стать полненькой женщиной, какой была до войны. Мамочка была невысокого роста, однако не слишком, и полнота ей очень шла. Полнота была в большой моде. Худых, изможденных, иссохших людей, рано постаревших, с тусклыми глазами и бледными лицами кругом было море. В сороковых годах приятная полнота сразу привлекала внимание, была визитной карточкой и предметом гордости. К полноте стремились очень многие дамы, потому что полнота разглаживала морщины, красиво округляла лица, убирала впавшие щеки и заостренные подбородки. Впалые щеки всем надоели, и всех теперь восхищали ямочки на щеках. А они могли появиться лишь от хорошего питания.
Мама была одинокая женщина и стремилась привлекать внимание мужчин, потому-то ей очень нужно было хорошо выглядеть. Добыть необходимые средства для полноценного питания ей помогли гвозди, а также оконные стекла, рамы, шпингалеты, засовы. Помню, как мамочка пришла домой с большим и тяжелым чемоданом, еле-еле дотащив его до нашей двери. Я бросился ей помогать. Мама прошептала: «Осторожно, там – стекло!», и после этого мы заперлись, раскрыли чемодан и вынули бывшие в употреблении, тусклые, мутные и даже закопченные стекла. Некоторые из них были по краям выкрашены краской. Нам пришлось много работать, чтобы вернуть этим потускневшим стеклам сносный вид. Мы очищали их от грязи, осторожно терли мелким песком, мыли горячей водой, краску срезали ножом, растворяли керосином. Потом натирали стекла сухой тряпкой. Работа была кропотливая. В 1946 году оконные стекла были драгоценностью, так как их нельзя было свободно купить. Даже старые стекла имели большой спрос. И поэтому мама быстро нашла покупателя, сторговалась с ним и выменяла наши стекла на сало и куриные яйца, которые выгодно кому-то продала. На вырученные деньги мамочка купила отрез ткани и сшила у портнихи платье. Затем мы снова занимались стеклами, а также гвоздями и шпингалетами. Наши соседи так ни разу и не узнали, чем мы промышляем, хотя в то время люди от тоски, скуки и зависти частенько совали нос в чужие дела, вынюхивали и высматривали. Конечно, мне и самому хотелось знать, откуда в наши руки попадают такие ценные строительные материалы, пусть даже бывшие в употреблении. Мама ответила на это коротко: «Достаю через кое-каких людей», и велела хранить это как тайну. И я ни разу не подвел мамочку. Позже она мне рассказала, что на товарной станции у нее есть две знакомые «темные личности», которые приносят ей стекла, гвозди и прочее. «Я эти материалы не ворую, – помню, сказала мама. – Боже упаси! Я лишь покупаю товар. Нужно же как-то жить. Откуда тащат эти стекла и остальное, мне неизвестно. Где их крадут – не знаю. Может, их и не крадут вовсе, может быть, они бесхозные, выброшенные». Но я никогда в жизни не упрекал мамочку. Я хорошо помнил то чрезвычайно трудное время, 1946–1949 годы, когда людям порой нечего было есть и нечего носить, и в каких ужасных бытовых условиях приходилось жить. Мама, как могла, устраивала свою жизнь и спасала меня. Думаю, любой на ее месте поступил бы так же.
Однажды я узнал, что мама ходит смотреть на одну хорошо одетую даму, жену какого-то генерала. Генерал обеспечил эту счастливую женщину европейскими нарядами, привезенными из побежденной Германии. В сороковые годы с нарядами у женщин было очень плохо, многие одевались во что придется. Даже модницы порой выглядели на редкость фальшиво, надевая облезлые шубки, широкоплечие, не по размеру, пальто и перекрашенные беретки. Лишь обеспеченные женщины могли носить хорошо скроенную, добротную одежду. У жены генерала были европейские платья и пальто, элегантные шляпы, сумочки и перчатки. Она ездила в автомобиле с вооруженным шофером, объезжала коммерческие магазины, рестораны и антикварные лавки. Мамочка ходила смотреть на нее, как на витрину, договорилась с одним антикваром, что тот будет ее предупреждать, когда эта обеспеченная женщина придет к нему в лавку. При этом мамочка редко попадалась ей на глаза, а предпочитала смотреть на нее со стороны. А после этого дома перед зеркалом пыталась повторить жесты и походку генеральской жены. Она очень старалась. В такие дни часто в ее рассуждениях возникало выражение: «Вот как нужно держаться». То есть мамочка выбрала себе положительный пример, который должен был сделать из нее элегантную даму. Потому что в военные годы многие женщины огрубели, потускнели, утратили вкус и изящные манеры. Они чувствовали это и страдали. И моя мама тоже. Поэтому она изо всех сил старалась подражать генеральше. Однако это было очень трудно, потому что тогда, в сороковые, жизнь была грубая.
Грубым был наш город, Москва. Грубыми были люди – и москвичи, и приезжие. Такими их сделали бесконечные затруднения. В сороковые годы Москва выглядела уныло, это был темный, неуютный город. Зимой снег убирали только на центральных улицах и то кое-как, а в других местах, особенно во дворах, в переулках и проездах снегу было по колено. Дома выглядели неопрятно. Много было деревянных, закопченных, запущенных построек. Тут и там дымили печные трубы. Улицы были узкие, в грязи и пыли, плохо освещались. Копоть и пыль делали грязными и фасады, и витрины, и деревья. Магазинов и торговых лавок было мало, поэтому люди собирались в очереди. Зимой многие горожане носили валенки, грубые шарфы и варежки, армяки, тулупы, телогрейки, чтобы не замерзнуть, стоя в очереди или пешком преодолевая большое расстояние, так как автобусов не хватало и протяженность линий метро была короткая. Поклажу, как в старые времена, часто возили на санках.
Помню, что люди часто держали при себе какие-нибудь кульки, мешки и емкости. Например, направляясь в магазин за продуктами, нужно было иметь свою посуду не только для растительного масла или молока, а вообще для всего остального. Мы ходили в магазин со своими кульками, банками и мешочками. В магазинах не было бумаги, чтобы завернуть товар, и мне приходилось видеть, как люди, купив селедку, уносили ее в руке, поскольку у них не нашлось при себе даже обрывка газеты. Редко можно было рассчитывать на помощь со стороны, то есть чтобы кто-то дал свой кулек или хотя бы свою газету. Люди в сороковые годы были каждый за себя. Я это помню хорошо. С незнакомыми все мы держались настороженно, не доверяли тем, кого видели впервые. На чужие горести глядели отстраненно. После войны люди рассуждали просто: «Всем трудно, всем плохо, поэтому выкручивайся сам». Тратить свои силы, средства и нервы на чужого человека в сороковые годы было немыслимо. Ведь многие жили в тяжелых, малоприспособленных условиях, в бараках, в углах, в холодных, сырых, заплесневелых помещениях, покрытых копотью. Москву опоясывали барачные поселки. Бараков было очень много, даже в центральных районах, и везде жили семьи с детьми. Теснота, холод и недоедание делали людей грубыми, ожесточенными. Наши знакомые жили в бараке на двадцать семей. Ужасное место… Женщины в этом бараке были издерганы и по любому поводу приходили в ярость. Они дрались и кричали, бранились и проклинали жизнь. Мне и мамочке повезло: мы имели свою комнату в квартире. Но мы часто встречали людей, живущих в бараках, и почти всегда это были грубые, нервные, недобрые мужчины, женщины и дети. Их всегда можно было отличить по неприятному запаху. Я хорошо помню этот запах плохой жизни: смесь из печного дыма, грязной кухни, старых, пыльных вещей и нечистой, запушенной общей уборной. В эвакуации все мы были пропитаны этой смесью. Стоит ли говорить, какую тоску она наводила на людей. Дурные запахи в первые послевоенные годы захватили многие дома и в Москве. Запахи тоски и бедности. Люди мало улыбались, грубили друг другу и стремились выпить спиртного, чтобы расслабиться. Водкой пахло, наверное, от каждого третьего, особенно, конечно, от мужчин всех возрастов, что в будний день, что в выходной, утром, днем и вечером.
Помню дождливый день в октябре 1947 года, когда из-за сильного дождя под навесом магазина собралась толпа. Дождь в то время – большая неприятность, поскольку зонтиков у населения почти не было, зонты считались редкостью, и, попадая под дождь, люди промокали и были вынуждены носить вымокшие, разбухшие пальто, костюмы и другую одежду, которая тут же теряла форму, делая людей карикатурными на вид. Конечно, это никому не нравилось. Дождь проклинали. И вот я помню хмурую, безрадостную, недовольную толпу, сгрудившуюся под навесом, пережидая холодный ливень, и помню ужасные запахи этой толпы. Пахло плохой, бедной жизнью и водкой. Рядом со мной стояли два старика, источая запах мочи и каких-то мазей на рыбьем жире, а сзади, спереди и надо мной было не лучше: пахло бараками, табаком и водкой из желудков. Люди вздыхали и этим только нагнетали жуткие запахи. Но деться было некуда. На улице – стена дождя, а под навесом – стена из людей, источающих смрад. Ароматы пудры, духов и одеколонов пришли гораздо позже, в пятидесятые и шестидесятые годы, когда люди стали жить лучше. А в сороковые жизнь была бедная и унылая. И люди тоже были унылыми. О вежливости, галантности и прочих красивых проявлениях все забыли. Им не было места. Незнакомые люди могли по ничтожному поводу устроить скандал, накричать друг на друга и даже подраться. Каждый день можно было увидеть, как кто-то ожесточенно ругается. Вежливость и взаимные уступки я встречал редко и думаю, что эта беда случилась с нашим обществом после Победы, а в военные годы люди были сильнее и терпимее. Потому что все ждали конца войны и надеялись, что наступит хорошая жизнь. Но вот война окончилась, и люди, очутившись в бараках, в тесноте и прочих затруднениях, потеряли надежду и стали недобрыми, вспыльчивыми и подозрительными. Ведь для доброты и вежливости нужны условия. Нужно, чтобы человек радовался жизни. Тогда-то он и станет вежливым и добрым. А чему было радоваться в первые послевоенные годы?
Хорошо помню моих сверстников, подростков нашей округи. О, это были злые личности! Настроены они были на то, чтобы сделать кому-нибудь плохо. Они бродили по улицам и высматривали, кого бы ограбить или что можно украсть. Однако нельзя сказать, что они родились преступниками. Они попросту устраивали свою жизнь за счет кого-то другого. Им нужны были деньги на табак, еду и выпивку, поскольку все они, несмотря на малый возраст, курили и выпивали, как взрослые. Это была их утеха, их единственное развлечение – поесть, покурить, глотнуть вина или водки. Дома им делать было нечего. Там не было еды, не было места, чтобы побыть одному, там могли заставить работать или слушать упреки, пьяные речи или истеричные нравоучения. Почти все, кого я знал из моих сверстников, жили в одной комнате с отцом и матерью, братьями и сестрами, со стариками. Один мой знакомый, Павел Т., все детство и юность прожил в коридоре, спал на сундуке. Он был прописан в квартире, где проживало семь семей. Его кормили два раза в день, утром и вечером. Утром давали перловую или пшенную кашу, черный хлеб, а на ужин – пустые щи и картофель в мундире. Он рос на улице. Всегда голодный и злой, в протертых до дыр башмаках, в грубых штанах с солдатским ремнем. Круглый год он носил одну и ту же куртку из парусины, только зимой надевал еще пальто и кепку. Руки всегда грязные, под ногтями черно. Ему негде было помыться, поэтому от него всегда пахло немытым телом. Он мылся лишь в районной бане, куда ходил с отцом и дядей один раз в десять дней. В переполненной коммунальной квартире, где он жил, вода из крана шла только утром. Ею наполняли тазы и ведра, чтобы пить, готовить еду и мыть посуду. Чтобы вымыть тело, воды не хватало. Люди раздражались, впадали в уныние, особенно женщины. Что в таком случае делать дома? Сходить с ума? Павел Т. рос хищным и безжалостным человеком, склонялся к жестокости и рассуждал просто: «Если мне плохо, почему кому-то другому должно быть хорошо?» Его приятели всегда были рядом, потому что жили в таких же условиях, что и Павел. Они водили не просто свою подростковую компанию, а сбились в шайку. Пустые животы и злоба сделали их опасными людьми. В те годы в любом районе Москвы можно было наскочить на детей и подростков с психологией сложившихся преступников, у которых в карманах лежали не рогатки, а ножи и кастеты. Павел Т. и его дружки носили за сапогом финки, были хитры и коварны и изъяснялись самыми грубыми выражениями. Сейчас я думаю, что их навсегда разочаровала жизнь. Жестокими их сделало глубокое, постоянно преследующее ощущение голода и скуки. Им всегда хотелось есть и хоть как-то развлечься. Но им некуда было пойти, чтобы почувствовать себя хорошо и уютно. Оттого они и стали такими грубыми. Помню, они стремились к извращенным удовольствиям: схватить какое-нибудь животное и растерзать его. Как-то раз им удалось поймать крысу, и они с криком и воплями устроили ей средневековую казнь. Кто мог изменить их привычки и привить им красивые манеры? Они уже так привыкли к матерщине и к грязным мыслям, что уже не понимали, как можно жить иначе. Когда я вспоминаю своих сверстников в первые послевоенные годы, я мрачнею. Это было страшное явление.
Однажды Павел Т. и какой-то его дружок попытались утащить вещевой мешок у двух солдат, вернувшихся с фронта. Солдаты были зрелыми деревенскими людьми, ехали через Москву домой. Наверное, хотели поглядеть на Красную площадь. Схватив воришек, они завели обоих во двор и зверски избили. Павел Т. размахивал руками, как вратарь, и кричал от ужаса. Его били в лицо, как взрослого, сильного мужчину. А ему было всего-то четырнадцать лет. И ему, и его дружку выбили зубы, сломали грудную клетку, сапогом раздавили пальцы. Они валялись на земле и стонали в луже мочи, потому что перед тем, как уйти, солдаты еще и помочились на них. Это было в феврале 1946 года. Павел Т. поклялся найти этих солдат и зарезать, но так и не нашел. Он выздоровел, кости его срослись. А вот его дружок стал хилым из-за сломанной грудной клетки, подхватил легочную болезнь и вскоре умер.
К подросткам в те годы относились не просто недоверчиво, а с опаской. В них видели воришек и налетчиков, всегда готовых на преступление. Когда мы с мамой в апреле 1946 года встречали на вокзале нашу родственницу, какая-то пожилая дама сказала своей такой же пожилой сестре, чтобы та ни на минуту не выпускала из рук чемодана. Вот какие она нашла слова: «Ты, Аяля, вцепись в чемодан и сиди на нем, а если что – кричи. Видишь, тут шпана крутится! Сейчас чемодан схватят, сволочи, и сиганут под вагон. Бойся шпану, бойся!» «Шпана» – это был я, который несколько раз прошел мимо этих пожилых сестер. Конечно, мир, в котором люди не доверяют даже детям, унылый и безрадостный. Но этих пожилых женщин можно понять. Вероятно, они уже пострадали от рук подростков.
Мне повезло: судьба подарила нам с мамой отдельную комнату. Я смог остаться домашним мальчиком. Не сделался уличным. Это был, наверное, редкий случай в то время. Я любил бывать один в нашей комнате, читать книги и мечтать. Помню, я и сам что-то писал, какие-то стихи и рассказ про необитаемый остров. Я хотел очутиться на необитаемом острове, который похож на тот островок, который выдумал Салтыков-Щедрин для своей «Сказки о том, как мужик двух генералов прокормил». Я мечтал о еде, об изобилии, чтобы на деревьях росли булки, сладости. Мы с мамой жили лучше некоторых наших соседей и знакомых, не сидели на хлебе и воде, и все-таки всех нас в то время подстерегал голод. Наша родственница, гостившая у нас в апреле 1946 года, рассказывала про Кишинев: плохо, нехватка продуктов, скверное снабжение, люди, случается, падают на улице в голодном обмороке, некоторые умирают. Она жила в Кишиневе и мечтала убраться оттуда. Она все время спрашивала: «А как вы? А вы как живете?» Мама поступила мудро: спрятала подальше свои наряды, надела старое платье, старые туфли. На стол, однако, она выложила все, что у нас было. Увидев сметану и сливочное масло, наша родственница всплеснула руками. Потом заплакала. «Где же вы все это взяли?» – спросила она. Мама ответила: «Копили, откладывали и купили. Хотели тебя порадовать». После этих слов мамочка поставила на стол мясные фрикадельки и картофельное пюре на молоке из сухого порошка. Наша родственница помнила этот день всю оставшуюся жизнь. Маму она любила и уважала. В тот вечер она ее нахваливала: «Какая ты стала хорошенькая, полненькая! Интересная!» Маме это нравилось. У нее была цель: поскорее стать привлекательной дамой и завоевать внимание и расположение одного мужчины, которого звали Алексей Лукьянович. Он был начальник какого-то строительного участка. Мамочка хотела заполучить Алексея Лукьяновича в мужья. Он был вдовец, и мама поделилась со мной своими стратегическими соображениями: «Когда я стану похожа на ту генеральшу, он не сможет не думать обо мне. Таких женщин не пропускают. Верно? Еще немного, и он начнет по мне вздыхать!» Алексей Лукьянович, по словам мамы, «умел жить». Житейские бедствия обходили его стороной. Он сумел обеспечить себе достаток, а это в сороковые годы было чрезвычайно трудно. Мы, к примеру, выбирались из крайней бедности лишь благодаря гвоздям, оконным стеклам и рамам, шпингалетам, задвижкам и засовам. Мама приносила в чемодане разобранную старую оконную раму, и мы ее приводили в надлежащий вид. Очищали от грязи, счищали старую краску, красили заново, и получался «приличный» товар. Покупатели находились быстро. Оконные рамы стоили очень дорого. Иногда мы продавали раму вместе со стеклом и с шпингалетами, называя это «готовое окно». Такой товар стоил особенно дорого. Иногда мама рассуждала вслух: «Нужно еще три готовых окна и полведра гвоздей… А где их взять?» Она торопилась. Вероятно, она опасалась, что вдовец Алексей Лукьянович заведет роман с другой женщиной и сойдется с ней, а она останется ни с чем. Бывало, она меня спрашивала, появились ли у нее ямочки на щеках. Я говорил: «Конечно, появились». Мама подолгу стояла у зеркала, словно не доверяла моим словам. Как-то раз она сказала: «Ну, еще одна неделька – и начну действовать». У нее был план: достать билеты в Большой театр и пригласить Алексея Лукьяновича, разыграв перед ним сцену – будто бы один билет лишний и пропадает, а после спектакля позвать его к нам домой на ужин с шампанским и коньяком. И вдруг случилась «беда»: куда-то запропастились те самые «темные личности», которые приносили маме стекла, рамы, гвозди и прочее. Она ждала от них вестей с надеждой и тревогой, но они точно под землю провалились. И мы потеряли хороший дополнительный заработок и стали жить только на мамину зарплату. А платили в сороковые годы очень мало. Многие люди бедствовали. Вот и мы вернулись к прежней жизни. На столе у нас уже не было ни сметаны, ни масла, ни мяса, мы снова «сели» на крупу, картофель и чай с сухарями. Наконец мама не выдержала и достала коробку с сбережениями, вынула деньги и отправилась в коммерческий магазин и на базар, принесла свинины, гороха, риса, сахара и даже банку варенья. Я понимал: это из-за меня. Я худею и превращаюсь в тонкого, бледного мальчика с впавшими щеками, и мама уже не может бездействовать.
За два месяца мы проели все свои сбережения, все, что удалось накопить. Пришла очередь маминых нарядов – «настоящего» пальто, то есть кем-то привезенного из Германии, муфты, платья, сшитого у модистки, чулок и ботинок, отороченных мехом. Продав эти драгоценные вещи, мы могли четыре-пять месяцев хорошо питаться. Учитывая наше положение, это была неизбежная жертва. И она означала, конечно, крушение всех маминых планов насчет Алексея Лукьяновича. Появиться перед этим человеком кое-как одетой и не в «теле» мама не могла, и ей оставалось лишь ждать и надеяться на то, что люди, снабжавшие ее строительными материалами, все-таки объявятся. Тогда мамочка смогла бы все начать заново – копить и откладывать, покупать хорошую одежду и обувь и «входить в тело». Сначала она продала чулки и муфту, потом платье, а когда она однажды вынула из шкафа ботиночки, я услышал, как хрустнули ее пальцы. Я сказал: «Мама, не нужно. Ничего, потерпим! Вдруг твои знакомые появятся уже завтра?» Мама повернулась и спросила: «Ты так думаешь? Хорошо, подождем». Но «темные личности» не появились ни через неделю, ни через месяц, ни до конца 1946 года. Наступил 1947-ой, а их все не было. Мама продала все ценное, даже баночку пудры, которую отчаянно берегла. Мы оба снова похудели. Весной 1947 года мама выглядела, как в военные годы. У нее заострился подбородок, сошла красивая полнота рук, ног, бедер и плеч. А я стал тонким, как трость. На мне болтались башмаки, словно они были на два размера больше. Сваливались брюки. А в застегнутый ворот рубашки можно было просунуть кулак. Однако то, что с нами происходило, не казалось нам невероятным. Мы вздыхали, но не горевали, потому что знавали и пострашнее времена, в эвакуации. Там мы жили куда хуже. Правда, в войну у нас была надежда. А теперь мама уже не надеялась, что Алексей Лукьянович достанется ей. И вот в апреле 1947 года она повстречала его на улице с красиво одетой дамой, быстро все разузнала, и оказалось, что это его будущая жена. Так мамочка потеряла начальника строительного участка, «умеющего жить». И вообще мы скатились вниз. Пили пустой чай, грызли сухари, варили пустые щи. Ели перловую и пшенную кашу, которую ненавидели. Мама носила кустарное пальто и невзрачную беретку. Иногда она рассуждала, что было бы хорошо, если бы ей удалось найти вторую работу. Но это было очень трудно. В Москве в сороковые годы была безработица, люди искали себе место по полгода. Трудно было устроиться даже в дворники и уборщики. А уж детям и подросткам заработать своим трудом было почти невозможно. Вероятно, еще и по этой причине в Москве распространилась большая детская преступность. Сколько было разговоров об этом: нападают на прохожих, размахивают ножами, как самые закоренелые преступники, и кричат в лицо: «Давай деньги, сволочь! Выворачивай карманы! Снимай пальто!»
Шайка Павла Т. тоже была злющая. Рыская по улицам в поисках добычи, они скрежетали зубами от злости. Но удача им выпадала нечасто. Ведь люди в то время жили небогато. Недаром говорили: «Нынче нужно три раза объехать вокруг света, чтобы найти «бобра». «Бобрами» называли зажиточных граждан. А где их было повстречать вот так запросто? Помню, как однажды поздней осенью 1947 года, возвращаясь домой, я наткнулся во дворе на Павла Т. и еще двоих из его шайки. Они тряслись от холода, а из-за давно пустых животов почти обезумили. Утром им удалось раздобыть поддельного вина, от которого их стошнило и едва не вывернуло наизнанку. Руки и ноги у них ходили ходуном. Бледные, худые и замызганные, но злые и готовые разорвать первого встречного. Такими они выскочили передо мной, и я испугался и подумал, что это мой последний день. Павел Т. вынул финку, но тут же спрятал ее и сказал: «Слышь, паря, выручи. Подыхаем… Вынеси хлеба. Век не забуду. Вынесли хоть по горбушке!» Я пошел домой и отрезал полбуханки хлеба, а потом подумал и отрезал еще четвертинку. Да еще свернул бумажку и насыпал в нее соли. Павел Т. и его дружки схватили хлеб, разделили, запихали его в рот и проглотили, кажется, не жуя. Я их понимал. Было три часа дня. Дома они, вероятно, не ночевали, но даже появившись дома, они все равно ничего бы не получили. Ни крошки. Им сказали бы: «Жди вечера». Вечером дали бы щей и немного картошки. 1947 год был таким же пустым и «голодным», как и 1946-ой. Если бы во дворах были голуби, как в нынешнее время, их переловили бы и съели. Не было ни собак, ни кошек. Только воробьи, вороны и крысы. И подросткам жилось, наверное, хуже всех: денег нет, а организм растет и требует пищи, а если дома не накормили, то еды взять неоткуда. Только воровать и грабить. Так было в сороковые годы… Так жили Павел Т. и его приятели. Когда они выросли и стали зрелыми мужчинами, они больше всего на свете продолжали ценить еду, табак, выпивку и развлечения – смотреть футбол, хоккей, играть в домино и карты. Каждый из них на всю жизнь остался грубым и невежественным, и мог по любому поводу нагрубить, нахамить и устроить драку. Они не уступали места в транспорте, толкались и сквернословили, не замечая ни женщин, ни детей, и не вынимали папирос изо рта. Было видно, что они совсем не уважают общество, потому что самое лучшее время – детство и юность – у них прошли зря.
Так на них повлияли сороковые годы.
А мы с мамой в 1947 году продолжали бедствовать до конца ноября. В ноябрьские праздники у нас на столе были только три карамельные конфеты да несколько сухарей из белого хлеба. Но мы радовались и этому. Приближался 1948 год, и мы рассуждали о том, каким он будет. Мама говорила, что рано или поздно в стране станет лучше с питанием и с другими товарами. Может быть, обстановка изменится уже в наступающем году, а может, только в 1949-ом. Кто знает. Мы, конечно, устали жить плохо, но плохо жили почти все, то есть большинство жителей нашей страны. Разговоры об уровне жизни в различных краях и областях СССР происходили повсюду. В очередях рассказывали, как плохо живут на Украине и в Молдавии, и как бедно живут на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Как бедствуют на Кавказе. Но люди в разговорах не упоминали правительство, то есть не давали оценку его работе – этого избегали. Говорили лишь о том, что пишут в письмах родственники и знакомые, или что рассказывают приезжие. Упоминали об этом сухо, без гримас, без резких жестов, негромко. Однако если в 1945—46 годах люди любили помечтать и пофантазировать о хорошей жизни, которая вот-вот должна будет наступить, поскольку мы победили в войне, то в 1948—49 годах таких разговоров уже не было. Обсуждали лишь текущие события. И мы с мамой в ноябре 1947 года тоже не мечтали, а лишь строили робкие предположения, начиная словами «может быть» и «возможно». В 1947 году отменили продуктовые карточки, отменили талоны на дрова и керосин, еще в этом же году произошла денежная реформа. Но жизнь лучше не стала, мы с мамой могли судить об этом по нашим знакомым и соседям, и, конечно, по себе. Наши достижения были такими же, как в 1944—45 годах.
И вдруг в декабре произошло чудесное событие: мама пошла на базар и повстречала одну из тех «темных личностей», которые приносили ей строительные материалы. Она бросилась к нему, и он ей что-то ответил. Кажется, он сказал: «Так нужно было, потому-то мы и исчезли». Потом он пообещал ей, что «дело» снова наладится. В тот день мамочка ворвалась в комнату, заперла дверь, прислонилась к ней спиной и объявила: «Появились!» Я вскочил с места и тоже разволновался. К нам снова пришла надежда. Нам хотелось петь и танцевать. Мы ждали два дня, а на третий у нас появились гвозди, целых полведра, и мы с радостью бросились их сортировать, выпрямлять и чистить. Мамочка быстро их продала, вернулась с деньгами, положила их в коробку, а потом вздохнула. Она была чем-то озабочена. Я спросил: «Неужели эти твои знакомые опять пропали, исчезли? Не может быть!» Мама ответила, что нет, никто не пропадал. Но теперь все иначе. Теперь нужно быть очень осторожными, потому что в стране действует постановление об усилении мер ответственности за хищение государственной собственности. За покушение на государственную собственность могут присудить пять лет тюрьмы. А за крупные хищения – пятнадцать, а то и двадцать. Я ответил: «Но ты же не воруешь, а покупаешь. Разве могут за погнутые и ржавые гвозди отправить за решетку?» Мама напомнила мне судьбу наших соседей. Да, но ведь они продавали гвозди с государственного склада, новенькие, промасленные, а у нас совсем другой товар. Указывая на это, я пытался успокоить мамочку, но она все равно вздыхала. Рассказала, что когда продала гвозди, покупатель заказал у нее оконные рамы и стекла, и теперь она волнуется, не будут ли они украдены с государственного объекта? Получалось, что теперь она сильно рисковала. Вот те на! Мы ждали с большой надеждой, когда снова займемся нашим «строительным делом», и вдруг возникло такое серьезное препятствие – маму могли обвинить в скупке краденой государственной собственности. И все-таки мама решилась и сделала заказ у «темных личностей»: рамы, стекла, шпингалеты и, конечно, гвозди. Все эти материалы появились в течение недели. Рамы поступали разобранные. Мама приносила их по частям, завернутые в тряпку, чтобы наши соседи ничего не пронюхали и не донесли. Доносы в то время были частым и обыкновенным делом. Мы приводили рамы в порядок, после этого занимались стеклами. Работали быстро. Нужно было поторапливаться. Покупатель приезжал глубокой ночью, ждал в подъезде, там же забирал наш товар и сразу же расплачивался. Он ездил на грузовой машине. Ездил свободно, поскольку в Москве уже давно не было комендантского часа и военных патрулей. Покупал этот человек много и платил не торгуясь. Мама считала, что он перекупщик из Подмосковья, а то даже из другой области. Но она его не расспрашивала. Лишние расспросы могли навредить делу.
С зимы 1948 года наша жизнь стала налаживаться. Мы снова стали есть мясо, сметану и сливочное масло. Покупали колбасу и копченую рыбу, сдобные булки, коржики. Мама тушила мясо с картофелем, пекла пироги. Супы были теперь наваристые. И мы с каждой неделей поправлялись. На наших щеках появился румянец. Мамочка снова «входила в тело», и у нее снова появился «объект», интересный мужчина, как она говорила, инженер торгового треста, тоже вдовец и тоже сумевший обеспечить себе хорошую жизнь. Степан Степанович. В марте 1948 года мамочка стала приобретать вещи «приличной» дамы. Купила за большие деньги красивую сумочку. Купила пудру и тушь. Какие-то спекулянты помогли ей достать пальто европейского покроя, перчатки и элегантную шляпку. Принеся их домой и надев их, она так долго не хотела их снимать, что я даже засмеялся. Мама тоже стала улыбаться. Она выглядела счастливой. Мы бедствовали больше года, и вот, наконец, нам повезло.
Однажды «темные личности» принесли маме мешок пакли. Она была тоже не новая, но вполне годная, и мы ею занялись. Высушили, протрясли, очистили от мусора и выгодно продали. Расплачиваясь за паклю, покупатель сказал маме, что ему нужно больше товара, в том числе и пакли. «Паклю куплю, сколько предложите, – сказал он. – Хоть целый вагон». Мама передала это «темным личностям», и они в течение двух недель достали еще три мешка пакли. Потом принесли ведро шпингалетов. Некоторые были совсем старые, ржавые и испорченные, с ними пришлось повозиться, но мамочка была упорной женщиной и никогда не отступала. Потом снова были стекла и гвозди. И вот пришел день, когда мама принесла домой два билета в Большой театр и сказала, что настало время действовать. Степан Степанович из тех мужчин, сказала она, которые проявляют интерес только к элегантно одетым, полненьким дамам с ямочками на щеках и с красивой, «сложной» прической. Ему нравится, чтобы от дамы пахло духами, чтобы она носила перчатки. И чтобы туфли или ботиночки у нее были новые. Когда мамочка принарядилась перед зеркалом, мы стали сводить все ее достижения в один реестр, и оказалось, что она полностью соответствует запросам Степана Степановича. Я упоминаю слово «запросы» потому, что после войны женщин было больше, чем мужчин, и мужчины могли выбирать и позволять себе запросы. Думаю, что на одного мужчину в сороковые годы приходилось 5–6 женщин. А уж обеспеченный мужчина мог позволить себе сколько угодно перебирать знакомых и малознакомых дам и ни на одной не остановиться. Такое было время!
В этот раз маме повезло – у нее все получилось. Она появилась перед Степаном Степановичем дамой в его вкусе, да еще с билетами в лучший театр страны. После спектакля Степан Степанович повез мамочку в ресторан. В ресторане этот инженер торгового треста высказал удивление: как это так получилось, что дама, которая полностью в его вкусе, вдруг неожиданно возникла в его жизни? Должно быть, это счастливый случай. Мама сказала: «А разве мы родились не для счастья? Вы, такой «интересный» мужчина, должны быть окружены заботой и вниманием хорошей женщины. Вам совсем не идет быть холостяком. А мне бы очень понравилось о вас заботиться». Степан Степанович с этим согласился. И у него с мамой завязался роман. В конце 1948 года они поженились. Мы переехали жить в отдельную квартиру Степана Степановича. Ему было тогда уже около пятидесяти лет. А маме было тридцать семь. Вскоре Степана Степановича повысили в должности и перевели на другую работу. Он хорошо зарабатывал, и связи и знакомства у него тоже были хорошие. Мы ездили с ним отдыхать в Крым и на Кавказ. У нас на столе была хорошая еда, кофе и фрукты, и даже сыр и пирожные, что в сороковые годы считалось роскошью.
Мама прожила долгую жизнь, дождалась внуков и даже правнуков. Своих детей у нее больше не было. Степан Степанович скончался в возрасте шестидесяти лет от инфаркта. После него у мамы был еще один муж, Николай Игнатьевич, очень хороший человек. Мама пережила его на десять лет.
Незадолго до смерти мамочка увидела свою правнучку. Моя дочь вынула малышку из коляски и показала бабушке. Это происходило в городском парке на лавке. Стояла ранняя сухая осень. Было солнечно. Я сидел рядом с мамой и держал ее за руку. И вдруг появились какие-то люди с большим оконным стеклом – они понесли его мимо нас вдоль по алее, и я увидел, как мама улыбнулась. Она вспомнила сороковые годы и наши оконные стекла. Она сказала: «Помнишь?» Я ответил: «Как я могу забыть, мама? Конечно, помню». Потом я спросил, кто же все-таки были эти «темные личности», которые так здорово нас выручали. «Как кто? – сказала мама. – Шпана. Мальчишки двенадцати-четырнадцати лет. Это они приносили мне гвозди, рамы, шпингалеты и прочее». Ах вот оно что! А я и не знал, что тогда, в сорок пятом году, мама сговорилась со шпаной. Она сделала это, чтобы нам не пропасть. Чтобы я хорошо питался, не пошел воровать и сам не стал шпаной. И у меня от хорошего питания хорошо «работала» голова. Я прилежно занимался по всем школьным предметам и легко поступил в институт. Помню, как я прибежал домой и объявил мамочке: «Ура! Я студент!» А мама сосредоточенно поворачивалась перед зеркалом, у стены стоял собранный чемодан. Она собралась уезжать. Но куда? Я не помнил никаких разговоров на этот счет. «Куда ты едешь? – спросил я. – И с кем?» Мама ответила сухо: «Еду на север, одна. Мне очень нужно… Там мой сынок лежит в земле. Я поеду к нему, навещу его». Я закричал: «Еду с тобой! Без разговоров! Соберусь за одну минуту!» Но мама попросила меня остаться. «Не нужно тебе на это глядеть, Витя. Я упаду на могилу, буду плакать, просить прощения за то, что уехала… Я буду разговаривать с сыночком, а тебе видеть это не следует». и я остался дома. Мама поехала одна. Вернувшись, она рассказала, что с сердца у нее сошел камень. Она приходила на могилу три дня подряд и проводила весь день, и мой брат Никита простил ее… Вот каким человеком была моя мама.
Сороковые годы были самыми трудными из всех послевоенных десятилетий – по сей день. Так говорят те, кто пережил сороковые годы. Я с ними согласен, ведь я тоже был свидетелем того сложного времени, о котором здесь и рассказал».
* * *
Светлана Рез-ова, 1924 года рождения: «Я была на фронте – с июня 1943 года и до Победы. Меня готовили как связистку, и около года я была связисткой. Со стороны могло показаться, что это простое дело, но в действительности это изнурительная работа. Нужно весь день или ночь сидеть на одном месте и почти непрерывно держать связь то с разведчиками, то с штабистами, то с хозяйственниками, то еще с кем-то. Часто связь нарушалась: то нас не слышали, то мы не могли ничего разобрать, но она была настолько важна, что от нас требовали раз за разом повторять позывные и говорить: «Вызываю на связь! Не слышу. Вызываю на связь…» Было очень трудно. Першило в горле, ныла спина, ломило поясницу. А когда наверху, над блиндажом, рвались снаряды, было еще и очень страшно. Все мы могли в одно мгновение погибнуть от прямого попадания снаряда – сколько было таких случаев! Ведь война, фронт. А порой нападала тоска. Когда, например, шли дожди, разводилась сырость, грязь. Нас душили запахи плесени, сырой земли, прелой одежды и сапог. Но нужно было терпеть, и мы терпели – я и моя подруга Надя, связистки, обе сержанты.
Я имела о войне неполное представление перед тем, как попасть на фронт, как, наверное, все, кто судят о чем-либо по рассказам и слухам. Лишь очутившись на передовой, я смогла понять, как тут живут. Война – это прежде всего люди, причем мужчины разного возраста и воспитания. Если раньше, услышав о том, что гражданское общество сильно отличается от военного, я не задумывалась, что имеется в виду, то оказавшись на войне, я сразу все поняла. На фронте совсем другие отношения между людьми. Здесь никто не принадлежит самому себе. Ваша жизнь – не ваша собственность. Вы принадлежите вашему командиру, как и он принадлежит своему. В гражданском обществе можно жить без друзей, без любви и увлечений и все равно чувствовать себя счастливым, а на войне нет счастья. Лишь короткие моменты радости и удовольствия. При этом удовольствие люди находят порой в некрасивых ситуациях. Например, в жесткой субординации. Я видела множество неприятных сцен на войне, которые в мирное время вряд ли могли бы случиться. Помню, как в пешей колонне какой-то пожилой солдат, увидев впереди своего знакомого, отпросился у командира, побежал и на бегу случайно задел локтем совсем молодого лейтенанта. Солдату было за шестьдесят, а лейтенанту только девятнадцать. И этот молоденький офицер от негодования ну просто озверел. Покрылся красными пятнами, выхватил пистолет. Заорал: «А ну вернитесь! Ко мне! Солдат, немедленно ко мне!» Солдат вернулся, извинился, но юноше этого показалось мало, и он бросился унижать старичка перед сотней людей. «Баран! – кричал он. – В штрафную роту захотел? Бегом к своему командиру – доложить о происшествии! Я сказал – бегом! Отставить. Вернитесь. Не слышу четкого ответа старшему по званию. А теперь – бегом!» Наверное, этот лейтенант понимал, что поступает нехорошо, жестоко, но, видимо, он давно ждал хоть какого-нибудь развлечения. Видно, ему было одиноко, тоскливо. И он не упустил случай. Или, быть может, он хотел, чтобы его боялись и уважали. На войне страх повсюду, им пронизано все, и это не только страх погибнуть в бою или от внезапно прилетевшего вражеского снаряда, а страх перед командирами. Потому что они могут круто изменить вашу судьбу – доставить вам такие неприятности, что вы остолбенеете от ужаса.
На войне я стала лучше понимать мужчин. Ведь от них зависело все – сон, отдых, еда, самочувствие, настроение. Однако без субординации на войне ничего бы не получилось, и, наверное, никто бы не выжил. Это парадоксальное явление. Я проклинала субординацию и молилась на нее. Потому что моя жизнь и мое положение каждый день напрямую зависели от мужчин, а ими управлял закон старшего по званию.
Осенью 1943 года мы с Надей попали в трудное положение из-за одного нашего командира. Он происходил из деревни, был хорошим военным специалистом, но жестоким и равнодушным к своим подчиненным, особенно к нам, женщинам. Он требовал четкого выполнения своих приказов и распоряжений, однако его совсем не заботило наше состояние. Он был капитаном и очень гордился своим офицерским званием, на рядовых и сержантов смотрел, как на насекомых. Жесткий, неумолимый человек. Мы сидели на одном месте по десять часов и держали связь, питались холодной прогорклой кашей и сухарями, сжимали зубы от головной боли и судорог ног, но что-либо изменить не могли, поскольку принадлежали командиру. Мы понимали: таков этот человек. Мы для него – скотина, которой он пашет поле, и ему нет дела, что она чувствует. Три дня не было хорошей связи, и капитан нервничал и требовал, чтобы мы даже глаз не сводили с аппарата. Прошел еще день. Мы спали по три часа и совсем измучились. Мы не мылись, не приводили себя в порядок. И мы умоляли небеса, чтобы приехал другой наш командир, майор, человек совсем иного склада. Мы шептали: «Приди, миленький, появись!» И вот он появился.
Сначала в блиндаж вошел солдат, принес сундук нашего майора. Потом появился он сам, улыбающийся, чисто выбритый, в начищенных сапогах, в новенькой форме. Сначала он поздоровался с нами, подарил нам шоколад, и только потом спросил у капитана, какова обстановка. Тот сказал: «Связи нет!» Майор улыбнулся и ответил: «Ну нет, так будет. Не сейчас, так потом». И тут он почувствовал запах наших немытых тел и внимательно поглядел на нас. Мы выглядели жалко. Измученные, потухшие. Волосы как пакля. Губы почти бесцветные. И он, этот хороший, понимающий мужчина, все понял. Он холодно посмотрел на капитана, а затем подозвал его и сказал: «Капитан, срочно организуй для связисток баню, стирку, сушку белья и обмундирования». Капитан очень удивился и заорал: «Какая баня, когда нет связи?! Пусть дают связь! Связь!» Тогда наш хороший майор нахмурился и напомнил капитану о законе старшего: «Что-о? Ты взялся обсуждать мой приказ? Я привык, чтобы мои распоряжения выполнялись молниеносно. Пулей! Даю полчаса на выполнение. Через полчаса явиться и доложить». Капитан испугался. Препирательство со старшим по званию и по службе на войне – серьезное преступление. Можно угодить под трибунал. Могут не только разжаловать, но и расстрелять. И все завертелось. Нам организовали помывку горячей водой, с мылом, мы сменили белье, портянки, выстирали и просушили обмундирование. На это время нас заменил какой-то парень-связист из другого подразделения. Наш майор договорился об этом с другим майором, своим приятелем. После бани нас накормили горячей кашей с мясом, напоили чаем с сахаром. А потом уложили спать на пять часов. А когда мы проснулись, нас снова напоили чаем. И мы ели подаренный шоколад и улыбались от такой счастливой перемены. Майор был из Омска, по образованию инженер, хорошо образованный, воспитанный человек.
Даже на войне он оставался человеком. А с капитаном у нас завелись бы вши, мы страдали бы от нервного истощения, от запоров, от тоски и отчаянья. Вот как помогла субординация. Вот как бывало на войне. Хотя, конечно, на один хороший случай могли произойти два плохих. Ведь субординация не только спасала, но и вредила. Ее, как я уже говорила, не только благодарили, но и осыпали проклятьями.
Когда фронт приходит в движение, судьба человека на войне может в любой час изменится. Он может погибнуть, его могут послать на другой участок, в незнакомое подразделение, и это будет означать расставание с друзьями и командирами. Так случилось со мной. Я очутилась в другой дивизии, где все было незнакомо. Пришлось расстаться с подругой Надей, и я даже плакала, когда прощалась с ней. Находясь в дороге, я все время думала, какие люди мне попадутся – какого типа мужчины будут мои начальники. Ведь на войне каждый человек соответствует определенному типу поведения. Так распоряжается война. Некоторые становятся грубыми и развязными. Это их способ преодолевать страх. Другие замыкаются и предпочитают молчать. Третьи ко всему приспосабливаются и стремятся хорошо устроиться, везде и всюду налаживают связи и знакомства. Так они гонят от себя тоску и унылые мысли. Четвертые – пижоны и щеголи, содержат в чистоте ногти, одежду и сапоги. Беспрестанно смахивают с себя пылинки, поправляют ремни, прически, приглаживают усы. Картинно вынимают и курят папиросы. Говорят, это тоже своего рода психоз. А мне больше всего нравились люди, которые ведут себя сдержанно и вежливо. Они трезво оценивают каждый момент и понимают, что прежде всего нужно оставаться человеком. Они держатся просто и естественно. Но таких людей не так уж много. Ведь немало зависит от звания, службы и должности. Некоторые офицеры слепо подражают старшим по званию, копируют их привычки и манеры. Наверное, они наделены слабым воображением. Впрочем, на войне мужчину ничто не портит, кроме трусости и жестокости. Трусость на фронте самое отвратительное явление. Трусость не только в бою, а перед голодом, холодом и прочими лишениями. Уже через месяц на войне я поняла, что хорош какой угодно человек, любого типа поведения, лишь бы он не был трусом или жестоким. И вот я ехала и думала: «Что меня ждет?»
Мой командир, начальник связи майор Д., оказался неплохим человеком. Он был родом из какого-то небольшого, но старинного городка, из интеллигентной семьи, спокойный, уравновешенный офицер. Он сказал: «Устраивайся, обживайся, а я постараюсь сделать для тебя все возможное. Даю тебе четыре часа свободного времени». После этого он куда-то вышел. Я сказала себе: «Какой хороший мужчина!» Едва я развязала свой вещевой мешок, как в блиндаже появился здоровенный офицер с нахальным лицом и манерами портового грузчика. Уселся на край стола, сколоченного из досок, закурил, пустил мне в лицо струю дыма и спросил: «Кто такая? Радистка-артистка? Стучишь – своих веселишь?» Я стояла перед ним навытяжку, понимая, что передо мной тип развязного грубияна. Чем это может для меня закончиться? Тут в блиндаж вернулся мой начальник. Нахальный майор приветствовал его, как приятеля: «Здорово, Серега! А я – к тебе. Чаем напоишь? Заодно о деле потолкуем». Не успел мой командир ответить, как этот малокультурный великан повернулся ко мне и подозвал свистом, как мальчишку. «Эй, радистка, – прогремел он, – живо слетай к почтальону и спроси, есть ли у него что-нибудь для меня». И он назвал фамилию. Я повернулась к своему начальнику, чтобы он подтвердил приказание, и этот хороший, умный человек произнес: «Отставить. Занимайся своим делом.
Скоро обед, а потом еще будем чай пить». Потом он позвал за собой майора, и они вышли наружу. Там они заговорили обо мне. «Ты чего, Серега? – спросил недовольный майор. – Пусть слетает за письмами. Ну? Что тут такого?» А командир ответил на это: «Иди-ка ты к себе, Вася. Ты меня что, плохо знаешь? Терпеть не могу, когда с младшими обращаются, как с прислугой. Тем более с девушками, с женщинами. Ясно? Давай, проваливай». И нахал ушел. Я очень зауважала моего начальника. Жаль, что он через три недели погиб. Нахальный майор тоже погиб – его разорвало почти в клочья, как рассказывали солдаты. И у меня появился другой командир, замкнутый и молчаливый. Но до этого события мне выпала большая удача познакомиться с мужчиной, который сыграл в моей жизни большую роль.
Когда мой хороший командир был еще жив, к нему однажды приехали офицеры из штаба. Его заранее предупредили об этом. И он приготовился. Распорядился навести в блиндаже порядок получше, научил меня, как отвечать на вопросы по службе – спокойно, уверенно, но при этом быстро и коротко. И мы стали ждать начальство. Наконец приходят двое полковников, и один из них поразил меня своей внешностью и манерами. Ладный мужчина, красавец, да еще вежливый. Он спокойно спросил: «Как вам служится? Не трудно?» Я ответила: «Справляюсь, товарищ полковник». Он сказал: «Ну; вот и хорошо». Он был молодой, не старше тридцати пяти лет. Обращался на «вы». Подарил папиросы и шоколад. Я не курила, но была рада получить такой подарок, поскольку табак на фронте имеет громадную ценность, его можно легко выменять на сахар и тушенку. Уходя, полковник повернулся и посмотрел на меня, а затем спросил: «Как вас зовут?» Я назвала имя и фамилию. И услышала: «Я запомню. А теперь до свидания, хорошей вам службы».
Это был из тех моментов на войне, когда могло показаться, что нет никакой войны. Слишком уж хорошие, приятные минуты. С этого дня я стала очень часто думать об этом полковнике, говоря себе, что он мне очень нравится. Все в нем было привлекательно: телосложение, лицо, аккуратные манеры. До этого мне нравились только артисты кино, например, Самойлов. Нравился Массальский в фильме «Цирк», хотя он играл негодяя-иностранца. Моего полковника звали Игорь Т. Это имя стало моим любимым именем. Я думала: «Увижу ли я его еще когда-нибудь?» Фантазировала: попрошу моего командира отправить меня с донесением в штаб, с каким-нибудь пакетом. Это была, конечно, чепуха. Меня, связистку, никто бы никуда не отправил, ни в какой штаб. Моя служба – в блиндаже связи, у аппарата. Я не знала, что Игорь тоже думает об мне, потому что я ему понравилась. Я не знала этого, пока однажды к нам в блиндаж не зашел какой-то капитан и не спросил: «Это ты – Светлана? Тебе посылка». И я получила увесистый пакет. Там были шерстяные носки, шоколад, чай, американские галеты, тушенка, сахар, пачка английских сигарет. Английских! В короткой записке я прочитала: «Здравствуйте, Света, посылаю вам кое-какие гостинцы… Надеюсь, они поднимут вам настроение. С боевым приветом, Игорь, полковник Т.». Я очень обрадовалась. Для меня это был не только знак внимания со стороны привлекательного мужчины, это было то, на что я могла отвлечься. Ведь даже на войне человек не может непрерывно думать о своих обязанностях, ему требуется смена впечатлений. И я стала мечтать об Игоре. Стала думать, как написать ему письмо и поблагодарить за подарки. Сочинив это письмецо, я держала его в голове, а потом, когда выпал случай, записала на бумаге. Но отправить такое письмо в штаб оказалось не так-то просто. Мой добрый командир сказал, что передавать записки в штаб со случайными людьми не годится. Это может скомпрометировать моего полковника. Он посоветовал разыскать того капитана, который принес мне посылку. Я принялась искать его и нашла. Капитан оказался строгим человеком, но все-таки взял мое письмо. Через три дня я получила ответ. Игорь писал, что часто думает обо мне. Спрашивал, откуда я родом и кем хочу стать после войны. Написал, что он из столицы, из Москвы, и что было бы хорошо, если бы вместе поехали смотреть парад Победы на Красной площади. У него не было никаких сомнений, что скоро мы разгромим Германию. Я читала это и думала: «Вот было бы счастье, если бы все это сбылось!» Я никогда не видела столицу, к тому же Москва была закрытым городом. Без пропуска в Москву приехать было нельзя. Однако никто не мог мне запретить мечтать, и я мечтала. Пусть, говорила я себе, это только мечта, зато какая красивая. Красавец полковник и я едем в Москву на парад. Головокружительно!
Я не могла знать, что часть моей мечты сбудется и я буду дрожать от счастья. А пока что я только жмурилась от своих сладких фантазий. Но вот однажды Игорь снова появился в нашем блиндаже. В этот раз он приехал один. Мой командир все понял и ненадолго куда-то ушел, да еще увел с собой двух солдат и старшину. Игорь смотрел на меня и улыбался. Потом он снял фуражку и поправил прическу. Он был в новой шинели из дорогого сукна, и от него пахло одеколоном. Одеколоном! Я сказала: «Здравствуйте, товарищ полковник. Хотите чаю?» Игорь взял меня за руку, присел на край стола и произнес: «Я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Если ты, конечно, тоже этого хочешь. Попробую перевести тебя на другую службу, в штаб, в канцелярию. Это сложное дело, но у меня есть кое-какие связи… Будем ждать и надеяться. Верно? А пока будем служить – бить фашистов. Правильно?»
Я слушала моего полковника и тоже улыбалась. Это были самые приятные минуты с тех пор, как я оказалась на фронте. Ведь это чудо, когда мечта оборачивается реальностью! Это было осенью 1944 года.
На службу в штабную канцелярию меня перевели в конце осени. Я узнала, что такое старшие офицеры. Это были люди с характерами, с амбициями, с чувством ревности к успехам товарищей, но компетентные, смелые, умные, выдержанные. Они умели воевать и чувствовали себя на войне вполне комфортно. Щеголяли друг перед другом офицерской выправкой, прямой осанкой, всегда начищенными до блеска сапогами и чистенькими мундирами, без единого пятнышка. У некоторых из них были немного театральные манеры, но это, я думаю, бывает в любой среде, даже и в военной. Зато все они были храбрецы и настоящие мужчины. Каждый из них готов был умереть за Родину в любую минуту. Сначала я думала, что при штабе служат канцеляристы, а это были самые что ни на есть боевые офицеры, много раз участвовавшие в боях, поскольку они не в первый день войны стали полковниками и генералами. У них было все, что положено человеку на войне – и ранения, и награды. Они умели переносить на фронте любые трудности и не боялись смерти. Таким был и мой полковник, Игорь.
Женщины, которые служили в канцелярии, сильно отличались от нас, «полевичек». Их ухоженная внешность сразу бросалась в глаза. Новое обмундирование, всегда вымытые волосы, чистые ногти. На их лицах можно было прочесть, что они хорошо питаются и высыпаются. Еще я заметила, что они глубоко прячут свои чувства. Так на них влияла служба, постоянное присутствие полковников и генералов. Они обитали не в землянке, а в деревянном доме, в избе, спали на кроватях. Когда я впервые за год легла на кровать, она показалась мне невероятно мягкой. «Штабистки», глядя на меня, улыбались. Я была для них «полевичка», «окопница», но они отнеслись ко мне с уважением. Расспросили, как мне служилось в блиндаже, в окопах, трудно ли, страшно ли. На мое счастье мне попались хорошие, не заносчивые женщины. Окружили меня заботой и вниманием. Прежде всего помогли обзавестись новым обмундированием и подогнать по фигуре, ведь в блиндаже и окопах моя форма совсем утратила вид. Нарядившись во все новое, я долго стояла перед зеркалом. Надо же! Оказывается, даже на войне можно хорошо выглядеть! Затем меня научили основным правилам и манерам «штабистки». Все нужно делать сосредоточенно, с достоинством, не совершать резких движений, не суетиться, не показывать волнение или замешательство, не робеть, не трепетать. Нельзя пристально смотреть на старших офицеров, особенно на генералов, нельзя их разглядывать, это нарушение этики и субординации. Нельзя прислушиваться к тому, что они обсуждают между собой. Нельзя обращаться к ним напрямую, лишь в случае крайней необходимости. Обращаться можно только к непосредственному начальнику и в определенный момент. Научиться этому было не сложно. Уж куда сложнее было научиться спать на голой земле в блиндаже и хлебать холодный и мерзкий на вкус жиденький перловый суп без капли жира.
Я никогда не думала, что стану «штабисткой», поэтому никогда не рассуждала, что это за служба. Штаб и канцелярия – это сосредоточение совсем других людей и интересов, здесь нет ни отчаянья, ни жалости, здесь иначе налажен быт и получше кухня. Ругани, склок и отвратительных сцен тут не встретишь. Быть грубым, развязным – здесь это дурной тон. Простых словечек вроде «землячок», «сестреночка» и «табачок» тут не употребляют, о них как будто вообще не слышали. Здесь никогда не вздыхают и не жалуются, не охают и не ахают, и открыто не сквернословят. Ничего подобного тут нет и в помине. Совсем недавно один молодой старший лейтенант, чтобы меня поразить, крикнул проходящей мимо колонне солдат: «А где гармошка, станичники? Чего носы повесили? Неужто песню в бою обронили?» Это было лихо, но глупо. Меня это не могло поразить. А в штабе кругом солидность. Полковники и генералы, возможно, тоже состоят из суммы противоречий, но держатся они именно так, как мне нравится. Импозантность, стальная выправка, взаимное уважение. Тот нахальный старший лейтенант с руками в карманах и с шапкой на затылке, сам того не зная, кричал о себе: «Я глупый мальчик!» И это малопривлекательно для женщины на войне. Я тысячу раз выбрала бы умного, сдержанного и импозантного офицера. Зрелого. А не молодого и лихого. У молодых и лихих, как я заметила, частенько то живот болит, то портянки сырые, то анекдот на языке неприличный. Впрочем, лейтенанты были разные, не только глупые и некультурные. Попадались умные и воспитанные. Но в штабе мне понравилось больше. Об этом я сразу же сказала моим «штабисткам». А они засмеялись. «Кто тут у тебя? – спросила одна из них, Валя. – Полковник Т.?» Я кивнула. Они все знали обо мне и Игоре. И я уж было подумала, что каждая из них моя соперница, но услышала совсем другие слова: «Ах, милая. Это же фронт, передовая. Разве ты в окопах этого не поняла? Здесь все вре-ме-нно! Мимолетно. Сегодня так, а завтра иначе. Твоего Игоря могут в любой день послать на другой участок, а ты останешься здесь. Или наоборот. И вы, быть может, уже не увидитесь. Это же война! А что там будет после победы – никому не известно».
Они были правы, мои хорошие сослуживицы. И хотя на войне случаются и любовные драмы, и страсти, несмотря на запрет от 1942 года заводить романы, все может закончится в одно мгновение. По прихоти именно войны, а не людей. Уже завтра или на следующей неделе я могу потерять мужчину, который мне очень нравится, но думать об этом нельзя. Иначе можно впасть в нервозность. На войне не все обречены. Но кто из нас с Игорем обречен, а кто нет? Как раз об этом и нельзя думать. Но иметь это в виду нужно.
Зимой 1945 года Игоря послали на другой фронт. Туда перевели служить одного генерала, а Игорь отправился с ним. Я осталась при штабе. Вскоре наш штаб расформировали, и все «штабистки» разъехались. Я опять очутилась на новом месте. Мне снова поручили канцелярскую работу, но здешняя канцелярия мало походила на предыдущую. Тут было меньше порядка, поскольку поблизости не было штаба с генералами. Все ее называли «хозяйственная часть». И мы часто переезжали с места на место. Питаться приходилось порой лишь один раз в день, а спать где придется – то на сундуке, то на печи, то на лавке, то в углу на охапке сена.
Начальник канцелярии, пожилой полковник, страдающий сезонным радикулитом, в первый же день угостил меня крепким чаем с сахаром и рассказал историю о немецкой мази от радикулита. Полгода назад он вышел утром на крыльцо и чуть ли не согнулся пополам – так сильно его ударило в поясницу. Не смог ступить и шагу. Слезы, сказал он, покатились из глаз, как горошины. А неподалеку стояли пленные, и среди них был полковой доктор. И этот доктор обратился к сопровождающему переводчику вот с чем: он видит, что полковника разбил радикулит, а у него как раз имеется мазь, которая помогает. Взамен он просит хлеба или коробку папирос. Доктор вынул из кармана пузырек с мазью и передал через охраняющего. Полковник видит: пузырек без этикетки. Что в нем – неизвестно. Вдруг яд? Провокация, покушение? И он отказался оставлять пузырек себе, а уж давать за него хлеб и папиросы – и подавно. Но доктор махнул рукой, что означало: оставьте себе просто так, бесплатно. После этого пленных увели. Полковник оставил пузырек в сенях, а через три дня, в отчаянье, когда на него обрушился особенно жестокий приступ, вспомнил о нем и воспользовался. И помогло! Да еще как! Тогда он разыскал пленного немецкого доктора и расплатился с ним за лекарство – дал ему и папирос, и хлеба, и даже сала. Правда, когда мазь закончилась, радикулит вернулся. А другого пузырька с мазью у пленного доктора не водилось. Вот как вышло с пожилым полковником. И когда он закончил рассказывать, он спросил: «Видишь, как случается на войне? Вражеская мазь, а помогла! Противно было брать в руки, ведь от фашиста все-таки, а все же взял! Ну, чего молчишь? Скажи что-нибудь».
Мой начальник заметил, что я слушаю рассеянно и впадаю в задумчивость. Он был умудренный жизнью человек и быстро обо всем догадался. «Выходит, переживаешь за любимого? А где он у тебя? И кто он?» Я рассказала. Тогда полковник сказал: «Ну, деточка… Разве это дело? Нужно успокоиться. Твой полковник далеко и занят важными делами, а рядом могут находится такие же, как ты. Это я к тому говорю, что не стоит рвать свое сердце. На войне все вре-ме-нно. Мимолетно. Пора бы уже знать. Так что забудь полковника. Ты симпатичная, интересная, встретишь другого, еще лучше. Может быть, генерала встретишь. Вон как события разворачиваются! Европа под ногами! Генералы туда-сюда мелькают, а ты такая, что мимо тебя не пройдешь, остановишься. Я тоже самое и своей дочери говорил, она в ста верстах отсюда служит санинструктором. У нее тоже полковник был. Погиб в бою. Потом другой был, пока не уехал. Так что послушай папашу». А я повторяла про себя слова Игоря, сказанные перед отъездом: «Что бы ни случилось, я тебя найду. Жди. Если буду жив – обязательно встретимся. Вот увидишь. Я слов на ветер не бросаю, я не такой». И я сказала моему начальнику: «Вы судите внешнее, как говорили в старину. А мой полковник совсем другой – он если обещал, то горы свернет, а сделает!»
С этим радикулитным полковником, хорошим человеком, я прослужила до Победы. Игорь каждый месяц присылал мне письмо. Как-то раз я получила в один день сразу три письма: от Игоря, от мамы и от «штабистки» Вали, с которой подружилась в штабной канцелярии. Валя переслала письмо на мое имя от какого-то старшины из той части, где служила моя подруга-связистка Надя. В нем он сообщал, что Надю убил немецкий снайпер. Так вот сложилась ее судьба на войне. Я заплакала. Ах, Надя! Она была совсем еще молодая, всего только двадцать один год. Мы были с ней одногодки, вместе учились на связисток, вместе приехали на фронт летом 1943 года. На войне не все обречены… А Надя, как оказалось, была обречена. Это вопрос судьбы.
К смерти на войне относились по-разному. Одни махали на нее рукой, другие боялись, третьи рассуждали о ней философски. Радикулитный полковник говорил, что смерть неизбежна, и это есть перемещение из одного мира в другой. Все мы до единого переместимся. Но нужно как следует пожить и в нашем мире. Нужно получить хорошую профессию, вырастить детей, нажить добро. «О чем ты мечтаешь? – спросил он меня. – О какой жизни?» Я сказала: «Видите ли, товарищ полковник, я встретила на войне мужчину, который мне очень-очень нравится. Я молода. Война идет на убыль, скоро победа. О чем я могу мечтать, если не о моем мужчине?» Командир на это вздохнул и ответил: «А если он к тебе не приедет, что будешь делать? Учись думать о жизни в целом, об учебе, о профессии». Мой начальник был прав.
А я думала все-таки больше об Игоре. Вдруг его убьет снайпер? В самом конце войны!
Игорь приехал за мной в июне 1945 года. Я услышала звон его орденов и медалей, когда он поднимался по ступеням нашей канцелярии, вскочила с места и воскликнула: «Это он!» Мой сердечный друг привез с собой гостинцы: коньяк, немецкую колбасу, сгущенное молоко. Мой командир, увидев его, сказал: «Гусар! Хорош! Больше ничего и не скажешь». Мы сели пировать. Командира даже на какое-то время отпустил радикулит. Он улыбался и радовался за нас. Спросил Игоря: «Значит, повезешь ее в Москву? И что же, пропуск имеется?» Игорь сказал, что обо всем договорился с одним генералом. Генерал оформит меня как сопровождающую архив. «Ну, желаю вам счастья! – сказал мой начальник. – Поезжайте! С Богом!»
Мы поехали в Россию, в столицу… Из Европы в Москву. Ах, что это была за поездка! Душевный подъем не отпускал нас ни на минуту. Это ведь редкое явление, когда нет ни одной тревожной мысли. Мы пережили колоссальный катаклизм – войну, остались живы и невредимы, впереди мирная жизнь, мы вместе и все больше нравимся друг другу. Мы были словно пьяны первым бокалом шампанского, самым приятным, легким и воздушным, и сколько бы мы ни проехали, это ощущение всегда было с нами. Когда два года назад я ехала на фронт, у меня мурашки бегали по коже от тревоги и неизвестности. Помню, наш эшелон стоял, пропуская какие-то более важные поезда, и мы выходили размяться. Иногда это происходило на совсем крошечных станциях, но даже там находились люди, которые зачем-то пугали нас: «На фронт едете? Через нашу станцию постоянно войско едет… А фронту все мало. О чем это говорит? Вот недавно рассказывали: приехали молодые ребятки на фронт, да так в первый час все и погибли. В первый же час! Вот потому-то едет войско и едет, и конца этому не видно. За вами другие поедут, и тоже, может быть, только на один час…» Слушать такие речи было, конечно, очень страшно. Погибнуть в первый же день – кошмар, леденящая душу история. Помню, она заставляла бледнеть и дрожать. Пропадал аппетит. Мучила жажда. Во рту исчезала слюна. Зачем люди произносили такие страшные речи? Не могу сказать. Но теперь это было в прошлом. Теперь мы ехали в обратном направлении, и наш поезд тоже останавливался, пропуская вперед другие поезда, и мы выходили из вагона. Но теперь все было иначе! Люди поздравляли нас, обнимали, желали нам счастья. Наши ордена и медали блестели на солнце, сверкали. Мы держались за руки. И нам говорили: «Какие вы красивые и счастливые! Едете в красивую и счастливую жизнь! Дай вам Бог здоровья!» И мы беспрестанно улыбались.
Наконец мы прибыли в Москву. Я увидела самый большой город страны. И, наверное, самый шумный. Патрули на вокзале пропустили нас беспрепятственно. Мы пошли пешком, потому что мне очень хотелось поскорее пройтись по какой-нибудь московской улице. Я только слышала о Москве, но не представляла себе, каково будет мое первое впечатление. Все такое большое! Широкое! Огромные дома! Сколько трамваев, автомобилей! Сколько людей! В целый этаж витрины магазинов! Я захотела спуститься в метро. И мы поехали на метро к Игорю – он проживал в районе станции «Кировская». Это был поразительный, незабываемый день, наполненный столькими впечатлениями, что их можно было бы растянуть на месяц.
Игорь жил в большом доме, в квартире с соседями, в просторной комнате. На полу паркет, на потолке красивая лепнина. На стенах синие обои с золотыми полосками. Игорь преподнес соседям подарки: коньяк, шоколад, сигареты. Он говорил: «Прошу, угощайтесь, это из Европы», и соседи всплескивали руками. Они были хорошие люди. Я подумала: «Вот здесь я буду жить. Как хорошо! Какое счастье!» Но прошел только один день, и все закончилось. В день приезда, вечером, мы пошли в гости к приятелю Игоря, весело провели время, выпивали за Победу, пели песни. Утром я взялась наводить в нашей комнате порядок. Вымыла полы и окна, убрала пыль, вынула вещи из гардероба, проветрила их. Задумала выстирать занавески. Игорь ушел по делам службы. Вдруг около трех часов дня в квартиру позвонили два раза. Это означало, что пришли к Игорю. Я открыла дверь и увидела двух молодых разъяренных женщин. Я успела лишь спросить: «Вы к кому?», как они схватили меня – одна за руки, другая за волосы – и потащили от двери. Оказалось, что на лестнице прячется еще одна женщина, и у нее в руках какая-то банка с жидкостью. И она, эта дамочка с банкой, подскочила ко мне и вылила на голову смолянистый клей. «Это тебе за Верочку, гадина! – крикнула эта женщина. – Она из-за тебя отравилась! Она Игоря всю войну ждала, дни считала, а ты, гадюка подколодная, его к рукам прибрала! Чтобы духу твоего здесь не было! Убирайся, не то в следующий раз мы на тебя кислоту выльем – не очухаешься!»
Перед тем, как уйти, разгневанные женщины плюнули на меня. Вот тебе и Москва, и счастье мирной жизни! Клей, как цемент, сковывал мою голову. Я побежала в квартиру, в ванную комнату – мыть волосы, но ничего не вышло. Клей не поддавался. Пожилая соседка, славная женщина, заохала, принесла спирту, но и он не помог. Кожа на голове горела, как натертая скипидаром. От боли я сжимала зубы и хваталась за края ванны. «Что же теперь делать?» – спросила я соседку. Она ушла и вернулась с ножницами. Не догадаться, что она предлагает, было невозможно. «Ничего не поможет! – сказала соседка. – Нужно стричь.
Терпи, милая, ты же фронтовичка. На фронте, наверное, и не такое терпела». И она меня подстригла. Я лишилась своих волос и стала похожа на тифозную. Волосы, главный атрибут привлекательности любой женщины, были теперь не длиннее полпальца. Вот горе! Что скажет Игорь?
Я стала расспрашивать соседку: кто такая Верочка? Игорь рассказывал мне, что до войны у него была женщина, но ведь он с ней расстался. Он написал ей с фронта, что их связь вряд ли возобновится. Она это приняла. «Так это было или не так?» – спросила я соседку. Она ответила: «Ох, не знаю. Верочка в войну сюда ни разу не приходила. За комнатой не приглядывала. Об Игоре нас не спрашивала».
Появившись, Игорь сказал: «Прости, это я во всем виноват. Я этого не предвидел. Волосы вырастут, станешь еще краше. Но что делать с Верой? Она в больнице. Я ей еще в сорок четвертом году написал, что встретил другую, а она, как видно, не поверила. Теперь говорит, что умрет, если я ее брошу. Это, конечно, шантаж… А если она в самом деле погибнет?» Я рассказала, что мне угрожали кислотой. Игорь помрачнел. И я увидела, что он растерялся. На войне этот человек умел быстро принимать решения, а тут он молчал. Сидел на стуле в углу и курил. О чем он размышлял? Я ждала, что он вот-вот успокоит меня: «Не беспокойся, я все улажу» или «Никто не сможет нас разлучить», однако этих слов не последовало. Вдруг он повел себя странно – засобирался и ушел, сказав, что ему нужно побыть одному. Побыть одному! Поздно вечером он пришел пьяный, долго сидел в задумчивости, а потом снова ушел. На следующий день я нашла в почтовом ящике записку: «Берегись, гадюка. Помнишь, что тебе обещали, если не исчезнешь?» Когда Игорь вернулся, я показала ему записку и спросила, что мне делать. На лице у Игоря появилась гримаса брезгливости. «Ну почему вы, женщины, такие глупые? – раздраженно спросил он. – Зачем вам обязательно нужно устраивать дрязги?» И снова ушел. Его не было до утра. Утром он заявил, что у него есть план. «Послушай, – сказал он, – это очень важно. Тебе нужно переехать отсюда в общежитие. Временно. Пока все не уладится, то есть пока Вера не выйдет из больницы. Ее подруги тоже перестанут тебя преследовать. А потом… Потом я сделаю вот что: поменяюсь с одним своим приятелем – он со своей женой переедет жить сюда, в эту комнату, а я перееду в его жилье. Он живет в районе метро «Динамо». Мы вместе туда переедем, ты и я. А пока поживи в общежитии. Я помогу тебе прописаться… У меня на одном заводе есть хороший знакомый начальник, он сделает мне одолжение. Станешь москвичкой! Ведь это хорошо, верно?»
Мой красавец-полковник не предлагал мне выйти за него замуж и даже не намекал об этом. Он был раздосадован. Попытка самоубийства Веры и выходка с клеем напугали его. Было заметно, что он опасается за свою репутацию. Вероятно, он боялся, что из-за слухов и пересудов исчезнет условный знак равенства между ним и другими старшими офицерами, о которых говорят только как о героях, то есть исключительно положительно. Для меня это был непристойный страх, но я не решилась упрекнуть моего мужчину. Я лишь спросила: «Ты хочешь, чтобы я поселилась в общежитии в таком виде?» Я имела в виду мои короткие волосы. Игорь занервничал, засуетился. Стал собирать мой чемодан. Увиденное поразило меня. Всегда спокойный и невозмутимый офицер забегал по комнате, хватая мои вещи и складывая их на столе. «Да, да, это очень важно, – бормотал он. – Иначе неизвестно, как обернется. Все эти угрозы, эта записка… Я буду к тебе приезжать. Уверен, со временем все наладится». Оказалось, что он уже договорился насчет общежития. Я повязала на голову платок, и мы поехали на окраину Москвы. Я могла находиться в столице еще только один месяц, а затем мне потребовалась бы постоянная прописка. «Все наладится, – повторял Игорь. – Главное, пусть все утихнет». Я не знала, что думать. Фронтовая привычка слушаться старших по званию и доверять их решению удерживала меня от самостоятельных действий. Но и как я могла действовать в незнакомом городе, не имея ни друзей, ни знакомых? Так я очутилась в грязном, затхлом, закопченном бараке. Это и было то общежитие, о котором говорил Игорь. Впоследствии я не раз рассуждала об этом. Он мог бы устроить меня у своих знакомых. Мог бы, наконец, найти место получше, чем грязный барак. Но мой полковник не хотел, чтобы его друзья-приятели увидели, что другая сторона его жизни, личная, не такая уж героическая. Фронтовичка-сержант с коротко обрезанными волосами – что уж тут героического? Он привез меня в барак, переговорил с комендантом и уехал.
Длинный коридор с грязными, потемневшими половицами. Вдоль стен стоят сундуки, лавки, на лавках тазы и ведра с водой, на стенах висят санки, корыта. Шесть комнат, в каждой живут по пять-шесть человек. Семейные люди отгородились покрывалом или простыней. Взрослых мужчин в бараке всего трое, один из них старичок, другой инвалид, третий глухонемой. Комендант показал мне мое место: кровать, тумбочка и полка в шкафу. Затем повел в общую кухню. Стол, где я буду готовить себе еду, показался мне самым замызганным и изрезанным из всех столов в моей жизни. Я сказала коменданту: «Понимаете, я здесь временно. Ненадолго. Может быть, на неделю или на две». Он ничего не ответил. Мне был очень неприятен барак, в котором я оказалась. Нехорошее, унылое жилище, где уединение – роскошь, как на фронте. Окна мутные, не пропускают яркий солнечный свет. Половицы скрипят. И повсюду ужасные запахи. В самые сырые дни в блиндаже пахло лучше. И даже в окопах, когда солдаты ждут наступления, а сигнала к нему все нет и нет, и люди вынуждены тут же, на месте, справлять нужду, все равно, кажется, пахло не так смрадно, как в бараке. У меня сжалось сердце. Если бы я не испытала многих лишений на фронте, мне было бы, наверное, невыносимо находиться в таком гадком месте. Я понадеялась на Игоря: вот пройдут две недели, и он заберет меня отсюда.
Я не была наивна. И не жила иллюзиями. Люди, прошедшие войну, знают, что положение человека до конца твердо и определенно лишь тогда, когда он мертв или его сейчас расстреляют. Я надеялась на Игоря, но при этом понимала, что нужно самой устраивать свою жизнь. Нужно терпеть и надеяться на лучшее. Нужно заводить знакомства и обживаться. Нужно жить, а не пропадать. Ведь я фронтовичка!
Моя соседка по комнате Агния С. показалась мне самой бойкой в бараке, и я решила с ней подружиться. Знакомство с решительными людьми всегда полезно. Мало ли для чего оно может понадобиться! Когда я только появилась, именно Агния, увидев меня с чемоданом, хлопнула себя по бедру и воскликнула: «Опять баба! Что за невезение такое! Когда же здесь хоть один мужчина появится? Тут всего трое мужиков – старик, калека и глухонемой, да и тот семейный. Это что – проклятие?» Так в первую же минуту узнала, что в бараке живут в основном женщины и дети. Женщины живут сложно, в тоске. Их мужчины погибли на фронте или пропали без вести, а у Агнии, как она однажды, напившись пьяной, рассказала мне, мужа расстреляли у Сталинграда. «Здесь был проездом один солдат, – сказала Агния, – фронтовой товарищ моего Степана Ивановича. Так вот он тихо рассказал, как там вышло. Они испугались и побежали – тысячи человек. Их всех поймали вернули и наказали. Кого в штрафную роту отправили, а кого убили. Моего Степу как раз убили. Приговорили и расстреляли. А его товарищ угодил в штрафной батальон и выжил, хоть и покалечился. Поехал домой, в Сибирь. А мой Степа на небе. Было ему всего тридцать два года…» Я молчала. Я знала, как на фронте расстреливают трусов и паникеров, но что я могла сказать? Война. Побежал, струсил – будешь за это отвечать. Агнию известили, что ее муж погиб в бою, а она все равно узнала, как ее Степан Иванович сгинул на войне. Но теперь ей было все равно. Ее жизнь продолжалась. И я зачем-то сказала себе, что нужно держаться рядом с Агнией, чтобы научиться премудростям мирной жизни. Но подружиться с этой женщиной не вышло. Потому что я была на фронте…
Первое время я носила свою военную форму, не имея никакой другой одежды. Награды спрятала в чемодан, сняла погоны и стала походить на «полувоенную». Все знали, что я фронтовичка, но о войне меня никто не спрашивал. А я думала, что каждого фронтовика засыплют расспросами, и придется вспоминать даже забытое. Но люди не торопились узнавать, как там было на войне. Не спросили даже о наградах и Европе. Я подумала: «Видимо, люди ждут, когда я сама расскажу». О, как я ошибалась! Обитатели барака совсем не желали слушать о войне. Им захотелось лишь узнать о том, как я потеряла волосы. Я сказала, что они в поезде случайно загорелись от лампы. Но однажды я стала рассказывать фронтовой случай… Ах, лучше бы я этого не делала! Агния швырнула в меня сковородку, а потом еще половник, и я бросилась к стене и прижалась спиной. Пурпурная от ярости, Агния ходила кругами, как умалишенная, а другие женщины глядели на меня со злостью и что-то шипели. История, которую я принялась рассказывать, была о наших героях-разведчиках, которые как-то раз подарили мне немецкий шоколад. Агния рассвирепела: «Ну вот что, говорилка! Заткни свой фонтан! И не вздумай открывать его! Вы только поглядите на нее! Тараторит и тараторит! Пареньки-разведчики подарили шоколад! Да они тебе кое-что другое подарили, разве нет?» И она назвала венерическую болезнь. Я рассердилась и сказала: «Дура ты, Агния». Тогда эта странная дама схватила сковороду и швырнула ее в мою сторону. Лицо ее исказилось от злобы. Потом был половник. А потом Агния разразилась длинной речью, оскорбляя и унижая меня. За что? Догадаться было легко: я посмела намекнуть о том, что у меня есть преимущество. Я воевала, рисковала жизнью, много видела, знала героев и побывала в европейских городах. Меня окружали мужчины, среди них были интересные и привлекательные. Именно это больше всего и разозлило Агнию и других женщин. Они глядели на меня с ненавистью. Для них я была не фронтовичка, а шлюха. Этим словом Агния и начала: «Шлюха! Подстилка фронтовая! Думаешь, мы не знаем, зачем дамочки на войну поехали? Чтобы солдатикам в окопах отдаваться! Сколько у тебя женихов было – весь полк? Или батальон?» Она кричала и повышала голос до истошного крика, едва я произносила что-нибудь в ответ. Этим она давала понять, что мне следует держать свои фронтовые истории в себе и не вытаскивать их наружу. Так будет лучше всего. А я и не знала, что происходит в нашем обществе. Женщины, не бывавшие на войне, не хотят слушать фронтовичек. Они ревнуют к нашему преимуществу. Их злит, что мы выделяемся. Ведь у нас есть что рассказать. И поэтому нас всегда готовы поносить последними словами. Готовы даже драться с нами, лишь бы мы замолчали. Не было у нас никакого фронта. Мы – уличные девки, а не фронтовички. Мы ходили по рукам от молодого к старику и обратно. Так не раз и не два кричали мне, впав в истерику, одинокие, обиженные женщины. Обиженные они были, конечно, плохой, никудышной жизнью.
Это было лето 1945 года. В столицу прибывали фронтовики, радостные и улыбающиеся. У некоторых из них были с собой сигары и виски, коньяк, английские и американские сигареты, а у иных и «заграничная мануфактура». И, конечно, рассказы о войне. Мужчин первое время еще слушали, а нас, женщин, сразу осадили… Осадили не воевавшие мужчины и в особенности одинокие женщины. В нашем бараке на меня порой смотрели, как на ведьму, которая вот-вот достанет из себя мышей, жаб, пауков и болотную тину. Я поняла причину этой злобы сразу же. Ведь вокруг была ужасная нищета. Как мы жили в нашем бараке? В тесноте, в грязи, без хорошей еды и одежды. Воду носили из колодца, и воды отпускали по норме – ведро в день на человека. Уборная – во дворе, похожа на покосившийся сарай. Мужчин нет, и никто не приглашает на танцы, в кино или просто на прогулку. Тоска. Летом мы сидели на лавке у барака, в холодное время собирались в кухне. В комнате тесно и тоскливо. Мамаши орут на бегающих по коридору детей. У деток нет игрушек, нет книжек, и они растут грубыми и хищными. Поселившись в бараке, я задвинула свой чемодан под кровать, и через неделю у меня украли все мои награды. Стащили ремень, фляжку и погоны. Я обратилась к мамашам: «Я знаю, это дети. Взяли поиграть… Умоляю, пусть вернут, это ведь память». Мамаши слушали меня равнодушно. О чем я прошу? Какие-то медальки! Награды собрали и вернули. Вернули погоны. А фляжку и ремень, вероятно, какая-то из мамаш продала или выменяла на хлеб. Я потеряла их навсегда. Агния сказала: «Шляпа ты, а не фронтовичка. У вас что, на фронте, не крали, не тащили?»
Я ответила: «Не злись, Агния. Однажды все изменится. Твердо и определенно можно сказать только про мертвеца, а ты не мертвая, а живая. Настанет такой день, когда все наладится. И ты будешь смеяться и улыбаться». Агния слушала меня, замерев. Потом схватила за руку и сказала: «Ну-ка, пойдем, шляпа, выпьем по глоточку. У меня есть спирт. И две конфеты!» Мы пошли в нашу комнату, и Агния угостила меня спиртом и конфетой. Ей понравились мои ободряющие слова. «Ты, Светланка, говори мне это почаще, – сказала она. – Я очень люблю, когда так говорят. Только никто этого не делает. Все сходят с ума от тоски. Сама видишь, какая тут жизнь. Страшно просыпаться! Порой хочется удавиться, чтобы больше не мучиться. А про войну молчи, иначе я тебя пришибу. Не вздумай даже заикаться!» Я понимала Агнию. Но даже после этого мы не стали подругами. Издерганная, измученная нищенским однообразием, недоеданием и одиночеством Агния разучилась дружить. Она уже не могла быть преданной никакой дружбе. Она ждала, когда в ее жизни появится мужчина, и каждый день нервничала. Под Новый 1946 год она бросилась на меня с поварешкой, и мы подрались. В тот день она пришла в кухню с черным от тоски лицом и стала греметь посудой. Мамаши спросили у нее, в чем дело. И Агния сказала: «Знаете, почему мужчин нет? Их разобрали себе фронтовые шлюхи. Вот как эта. Да, да. Солдатики ехали с войны, а шлюхи-фронтовички к ним прилипли и увели кто куда. А мы ждем и ничего не дождемся!» Все тут же посмотрели на меня – словно это была чистая правда насчет того, куда подевались мужчины. Я сказала: «Какая глупость!» И Агния, издав истеричный вопль, бросилась ко мне с поварешкой. Мамаши вмешались и развели нас по разным углам кухни. Через три дня мы разговаривали с Агнией как ни в чем не бывало. Она мечтала вслух: «Эх, подвернулся бы какой-нибудь усач, бывший офицер, герой войны. Я бы ему деток нарожала. Троих! Если, конечно, питание будет хорошее…» Я ответила: «Так и будет – попадется тебе усач. Гвардии майор. Или даже полковник. И скажет: «Хочу троих сыновей, Агния!» Но сначала он, конечно, предложит руку и сердце». Агния улыбалась и закрывала глаза. Ей были по душе такие речи.
Мне тоже были бы по сердцу успокаивающие слова, но мне их никто не говорил. Некому было. Мой полковник пропал. Он бросил меня в бараке, и всего через неделю я поняла, что мы никогда не будем вместе. Это детская сказка. Такой он оказался человек, Игорь Т. Один только раз навестил меня – как раз спустя неделю – и больше не появлялся. Однако в барак он не зашел, а послал подростка постучаться в мою комнату, и я побежала по дорожке, дрожа от радости. Игорь выглядел таким, каким был на войне – статный, высокий полковник с орденами и медалями. Но глаза его уже не были такими живыми, как прежде. И улыбка была сдержаннее. Он разговаривал со мной, держа руки в карманах. Я спросила, почему он не зашел, а послал местного мальчишку. Игорь не ответил, но я поняла: он брезгует входить в грязное и затхлое помещение. Еще я увидела, что больше не нравлюсь ему. От меня пахнет бараком. На мне нет наград и знаков различия. Сапоги запылились, потускнели. Лицо бледное. Да еще по-мужски короткие волосы! «Я обещал тебе помочь и помогу, – сухо сказал Игорь. – Вот листок с адресом завода, где тебя возьмут на работу. Обратишься к инженеру П. Он все сделает. Поможет с постоянной пропиской в рабочем общежитии. А когда все успокоится, я к тебе загляну. Подумаем, как быть… То есть решим что-нибудь…» Больше я Игоря не видела. Он выкинул меня из своей жизни. Я только слышала о нем. Через три года, в 1948 году, он утонет в реке, пытаясь переплыть ее пьяным.
Все эти три года он будет частенько прикладываться к бутылке, окруженный такими же бывшими старшими офицерами. Семьи он не заведет. А я до конца лета 1948 года проживу в этом отвратительном бараке, и это будут очень-очень сложные годы. Но тогда я не могла знать об этом. Игорь помахал мне рукой и ушел. Я вернулась в свою унылую комнату, села на кровать. Моя история стала теперь такой же, как у всех прочих одиноких женщин нашего барака. Я живу в тесноте, в тоске, без сердечного друга. Что делать? Помню, мне захотелось выпить, и я дождалась Агнии и попросила: «Дай мне спирту». Она сказала: «Что, тошно? Да, мадам, у нас здесь без глотка водки пропасть можно. Сгинешь быстрее, чем на войне». Мы выпили спирту и замолчали. Вот так же уныло и тоскливо бывало на фронте перед боем, когда все ждут сигнала к наступлению. Все знали: мгновение – и ты мертв или калека. Мысли об этом наводили ужасную тоску. А здесь, в мирной жизни, не рвутся снаряды и не свистят пули, но хорошего все равно мало. «Что ж, пойду работать на завод, – сказала я. – Может быть, заодно стану учиться». Агния махнула рукой: «Иди хоть к лешему. Главное – это не остаться одной. Вот запомни это. Быть одной – каторга! А еще нужно выбраться из барака…»
Я устроилась работать на завод. Оказалось, что барак, в котором я живу, как раз принадлежит заводу. В 1946 году я поступила в техникум, на заочное отделение. Перебралась из заводского цеха работать в прачечную – руководство банно-прачечного треста пообещало выделить мне комнату в квартире. Я подумала: «Это было бы счастье!» Однако мне не назвали даже приблизительной даты. Когда выделят комнату – неизвестно. Но зато у меня появилась надежда. Впрочем, сначала я пожалела о том, что ушла с завода, и вот почему: из-за мужчин. В прачечной работали одни женщины, а на заводе без мужчин все-таки нельзя было обойтись. В каждом цехе были мужчины – и молодые, и зрелые, и пожилые. Они ценились как золотые слитки. С ними можно было поговорить, пошутить, обсудить текущие производственные дела, и это хоть как-то походило на нормальную жизнь. Но все они были заняты. Попробуй прикоснись! Возьми парня за руку, и неприятности случатся незамедлительно. Однажды я взяла молодого слесаря за локоть, он в начале войны был ополченцем и в первом же бою получил ранение. Я спросила: «Куда тебя ранили?» Он закатал рукав и показал следы ранения. И я взяла его руку. Тут же я услышала вопль и увидела бегущую ко мне табельщицу, да еще с куском арматуры в руке. «Отойди от моего Алешки, змея! – закричала она, замахнувшись арматурой. – А то покалечу!» Слесарь засмеялся и увел свою девушку. Ко мне подошел мастер и сказал: «Да, такое здесь часто случается. Дамочки у нас психованные». Подобные случаи всегда оставляют след в душе, потому что заставляют вздыхать и настораживаться. Особенно когда они раз за разом повторяются. В прачечной работали одни женщины, но приезжали грузовики, привозили мешки с постельным и нательным бельем, и водители их были мужчины. Я еще не видела ни одного грузовика, но уже знала, что все шоферы заняты. Две работницы поманили меня в сторону и сказали: «Вот что, голубушка. Сюда приезжают грузовики, и за рулем – парни, но ты не вздумай к ним подходить. Ясно? Беги от них! Иначе мы тебе в лицо кипятком плеснем. Понятно? Эти парни давно уже наши!» Это было в 1946 году, и в этом году мне было как никогда одиноко. После работы я возвращалась в барак, садилась на кровать и подолгу молчала. Пойти мне было некуда.
Волосы отросли, я раздобыла себе платье и туфли, достала даже светлые носочки, по моде, на базаре купила перешитую, но все-таки добротную кофту, купила ношенные башмачки, пальто и беретку, а жизнь лучше не стала. Я очень любила кино и думала, что буду ходить в клуб и кинотеатр. Думала, что там, может быть, познакомлюсь с каким-нибудь мужчиной. Вдруг, думала я, мне встретится фронтовик, да еще с моего фронта! Но выбраться с окраины было непросто. Небольшой автобусик приезжал всего два раза в день, утром и вечером. Люди набивались в него так плотно, что трещали кости. Многие ходили пешком по обочине дороги, и я тоже попробовала и увидела, что этот поход пожирает мою обувь, которую я раздобыла с большим трудом. В 1946—49 годах обувь отчаянно и болезненно берегли, ведь ее почти не было в продаже. Туфли клали под матрац и даже под подушку, словно кошелек с деньгами. Их могли в любую минуту украсть. Я именно так и делала, когда ложилась спать. Но не только я, а вообще все присматривали за своим имуществом, потому что воровство было почти эпидемией. Из-за этого часто случались драки, причем дрались, бывало, сразу четверо – две мамаши и два сына-подростка. Кто-то из них кого-то заподозрил в воровстве еды или вещей, например, простыни или полотенца. И простыню, и полотенце можно было в любой момент продать на базаре или выменять на еду. Еда ценилась больше всего, ее было мало, о ней мечтали, она снилась, из-за нее ссорились и враждовали. В сороковые годы от недоедания и однообразия сходили с ума и решались на самоубийство и воровство. В нашем бараке никто не питался полноценно, и люди, поэтому, не были добрыми. Все раздражались и хмурились. На одной крупе и селедке добрым не станешь, как ни старайся. Наоборот, сделаешься параноиком. И мы были параноиками, только мы тогда не знали этого слова, а просто бредили едой. Кроме еды, бредили мужчинами и хоть какой-нибудь сменой впечатлений. Нам хотелось чистоты и уюта, но какие чистота и уют могут быть в бараке? Здесь теснее, чем в окопе. Нет воды, чтобы помыть полы. Воду берегут, чтобы пить, готовить и умыться. Вымыть тело можно лишь в бане, и все ждут банного дня. После бани становится немного веселее. Мне повезло: я мылась чаще, чем другие обитатели барака, так как пользовалась душевой в нашей прачечной. А мои соседки по комнате Агния, Валентина Петровна и Ольга Ивановна мылись раз в десять дней. Валентина Петровна служила в техническом бюро. Ольга Ивановна была бухгалтером. Валентина Петровна рассказывала, что если бы не война, Москва была бы совсем другим городом. Сталин задумал сделать Москву самой красивой столицей в мире. Улицы – гигантские. Прорва автобусов и такси. Дома огромные и величественные, как египетские пирамиды. Каждая семья проживает в отдельной квартире, а то и каждый одинокий житель. Кругом магазины, ателье, музеи, цирки, театры, кинотеатры. Станции метро – огромные дворцы. На улицах ни соринки. Милиционеры в белых перчатках и шлемах. Всюду гранит и мрамор. Вот что такое Москва! Вот как было бы, если бы не война. Мы слушали и вздыхали. Война швырнула всех нас в нищету, бедность, в тесноту и неустроенность. Когда мы выберемся?
Я надеялась, что выберусь из барака через год, 1946-ом, но не вышло. Тогда я стала мечтать о том, что это случится в 1947-ом. Барак – отчаянно унылое зрелище. Летом пыльно, пыль проникает в комнаты и захватывает все, что можно. Наверное, потому что вокруг все дороги грунтовые, а не асфальтовые, и мало кустов и деревьев. Днем полчища мух, а по ночам до утра донимают комары. От комаров нет спасения. Осенью сыро, протекает крыша, по бараку расползается плесень. Зимой холодно, дует в окна, в щели, никак не можешь согреться. В морозы спим одетые.
Летом я часто смотрела в сторону деревни – она находилась от нас в одной версте. Оттуда доносились крики петухов, и нам почему-то казалось, что там сытая жизнь. Там пасли хозяйских коз и коров, то есть частных, а не колхозных. Там были огороды. И я представляла себе, что местные жители хорошо питаются, у них на столе молоко и масло, курятина, яйца, огородная картошка и даже мясо. От таких воображаемых картин становилось не по себе. Как-то раз я пошла по дороге в сторону деревни и дошагала до ближайших домов. Глухие, высокие заборы, у заборов все лавки пустые, ни старичков, ни старушек. Жители словно попрятались. Постучалась в одну калитку – никто не отозвался. Постучалась в другую, в третью. Никто мне не открыл. Я ходила вдоль заборов и тихо повторяла: «Зря это, землячок, зря!» Так говорили на фронте о бесполезном. Наконец за забором послышались шаги, и кто-то спросил: «Чего надо?» Я сказала: «Хозяин, нет ли на продажу стакана молока? Или яиц. Хотя бы одно яйцо! А то еще куплю хлеба или сухарей». Голос ответил грубый, недовольный: «Нету, нету. Иди отсюда! Собаку спущу – разорвет!» Я пошла обратно. Наверное, я должна была знать заранее, чем все закончится. Время нынче такое, что люди проявляют крайнюю осторожность, не доверяют незнакомым, замыкаются, прячутся. В нашей округе ходят слухи о преступных шайках. Время от времени рассказывают страшное: то там, то тут кого-то убили, ограбили. Может быть, у хозяев и было молоко на продажу и даже яйца, но они боятся незнакомых людей, опасаются за свою жизнь. Их можно понять. Хотя мне от этого не легче. Пустой желудок – беда, и от этой беды все мы немного ненормальные, свихнувшиеся. Агния, бывает, вдруг громко засмеется, а затем рассердится и выругается. Другие женщины, случается, говорят детскую чепуху, какую-то абракадабру. Однажды я заметила это и за собой. Как-то утром, в выходной день, я напилась пустого кипятку, потому что у меня не было даже хлеба, а чай вышел еще три дня назад, и вдруг, стоя у окна, произнесла что-то вроде: «Лабаз-свинопас». И усмехнулась. Что это было такое – неизвестно. Странные слова выскочили сами собой. Я вышла на улицу. Был конец лета. По дороге шел на костылях старичок-калека, за ним ковылял его сын, тоже калека, фронтовик, вихляя, как погнутое колесо, и я снова усмехнулась. Мне бы пожалеть калек, а я словно забыла, что такое сострадание. За моей спиной в коридоре барака раздался страшный крик ребенка и ругань его матери. Это соседка из комнаты напротив поймала сынишку на воровстве махорки и ударила его палкой. А я даже не повернулась, мне было все равно. Я думала о себе. Мне очень хотелось сладкого. Будь у меня сахар, я съела бы, наверное, целый килограмм. Ах, какой хороший продукт сахар! Наверное, я была на пороге помешательства. Год назад, в 1945-ом, я ела шоколад, а теперь мне кажется, что прошло уже лет тридцать, и я не помню вкуса шоколада. Жизнь совсем испортилась. После Победы люди улыбались, рассказывали друг другу, как мы будем славно жить, сколько будет хороших товаров и услуг, и все в это верили. А теперь мы не знаем во что верить. Все чувствуют, что наступают мрачные времена. В 1945 году в наших бараках не было самоубийств, а в 1946-ом они стали происходить. Одна из мамаш отравилась крысиным ядом. В соседнем бараке кто-то повесился. Дети занялись воровством как ремеслом, и вот уже двоих подростков из соседнего барака арестовали и куда-то увезли. Вскоре там умер какой-то старичок, и к нам пришла женщина в черном платке и сказала: «Собираем на похороны, помогите, чем можете». Но чем мы могли помочь? Женщина стала умолять: «Пожалуйста, помогите, помогите! У покойного осталась дочь больная туберкулезом, а у нее двое детей…» Мы нехотя стали собирать деньги. И вдруг Агния хорошенько разглядела женщину в черном и закричала: «А кто ты такая? Я тебя не знаю, никогда не видела! Откуда ты взялась? А ну, пойдем в ваш барак, выясним, кто ты!» Оказалось, что это мошенница. Она бросилась бежать, и наши мальчики-подростки выскочили за ней и стали швырять в нее камни, да еще свистеть вслед. Ужасное зрелище. Покойный старичок был одинокий, жил тихо, ни с кем не водился, и мошенница подумала, что у нее выйдет нас обмануть. Агния развеселилась. А мне стало еще тоскливее. Мне захотелось уйти из барака. Куда угодно, лишь бы отвлечься. Я взяла старые калоши и пошла по дороге. Сняла туфли и пошла в калошах. Окраина столицы в то время была как окраина жизни: пустыри, овраги и мрачные, убогие бараки. В оврагах среди мусора копошатся маленькие дети, им нечем заняться. Они худые и замызганные. Играют во что-то, а во что – непонятно. На дороге навстречу попадаются какие-то изможденные, потерянные люди. Кто они? Наверное, нищие. Но мне все равно. Редко проезжает какой-нибудь грузовик. Вообще, в нашей округе транспорта очень мало. Люди ходят пешком. Нет даже повозок. Иногда можно увидеть человека не велосипеде, но это редкость. Когда появляется автобус, за ним от скуки бегут дети. Нужно идти около часа, чтобы добраться до автобусной линии. И еще час придется ждать автобуса, стоя на остановке. Потом тридцать минут ехать в автобусе. Потом ехать на трамвае до метро. А уж метро доставит вас в центр города.
Я преодолевала этот путь, чтобы не умереть от тоски. Добиралась до центра. Ходила по улицам, смотрела на дома, витрины, вывески, машины. Людей здесь много, толпы, и я почему-то всегда вижу, кто идет по делу, а кто слоняется. Иногда вижу девушек, которым некуда пойти, а уходить из центра не хочется. Они не знают куда податься, и на их лицах растерянность и уныние.
Вероятно, они живут в переполненном общежитии или снимают угол. У них нет денег. Они носят косы и постоянно теребят их. Должно быть, как и я, постоянно хотят есть. Впрочем, я умею терпеть, ведь я фронтовичка, а умеют ли они? Может быть, уже научились. Они то стоят, то ходят, провожая взглядами машины и людей. Им не на что купить даже чаю в чайной. Нет ни гроша. А у меня есть немного денег, и я зайду в чайную. Выпью стакан дешевого, кислого вина. Он поможет мне расслабиться. Потом куплю чаю и серую, грубую булку. В чайных, в рюмочных и закусочных всегда много людей, как сельдей в бочке. Обычно это мужчины. Вот они где – мужчины! Они приходят сюда, чтобы выпить водки, вина или пива и поговорить. Все они курят, и дым облаком висит над головами. В чайной или рюмочной неуютно, грязно, порой даже мерзко, но люди привыкли, им все равно. Разговоры только о трех вещах – о футболе, о войне и о том, кто что привез с войны.
В 1946—48 годах о войне еще говорили. А потом, позже, фронтовики замолчали. В 1949 году, например, я уже не слышала разговоров о фронте. Я ходила в чайные все время, пока жила в бараке, чтобы немного выпить и побыть среди мужчин, но вот странно: в таком месте, как чайная или рюмочная мужчин много, а завести знакомство с кем-нибудь из них – трудно. Я всегда спрашивала себя: почему? Входишь в чайную, а на тебя никто не смотрит. А ведь я женщина. На фронте на меня обращали внимание везде, где бы я ни появлялась. А нынче те же солдаты и офицеры не смотрят в мою сторону, а если и глянут, то холодно, без интереса. Сейчас я знаю, почему они так странно вели себя. Со временем мне все стало ясно. На фронте эти мужчины были храбрецы и герои, лихие разведчики и танкисты, летчики и бравые моряки, бесстрашные пехотинцы и удалые артиллеристы, и они гордились собой и показывали себя, выпячивая грудь и позвякивая наградами, и, завидев связистку, кричали: «Здорово, сестренка! Как жизнь молодая? Как служится? Ах, до чего же ты красивая!» Они хотели внимания, хотели получить от меня улыбку. Это был яркий момент в их солдатской жизни, потому что на фронте мало женщин и мало ярких моментов. Но вот война закончилась, и они уже не солдаты и не офицеры, а слесари, электрики и шоферы, бухгалтеры, каменщики и управдомы. Они привыкают к пиджакам и кепкам и вообще к гражданскому обществу. Им не до меня. Им нужно как следует выпить и выговориться. На них давит смена эпох.
У меня тоже была потребность выговориться, но кто бы меня выслушал? Я обнаружила, что женщине, вернувшейся с войны, не с кем поговорить, кроме близких. Меня могут выслушать отец и мать, да знакомые нашей семьи. Но меня не станут слушать в чайной и в рюмочной, и вообще в мужской компании, в которой могут оказаться не воевавшие. Представьте: мужчина в расцвете сил – и не фронтовик, а я, молодая, двадцатитрехлетняя женщина – и сержант, воевала до Победы. Мне не удержаться в такой компании. Потому что мужчины сконфузятся, скривятся, побледнеют, покраснеют, а то и станут ругаться. Помню, как 1948 году я ехала в кузове бортовой машины с дядечкой-снабженцем, и в начале пути он был весел и улыбался. Ему была приятна моя компания. Он помог мне забраться в машину и даже предложил дождевик. У меня был с собой плащ, и я сказала: «Не нужно, но спасибо, вы очень добры!» Дядечке это понравилось. Он придвинулся поближе ко мне и спросил, захватила ли я в дорогу еду. Я показала булку. Снабженец покачал головой. «Маловато, ведь ехать долго, – сказал он. – Ну, ничего. У меня есть горячий чай, домашний пирог, вареные яйца и колбаса. Мы с вами знатно отобедаем.
Я человек опытный, изъездил тысячу дорог, много чего видел! Вот, к примеру, ехал я как-то по безлюдной открытой местности…» И он рассказал случай о том, как грузовик сломался в степи, и два человека четыре дня ждали помощи, съели все, что захватили с собой, и были вынуждены ловить сусликов. Я тоже рассказала об одной поездке. Но только это было на фронте. «Мы ехали вот так же, как сейчас, в кузове, – стала рассказывать я. – И вдруг появились немецкие самолеты. Я была уже опытной, воевала второй год, поэтому не растерялась. Спрыгнула с машины, бросилась на землю. А один молодой солдатик закричал, заметался, швырнул винтовку…» Тут мне пришлось замолчать. Я не смогла продолжать из-за выражения лица дядечки-снабженца. Лицо его исказилось, скривилось, словно на него пахнуло гнилым болотом. Он что-то забормотал. Потом выругался. А потом набросил на голову капюшон дождевика, отодвинулся от меня и отвернулся. Несколько часов мы ехали молча, будто незнакомые или поссорившиеся люди. А когда грузовичок остановился, и водитель крикнул: «Привал!», снабженец отправился обедать и меня не пригласил. Я оскорбила этого сорокалетнего мужчину тем, что в свои двадцать четыре года была фронтовичкой, а он трудился в тылу. С тех пор я не рассказывала незнакомым людям о войне, не узнав прежде, воевали ли они. Впрочем, фронтовики, как оказалось, тоже не желали слушать подробности моей фронтовой судьбы. Кто я была для них? «Сестреночка». Они храбрецы и герои, «прошли от и до», а я, по их мнению, видела лишь блиндажи да окопы. Они ходили в атаку, а меня будто бы командиры берегли. И мне не верили, что и я была под пулеметным огнем и ползала по-пластунски «на самом пятачке» и что тоже могу предъявить награды. Лишь через много лет меня, женщину в пожилом возрасте, слушали и спрашивали о войне, и никто не перебивал, не спорил и не кричал: «Чепуха!» Ко мне бежали пионеры, дарили цветы и повязывали мне пионерский галстук, и спрашивали про медали, и я с удовольствием рассказывала, дождавшись своего часа. Это и был мой час – час бабуси-фронтовички. Бабушка и война – это выглядело вполне естественно и никого не раздражало. А когда я была молодой и зрелой, мои рассказы обижали и оскорбляли молодых и одиноких женщин и не воевавших мужчин. И я замолчала на тридцать лет.
Я встречала и других таких же фронтовичек, которые тоже замолчали, чтобы уберечься от хамства и грубости. У меня была подруга, Наталья. П., воевавшая с 1942 года, и вот с ней, единственной, я и могла поговорить. Мы познакомились в клубе на кинокартине. Наши места оказались рядом. Кинокартину показывали о довоенном времени, в ней были военные, и они носили «кубари» на петлицах, а не погоны на плечах. Наталья вдруг тихо сказала, что тоже носила петлицы, пока в 1943 году не ввели погоны. Я спросила: «Ты что, воевала?» И тогда Наташа осторожно оглядела меня и сказала: «А ты?» Так мы познакомились. После сеанса вышли вместе и отправились в чайную. Выпили по стакану вина и пошли гулять по бульвару. И наговорились! Через три месяца Наташа уехала на Дальний Восток, и моя связь с ней оборвалась. Она была их тех немногих людей в сороковые годы, кто слушал мои рассказы, сопереживал, сочувствовал и восхищался мной как фронтовичкой. Сама же Наташа служила санинструктором и многое испытала и повидала на фронте. Она жила в Москве у родственников, спала в углу на полу и бедствовала, как все. В 1947 году ей повезло: она встретила хорошего мужчину и уехала с ним, не раздумывая, на Тихий океан. Почему она мне не написала, не знаю. Я очень ждала от нее весточки. Письма я получала лишь от отца и матери. Часто перечитывала их в бараке и в чайных, хотя в них не было ни строчки лирики, а лишь мрачные рассказы о текущей жизни. Но я хотела видеть руку папы и мамы, поэтому без конца читала и читала. Родители писали мне каждый по полписьма. «Когда приедешь? – писал отец. – Хотя не торопись, дочка, так как жизнь у нас тут плохая, голодная. Сидим на крупе и неважной картошке. Иногда – селедка. Снабжение слабое, всем туго, плохо. Тоска. День через день отключают ток, жжем лучину, а свечи бережем. Свечи нынче в цене. Я болею, мать тоже болеет. Распухают ноги. Ломит кости. Лекарств нету, доктор разводит руками. Говорит, что все болезни от плохого питания. А какая жизнь в Москве? Наверное, хорошая. Держись за столицу, дочка, питайся получше, потому что тебе нужно деток рожать. Набирайся сил после фронта. Если можешь, пришли нам посылочку – сахару, чаю, дрожжей, табаку. Дрожжи у нас можно выгодно продать и выменять. Хорошо, если ниток достанешь – потому что беда, нет ниток. А когда станет получше, мы к тебе приедем погостить. Только об этом и мечтаем». А мама писала: «Всем рассказываю, что ты после фронта в Москве живешь, в столице. Счастливая. Но это и правильно – дети должны быть счастливее родителей. Мы с отцом бедствуем, иногда горюем, когда кроме пшена, капусты да сухарей есть совсем нечего. Недавно не смогла пройти и половины улицы – ноги заболели, заныли. Села на обочине, как нищая. Вот какая жизнь нынче. Но ты за нас не волнуйся, мы всякое видели, переживем, перетерпим. Напиши, какая она, наша столица СССР, правда ли, что в магазинах продают сливочное масло, сахар, булки. Если можешь, доченька, пришли нам продуктовую посылочку. И напиши, какое у тебя жилище. Люди говорят, что в Москве все живут в квартирах. В домах лифт, газ, печей нет. Правда ли это? В какой квартире ты живешь, и кто соседи? Пиши, доченька, а приезжай по своему усмотрению, потому что жизнь тут стала совсем плохая, кроме как на нас с отцом смотреть не на что. Да и угостить тебя нечем, разве что тем, что сама привезешь…»
Я писала папе и маме короткие отчеты: «Москва большой город, живу в общежитии, здорова, работаю и учусь», хотя вначале я написала большое и подробное письмо. Мне хотелось поскорее поделиться впечатлениями, и я написала о Красной площади, об удивительно огромных и красивых станциях метро, о широких улицах и о том, что такое коммерческие магазины. В коммерческом магазине есть всё-всё-всё: икра и балыки, ветчина и колбасы, кофе и сыры, торты и пирожные. Есть десертное вино и какао. Написав об этом, я спохватилась. Зачем маме и папе знать об окороках и сосисках из коммерческого магазина? Они неправильно поймут меня и вообразят, что все эти удивительные продукты питания ежедневно у меня на столе. В коммерческом магазине все продают по сверхвысокой цене. Пирожное стоит 30 рублей, а моя зарплата – 220 рублей. Рабочие на заводе получают 300 рублей. Я могу, конечно, написать маме и папе, кто покупает еду в коммерческом магазине – лишь обеспеченные люди: академики, знаменитые писатели, композиторы и артисты, наркомы и их заместители, военачальники. А также зажиточные граждане, у которых денег много. А я захожу в эти магазины только посмотреть. Нужно написать правду, как есть. Чтобы мамочка и папочка не захотели ко мне приехать, потому что мне это очень неудобно. Мне некуда их привезти, негде уложить спать, посадить за стол, да и шагать пешком по пыльной дороге до нашего барачного поселка, если автобус не приедет, маме будет тяжело или даже невыносимо. Ведь у нее больные ноги. А чем я их угощу? В нынешнем 1946 году с продовольствием плохо. Повысилась пайковая цена. Хлеб подорожал, и его стало меньше. Платили 3 рубля, теперь стали платить 10. Некоторые мамаши в нашем бараке в панике: как прокормить детей? Многие поизносились до крайности. Нет мыла. Нет жиров. Вместо жиров – заменители. Цены повысили, а зарплату не прибавили. Пошла в магазин выкупить продукты по карточкам, а там у одной многодетной мамаши истерика: «Мы теперь с голоду помрем! Как теперь жить? Как?» С сентября я видела подобных драматических сцен уже несколько. Оказалось, что не все могут выкупить хлеб по новым ценам. В 1945 году было полегче. Настроения и разговоры были другие. Конечно, в 1945-ом тоже было трудно, но люди надеялись на лучшее – на отмену карточной системы, то есть все мы думали, что вот-вот перестанут отпускать продукты по нормам и можно будет покупать, сколько можешь. Надеялись и на другие улучшения. Но прошел год, и что же? Тут и там говорят, что взрослых иждивенцев снимают с пайка, а ведь это старики и инвалиды, и что хлеб стал хуже: в нем находят все больше овса, ячменя.
Наступает зима 1946–1947 годов, и все чувствуют, какая она будет голодная. Даже дети понимают, что надвигается голод. Наверное, это из-за писем, которые читают наши мамаши, а ребятишки слушают. Письма приходят от родственников из других краев и областей. В них нет ничего о радости, а все только о беде. Условия жизни ужасные. Зарабатывают по 300 трудодней, а хлеба не получают. Продают все, что можно, а если на продажу ничего нет – хоть лезь в петлю. Воровство развелось такое, что раздевают среди белого дня. Грабят, убивают. Словно нет никакой власти. Нищие бродят целыми семьями. Старики и дети отекают, опухают и быстро умирают. Вот что пишут родным в Москву, а затем умоляют: пришлите посылочку, а то пропадем! Но из обитателей нашего барака никто никому ничего выслать не может. Я тоже не могу послать родителям ни чая, ни сахара, ни мыла.
Впрочем, я дала себе клятву откладывать, как бы трудно ни было, немного денег, надеясь накопить хотя бы на скромную продуктовую посылку. Сама я спасаюсь тем, что питаюсь в рабочей столовой. Там можно купить три блюда – суп, тушеный картофель с капустой или молочную кашу, ну и запеканку из лапши. Основная еда – хлеб.
В 1947 году я поехала в родной город и увидела своими глазами, как живут мои папа и мама. Привезла им кое-что из еды, из вещей. Папе привезла пиджак, купленный на базаре. Он оказался на два размера больше, но папа все равно надел его, и был очень рад. От недоедания его тело усохло, а я боялась, что пиджак будет мал. Родители улыбались, а мне хотелось плакать. Как постарели мои папочка и мамочка! У обоих выпала половина зубов. Ну, как можно было, глядя на этакое, не переживать? Папе всего только пятьдесят пять лет, а он крошит хлеб в суп ну словно старичок! Я рассказала о фронте, и папа с мамой слушали с интересом и внимательно, но больше всего они хотели послушать о Москве: «Расскажи, доченька, как там, в столице. Видела Сталина? А как люди живут?» Я поняла, что нужно рассказать что-нибудь удивительное. Про Сталина не было смысла рассказывать – ведь его не увидишь на улице, разве что на портретах. Я осторожно рассказала про коммерческий магазин, и родители были потрясены, разволновались: «Вот это да! Бывает же такое!» Конечно, я поспешила уточнить, что мне, работнице прачечной, у коммерческих прилавков нечего делать. Затем я рассказала про антикварный магазин. В Москве, на одной из центральных улиц, я видела торговлю антиквариатом. За витриной стоит старинная мебель, а еще вазы, картины в золоченых рамах, видны ковры и гобелены. Я была потрясена: кто же покупает эту роскошь и сколько за нее просят? Я приходила к антикварному магазину десяток раз и наблюдала за входом. Мне нравилось глядеть на витрину, от нее веяло другой жизнью, богатой и счастливой. Я связывала антикварные вещи со словами «счастливая устроенность». Они вдруг сами по себе сложились в моей голове, и я их повторяла. Иногда я видела необыкновенных людей, то есть тех, кто покупал антикварные вещи. Однажды в магазин вошла хорошо одетая парочка: дама в беличьей шубке, в чулках и заграничных ботиночках, да еще в чудесной шляпе, а на мужчине было новое пальто с бобровым воротником. Кто они, эти счастливые люди? Богачи! Приехали на машине. Вышли из магазина, улыбаясь и щебеча о чем-то. Купили расписную зеленоватую вазу. Сели в авто и уехали. И я подумала: «Боже мой! Как же хорошо нужно зарабатывать, чтобы позволить себе покупку антиквариата! Счастливые! Но как? Откуда берутся такие большие лишние деньги?» Я удивлялась и завидовала. Потом шла в чайную и выпивала стакан вина. Меня окружали мужчины, большей частью фронтовики, и мне было привычнее находиться среди мужчин, однако я не могла запросто затеять с ними разговор – как я уже говорила, после фронта это были совсем другие люди. Я не могла рассказать им про антикварный магазин. Они не стали бы меня слушать. Они устали и морально, и физически и сами искали утешение в бесконечных монологах. В бараке я тоже не могла поделиться своими впечатлениями. Это обернулось бы против меня. Ну как рассказать нервным, издерганным одиноким мамашам о счастливой парочке, купившей старинную вазу? Мне, наверное, плеснули бы кипятком в лицо – чтобы я на всю жизнь запомнила, как дразнить несчастных и измученных. И вот я рассказала об антикварном магазине маме и папе, и лишь они выслушали меня, как добрую сказочницу. Им это понравилось. «Ковры, вазы, гобелены! – шептала мамочка. – Ах, неужели? И ведь покупают!» Я рассказала, что живу в бараке, мое личное пространство – полтора метра возле моей койки, да еще столько же на кухне у стола. Мне хотелось, чтобы мама и папа знали правду: мне негде их принять. И они поняли меня и сказали: «Ничего, милая, вот когда устроишься получше, тогда мы и приедем».
Из нашего барака я выбралась в конце лета 1948 года. Руководство прачечного комбината отдельную комнату мне так и не предоставило, предложило лишь переехать в другой барак-общежитие. Я отправилась на него взглянуть, и оказалось, что он находится почти в центральной части города, на набережной Москва-реки. Такой же грязный, тоскливый и тесный, как и наш, но место все же получше. Все-таки река, набережная. Из реки можно брать воду, кипятить ее, мыться. По набережной можно гулять, дойти даже до Кремля. По реке в навигацию плывут катера, баржи. Смотреть на них – хоть какое-то развлечение. Я согласилась переехать. Собрала свои вещи. Попрощалась Валентиной Петровной и Ольгой Ивановной, с мамашами и с Агнией. Агния сказала: «Ну вот, место твое освободилось, так пусть же его займет хоть какой-нибудь мужчина, пусть плюгавый, пропащий – все равно. Лишь бы не бабенка». Однако явившийся комендант объявил, что на освободившемся месте завтра поселится женщина, работница завода. Агния, ругаясь, пошла провожать меня и по дороге стала говорить, чтобы я смотрела во все глаза и нашла мужчину и для себя, и для нее. «Мне сгодится любой кавалер до пятидесяти лет, – сказала Агния. – Если старше – тогда он должен быть зажиточный. Я вдовой на бобах остаться не хочу, я сейчас такая вдова. Ничего интересного. В общем, буду ждать от тебя весточки. Умоляю, вытащи меня отсюда! Я тебя всю жизнь благодарить буду!» Я хорошо понимала эту «барачницу», но что я могла обещать? Ведь мое будущее мне было неизвестно. Жить в тесном бараке тяжело, требуется много терпения. А его всегда можно растерять. И тогда легко впасть в отчаянье, огрубеть и опуститься. Кому понадобится такая женщина? Я ответила Агнии: «Чем могу – помогу». И мы распрощались. В общежитии на набережной меня встретили холодно и равнодушно, как встречали, пожалуй, везде в сороковые годы. Люди сильно устали, измучились. У них не было ни одной причины быть приветливыми. Едва только я появилась в бараке, две мамаши громко поссорились и подрались. Их разняла какая-то грубая баба с очень густыми волосами, заплетенными в косы. Она проживала в моей комнате. Кроме нее, жили еще две соседки, и обе с детьми. У одной – двое, у другой тоже было двое, но старший мальчик умер нынешней зимой от пневмонии. Дети рассеянные, непослушные, пугаются только истошных криков. Бабу с косами звали Кира. Она пришла, села на кровать напротив меня и спросила: «Табак есть? А водка?» У меня не было ни табака, ни водки. Кира сказала: «Тоска!» Она думала, что я «эвакуашка», то есть вернувшаяся из эвакуации. «У вас, эвакуашек, вечно ничего нету, – сказала она. – Потому что мозгов нет. Потому что настоящего лиха не видели. А я была в окружении, и в партизанском отряде была. И там меня научили жизнь любить!» Я спросила: «Что же у тебя самой нет табака и водки?» Кира усмехнулась и показала жестами, что все было да вышло. Она была грубая и прямая женщина, но не такая нервная, как мамаши. Война научила ее не впадать в истерику. Я не стала говорить, что и я фронтовичка, полагая, что всему свое время. В этом бараке проживали такие же простые люди, как и на окраине, и крайняя бедность здесь приняла точно такие же четкие очертания, и от этой бедности люди не могли спокойно слышать о чьем-то преимуществе. Только Кира могла сколько угодно рассказывать о войне, потому что ее боялись. Она могла так ударить человека, что тот оказался бы на полу. Она была физически сильная деревенская женщина. А я не стала бы драться, потому что берегла лицо и зубы, поскольку мечтала встретить мужчину и выйти за него замуж. Поэтому я помалкивала. А Кира разглагольствовала: «У нас в отряде были огонь-мужчины! Лихие партизаны! И воевать умели, и песни петь, и водку пить, и любить!»
Пришел 1949 год, и я подумала: «Вот уже больше трех лет, как я вернулась с фронта, а в моей личной жизни нет никаких перемен. Что же делать? Когда что-нибудь изменится?» Иногда мне очень хотелось напиться, но я видела, как пьют спиртное другие одинокие женщины и от этого делаются только хуже. Лица их отекают, стареют. Кожа и волосы, и без того тусклые, становятся совсем непривлекательными. Меня это останавливало. Хотелось забыться, выпив стакан водки, и хотелось устроить свою личную жизнь. Однако это было несовместимо, и я выбрала второе. По фронтовому опыту я знала, что нужен случай – именно он зачастую решает многое. Нужно ждать случая и надеяться на него, и он появится. Так не раз бывало на войне. Ах, как там иногда было очень-очень трудно! Приходилось терпеть такое, чему в нынешней гражданской жизни нет эквивалента. И я стала твердить себе: «Нужен случай! Жди случая! Он придет, голубчик! Будет выход, будет спасение!» И вот в феврале 1949 года настал мой счастливый случай, причем долгожданное событие произошло прямо в нашем бараке, в обыкновенное воскресенье. В комнату в конце коридора, где проживала многодетная семья, пришел гость. Я заметила его, когда выходила из кухни. Видела его лишь со спины. Он был в плаще, в руке держал какой-то сверток. Я не придала этому значение, пошла к себе, села на кровать и стала читать. Прошел, наверное, час времени, и я от скуки немного поспала, а когда проснулась, стала думать о всякой всячине и вспомнила о незнакомце, которого видела в коридоре. И тогда я подумала: «Это же был мужчина! Судя по всему, еще молодой. Любопытно, какое у него лицо?» И я отправилась в коридор, надеясь неизвестно на что, и как раз в этот момент незнакомец прошагал мимо меня. Я видела его профиль. Мужчина лет тридцати трех, интересный. Впрочем, для меня, одинокой женщины, многие мужчины казались интересными. Но медлить было нельзя. Он шел к выходу. Еще несколько шагов – и он выйдет на улицу. И я бросилась назад в комнату, надела пальто и беретку, сунула ноги в ботиночки и побежала. И успела! Незнакомец задержался у крыльца, чтобы закурить. Я выскочила и воскликнула: «Постойте!» Мужчина обернулся, и я оказалась прямо перед ним, засовывая пряди под беретку. «В чем дело?» – спросил незнакомец. Я сказала: «Вы, наверное, сейчас рассердитесь… Подумаете, что я ненормальная… Я хочу пригласить вас в кино. Пойдете?» Мужчина улыбнулся и спросил: «Когда? Прямо сейчас?» Я кивнула. Он спросил: «У вас что, есть билеты?» Я сказала: «Да. Пойдемте!» Я врала и не смущалась. Я лишь проговорила: «Или вас кто-то ждет? Жена? Вы женаты?» Незнакомец снова улыбнулся. «Как вам сказать, – произнес он, поглядев в сторону. – Я женат, но моя жена пропала без вести в эвакуации. Вот уже четыре года о ней ничего неизвестно. Я искал ее, но ничего не вышло. Был человек – и исчез. А когда же начинается сеанс? И какая кинокартина?» Я продолжала врать про билеты и кинокартину. Мужчина поверил и сказал: «Ну что ж, пойдемте. И давайте познакомимся. Меня зовут Константин. А вас?» И мы, разговаривая, пошли по набережной. Это был мой будущий муж, Константин Антонович, главный и лучший мужчина всей моей жизни. Мы пошли с ним, делясь впечатлениями и различными фактами, и нам было легко разговаривать. Перешли через мост, снова пошли по набережной. И вдруг Константин остановился и спросил: «А куда же мы идем? Разве где-то здесь показывают вашу кинокартину?» Я ответила: «С вами так хорошо разговаривать… Давайте просто прогуляемся! А в кино сходим завтра…» Мой новый знакомый обо всем догадался: «Значит, нет у вас никаких билетов? Ну и ну! Забавно. Что ж, пойдемте в одно хорошее место, выпьем вина и чаю…» Я была счастлива и ничуть не смущена. Я совсем разучилась смущаться, ожидая моего счастливого случая. Мы расстались поздно – почти ночью, а вечером снова встретились. И стали встречаться каждый день. А через месяц Константин пригласил меня переехать к нему, в его комнату рядом с площадью Восстания. Я прибежала домой, быстро собрала вещи, попрощалась с мамашами и с их детьми, с Кирой. Подарила Кире коробку папирос, которую берегла для папы. Она была удивлена и расстроена. «Не понимаю, – сказала она раздраженно, – как это тебе повезло? Где ты, лягушка зеленая, смогла раздобыть мужчину? Ну где? В чем дело?» После этого она закурила и проговорила: «Ты меня извини. Никакая ты не лягушка. Просто обидно… Почему повезло тебе, а не мне? Эх, сегодня пойду и напьюсь!» Я пожелала всем счастья и умчалась. Я бежала, тряся своим тяжелым чемоданом, пока совсем не выдохлась. Я хотела поскорее убраться подальше от нашего затхлого барака. Но затем я остановилась и оглянулась. Ведь именно в этом бараке ко мне пришел мой счастливый случай, а я от него бегу. Я помахала ему рукой и даже сказала «спасибо». И пошла, гордо держа голову. Я воевала, рисковала жизнью, терпела страдания и лишения, и разве поэтому я не заслужила счастья? Константин Антонович – прекрасный человек и хороший мужчина. Тридцать один год от роду. Служит в проектном бюро инженером. Профессию получил перед войной. На фронте служил в артиллерии, капитан. Воевал, как и я, с 1943 года и до Победы. У него хорошая комната в большом кирпичном доме, и он ждет меня! Я нарочно уговорила его не помогать мне с переездом, чтобы мамаши и Кира не видели нас вместе и не умирали от зависти. Я знала, каково им будет на нас смотреть. Я жалела этих дамочек, поэтому одна тащила тяжелый чемодан. И тут появился Константин – выбежал откуда-то и воскликнул: «Позвольте вам помочь! Уверяю вас, я не вор и не сбегу с вашим имуществом!» И мы засмеялись. Он, оказывается, ждал меня неподалеку. Какой внимательный! Вскоре мы поженились.
Это счастливое событие случилось, однако, в непростое время. 1949 год был очень мрачный, потому что в обществе установилась тяжелая моральная атмосфера. Власти взялись преследовать обычных людей. На собраниях говорили, что государство бьет мошенников и расхитителей, однако все видели, что оно набросилось и на обычных граждан – любителей поговорить и особенно любителей сравнивать. Сразу после Победы такого не было. Фронтовики рассказывали о войне без оглядки, говорили часами и обо всем подряд. А нынче бродят страшные слухи: задержав одного человека, власти на следующий день задерживают его знакомых, которые были с ним накануне. Первый задержанный, рассказывая о фронте, хвалил американскую консервированную свинину и галеты, а его приятелей прихватили за то, что не донесли. Теперь хвалить американское и вообще капиталистическое строго запрещается. Нельзя сравнивать СССР и другие державы не в нашу пользу. Как и до войны, решительно нельзя выражать недовольство государственной политикой.
Фронтовики стали бояться рассказывать о европейских городах, которые видели на войне. Помню, как на одном собрании, где я присутствовала, выступал какой-то дядя и кричал в зал: «Тут некоторые умники любят рассказывать, что в Европе хорошо живут – будто там улицы, дома и сады-парки стоят чистенькие, приглаженные. А у нас будто бы не так – у нас культура другая. Эти умники видели Европу во время войны. А кто дал им право сравнивать? Кто им позволил? Мы с вами давали им это право? Скажите, товарищи, мы с вами наделяли этих болтунов-пустословов полномочиями судить о нашей культуре? Разве было такое?» Строгий дядя еще долго кричал и грозил кулаком. И никто ему не возражал. Люди боялись высказывать свое истинное мнение. Из-за доносов стали бояться открытых разговоров и друг друга.
Осенью пострадал и мой муж. Два его приятеля в разговоре сравнили американские грузовики «Студебеккеры» с нашими, отечественными грузовиками, и на них донесли. Обоих арестовали. В доносе упоминался и мой Константин, как присутствовавший при разговоре. Его арестовали за то, что не донес на приятелей. Их обвинили в «низкопоклонничестве перед США» и осудили, а моего мужа продержали в тюрьме три недели, а потом, к счастью, выпустили. Он вернулся домой растерянный и подавленный. Досталось ему и в проектном бюро. Там устроили собрание и стали ругать его за «гнилую позицию». Когда ему дали слово, он сказал: «Я не выказывал вообще никакой позиции. Я только стоял и слушал, когда говорили о «Студебеккерах», и не произнес ни слова». Председательствующий на собрании растерялся, но быстро сообразил, что нужно ответить, и заорал: «А это и есть гнилая позиция! Ты должен был дать по зубам этим подлецам! Должен был позвать милиционера! Неужели ты не понимаешь, что сам действовал, как бандит? Попустительство негодяям – тот же бандитизм!» После этого товарищи по работе шарахались от моего мужа. Атмосфера подозрительности вынудила его затеять перевод в другое учреждение. Но и на новом месте оказалось не лучше. Там были свои «бандиты» с «гнилой позицией», от которых тоже шарахались. За что страдали эти люди? За то, что не среагировали на «преступные» действия своих знакомых. Дома мой муж рассказывал: «Власти требуют, чтобы мы реагировали – извещали, сигнализировали, иначе нас самих запишут в бандиты. Увидел, услышал что-либо «нехорошее», беги, пиши донос. Но могу ли я написать донос на нашу невыносимую бюрократическую систему? Нет, не могу. Мне скажут: «Как ты смеешь, гад, критиковать государственное учреждение? Кто давал тебе такие полномочия?» А у нас в учреждении страшная, гиблая бюрократия. Каждую бумажку нужно показать трем начальникам, любую поправку нужно согласовать с четырьмя заведующими, и никто из них не может принять окончательного решения – каждый до ужаса боится личной ответственности, и потому резолюции откладываются, сроки затягиваются, проекты замораживаются. Порой две недели нужно носить бумаги из кабинета в кабинет, и везде говорят: «Пока решение принять невозможно, нужно согласовать, а также запросить справочку…» Ну что делается! Работать в таких условиях тяжело и неинтересно». Мой муж, как фронтовик, не был нытиком, он лишь справедливо возмущался разгулом бюрократизма. В сороковые годы это была большая беда. В городах не хватало рабочих мест, кроме того, многие люди ни за что не желали трудиться физически, поскольку питание было неважное, поэтому существовало много ненужных конторских должностей и даже ненужных организаций и учреждений. В Москве были невероятно раздутые административные штаты. В 1949 году я как раз закончила техникум и стала искать работу по специальности, обошла десятки организаций и подивилась, как плотно они набиты работниками. У начальника – три, а то и четыре заместителя, и у тех тоже имеются что-то вроде советников-заместителей по различным вопросам, а еще секретари. Куда ни придешь, по коридорам бродят толпы людей, носят туда-сюда бумаги, заглядывают в кабинеты, что-то спрашивают, уточняют, полы скрипят, двери хлопают, а в кабинетах при этом тоже толпы людей, только сидят за столами. Спросила в одном месте, и мне говорят: «Что вы, милочка! У нас яблоку упасть негде!», спросила в другом, и мне шепнули, что начальник и его заместители приняли в штат своих родственников и знакомых, поэтому нет ни одной вакансии, а если появится, опять устроят только своего. Два месяца меня никуда не брали. Наконец нашлось место на пищевой фабрике, в финансовом отделе. На заводе и в прачечной я работала на ногах, а тут – за столом. В кабинете несколько больших столов, по два работника с каждой стороны. Пишем, считаем на счетах, снова пишем, подшиваем, подклеиваем. Я с войны не работала сидя. И мне вспомнилась моя фронтовая служба, мои командиры, начальники. На фронте командиры попадались разные, бывали злые, жестокие, а иногда встречались добрые, вежливые, интеллигентные. Удивительно, но после войны я не встречала добрых, вежливых начальников. И даже не слышала, что где-то бывают такие руководители. В сороковые годы у руководства сложился, кажется, общий, единый стиль, основанный на грубости: что не так – в крик, да еще ударить кулаком по столу, да еще оскорбить. Между начальниками и подчиненными – непреодолимая пропасть. Руководители смотрят свысока и презрительно, не принимая в расчет ничьего самолюбия, кроме своего. Все они умеют мгновенно выходить из себя и быть страшными в гневе, осыпая наши головы ругательствами. Где они этому научились? Некоторые люди предполагают, что на фронте. А другие говорят, что этот стиль сложился в самом начале войны, когда промышленность эвакуировали в безопасные районы СССР, и тогда будто бы только жестокость руководства позволила быстро развернуть предприятия и наладить выпуск продукции для фронта. А третьи утверждают, что такова эпоха в целом – грубая, бессердечная, и какое время, такие и руководители. И у моего мужа, и у всех моих знакомых грубые начальники, и у меня самой – и на заводе, и в прачечном тресте, и здесь, на фабрике. Директор нашего предприятия не просто строгий человек. У него такое лицо, будто на нашу страну снова напали немцы, и он готов обвинить в саботаже и растерзать всякого. Все его ужасно боятся. Это такой стиль, такая манера – наводить ужас на подчиненных. Начальники цехов и отделов переняли эту манеру и тоже ходят со свирепым видом. Через два десятка лет появятся совсем другие производственные руководители, строгие и требовательные, но не грубые и не свирепые, и я, вспоминая сороковые годы, стану рассказывать молодежи про начальников того времени, и одна работница, услышав мои слова, подтвердит: «Да, да, все верно! В 1945—51 годах я работала на заводе, так вот у меня было такое жестокое и спесивое начальство, что, казалось, сейчас они набросятся и пришибут. Орали на нас, простых рабочих, так, что порой заглушали заводские гудки. И каждый день оскорбляли! А пожаловаться было некому…»
В том, 1949 году, жаловаться на начальство было невозможно. Некуда идти и говорить: «Меня постоянно оскорбляет начальник моего отдела». Нет такой организации, где бы выслушали и приняли меры. Поскольку начальники – коммунисты, они несут ответственность только перед партией, и так и говорят об этом: «Если нужно, с меня партия спросит! А пока я нахожусь на этом месте, буду руководить так, как считаю нужным. Меня сюда партия поставила!» Если, к примеру, прийти в районный или городской комитет партии и пожаловаться на свирепого руководителя, там скажут: «Зачем вы пришли к нам? У вас на предприятии имеется собственный партийный комитет, вот туда и идите со своей жалобой». А если отправить в эти партийные организации письмо, его перешлют администрации нашей фабрики. Поэтому и считается, что нет такого кабинета, куда можно было бы прийти с жалобой. Говорят, кто-то уже пробовал и ходить, и писать, и ничего из этого не вышло. Наоборот, стало только хуже. Служащие нашего отдела каждую неделю попадают под «горячую руку» начальства, в том числе и я, и на нас, взрослых людей, орут, брызжут слюной, нас осыпают оскорблениями, но все мы знаем, что ничего изменить нельзя. Так везде. Нужно терпеть.
Я фронтовичка, и мне легче. Недавно мой начальник, найдя в бумагах две несущественные ошибки, вышел из себя, орал мне в лицо, бил кулаком по столу, а я про себя усмехнулась и стала думать о том, как приду после работы домой, приготовлю ужин и буду ждать мужа, возьму книжку, Жюля Верна, заберусь с ногами на диван и почитаю всласть. Выпью чаю с повидлом. И мне станет очень уютно. Ах, какое счастье, что я выбралась из барака! Комната у моего супруга большая – 19 метров, а по мне – даже огромная. Что за прелесть – проживать в отдельной комнате! Константин приходит домой около восьми часов вечера. После окончания рабочего дня в его организации часто устраивают собрания служащих. То есть после работы люди еще час-полтора заседают. Обсуждают какие-то важные вопросы. Частые заседания – примета сороковых годов. Собрания проходят везде, на каждом предприятии, в каждой конторе, на каждом складе. Бывает, созывают собрание по два-три раза в неделю. Повестки различные. После войны собраний было так много, что повесток я слышала, наверное, сотни. Некоторые повестки навсегда остались в памяти, потому что повторялись. В 1946 году часто собирались по поводу решения правительства о внутренних займах. Всех агитировали подписываться на займы, хотя люди жили очень бедно, едва сводили концы с концами. В 1947 году бесконечно собирались, чтобы обсуждать правительственные меры по борьбе с расхитителями государственной собственности. Помню, как какой-то человек говорил с трибуны: «Все, товарищи, скоро придет конец расхитителям! Раньше как было? Пришел в государственную столовую, пообедал, сунул вилку в карман или, к примеру, солонку, унес домой – и ничего, шито-крыто, как говорится. А нынче не так: сунул солонку в карман – пять лет исправительных лагерей, да еще с конфискацией имущества. Вот, какая, товарищи, замечательная мера! И будьте уверены – бросят солонки тащить. А ведь тащат не только солонки! Воруют даже вагоны!» В 1949 году заседаний не стало меньше, однако они сделались совсем скучными. Сидишь, молчишь, слушаешь, желудок пустой, в теле усталость, но самовольно уйти нельзя. Не прийти на собрание тоже нельзя. Самовольные действия строго наказываются. Приходится сидеть и делать вид, что слушаешь. А мысли уносятся далеко прочь от обсуждаемой повестки. Я всегда любила думать о нашей с Константином жизни, о наших друзьях, о поездках за город. Мы с мужем ездим к нашим друзьям, которые круглый год живут на даче. Это хороший деревянный дом с верандой. Улица сплошь состоит из подобных домов. Большая удача – иметь такой дом. Наши друзья – инженеры, хозяйка старше меня на три года. В войну была в эвакуации, а ее муж служил с моим Константином Антоновичем в одном батальоне.
Я мечтала о такой жизни: принаряжаться и ходить в гости, в гостях пить вино и танцевать под музыку, и обязательно приглашать к себе, принимать гостей, угощать их и угождать им, показывая, какая ты хорошая хозяйка. Вот они – прелести жизни. С войны во мне накопилась усталость, я долго находилась в напряжении, и мне хочется отдыхать. После долгих лишений мне хочется уюта. После унылого однообразия – как можно больше ярких моментов. У нас есть друзья и в городе, и они тоже приглашают нас к себе. Ходить в гости в сороковые годы – самое распространенное развлечение. Бывает, что в одной квартире шумное застолье в каждой комнате, в каждой семье, и хозяйки суетятся в общей кухне и несут угощения своим гостям. Люди поют, танцуют под патефон. Вот только избегают слушать иностранные пластинки, привезенные с фронта. Говорят: если донесут властям, могут арестовать и обвинить в пропаганде американского и вообще капиталистического образа жизни. А сразу после войны слушали – и ничего! А теперь вот нельзя.
В том же 1949 году неожиданно произошло замечательное событие. В нашей квартире скончалась бабушка, наша соседка, и нам достался ее комод. У нас имелся свой хороший комод, и мы решили сделать подарок друзьям. Они нуждались в мебели. Константину Антоновичу удалось раздобыть грузовик, что было очень-очень сложно, мы погрузили комод в кузов и поехали на Ордынку, где жили друзья. Я сидела в кабине, а Костя остался в кузове. И вот я вижу, что водитель мрачно вздыхает и что-то бормочет. Я спросила, что случилось, неужели какая-то вещь потерялась, или, может быть обокрали. Водитель сказал, что три месяца назад в этот день у него от воспаления легких умерла жена, и он ее вспоминает. А я ему говорю: «Ничего, жизнь наладится. Жаль, конечно, вашей жены, но унывать нельзя. Встретится другая женщина, вот увидите. И будете счастливы!» Водитель согласился со мной. А потом вдруг сказал: «А я и не против – пусть встретится. Мне бы такую женщину, чтобы и хозяйкой в доме была, и чтобы деток нарожала, а то у нас с женой детей не было. Я хоть сейчас готов познакомиться с такой дамочкой. И у меня, между прочим, своя хорошая комната имеется!» Мне тут же вспомнилась Агния. И я подумала: «Если она до сих пор никого себе не нашла, то вот он, подходящий случай!» После этого я договорилась с водителем, что завтра он придет в условленное место – чтобы познакомиться с хорошей женщиной. Водитель был рад. Стал улыбаться. Хотя я сказала ему, что, возможно, ничего не выйдет. Но он все равно кивал, соглашаясь. Мои хлопоты повлияли на него положительно.
Назавтра было воскресенье. Я поехала на окраину, к Агнии. Появилась в бараке как раз в тот момент, когда Агния, сидя на табуретке в кухне и схватившись за голову, раскачивалась и мычала. Она и раньше так делала – от тоски. Я сказала: «Пойдем-ка поговорим, дорогуша. Обсудим одно важное дело». Агния вскочила. Мы вышли в коридор. «Надевай все самое лучшее, – прошептала я. – Догадалась, почему? Кавалер для тебя имеется – интересуется насчет семейной жизни. Ищет хорошую женщину, такую, как ты. Ну, что стоишь? Беги, собирайся!» Трудно описать, что произошло с этой «барачницей», то есть какое выражение появилось у нее на лице и как она засуетилась. «Я знала! Я знала! – бормотала она, скача по комнате. – Сержантка! Золотая ты моя!» Потом мы шли по дороге. Я шагала, а Агния бежала впереди. Она именно бежала. Я широко улыбалась, радуясь за эту странную женщину. Мне почему-то верилось, что шофер грузовика оценит ее внешность и темперамент по достоинству и что оба они понравятся друг другу. Шофера звали Николай. Агния и Николай – хорошее сочетание имен для мужа и жены. Николай ждал нас на крыльце клуба. Когда мы появились, он внимательно поглядел на Агнию и улыбнулся. Я оставила их и пошла домой. Агния вышла замуж за этого человека через три недели, и они прожили вместе всю оставшуюся жизнь, довольные своей судьбой. Правда, это был единственный случай, когда я сумела помочь людям создать семью.
Мой муж, Константин Антонович, скончался в 1985 году. Мы прожили вместе тридцать шесть лет. С этим человеком я была счастлива. Наши дочери, став взрослыми, тоже, бывало, спрашивали меня, как нам жилось после войны. Я рассказывала им про бараки, про бедность и неустроенность личной жизни, про холод и недоедание, про дефицит доброты и вежливости, и дочери говорили: «Да-а, мрачные времена! Хорошо, что они закончились». Конечно, хорошо. Бараков давно уже нет. На их месте раскинулся современный микрорайон, и это уже не окраина. Бараки на набережной Москва-реки тоже сгинули, там теперь большие многоквартирные дома. Когда люди покидали их, они веселились, как на празднике. Все, кроме Киры-партизанки, потому что она не дождалась этого дня. В конце 1949 года она купила на базаре по дешевке бутылку домашней водки, выпила ее и скончалась, отравившись техническим спиртом, из которого была изготовлена эта водка. Поддельного спиртного в те времена было много.
Мои папа и мама приезжали ко мне в Москву одиннадцать раз, считая с 1950 года. Оба они ушли из жизни в середине семидесятых.
Я благодарю судьбу за хорошую память, которая позволяет мне в любой момент отправиться в прошлое. Я помню множество мелочей и деталей. Помню, например, как пахла пыльная дорога, ведущая к баракам через пустыри, мимо оврагов. Помню лица и фамилии знакомых. Помню, как после войны стали появляться уличные животные. В октябре 1949 года я шла по улице домой, и вдруг из-за угла дома вышел тощий пес и лег погреться на солнце. Стоял хороший, солнечный день. Я почему-то очень обрадовалась. Долго смотрела на этого пса и улыбалась. Надо же – собака! Я подумала, что нужно покормить песика, пошла домой и взяла хлеба. Но когда я вернулась, пес уже ушел. Вечером я рассказывала мужу: «Это был живой песик, понимаешь?» И Константин Антонович сказал: «Значит, жизнь налаживается!»
* * *
Николай Реп-ков, 1931 года рождения: «Наши родители умерли в войну. Папа погиб на фронте, под Ржевом, а с мамой в самом конце войны, в марте 1943 года, произошел трагический случай. Ее застрелил стрелок охраны состава с лесом. Мама перебиралась через железнодорожные пути, хотела пролезть под вагоном, стрелок услышал шорохи, посветил фонарем и выстрелил. Мама, наверное, не знала, что это особо охраняемый состав. А стрелок не знал, что мама не диверсант, а служащая станции. Стрелок был молодой, малоопытный парень. Он мог бы задержать маму – до выяснения, а вместо этого взял и убил ее.
Нас было трое у мамы – я, брат и сестра. Сестра – самая старшая, ей в 1943 году исполнилось пятнадцать лет. Мне было тринадцать с половиной, а младшему брату всего только шесть. Жили мы очень трудно, а когда мамы не стало, сестра Анюта сказала, что теперь мы запросто можем сгинуть. «Кто о нас теперь позаботится? – сказала она. – Ну, мы с тобой наймемся работать. А Павлика отдадим в детдом. Там ему будет лучше. Тогда, может быть, и вытянем». Младший брат Паша заревел, замотал головой, стал бегать вокруг нас и просить не отдавать его в детдом. Он даже сказал, что тоже пойдет работать. Это в шесть-то лет! Анюта засмеялась. А мне было не до смеха. Я жалел Павлика. Он рос щуплым, бледным, руки у него были такие тонкие, что мои три пальца, сложенные вместе, казались толще. Он страдал от малокровия. Я сказал: «А вдруг в детдоме ему будет плохо? Разве ты не видела детдомовских?» Анюта махнула рукой – что означало: «Видела. Кто их не видел?» Мы оба знали, что воспитанники местного детдома никогда не улыбаются и всегда короткостриженые, ходят опустив голову и худые. И мы сказали друг другу, что в детдоме Павлик умрет от тоски или недоедания. Этот разговор происходил на следующий день после гибели мамы. Ее тело нам не выдали. Его увезли работники НКВД, и поэтому мы маму не хоронили. Вот как получилось: была у нас мамочка – и исчезла. Впрочем, о том, что произошло, мы так и не узнали бы, если бы не мамина старшая сводная сестра, тетя Клава, которая тоже работала на станции. Она была старше мамы на пятнадцать лет. В тот роковой вечер она была на работе и узнала о трагическом происшествии одной из первых. На следующий день с нее взяли подписку о неразглашении, то есть с этого дня она не имела права рассказывать, что ее сводную сестру застрелили по недоразумению. И все же до этого она успела прийти к нам и сообщить о несчастье. Мы так сильно растерялись, что не проронили ни одной слезы. Только позже, посреди ночи, Павлик проснулся и заплакал.
Утром мы с Анютой не пошли в школу, а Павлика не отвели в детский сад. Мы остались дома. Так велела тетя Клава – потому что к нам должна была прийти делегация со станции. Мы стали ждать эту делегацию, и вот в два часа дня она, наконец, явилась. Три человека: две женщины и старичок. Тетя Клава, как ближайшая родственница, тоже пришла. Делегация расселась на стульях, а затем старичок, сообщил, что наша мама скончалась от сердечного приступа. «Вероятно, у нее было больное сердце, – сказал старичок. – Скорее всего, врожденный порок». Мы промолчали. Этому тетя Клава научила нас заранее. «Молчите, – сказала она, – так будет лучше. И ждите, что скажут дальше». Дальше делегация стала рассуждать о том, что в нашей семье больше нет кормильца, поэтому все мы отправимся в детдом. Всех троих будет теперь кормить и воспитывать государство. Мы этого не ожидали. Мы были поражены. Ведь мы хорошо постигли смысл сказанного: скоро из нашего дома мы переберемся в казенное учреждение на казенное довольствие и под присмотр чужих людей. Одна дама из делегации, увидев наше волнение, проговорила: «Выбора у вас нет, ребятки, как ни гляди. Нет выбора. Какой тут выбор?» Мы поглядели на тетю Клаву. У нее не было детей, а муж ее, дядя Матвей, воевал и скоро должен был приехать с войны, поэтому она могла бы взять нас к себе или переехать в наш дом. И мы жили бы одной семьей, как близкие родственники. Мы смотрели на тетю Клаву так, чтобы она все поняла, и она догадалась, что мы хотим от нее. Она сказала: «Старшая дочка, Аня, заканчивает семилетку, может пойти в ремесленное училище, там кормят, дают одежду. А мальчиков я возьму себе. Будут жить, как при матери. Поэтому глупости все это – детдом и нет выбора». И тогда дамы и старичок из делегации обрадовались: «Да? Возьмешь себе? Правда? Официально?» Тетя Клава подтвердила: «Официально». И делегация ушла. Тетя Клава тоже ушла. Мы вздохнули с облегчением.
Вечером тетя Клава принесла нам еду – кашу, хлеб и картошку. Рассказала, что маму увезли в областной город и похоронили на тамошнем кладбище без указания места. Почему ее не похоронили в нашем городке и не позвали нас, она не знала. «На днях займусь оформлением документов, – сказала она. – Будем жить – не тужить. Как-нибудь проживем. Вот говорят: скоро войне конец, Победа, солдаты вернутся домой. Значит, и мой Матвей Денисович тоже приедет. А потом, по случаю Победы, отменят карточки, развернут ненормированную торговлю товарами, тогда-то можно будет еды купить, сколько хочешь, и вещей тоже, а то люди давно этого ждут не дождутся. Так и будет. Так повсюду говорят, и значит, это правда». Всем нам от таких слов стало намного легче. Но о том, как в действительности потечет наша жизнь, мы, конечно, не знали.
В 1945 году после Победы в наш городок стали возвращаться мужчины, и я не знаю, какими словами описать то, как их ждали женщины. Помню разговоры на улицах, в магазинах, на базаре: «Скоро мужички приедут! Мой Вася домой вернется! Наконец-то!» Все дамы оживились – и местные, и эвакуированные. Всю войну они жили одни, отчего им было, конечно, несладко. Тетя Клава тоже радовалась. Улыбалась и постоянно выпрямляла спину. Иногда потирала руки. И вот уже с фронта вернулся сосед дядя Федя, старшина-артиллерист, и другой сосед, Николай Егорович, пожилой солдат, а Матвей Денисович все не ехал. Только присылал письма: «Скоро буду! Из Европы, Клава, путь не близкий. Но ты жди, героическая женщина, как ждала всю войну». Тетя Клава переехала в наш дом, а в свой дом пустила жильцов, и те платили ей хорошие деньги. Большую часть этих денег она тратила на нас, а меньшую откладывала. И все, что тетя Клава зарабатывала на станции, она тоже тратила на нас. Покупала в основном еду – крупу, картошку, селедку, сахар, растительное масло, топленое сало, повидло, иногда мед и молоко. В то время основой рациона был, конечно, хлеб. Есть на столе хлеб – можно жить, нет хлеба – скоро в могилу. Я это запомнил на всю жизнь. Хлеб мы ели каждый день. Его продавали, разумеется, по норме, то есть на карточки. Нормированная торговля продовольствием всех вымотала за годы войны, но люди понимали важность этой меры, недовольства у людей до 1945 года я видел мало. Хлеб можно было купить и по коммерческой цене, у торговцев. Например, на базаре. В 1943—44 годах там просили за буханку 20 рублей. Мамина зарплата на станции составляла 200 рублей. Понятно, что мы не могли покупать еду у частных торговцев, поэтому питались только тем, что покупали на продуктовые карточки. Плохо было и с одеждой. Наша одежда за военные годы сильно износилась. Мы выглядели, как оборванцы. Мама отдала перешить все, что только можно, все покрывала и скатерти, купленные до войны, и даже коврик-половик. Из этого коврика младшему брату Павлику сшили тужурку. Сестре Анюте из скатерти сшили платье. Мама сшила себе платье из занавески. Но в 1944 году почти все эти вещи пришлось продать, потому что маму однажды, в день зарплаты, ограбили на улице. Ударили сзади по голове и забрали все ценное. Даже валенки сняли. Мама пришла домой и просидела, вздыхая, всю ночь. Это была серьезная беда. Нас выручила тетя Клава – выручила деньгами, но вещи все равно пришлось отнести на базар. Оставили только тужурку из коврика.
Тетя Клава хорошо знала наше положение, поэтому, когда заменила нам маму, на нас не экономила. И все время подбадривала: «Вот-вот приедет Матвей Денисович, заживем еще лучше». Наступил август, а Матвей Денисович все не возвращался. Закончив школу, Анюта собралась продолжить обучение в ремесленном училище, потому что там кормили и давали одежду. Она сказала мне: «Без меня заживете как короли!», имея в виду, что с осени этого года на нее уже не придется тратить деньги, и все останется нам. Тетя Клава тоже сказала: «Еще немного накоплю, и пойдем на базар – купим вещи. Коле – брюки, а может, и ботинки, а Павлику надо все покупать, весь гардероб». Но мы стали замечать, что наша тетя Клава все реже улыбается. Проходит август, а Матвей Денисович не едет. Опять лишь прислал письмо: «Задерживают, Клавочка, твоего солдата! Дела у меня здесь по службе. Начальство требует, чтобы я и тем, и другим занимался, и все не отпускает меня. А я все рапорты пишу. И отпустят, вот увидишь! Жди, твой Матвей». Такое письмо пришло в середине августа. И в те же дни к соседу дяде Феде приехал какой-то солдат, они устроили застолье, пригласили тетю Клаву, и там в разгар застолья этот солдат, хорошенько охмелев, сказал, что слышал о Матвее Денисовиче, поскольку сам служил в соседнем полку. Матвей Денисович, старшина хозяйственной части, остался в венгерском городе вовсе не по воле начальства, а потому что у него там фронтовая подруга. Они венгерский шпиг едят и водку пьют, и им обоим хорошо, вот он домой и не торопится. Если бы он знал, этот солдат, что наделал! Тетя Клава побледнела, замолчала и ушла из-за стола. Вернулась домой и все нам рассказала. «Вот, оказывается, что! – закричала она. – Негодяй! Нашел себе кралю и потешается! А я тут жду – дни считаю. Подлость какая!» После этого тетя Клава ушла к своей подруге и напилась. Вернулась только на следующий день, хмурая, недовольная, мрачная. Глубоко обиженная, оскорбленная женщина. И с этого дня наша жизнь стала стремительно меняться в худшую сторону. Тетя Клава перестала думать о нас. Замкнулась. Но хуже всего – она стала каждый день пить спиртное. От этого ей, наверное, было легче.
К сентябрю наша спасительница пропила все свои сбережения. Одежду и обувь нам так и не купили. Тетя Клава уходила из дома к своим знакомым теперь ежедневно и порой оставалась у них на два дня. У нас ей было уныло, тоскливо. Возвращаясь, она мало разговаривала, ни о чем нас не спрашивала. Ложилась на кровать и лежала. Деньги исчезли, и мы стали недоедать, питались теперь только два раза в день. Анюта, видя, как мы быстро худеем, бросалась к тете Клаве и хватала ее за руки: «Тетя, что же делать? Ведь они помрут, помрут! Как же теперь быть?» Однажды она разделила свой хлеб между нами, и я отказался его есть. Анюта улыбнулась и сказала: «Ешь, глупый. Я скоро пойду в училище, а там кормят досыта, а ты, если не будешь есть, уснешь и не проснешься». Я знал про училище, что там кормят лишь один раз в день – в обед. И не досыта, а обыкновенно. Дают хлеб, суп, кашу. Если есть один раз в день, долго не протянешь. И я сказал об этом сестре. А она тихо ответила: «Нужно продержаться до приезда дяди Матвея. Когда он вернется, все наладится».
В училище Анюта не пошла, потому что тетя Клава не бросила привычку напиваться. Ничего в ее поведении в лучшую сторону не изменилось. Наоборот, тетя опустилась, перестала гладить одежду, причесываться. И плохо стала работать. Из-за этого ее перевели в низкую категорию служащих, а этой категории платили в два раза меньше. Анюта упрашивала, умоляла тетю Клаву одуматься и вернуться к прежней жизни, но тетя либо молчала, либо вздыхала и говорила: «Так-то бывает в жизни, деточка. Была надежда – и нету. Склевали ее черны вороны». А иногда у нее был такой вид, будто она не понимает, что происходит. Кто ее о чем-то просит – ей непонятно. Взгляд ее был затуманенный. Вскоре случилась беда. Жильцы тети Клавы подрались между собой, и мужчина убил женщину, и, чтобы скрыть преступление, поджог дом. Дом сгорел. Жилец заявил, что его жена уснула с не потухшей папиросой, но ему не поверили, арестовали его, и он во всем признался. Его судили и отправили в лагерь. А тетя навсегда лишилась своего имущества. Мы думали, что она будет горевать, а она махнула рукой и сказала: «Ну и что. Все равно скоро в могилу, а сундуки на тот свет за собой не потащишь». Я подумал, что тетя сошла с ума. Она то лежала весь вечер, отвернувшись к стене, то часами ходила из угла в угол. Анюта написала письмо дяде Матвею и рассказала обо всем, что случилось. Написала, что денег теперь почти нет, и что мы от голода стали совсем тихие, не бегаем, не шумим, как положено мальчишкам. Она спрашивала дядю Матвея, что делать, как прожить, что можно придумать. Просила поскорее приехать. После этого она стала считать: письмо будет добираться до Матвея Денисовича три недели, а может, и больше, и пока он подумает и ответит, пройдет еще три недели, и это уже полтора месяца. «За это время кто-нибудь из вас помрет, – сказала Анюта. – Павлик совсем худой. Как палка! И все время сонный. Это плохой признак. А у тебя во сне сердце может остановиться. Потому что ты ненормально бледный…»
Анюта хорошо знала, какое у нас состояние, наблюдая за нами, как будто наша мама. Каждое утро она щупала каждому из нас лоб, спрашивала, болит ли что-нибудь, не кружится ли голова. У меня голова кружилась всякий день. Встану с места – и все перед глазами плывет, а затем подступает тошнота. Это было малокровие. И я часто уставал. Принесу ведро воды и сажусь отдыхать. Вскоре у меня начались обмороки. Однажды утром я поднялся со стула, и в голове стало жарко, а перед глазами темно. Очнулся на постели, с мокрым полотенцем на лбу. Рядом сидела Анюта. «Плохо, очень плохо, – сказала она. – Как мы дождемся дядю Матвея, если ты уже в обмороки падаешь?» После этого она куда-то ушла из дома и вскоре принесла хлеба. Подала мне его и сказала: «Ешь, иначе сегодня ночью помрешь». Я испугался и стал есть. Оказалось, что сестра одолжила полбуханки у соседей, у Николая Егоровича и его жены. Мы разделили ее с братом Павликом. Потом пришел сам Николай Егорович, пожилой солдат, сел на лавку, закурил какую-то длинную тонкую трубку, стал глядеть на нас и о чем-то думать. Он хотел нам помочь, и, наконец, он сказал Анюте, что ей нужно поехать в область. Так называли у нас областной город. Там, в области, его родственница торгует на базаре нитками, дрожжами и папиросами, и он передаст ей с Анютой письмо, чтобы она взяла ее к себе помощницей по торговле. Тогда Анюта сможет зарабатывать и покупать хлеб и другую еду и поддержит нас. Анюта сразу согласилась. «Могу поехать хоть сейчас, – сказала она. – Сию минуту соберусь и поеду!» Николай Егорович засмеялся. Ему прежде нужно было пойти и написать письмо своей родственнице, а еще, сказал он, понадобятся деньги. Потому что родственница просто так услугу оказывать не станет – нужно внести свою долю в ее торговлю. Но деньги найдутся. Николай Егорович сказал, что раз уж он взялся за дело, долго ждать не придется.
Когда он ушел, вскоре после этого пришла тетя Клава, как всегда потерянная, мрачная. Мы ей рассказали, что Анюта поедет в область зарабатывать деньги торговлей. Вдруг тетя проговорила: «Вы простите меня, окаянную! Простите, дети. Я очень плохо поступила с вами. Не справилась со своей бедой… Забыла о вас… Но я больше не буду пить. Обещаю». Мы не могли сказать тете Клаве, что наше положение очень тяжелое, потому что она и так это знала. Ведь у нас почти не было денег. Мы стояли на пороге голода. Мы видели, что наша тетя хоть и раскаялась, однако сделать ничего не может. То есть она не может пойти и принести столько хлеба, чтобы мы наелись досыта, и не может проделывать это каждый день. Она только вздыхает. Но мы не могли ее упрекнуть – все-таки она была нашей спасительницей, по ее милости мы не оказались в детдоме.
В этот вечер все мы почувствовали, что наша жизнь должна измениться к лучшему. Даже тетя это почувствовала. Она перестала мрачнеть и вздыхать, принялась нахваливать положение Анюты, говоря, что будь мы жителями деревни, ничего бы с поездкой не вышло. Деревенским жителям запрещается покидать деревню. Все должны отрабатывать трудодни. Даже подростки. Каждый подросток с двенадцати лет обязан заработать минимум сто трудодней, иначе отдадут под суд. Таков закон, сказала тетя. И спросила: «Слышали о нем? Его приняли во время войны. Если колхозник – ни шагу из деревни, а то осудят – и в лагерь». Мы радовались, что живем не в деревне, а в городе, пусть в небольшом, но все-таки. Это была осень 1945 года. С фронта возвращались солдаты, многие из них первое время ходили пьяные, собирались в компании, не могли усидеть дома, устраивали затяжные встречи. А наш сосед Николай Егорович был человеком другой натуры. Он любил быть рядом с женой, напивался редко. Я запомнил его человеком хозяйственным. Помню, что он плотничал, занимался ремонтом. Его слово оказалось твердым: на следующий день он принес и письмо, и деньги. И Анюта поехала в область. Мы ее провожали все вместе – я, младший брат и тетя Клава. Помню, тетя поцеловала сестру в лоб и сказала: «Прости, деточка. Видишь, как обернулось. Я и сама не знала, что я слабая и пропащая». Тот сентябрьский день стоит у меня перед глазами, словно он был вчера. Мы машем рукой Анюте, и каждый из нас улыбается, поскольку все мы получили надежду. Голодные оборванцы победного 1945 года. Надеемся, что Анюта заработает деньги и всех нас спасет. И так и получилось!
Анюта вернулась через неделю, день в день. За плечами у нее был вещевой мешок, а в нем лежали пять буханок хлеба, а еще сахар, мука, бутылка растительного масла, большой кусок сала, перловая и пшенная крупа и даже чай. Мы ели хлеб с салом, пили чай с сахаром и не могли остановиться. Анюта рассказала, что родственницу нашего соседа зовут Вера Федоровна, и она опытная торговка. Торгует папиросами и махоркой, нитками и дрожжами. На эти товары всегда есть спрос. Она поручила Анюте торговать дрожжами, но не на базаре, а на улице. «Нужно ходить по улицам и предлагать дрожжи всем подряд, – сказала Анюта. – И я стала ходить и обращаться ко всем взрослым. О, как я взялась за это! Вот что я говорила: «Гражданка, купите дрожжи! Хозяюшка, вот дрожжи для вас – купите скорее! Товарищ прохожий, приобретите дрожжи – напечете пирогов, и будет праздник!» Мы смеялись, слушая Анюту. Она похвасталась, что слова «и будет праздник» сама прибавила, никто ее этому не учил. Тетя Клава спросила, где ей удалось утроиться, в доме или еще где-нибудь. В сороковые годы люди жили, где придется. Было много эвакуированных, и они устраивались порой на чердаках и в подвалах. Анюта сняла угол у каких-то людей по рекомендации своей хозяйки-торговки. Сказала, что условия вполне сносные и плата небольшая. Переночевав, она снова уехала и вернулась через четыре дня. Нов этот раз у нее было совсем другое настроение, и еды она привезла меньше – только хлеба, крупы и немного топленого сала. Я смотрел на сестру и понимал, что не смеяться и не улыбаться у нее есть какая-то причина. Какая? Вероятно, что-то произошло. Может быть, торговля идет плохо. Когда мы остались одни, я спросил, почему она такая тихая и задумчивая. Анюта погладила меня по голове и сказала: «Поскользнулась и упала. Колено болит. Ты, когда падаешь, разве не ударяешься?» Утром, перед отъездом, она пообещала приехать через четыре дня, но приехала через шесть дней, и в ее мешке лежали удивительные вещи: сливочное масло, булки, мед и конфеты. Конфеты! Мы схватили их и долго разглядывали, не решаясь сунуть в рот. Я не видел конфет с начала войны. Сладкое было моей мечтой.
Мне постоянно хотелось сахара. И вдруг Анюта сказала: «Сюрприз!» – и вынула банку сгущенного молока. Мы закричали, потому что никто ничего подобного не ожидал. Сгущенное молоко было не только «роскошным» продуктом, а очень редким, некоторые люди о нем даже не слышали. Мы мазали его на хлеб. Делали так: сначала намажем сливочного масла, а сверху еще сгущенного молока. Ничего вкуснее мы никогда не ели. Эта еда, кроме того, была очень питательной. Павлик сделался резвее, его сонливость отступила. Он на глазах превращался в подвижного мальчика. А тетя Клава разволновалась и не могла успокоиться, губы ее все время немого подергивались. Она переживала какое-то смятенье чувств. Или, быть может, ей было стыдно, что пятнадцатилетняя Анюта кормит ее такой дорогой едой.
Через неделю Анюта снова приехала, и все повторилось, то есть в ее мешке снова лежали дорогие продукты, и снова был сюрприз: колбаса. Настоящая колбаса с кусочками жира. Такой чудесной еды в 1945 году мы не могли увидеть наяву, а разве что в мечтах, на картинках или во сне. Ее не было в продаже. Нормированная торговля – это хлеб, мука, крупа, селедка, сахар. Люди мечтали о разнообразии, о конфетах, шоколаде, колбасе, ветчине, но в нашем городке их решительно неоткуда было взять. Даже на базаре у частных торговцев не водилось такой еды. На базаре можно было купить яйца – по баснословной цене. А курятина стоила, наверное, как в нынешнее время кожаное пальто. За очень ценные рис и горох тоже просили невероятно много. Потому что в продаже уже давно не было ни риса, ни гороха. Мой брат Павлик даже не знал, как выглядят рис и сушеный горох. И вдруг – колбаса! Увидев колбасу, мы притихли, ошеломленные ее аппетитным видом и запахом. Всю войну мы питались хлебом, кашей с топленым салом, картофелем и селедкой. Селедка была не жирная и очень-очень соленая. Ее нужно было класть на несколько часов в воду, чтобы она отдала соль. Иногда мама доставала сушеные грибы. Их можно было купить на базаре, и за них тоже просили немало. Мама удивлялась: откуда у людей грибы? Потому что каждый сезон все леса вокруг стояли пустые. Они были словно вычищены от всего съедобного, ни грибов, ни ягод. Чтобы отыскать гриб или горсть ягод, потребовалось бы отправиться в дальнюю экспедицию. Грибы и ягоды появлялись только на базаре. Как-то раз мама купила стакан клюквы для киселя, а потом сказала, что больше покупать не будет, слишком дорого. В то время любая еда стоила дорого. За малину просили больше, чем за молоко. В сороковые годы торговцы наживались на общей беде – нехватке продуктов питания, и это были не какие-то злые басурмане. Это были русские люди, только война их сделала черствыми. В те годы очень много было равнодушных людей, не проявляющих признаков сострадания и совести. Такое было сложное время. Близкие и знакомые люди еще помогали друг другу, а чужие держались с ледяным равнодушием, а нередко и грубо. В обществе не было ни сентиментальности, ни доброжелательности, ни даже обычной житейской вежливости. Потому что отсутствовало благополучие. Люди были подавлены и измотаны огромными трудностями и лишениями. В очередях за хлебом частенько дрались. Сильные били слабых, наглые оттесняли несмелых, и было много злобы, грубости и сквернословия.
Так же держались между собой дети и подростки, особенно на улице. Мы росли злыми и грубыми. Помню, что все мальчишки моего возраста в школе учиться не хотели. Учение казалось нам чепухой. Жизнь была такая сложная, с едой и одеждой было так плохо, что мы считали сидение за партой большой глупостью. Зачем оно нам, если постоянно хочется есть, и, когда сидишь, все время клонит в сон? Куда приятнее любой дисциплины, например, табак. О, табак! Все мы, мальчишки сороковых, мечтали поскорее выкурить самокрутку или папиросу. Мы находили в этом и огромное удовольствие, и пользу – после табака притуплялось чувство голода. Но денег у нас не было, и мы попрошайничали, клянчили, воровали, нанимались за гроши носить воду, уголь, дрова, убирать снег. Табак можно было выпросить на станции, через которую шли поезда на фронт. Солдаты иногда давали нам хлеб и папиросы, а бывало, и сахар. Однако это было опасно. Берегись, если попадешься на глаза мальчишкам постарше! Станция была их территорией, и если нам удавалось выпросить у солдат из военного эшелона что-нибудь съестное, они, старшие подростки, считали, что это украдено у них. Нас ловили и били с отчаянной решимостью. Кричали они при этом, как безумные. Лица у них были невероятно свирепые. И все из-за того, что мы, десятилетние-двенадцатилетние, позарились на их хлеб и табак.
Помню, как осенью 1943 года нас с приятелем так сильно избили, что мы валялись на земле и не могли подняться. В этот день мы решились и пробрались к военному эшелону, и нам подали хлеба и табаку. Солдатам не позволялось выходить из вагонов, но они сидели, свесив ноги, и мы подошли и стали просить: «Дяденьки солдаты, дайте хлеба! Дайте папирос, дяденьки! Мой папаша на фронте погиб, а дома брат и сестра малые!» Мы успели схватить протянутые буханку хлеба и маленький мешочек с махоркой, и тут же побежали, потому что старшие подростки нас заметили. Они дико закричали и бросились нас догонять. Сил у них было побольше. Меня догнали первого и схватили за шиворот, отобрали хлеб и сразу же ударили в лицо. Разбили нос. Моего приятеля тоже поймали. Забрали махорку. Нас били чем ни попадя, а потом плевали в лицо и кричали, что в следующий раз изуродуют – отрежут уши, и вообще покалечат. Нас, младших, называли «карасями». «Только попробуйте еще раз сунуться на станцию, караси! – кричали старшие подростки. – Поубиваем! Ясно, сволочи?» Им было по пятнадцать-шестнадцать лет. Они вели себя, как взрослые, пили спиртное, ругались, дрались. Из-за войны они рано повзрослели. Это были ребята 1928 и 1929 годов рождения. Они же захватили летом и осенью лес, не разрешая нам появляться в лесу под страхом жестокой расправы. Младшие подростки сильно рисковали, когда заходили в лес одни, без взрослых, и все потому, что старшие подростки ловили кротов. Это была кампания, начавшаяся в 1945 году и продолжавшаяся до 1948 года. В начальной стадии она походила на коммерческую лихорадку.
В 1945 году в нашем городке появились какие-то предприимчивые артельщики, которые распустили слух, что будут скупать у населения шкурки кротов. Люди ринулись в лес с ловушками и капканами – искать кротовые норы. Старшие подростки побежали вперед всех. И в лесу развернулась война за каждую кротовую норку, за каждого добытого зверька. Мы, младшие, тоже пошли в лес, но были схвачены и избиты в первый же день. Старшие ребята были в бешенстве: как мы, караси, посмели вообразить, что тоже можем заработать?! Никогда! Ни в коем случае! Нас били с той же яростью, как тогда на станции, когда мы выпросили у солдат махорку и хлеб. Нас хватали за волосы и почти выдрали нам чубы. «Увидим в лесу – поубиваем!» – озверело кричали нам старшие. Но кротов было мало, они словно перепугались и спрятались глубоко под землей. Не помню, чтобы кто-то раздобрел или принарядился, добывая этих зверьков. Впрочем, охотились не только на кротов. Как могли, ловили птиц, особенно дроздов. Дрозды шли в пищу. Их жарили до хрустящей корочки и с большим удовольствием ели. Все хотели поймать утку – именно поймать, потому что ее не могли подстрелить, поскольку у населения не было охотничьего оружия. В первые дни войны власти потребовали сдать любое оружие и патроны. Но разве можно поймать утку на болоте? Это очень сложно. Помню наши леса в сороковые годы: ничего съедобного, мало попадается птиц, и даже птичьих голосов порой не слышно. А уж лесные звери ушли далеко-далеко, за десять болот, в непролазные чащи. Чтобы добыть кабана или лося, нужно было прошагать, наверное, не одну сотню километров. Звери как будто почуяли, что у людей беда – голод, и убрались подальше.
За все военные годы лишь один раз маме удалось выменять у какого-то лесника на соль, спички и муку кусок вяленой лосятины. Это было в 1944 году. Дома мы собрались вокруг стола и долго глядели на настоящее мясо. Мама стала его нарезать очень тоненькими пластинками. Мы надеялись, что сможем растянуть мясо на неделю, но вышло только на четыре дня. С тех пор при маме мы мяса больше не ели. И тот лесник больше не появлялся. Ни мясом, ни мясными консервами у нас, конечно, не торговали. Во время войны и в первые послевоенные годы в нашем городке не было ни собак, ни кошек, ни голубей. Даже воробьев не было. Иногда где-то каркали вороны. И каждую весну мы ждали, когда прилетят птицы. В школе нам говорили: «Скоро прилетят из теплых краев наши пернатые друзья», а мы думали: «Вот бы их переловить и зажарить!»
В пятидесятые годы я не раз видел, как дети строят скворечники, а в сороковые мы скворечники в нашем городе не делали, не было никакого подходящего материала. Любая доска имела большую ценность. Да и скворечник был бы для нас не домиком для птиц, а ловушкой. Мы смотрели на птиц, как на еду. Только позже, в 1949 году, когда Павлик подрос и учился в школе, я видел школьников, несущих скворечники именно для того чтобы установить их на деревьях, чтобы в них поселились птицы. И тогда я подумал, что эти «караси» здорово отличаются от нас. У них была «Лесная газета» Виталия Бианки, очень интересная книга-журнал с красивыми рисунками о природе, о животном мире. Им стало интереснее жить. Поэтому они росли не такие злыми, жадными и равнодушными, как мы, которым в войну было десять-двенадцать-четырнадцать лет. Я и мои приятели попытались бы убить любую птицу, появись она рядом. Мы хорошо понимали значение этого события. Птица – еда. И это не случайная мысль. Из-за недоедания мы были откровенно жестоки к животным и птицам, и слава Богу, что младшие ребята выросли другими!
Моему брату Павлику не пришлось, из-за малого возраста, совершать и странных поступков, например, воровать старые гвозди. Это была еще одна кампания, и еще одна лихорадка 1945–1947 годов. И снова все началось с появления в городе каких-то артельщиков-строителей, объявивших, что они покупают старые гвозди и прочие строительные материалы, бывшие в употреблении: доски, железную кровлю, оконные стекла. и вспыхнуло воровство. Мало кто решался продать свое – оконное стекло, к примеру, или гвозди из половиц. Мы с приятелями бросились рыскать по округе в поисках забора, из которого можно было бы выдрать гвозди. На скобяные изделия после войны был неописуемый спрос. Гвозди покупали даже ржавые и погнутые. Но где их было взять? Только украсть. И мы их крали и относили скупщикам, и нас снова ловили и били. Однажды меня из-за старых гвоздей чуть не сделали калекой. Ночью, в темноте, мы с приятелем подошли к забору одного дома и хотели выдрать гвозди, а хозяин дома и его родственник, как оказалось, устроили засаду.
И вот они выскочили и набросились на нас. Их глаза уже привыкли к темноте, помимо того, светила луна, поэтому они хорошо видели наши силуэты. В руках у них были толстые палки, и когда я побежал, хозяин дома размахнулся, бросил палку и угодил мне по ногам. Я покатился кубарем. Ко мне подбежали, схватили за волосы. Подбежал и другой человек, родственник хозяина, и вот он-то своей палкой и ударил меня несколько раз по коленям. Он был в ярости, шипел и плевался. И так прямо и сказал: «Надо бы парнишке ноги перебить, чтобы хромал всю жизнь и знал, что такое воровать!» Я валялся на земле и выл от боли, а этот человек ходил вокруг меня и говорил: «Надо бы его искалечить, Ваня. Верно тебе говорю. Чтобы другим неповадно было. А то будут и дальше тащить!» Но этот Ваня не позволил родственнику избить меня дубиной. Он лишь плюнул на меня и сказал: «Ползи домой, гад, и больше здесь не появляйся». Я пополз домой. Дома выяснилось, что мне повезло: кругом ушибы и ссадины, а переломов нет. Через три дня я уже ходил как прежде. Если бы тот взбешенный человек с дубиной перебил мне колени, я остался бы инвалидом.
Но воровать мы не бросили… Нам нужен был хлеб, табак. Я хотел помочь также своей семье, особенно Павлику. Но воровство процветало не только у нас, айв других краях. Я думаю везде, по всей стране. В 1946 году о воровстве рассказывал наш сосед, Николай Егорович. Он ездил в какой-то большой город консультироваться с врачами по поводу язвы, которую нажил на фронте. Его рассказ был о поезде. Войдя в вагон, он увидел, что все пассажиры прямо-таки сидят на своих мешках и чемоданах. Каждый вцепился в свое имущество, и никто не доверяет попутчикам. Рядом ехали такие же бывшие фронтовики, и между ними, конечно, начался разговор – где кто служил и прочее, но при этом даже солдаты, повидавшее на войне всякое, глядели друг на друга подозрительно. «Я заметил, что мне не доверяют, – сказал Николай Егорович. – Слушают внимательно, а вещи свои из рук не выпускают. Я спросил, в чем дело. Что за психоз? И мне говорят: «Беда, брат! Воруют! Тащат! Гляди в оба, а то без штанов останешься!» Тогда я тоже вцепился в свой чемоданчик. А что делать? Так и ехал. И ночью почти не спал, как и все. Все плохо спали. Закрывали только один глаз, а другим присматривали за соседями…»
Добрый наш сосед Николай Егорович умер от прободной язвы в мае 1946 года. Прошел всю войну, а после войны умер, потому что врачи не смогли ему помочь. Медицина был слабая, лекарств не хватало. В 1947 году умерли от воспаления легких два моих лучших приятеля. Простудились – и через два дня были уже в могиле. Андрейка, мой лучший друг и сосед по парте, набегался на морозе, пришел домой, сник, впал в жар, ночью метался на постели и бредил, а в обед следующего дня умер. А утром к нему приходил врач. Осмотрел его и сказал: «Мальчика нужно забирать в больницу. Ждите, приедет больничная машина и заберет его». Машина приехала к вечеру, когда Андрейка был уже на том свете. Другой приятель умер в больнице. Его забрали из дома, поместили в больничную палату, стали лечить, а он все равно умер. Организм не справился с болезнью, потому что был ослаблен из-за плохого питания. Чаще всего, я думаю, в сороковые годы люди умирали именно по этой причине, особенно дети и старики. Наши соседи из дома напротив, дед и бабка, умерли весной 1947 года, оба на одной неделе. Первым умер дед – вышел посидеть на лавке, присел и умер. Через три дня мертвой нашли бабку. Ее нашла наша тетя Клава. Она заходила к этим людям по какому-то делу. Она и раньше их навещала, и вот, как-то раз, вернувшись, рассказывала: «До чего же плохо живут старички! Очень плохо. В доме ни крошки, все съедено. Какая-то родственница приносит им хлеб и капусту. Недавно, говорят, принесла крупы и топленого сала, только совсем немножко. Ждут, когда начнется следующий месяц. И вздыхают. Боятся, что не дождутся». И вышло, что не дождались. Это был плохой год – 1947-ой. 1946 год тоже был плохой. В конце года в городе начались перебои с хлебом, это я помню хорошо. Потому что очереди стали длиннее, и драк и перебранок в очередях стало больше.
Дядя Матвей, которого мы все так ждали, в 1945 году домой не вернулся. И вот уже прошла зима 1946 года, а он все писал: «Служба! Ничего не могу поделать, Клавочка, дорогая. Командир обещает опустить меня весной… Слова, конечно, не дает, но я ему верю. И отпустит! Ведь он герой войны и хороший человек». Мы жили благодаря Анюте. Она кормила нас, одевала и обувала. Каждую неделю Анюта привозила из области мешок еды. И мы не голодали. Мы питались лучше всех на нашей улице, однако это приходилось скрывать. Тетя Клава строго-настрого запретила мне и Павлику рассказывать о том, какую еду привозит наша сестра. «Молчите, ребятки, а то беду накличете, – говорила она. – Придет беда, да еще какая страшная, если языки распустите!» И мы боялись беды. Я знал, о чем говорит тетя Клава: о страшных людях, которые могут выследить Анюту и напасть на нее, да еще напасть на наш дом. Поэтому даже наши соседи не знали, какая еда бывает у нас на столе. Иногда Анюта привозила нам мясные консервы. Это было волшебство, чудо. Не каждую неделю, но два раза в месяц мы открывали банку американской свинины или говядины и варили густой перловый суп. Вкус мяса многие люди в то время совсем забыли. Помню, как один дядя, идя по улице, нес убитого зайца, и мы, голодные «караси», пошли за ним, всерьез рассуждая, как бы нам напасть на него и отобрать добычу. Это было зимой 1945 года. Этот дядя-счастливец добыл зайца в лесу, потому что в другом месте такую «роскошную» еду раздобыть было немыслимо. Мы крались за охотником два квартала, но «наш» заяц ушел на сторону. К охотнику подбежал какой-то человек и предложил сменять зайца на спирт. Это была очень выгодная сделка. Я думаю, что охотник именно потому открыто нес свою добычу, что надеялся найти по дороге хорошего покупателя. Мы были удручены. Еще бы: мясо досталось не нам, а другим людям! Мы вели себя так, будто нами управлял охотничий инстинкт, хотя мы охотились не на зайца, а на его владельца. Такое было время. Мы не разбирали, правильно ли мы поступаем с точки зрения морали. Нам было все равно. Мы хотели кучей напасть на охотника, отнять зайца и броситься врассыпную. Я пришел домой расстроенный, как если бы меня на охоте преследовала неудача. Я тоже, как Анюта, хотел быть добытчиком. Хотел помогать нашей семье. Я даже подумывал о том, чтобы бросить школу и заняться торговлей вместе с сестрой, стать ее помощником. Я ждал Анюту, чтобы поговорить с ней об этом. Я думал: «Вот она приедет, и я скажу ей, что довольно мне валять дурака, то есть учиться в школе, пора идти зарабатывать».
Анюта привезла мне ботинки. Тете Клаве привезла платок. И та заплакала. А Павлику привезла игрушки – деревянный самосвал и юлу. От радости он подпрыгнул на месте. И я сам распахнул рот. Игрушки! Откуда они взялись? Разве существует на свете что-либо подобное? Я первый схватил грузовик и стал его вертеть и разглядывать. Надо же, какая хорошая вещь! Когда началась война, мне было девять лет, и я вырос без игрушек. Их почти не было. В нашем городе игрушками не торговали. Только чепухой – барабанами, дудками. Ни солдатиков, ни игрушечных грузовиков мы не видели. Мне хотелось самому повозиться с грузовиком и юлой, но я отдал их Павлику и сказал: «Веселись, детка». А мы, «взрослые», сели за стол. Мы с Анютой считали себя взрослыми, как тетя Клава. Павлик, забыв обо всем, побежал играть, а мы сели пить чай с повидлом. Хорошо помню, о чем мы говорили: о понижении цены на хлеб. Это было в начале 1946 года. Все только об этом и говорили: пайковая цена на хлеб должна снизиться. Тетя Клава сказала: «Сталин знает, как нам тяжело. Он все знает о нас, о простых людях. Он нас не оставит». Мы любили Сталина, почитали его как нашего общего отца. Я никогда не слышал от людей, чтобы о нем говорили плохо. Даже в самые тяжелые времена, когда в очередях за хлебом поносили власти самыми скверными словами, о Сталине никто плохо не говорил. Плохого – никогда. Не знаю, почему. Люди могли облить словесной грязью кого угодно – Калинина и прочих, но Сталина – никогда. Такого я не припомню. Только в пятидесятые годы я слышал от фронтовиков в адрес Сталина нехорошие выражения, и я их не одергивал, полагая, что им виднее, ведь они все-таки воевали. Но в сороковые годы многие люди считали, что Сталин единственный, кто о нас заботится. Только он и знает о наших бедах, а местное начальство – негодяи и прохвосты, лодыри и неумехи. Местное начальство ругали часто. Знакомые нашей тети Клавы, когда приходили к нам в гости, иногда рассказывали о своих родственниках, которые жили на освобожденной от фашистов территории. Жизнь у тех людей была невероятно тяжелая. Помню, что речь шла о каком-то полуразрушенном городе, где половина населения обитала в подвалах и землянках. В моей памяти остался рассказ о местном руководстве этого города, и я запомнил его потому, что это руководство обозвали «скотами». Это было необычно. Знакомую тети Клавы звали Надежда Максимовна.
В 1946 году она ездила в тот полуразрушенный город, и вот что она об этом рассказывала: «Представляешь, Клавочка, к ним в город прибыл особый груз – одежда для нуждающихся, и распространились слухи, что ее будут распределять по особым спискам и по наличию иждивенцев в семье, а у моей сестры как раз такая семья, трое детей. Накануне никто не спал, все думали о том, что это за особый груз от Сталина. Что там? Все говорили, что наконец-то Сталин прислал остро нуждающимся людям одежду и обувь. Утром сестра Ольга отправилась узнавать об особом грузе у администрации железнодорожной станции, у нее там работала знакомая. И вот что выяснилось: в город прибыл союзнический «ширпотреб»! Помощь из Соединенных Штатов Америки! Но поскольку вагоны стоят запечатанные, никто не имеет никакой достоверной информации. Городское начальство стремилось сохранить это событие в тайне до «особого распоряжения», но люди все равно узнали, и на станцию пришли тысячи и образовали очередь. Они там живут очень худо, даже хуже, чем мы. Нищие, оборванные. У нас зимой можно увидеть людей в лаптях и вообще в обуви из веток, а у них там у некоторых граждан даже этого нет, поэтому они по домам сидят. Выйти не в чем. Полная нищета! Поэтому все готовы были принять любую одежду, хоть новую, хоть поношенную, все равно. И когда разнесся слух, что Сталин прислал «обувку» и «одежонку», пришли даже босые и раздетые. И все стали гадать: что им достанется? Может, пальто, а может, ботинки или юбка. Горожане гадали-гадали, и, конечно, надеялись, но все напрасно. Те, кто стояли впереди, стали передавать: не стойте, «ширпотреб» уже кто-то перебрал, не осталось ничего стоящего. И нет ничего из Америки. Вот так номер! А слухи по городу ходили совсем другие – будто на станцию прибыло не меньше пяти вагонов с «союзническим ширпотребом», доверху набитых одеждой и обувью, поскольку Сталин не может послать народу чепуху, ерунду. А оказалось, что прибыл всего один вагон, груженый лишь наполовину. Это почти ничего! Многие были ужасно разочарованы, рассержены и разозлены. Люди ругались самыми скверными словами. И все интересовались: что же все-таки досталось тем, кто стоял впереди? Что они получили? И разразился скандал, потому что оказалось, что даже те, кто пришли раньше всех, ничего стоящего не получили. Два фронтовика-инвалида лет сорока протянули руки и сказали: «Нам бы пальто или брюки, или пиджак какой-нибудь», а им дали какие-то дамские сильно изношенные халаты и ночные чепчики. И эти люди, прошедшие войну, растерялись. Такого коварства они не видели даже от фашистов. В чем дело? Где одежда и обувь? Почему населению предлагают непрактичные или нестоящие вещи? Ропота было много. Оказалось, что еще ночью вагон вскрыли должностные лица, начальники и руководители, а также их ближайшие родственники, и все самое ценное растащили, а вместо взятых вещей принесли свое, причем самое худшее, почти не годное для носки. Одежду и обувь должны были выдавать самым нуждающимся, то есть тем, у кого в семье много детей или неработающих инвалидов, но ничего стоящего в прибывшем вагоне никто не нашел. Много было утиля, например, донельзя изношенных телогреек. Так говорили люди, которые это видели. Самые возмущенные писали жалобы, но они остались без последствий. Никого не наказали. И даже расследования не было. Люди говорили, что письма не дошли до Сталина, их прочитали местные начальнички и тут же сожгли. И вот одна женщина в очереди за хлебом, у которой вся семья ходила полураздетая, назвала начальничков «скотами». Другие люди ее поддержали и тоже стали говорить: «Скоты! Скоты!» Вот какие дела творятся на свете, Клавочка!..»
Этот рассказ я слышал осенью 1946 года, и люди тогда были особенно обозлены из-за возникшей нехватки хлеба и вообще плохого снабжения продовольствием. А в начале этого же года было понижение пайковой цены на хлеб, и как раз это мы и обсуждали, сидя за столом, пока Павлик возился с привезенными игрушками. Я спросил Анюту: «Где взяла игрушки? Почем они теперь? Дорого?» Но сестра только улыбнулась и махнула рукой. Тогда тетя Клава сказала Анюте, чтобы она не привозила дорогих вещей и особенно дорогой еды, которая, конечно, хороша, но быстро исчезает. «Лучше привози побольше муки, сала, сахару, чая, крупы, масла, – сказала тетя Клава. – Чтобы делать запас. Запас – это очень хорошо. Это правильно». А я решил выложить Анюте свой план: бросаю школу и поступаю к ней в помощники. Мне уже четырнадцать лет. Я могу торговать дрожжами и папиросами и чем угодно другим, лишь бы так же неплохо зарабатывать, как моя сестра. Но Анюта рассердилась и воскликнула: «Вот еще! Я работаю, чтобы ты как следует питался, учился, выучился и вышел в люди. Чтобы ты поступил в техникум, получил профессию, стал начальником. В нашей семье кто-то должен стать настоящим человеком». Анюта мне не разрешила бросить школу. Еще она сказала, что довольно мне шляться по округе и воровать. «Я буду привозить тебе книжки, чтобы ты их читал, а по улицам не шлялся, – произнесла Анюта. – Ты вырастешь умным, поедешь в Москву, поступишь в техникум, а то даже в институт. Я слышала, что в Москве много институтов, есть даже университет. Вот было бы хорошо, если бы ты поступил в университет!» Она рассуждала, как умная и взрослая женщина, хотя ей было всего-то пятнадцать с половиной лет. Через неделю она привезла мне книги – Алексея Толстого, Катаева, Горького. Я стал их читать. Тетя Клава тоже взяла одну книгу. Она поддерживала Анюту, говорила, что это очень правильно, когда человек не теряет время даром, а набирается ума. Мне, по правде говоря, было лень заниматься чтением. Я к этому занятию не привык. Я бы с удовольствием прошелся с приятелями по округе, выкурил бы хорошую самокрутку, выпил бы пива. Нам иногда удавалось раздобыть пива. А читать – это было скучно. Но я чувствовал, что нужно помогать Анюте, то есть делать так, как она хочет. Она хорошо кормит нас, чтобы мы выросли здоровыми, крепкими и умными. Чтобы мы выучились и стали начальниками.
Анюта согласилась с тетей Клавой и стала привозить больше простой еды – муки, крупы, растительного масла, сушеных грибов, чтобы делать запасы. И у нас появилась маленькая продуктовая кладовочка. Мы не знали, как сложится 1946 год, хотя все говорили, что в этом году Сталин должен отменить нормированную торговлю. В мае умер наш сосед Николай Егорович. И его жена, тетя Люба, спасаясь от тоски, стала чаще приходить к нам. Играла с тетей Клавой в карты, в шашки. И, конечно, пила с нами чай. Мы подавали ей сахар, повидло, а иногда сливочное масло, и она изумлялась, как мы неплохо живем. «Видно, это Анюта еду привозит, – догадалась она. – Конечно, она. Кто же еще? И вещи хорошие привозит. Ботинки, платок… И в ателье вы ходили фотографироваться, верно?» Вскоре она взяла привычку упрекать нас в неблагодарности: «А ведь это мы с покойным Колей помогли вашей девчонке устроиться. Да! А где же благодарность? Мы ей рекомендательное письмо написали и денег дали, а она что? Забыла благодетелей! Вон как получается». Тетя Клава замахала руками: «Грех так говорить, Люба. Анюта ваши деньги давно уж вам вернула – все до копейки, даже сверху прибавила. Что же она тебе еще должна?» Тетя Люба ответила сразу: «Деньги – деньгами, а все же Анюта до сих пор нам обязана.
Да! Наша родственница ее обучила ремеслу, всем тонкостям торговли, а могла бы этого и не делать, могла бы просто послать ее на улицы торговать, и тогда бы у Анюты ничего не вышло. Пропала бы ваша Анюта. А так она процветает. Но только благодаря нам! Поэтому скажи ей, голубушка, что нехорошо это – добро забывать. Пусть и мне привозит то, что и вам: мыло, масло, пряники и прочее. А повидла я у вас прямо сейчас возьму – в счет Анютиного долга. Долги отдавать нужно! Разве ваша девчонка этого не знает? Научили бы!» Вот так мы узнали истинную сущность нашей соседки. Когда Николай Егорович был на фронте, она по-соседски дружила с нашей мамой, а когда он вернулся, радовалась, веселилась. Говорила с нами всегда только любезно и дружелюбно. Но вот, снова оставшись одна, тетя Люба сильно изменилась. Лицо ее сделалось холодным и нахальным. Говорила она с нами теперь громким, твердым голосом с повелительными оттенками. Повадилась спрашивать у меня, когда приедет Анюта и что она обещала привезти, да еще задавала вопросы в таком тоне, будто я был ее слуга и моей обязанностью было давать ей отчет. Помню, что мне ее нахальство сразу не понравилось. Мне не раз хотелось ее ударить. Когда она приходила, я уходил – чтобы не слушать ее разговоров про то, кто кого облагодетельствовал. Появляясь у нас, она сразу обращалась к тете Клаве: «Ставь чайник, вынимай пироги, угощай гостью». И садясь пить чай, всегда напоминала: «Эх, если бы не мы с Колей, вы бы пропали! Верно? Жили бы как нищие, а то и померли бы». Я не знаю людей, которым бы это понравилось. Мы с Павликом испытывали к нашей соседке отвращение. Тетя Клава тоже теряла терпение. Наконец однажды она отказала тете Любе: «Мы уже пили чай, так что, кума, иди к себе и там чаевничай». Тетя Люба громко упрекнула нас в неблагодарности. А тетя Клава взяла и сказала: «Ну и что? Ну да, верно, мы – неблагодарные. Тебе-то что? Пусть мы в грехе, но и ты не лебедь белая. Ты наглая и нахальная. Иди отсюда!» Тетя Люба выругалась и ушла. А потом послышались шаги. Мы подумали, что недобрая соседка зачем-то вернулась, но это была Анюта. Приехала из области и как всегда привезла мешок еды. На столе стали появляться мешочки и кульки, консервные банки, хлеб, коржики, баранки. И вдруг к нам ворвалась тетя Люба, бросилась к столу и заявила: «Из всего того, что здесь на столе, есть и моя доля! А как же? Кто тебя, деточка, устроил в области? Кто тебя направил? Кто тебя с нашей родственницей свел и почему она тебя так хорошо опекает? Не пора ли начать расплачиваться?» Мы думали, что Анюта начнет оправдываться, а она улыбнулась, села на лавку и сказала: «Устала с дороги». Это она нам сказала, а не соседке. Но к ней она тоже обратилась: «Вы, тетя Люба, идите домой. Отсыпьте сахару, возьмите буханку хлеба и идите. Мы вам ничего не должны. Ваша родственница Вера Федоровна всего через неделю вышибла меня из своего предприятия. Вытолкала на улицу и сказала, чтобы я перед ней больше не появлялась. Почему? Заподозрила в краже. А когда убедилась, что напрасно, не захотела извиняться и выбросила меня. Вот вам и благодетельница! С того дня я работаю самостоятельно, сама торговлю постигла и связи нашла. Идите, тетя Люба, и грех вам нас упрекать!» Тетя Люба была ошеломлена, узнав, каковы в действительности отношения ее родственницы и нашей Анюты. Схватив буханку хлеба, она молча удалилась и больше к нам не приходила. Нахальная гримаса на ее лице сменилась растерянностью. Жила она плохо, бедно. Осенью 1946 года, когда повысились пайковые цены, она стала жить еще хуже. Ходила потерянная, подавленная, ни с кем не разговаривала. В начале 1947 года тетя Люба повесилась. Детей у нее не было, хотя она была моложе Николая Егоровича на пятнадцать лет. И дом ее стоял пустой. Вот такая беда постигла эту семью. Впрочем, в сороковые годы беда часто приходила к людям.
К нам тоже пришло несчастье, и снова большое и страшное. Я и Павлик поправлялись, у нас на щеках появился румянец, а наша Анюта худела. В один из ее приездов я заметил, как сильно впали ее щеки, и какие тонкие стали у нее шея и запястья. Моя сестра была симпатичная девушка. Даже красивая. Она пошла в маму, у нее были стройные ноги, изящная голова, большие глаза. Она должна была превратиться в весьма привлекательную женщину. Но она теряла в весе, кожа ее сделалась сухой и бледной. Пальцы, помню, стали, как тонкие бамбуковые палочки. Тетя Клава тоже заметила беду и сказала: «С тобой что-то не так, детка, нужно пойти к врачу. У тебя, похоже, сильное малокровие». Анюта была печальная. Она знала, что с ней, но нам не говорила. Мы думали, что у нее малокровие, упрашивали ее хорошенько поесть и удивлялись, почему она этого не делает там, в области, неужели экономит? И вдруг мы услышали долгий сухой кашель. Тетя Клава воскликнула: «Боже мой! Аня, золотце, откуда у тебя такой кашель? Давно ли?» Тогда Анюта призналась: «У меня нашли туберкулез». После этого она осталась дома и в область не ездила. То лежала на кровати, спала или читала, то сидела за столом у окна и молчала. Это было в сентябре 1946 года. К нам приходил врач, также Анюта посещала больницу, но вылечить ее не могли. Лучше ей не становилось. В октябре принесли телеграмму от дяди Матвея – он сообщал о своем возвращении. А в конце ноября он приехал. Это событие запомнилось мне на всю жизнь, потому что дядя Матвей привез много ценных вещей. Он был особенным человеком. Никогда не унывал, везде и всегда заводил хорошие знакомства, умел наладить свою жизнь так, чтобы не бедствовать, и при этом не был злым и жестоким. Когда он приехал, тетя Клава поступила мудро – не стала его ни в чем упрекать и даже вообще не сказала, что ей все известно. Возможно, она боялась, что он рассердится и уйдет. Матвей Денисович привез ей заграничные вещи. Привез пальто и платья, обувь, платки. Помню, как он разложил все эти удивительные подарки на сундуке и объявил: «Это, Клавочка, из Европы, носи на здоровье!» Кое-что из одежды он привез и нам. Однако самое ценное было не это, а отрезы ткани, которые дядя Матвей привез из Венгрии или еще откуда-то. Они предназначались для продажи и стоили невероятно дорого. За них можно было выручить огромные средства. Еще он захватил большую коробку с линзами для очков, завернутых в тонкую бумагу. Он прибыл с фронта через полтора года после окончания войны с двумя битком набитыми чемоданами и рюкзаком. И он хорошо знал, что нужно привезти. Не коньяк и не леденцы, а линзы, фотографическую пленку, мыло, тушь и пудру, нитки, кисточки для бритья и маникюрные ножницы. Он вынул из чемодана еще какую-то коробку и сказал жене: «Это, Клава, особый товар. Завтра же пойдешь и узнаешь, каковы цены. Будем сколачивать капитал. Да». В коробке лежали новенькие, в пачках, ножички для бритья. И тетя Клава ахнула. Линзы для очков, ножички для бритья – это в сороковые годы могли позволить себе только удачливые или могущественные люди. Беда, если вы потеряли или разбили очки! Вы могли целый год искать замену и не найти. Какие-то кустари изготавливали станочек-бритву и продавали на базаре, а вот ножички для него были большой редкостью. Брились в парикмахерских, записывались, стояли в очереди, а если денег на бритье не было, по нескольку дней ходили небритыми. Небритых мужчин в то время было так много, что чисто выбритое лицо сразу привлекало внимание. Я слышал в те годы такое выражение: «Хорошо живет Иван Иванович, каждый день бреется дома!» Это означало, у этого Ивана Ивановича есть чем бриться, есть ножички для бритья, то есть он хорошо живет. Такой же редкостью была и кисточка для бритья. И вот такие ценные предметы привез из Европы Матвей Денисович. И мы подумали: «Недаром он так задержался! Неспроста!» Конечно, мы знали, что дядя Матвей приедет с подарками, потому что еще в 1945 году по городу ходили разговоры о том, кто что привез с войны, какой «трофейный товар», какие богатства. Впрочем, слухов было много, а товара мало. Хорошо помню, как повсюду ходила сказка о каком-то умном фронтовике, который привез из Европы коробку патефонных иголок – две тысячи штук. Редчайший товар. Другие будто бы привозили ткани и обувь и смогли лишь год или полтора жить, не бедствуя, а этот солдат прибыл домой лишь с одним вещевым мешком, и его жена сказала: «Что же ты, растяпа, ничего не привез?» И солдат ответил: «Это я-то растяпа? А ну, погляди сюда». И вынул коробку с патефонными иглами. Их решительно нигде нельзя было купить. За каждую иглу на базаре просили 20 рублей и больше. И солдат отправился в поездку по городам и выручил за свой товар почти полмиллиона. Купил два дома на юге, у моря, завел хозяйство. Эту сказку рассказывали в каждом городе еще десять лет после войны и уверяли, что именно у них проживал тот самый умный и находчивый солдат. Но дядя Матвей сказал сразу, что иголок для патефона у него нет, не достал. Зато он привез тридцать кусков душистого европейского мыла, а за него можно было выручить много других ценных вещей. Мыло в сороковые годы порой ценилось дороже золотых украшений. И мы очень радовались. Анюта тоже счастливо улыбалась, и сказала мне: «Ну вот и дождались дядю Матвея. Теперь будете жить, не помрете!»
Матвей Денисович не мог не заметить, какой худобой Анюта выделяется среди нас. Он сразу же догадался, какая у нас беда, и заявил, что возьмет дело в свои руки – повезет Анюту в областной город, а если нужно, то и в Москву. «Мы с этой болезнью церемониться не будем, – бодро сказал он. – Свернем ей шею, и все. Вот увидишь! А сейчас тебе нужно усиленно питаться. Поэтому кушать ты должна пять раз в день. Вот тебе хлеб с маслом, шоколад, а еще консервы – сардины…» Дядя Матвей заставил Анюту как следует поесть. Она ела хорошо, но потом призналась мне, что жевала через силу, у нее не было аппетита. Я сидел возле нее, и мне казалось, что раз уж дядя Матвей приехал, она поправится. Он повезет ее в Москву. Там ее будут лечить. И она вернется здоровая.
Анюту лечили в областном городе, но ничего не помогло. 10 марта 1947 года она умерла. Дядя Матвей привез гроб с ее телом домой, мы поставили его на столе, долго смотрели на Анюту, плакали. У меня никогда не текли слезы, даже когда умерла мама, а тут я расплакался. Я брал Анюту за руку – она была как деревянная. Я что-то говорил сестре. В этот же день мы ее похоронили на местном кладбище. Когда все разошлись, я вернулся к могиле Анюты и простоял еще часа два. Я совсем окоченел, но уходить мне не хотелось. Я как будто по-прежнему был с сестрой. Вокруг было много свежих могил, поскольку в предыдущем году много умерло наших горожан. Кто от болезни, а кто покончил с собой. Перед Новым годом отравилась приезжая учительница. Только приехала и почему-то решила оборвать свою жизнь. Никто ее хорошо не знал, и когда ее хоронили, за гробом никто не шел. Ее могила оказалась недалеко от Анютиной.
До смерти сестры я не знал, что такое тоска. Что это? Какое-то нехорошее состояние. Вот все, что я об этом думал. И вот у меня от тоски свело скулы, да так больно, что я схватился за лицо. И в горле стало сухо. Я выбежал на улицу, пошел куда глаза глядят, повстречал приятеля, мы с ним выкурили по папиросе, но лучше мне не сделалось. Я дышал отрывисто, как собака. Тоска душила меня, терзала, как болезнь, я злился, ругался. Вернулся домой, украл у дяди Матвея бутылку водки, выпил полстакана, после этого мне захотелось спрятаться от людей, и я забрался на чердак. Там было холодно и неуютно, и от этого стало еще тоскливее. Я бросил чердак, пошел в дом, лег в постель, накрыл голову одеялом. Убежать от тоски у меня не получалось, это оказалось очень трудным делом. Пришел Матвей Денисович, нашел свою бутылку, допил все, что осталось, и не стал меня ругать. Он даже взялся меня утешить: «Ничего, парень, пройдет. В жизни еще не раз увидишь смерть. Мы и сами однажды умрем. Не бери это в сердце…» А я сказал: «Проклятый город! Хоть бы он сгорел дотла!» Так я выражал свою тоску – проклиная наш нищий, унылый городишко. Дядя Матвей меня не одергивал. Он видел всякое на фронте, и все на свете понимал. «Ты, парень, уезжай отсюда, – сказал он. – Езжай учиться или работать, поживи в общежитии среди ровесников, там тебе будет веселее. Я тебе помогу устроиться. А здесь тебе делать нечего. Тут ты сопьешься». И я решил уехать в областной город. Дождался, когда мне исполнится шестнадцать лет, и уехал.
В областном городе я с удивлением узнал, что «областью» как раз называют все другие населенные пункты. Такие, как наш, и меньше. Так и говорят: «Нужно выехать в область». И я высказал свое удивление местным жителям. Рассказал, что у нас все наоборот, для нас «область» – это областной город. Один шофер, дядя лет тридцати пяти, махнул на меня рукой и не по-доброму засмеялся. И заявил, что все мы, нездешние, отсталое дурачье.
Этот разговор происходил на хозяйственной базе возле гаража. Матвей Денисович устроил меня на эту базу грузчиком-экспедитором, поскольку учиться я отказался. Мне не хотелось учиться. Я думал: «Что за тоска – сидеть за партой!» Поэтому я пошел работать, и это оказалось для меня куда лучше. Здесь платили деньги, тут кругом были взрослые люди, опытные и повидавшие жизнь, их было интересно послушать, ведь многие из них вернулись с войны. Одни были хорошие, другие – плохие. Как, наверное, везде. Тот дядя, который обозвал меня «дурачьем», проявил себя, как злой человек. Он меня оскорбил. Я стоял, слушал его, а потом сказал: «Ты чего сейчас прокукарекал, дядя? Ты кого обозвал? Значит, я дурачье? А ну, давай отойдем за гараж, обсудим кое-какие важные вопросы». Шофер взорвался: «Что? Ах ты, обмылок! Да я тебе в отцы гожусь! Я тебя в клочья разорву! Уши оторву!» Он не знал, что у меня в сапоге лежит заточка. То было время такое – опасное время. От нашей базы до общежития нужно было полчаса идти пешком, и по дороге мне уже не раз приходилось размахивать ножичком, чтобы отбиться от злобных личностей, которые требовали показать, что лежит у меня в карманах. Но я не испытывал страха. Меня с детства били и грабили старшие. Я привык не доверять спокойной обстановке и всегда был настороже. Я научился драться чем попало. Мы хватали палки, булыжники, не боялись боли и крови. С четырнадцати лет я носил за сапогом нож и не различал обидчиков по возрасту: пятнадцать лет или пятьдесят – мне все равно, кинусь в драку, буду бить чем придется. Так было в сороковые. И вот я посмотрел дяде шоферу в глаза и проговорил: «Что-то не пойму. Ты идешь со мной толковать за гараж, олух, или у тебя уже в штанах мокро? Чего молчишь, гаврик?» Мне было шестнадцать, но я готов был на все. Я готов был вынуть заточку и нарисовать на шофере тельняшку. Все засмеялись после моих слов, а шофер закипел, забулькал, стал кирпично-красный. Он кинулся на меня, не зная, что я привык к подобным выпадам с малых лет. Я отскочил, выхватил заточку и поманил шофера: «Иди сюда, папаша, я тебя сейчас как морковку начищу». Но шофер испугался. У него были дети, он ценил жизнь больше, чем я. Он попятился, махнул рукой. И стал искать поддержки и защиты у своих товарищей: «Как же это так, братцы? Что же вы стоите? Что этот бандит делает? Чего молчите?» Ему ответили: «Зачем же ты его задирал? Будешь знать теперь!» И снова все засмеялись. Шофер обиделся и ушел.
В обществе того времени не было согласия. Люди проявляли друг к другу чаще недоброжелательность, чем доброту. Уважали лишь тех, кто показал силу и волю. Нужно было сделать так, чтобы вас боялись. Это и было уважение. Именно это я и сделал – заставил меня бояться. На базе меня зауважали. Даже тот недобрый шофер быстро забыл о своей обиде, угощал меня папиросами, рассказывал смешные случаи и, бывало, в пивной покупал мне пиво. В общежитии мне тоже пришлось несколько раз затеять драку, чтобы дать отпор некоторым распустившимся хамам. После войны очень много было развязных, некультурных людей, презирающих учтивость и вежливость. Они были везде. Ходили компаниями и поодиночке, вваливались в помещения, грубили, хамили, ненавидели интеллигентов и людей в очках. Одеты они были почти одинаково: сапоги, короткое пальто нараспашку, кепка на два размера меньше, иногда без козырька, а под рубашкой обязательно тельняшка. В 1947 году в нашем общежитии проживало десятка два таких типов. Казалось, что хамство и наглость были их единственными способами выразить себя. Будто держаться по-другому они не умели. Проживание рядом с такими личностями стало для всех ежедневным испытанием. Для обычных людей это было порой невыносимо. Жизнь и без того была очень трудная, а тут еще эти типы. Говорят, они были по всей стране. Но никто ничего не мог поделать – ни органы правопорядка, ни фронтовики, ни власти, ни сам Сталин.
Поселившись в общежитии, я в первый же день столкнулся лицом к лицу с двумя «мордами» в коротких пальто нараспашку, с папиросами в зубах и с наглыми ухмылками. Они назвали меня «шкет», хотя на ребенка я никак не был похож. Последний год я хорошо питался, вырос и окреп. Но они унижали всех, кто еще не дал им отпор, не показал силу и бесстрашие. «Эй, шкет, деньги есть?» – спросили они меня. Я стал улыбаться и сказал: «Дяденьки, вам деньги нужны? Есть деньги, есть!» После этого я живо сунул руку за сапог, вытащил нож и бросился на одного из обидчиков. Ни тот, ни другой этого не ожидали. Один из них прыгнул в сторону, а второй растерялся, и я ему порезал пальто и даже задел ножом лицо. «Еще раз посмотрите в мою сторону, порежу обоих! – заорал я. – Глаза выколю, и будете палочкой цокать! Носы отхвачу!..» Я размахивал ножом и видел, что «морды» меня боятся. Они были хулиганы, а не убийцы. И они ушли, шипя, ворча и грозя мне местью. Позже у меня вышло с ними еще три стычки, и в одной из них мне разбили лицо. Однако я снова показал себя. Драка случилась в коридоре на втором этаже, где я проживал, и на шум выглянули мои соседи. Они приоткрыли дверь, и я успел заметить у них на столе графин с водой. Я бросился в комнату соседей, оттолкнул их, схватил графин и выбежал в коридор. Разбил графин об стену, при этом крепко держа его за горлышко. «Ну что, суки? – закричал я. – Смерть пришла, а вы без галстука? Порву, падлы!» «Морды» попятились, но я действовал решительно: одному из них, самому злому, который разбил мне лицо, я стал бить острыми осколками графина по ногам.
Он выл и размахивал руками, и руки его, поэтому, тоже пострадали. Приятели утащили его, обливающегося кровью, и в этот раз я не услышал ни одной угрозы. Соседи качали головами: «Ну и ну! Ты же мог его убить!» А я сказал: «Таким гадам и не нужно жить. Это ни к чему. Баловство это!» Я отдал им деньги за графин. Убрал осколки стекла. Заплатил уборщице, чтобы она почище вымыла пол. Уборщица сказала: «Правильно, сынок. Житья от них нет, измучились все. Тот, которого ты наказал, мне, старой женщине, плевал прямо на голову!» Этот особенно злой хулиган долго ходил с палочкой, хромал. Но травмы изменили его отношение ко мне. Он и его дружки отстали от меня, обходили стороной или делали вид, что мы незнакомы. Потом он вовсе исчез, уехал. Меня это вполне устраивало. Другие же люди продолжали страдать от хулиганов, и спасения не было видно…
В том же 1947 году я сделал открытие, которое, впрочем, ничуть меня не удивило. Я узнал, что на нашей хозяйственной базе здорово воруют. Тащат государственное добро. Но не шумно и отрыто – как налетчики, а тайно и тихо, как мыши. Все шоферы занимались приписками, накрутками, входили в сговор со снабженцами, и те ставили подписи в «липовых» накладных. Водители грузовиков делали три рейса, а писали «шесть», а то и больше. Подкручивали спидометр, сливали «сэкономленный» бензин. Кладовщики договаривались с экспедиторами, и те принимали «моченый» товар. Сахар, крупу и прочие сыпучие товары мочили водой, чтобы они прибавляли в весе. Наверное, все эти беззакония были возможны лишь потому, что на нашей базе не было «сознательных» работников, все желали побольше заработать. Люди рассуждали просто: нужно использовать возможность сейчас, пока она существует. О государственных интересах не думали. Я тоже не думал. Поступал как все. Кладовщики сразу сделали мне коммерческое предложение, и я его принял. Слишком хорошо я помнил, как еще недавно, в войну, мы недоедали, как мы бедствовали и страдали. Поэтому я хотел жить хорошо. Потому-то и согласился воровать. Отвозил намоченные сахар и крупу, менял ярлыки на мешках, устраивал пересортицу, подсовывал «липовые» накладные, где указывалась другая сортность продукта. Мне было шестнадцать, и я не думал о последствиях. Я определенно не давал себе никакого отчета в сложившейся ситуации на базе. Лишние деньги – хорошо! Только так я и рассуждал, похлопывая себя по карману. Сошелся с одним кладовщиком, Павлом К., по прозвищу Паша-Сытый. Он был плотный, мордатый, поэтому его так прозвали. Мы вместе выпивали, ходили играть на бильярде. Ему было тридцать шесть лет, то есть он был на двадцать лет старше меня, но держались мы как приятели. Бывало, приходили к нему домой, пили водку, закусывали салом, потом шли в клуб на киносеанс. Как-то раз я спросил его, почему он до сих пор не женат. Паша-Сытый ответил мне, что всему свое время. «Как сколочу приличный капитал, так сразу уеду из этих мест в Крым, к морю, – сказал он. – Куплю домик и женюсь. А пока я пользуюсь одним адресочком и вполне доволен! Если интересуешься, могу и тебя прихватить с собой. Там хоть и дорого берут, зато обслуживают по первому разряду».
Я догадался, о чем идет речь: какие-то женщины продавали себя тем, у кого водились деньги. Мне стало любопытно. Я сказал: «А что, поедем! Я тоже хочу купить себе развлечение!» И мы выбрали подходящий денек и поехали на окраину города. Подошли к забору, постучали в калитку. Отдельный деревянный дом стоял во дворе. Все три окна и веранда плотно зашторены. Вышла какая-то бабуся и отворила калитку. Мы пошли за ней. В доме Пашу-Сытого встретили две женщины в темных красивых платьях, обе симпатичные и ухоженные, с лакированным ногтями, с помадой на губах, с тушью на ресницах. Таких дамочек я еще никогда не встречал. Они стали улыбаться мне, а одна из них спросила: «Чего желаешь? Красиво отдохнуть? Это будет стоить триста рублей за два часа. И только для такого хорошенького, как ты!» Она льстила мне, но это было приятно. О цене я знал заранее. Цена была высокая, как в коммерческом ресторане. О невероятно высоких ценах в коммерческих ресторанах Москвы и Ленинграда ходили легенды, и я не мог представить себе, как можно потратить на ужин две тысячи рублей, а теперь понял: смотря какая женщина будет рядом. На таких дамочек, что стояли сейчас передо мной, не жалко и трех тысяч! Были бы деньги. Паша-Сытый сказал: «Наденька, займись моим приятелем, угости его хорошенько! Я тебе прибавлю…» Наденька, которая разговаривала со мной, повела меня в комнату. Там было хорошо и уютно. Я впервые в жизни увидел кожаный диван. У меня была с собой бутылка вина и печенье, и мы выпили. Наденька взяла меня за руку и сказала: «Я думала, ты дрожишь, а ты спокоен. Я тебе нравлюсь? Сколько тебе лет? Семнадцать? А мне двадцать восемь. Давай, я помогу тебе раздеться». Она расстегнула мою рубашку и увидела на груди татуировку – контур женской головы, которую я заказал у одного художника. Этот художник взялся сделать работу за три сеанса, но после первого угодил в больницу с аппендицитом, и наступил продолжительный перерыв. Наденька сказала: «Это будет портрет твоей девушки? Как ее зовут?» Я махнул рукой: неизвестно, когда работа будет закончена. Потом я сказал, что все равно доведу начатое до конца. И это не портрет моей девушки, а портрет сестры. «О, как забавно! – сказала Наденька. – Ты так любишь сестру? Впервые в жизни вижу подобное. Что она тебе, твоя сестра? Почему ты ее так любишь?» Я вынул фотографию Анюты. И Наденька перестала улыбаться и пересела с дивана на стул. Лицо ее сделалось озабоченным. Я удивился такой перемене. Наденька нервничала. «Она умерла, да?» – спросила она. «Да, – сказал я. – От туберкулеза. И я хочу, чтобы моя Анюта всегда была со мной – здесь, на груди». Наденька вышла из комнаты, потом вернулась. Закурила длинную дамскую папиросу. Выпила вина. Я не понимал, почему она волнуется. Что случилось? «Пообещай, что не сделаешь мне ничего плохого, – произнесла Наденька. – Я дружила с ней, мы были подругами. Она была очень хорошая, наша Марина. Так она себя называла. Мы не знали, что ее зовут Анюта. Когда мне рассказали, что она умерла, я плакала». Я всполошился: «Ты знала мою сестру, мою Анюту? Она торговала на улице дрожжами и папиросами. Привозила нам мешок еды и других гостинцев. Если бы не она, мы бы, скорее всего, померли. Но почему она называла себя Мариной?» Наденька сказала: «Не знаю. Меня тоже не Наденькой зовут, а Светланой. Но мы, конечно, разные… Она на улице папиросами торговала, а я здесь…» Когда Наденька замолчала, возникла длинная пауза. Мы оба не знали, что говорить, и сидели почти без движения. Я этого не ожидал. Уверенность и беззаботный вид хозяйки комнаты исчезли. Казалось, что эта женщина испытывает неловкость, точно это она пришла ко мне в гости, а не я к ней. Мы оба ощущали какую-то пустоту. Наконец Наденька глубоко вздохнула и сказала: «Надо же, какой странный день! Ничего не выйдет… Только, наверное, в другой раз и не со мной. Платить не нужно… Выпьем чаю и подождем твоего приятеля». Наденька пошла заваривать чай. Я сидел и курил, не понимая, что произошло. Выходило так, что Наденька знала мою сестру. Наверное, их познакомила торговка, родственница нашего покойного соседа, Николая Егоровича. Они дружили. Но как они могли дружить? Анюте было шестнадцать лет, а Наденька намного старше. Догадывалась ли Анюта, что эта дамочка торгует собой? Она ничего не рассказывала о своих знакомых. И тогда я подумал, что моя сестра просто-напросто жила здесь, снимала угол в этом самом доме. Отсюда уходила торговать дрожжами и папиросами и сюда возвращалась усталая и голодная. Может быть, так и было. И Наденька поила ее чаем, когда не была занята со своими гостями. Но где именно она жила в этом доме? Мне захотелось это выяснить. Я встал и вышел из комнаты.
Наденька сидела в кухне за столом, подперев рукой щеку. На плите стоял чайник. Я спросил: «Говори честно, моя Анюта жила здесь, у вас? Так?» Наденька кивнула. Я сказал: «Я догадался». Женщина поглядела мне в глаза. «И ты ее не ругаешь? – спросила она. – Не ругай ее никогда. И не потому, что она уже умерла, а потому что она старалась для вас. Все свое сердце она отдавала своим братьям. Такая она была, твоя Анюта». Мне эти слова понравились – добрые слова. Только я не понял, почему я должен ругать Анюту. За что? Я ходил по кухне, дымил папиросой, подо мной скрипели половицы. Вот за этим столом моя любимая сестра пила чай. И вдруг я догадался: Анюта не просто жила здесь, а зарабатывала на жизнь…
Я побледнел, стал нервно шевелить руками. Я злобно сказал Наденьке: «Покажи мне ее комнату!» Наденька сказала, что это там, где «отдыхает» мой приятель Паша-Сытый. Мне стало нехорошо. Я сел на стул, потом встал и снова принялся ходить. Наденька заговорила со мной: «Ты умный парень, и добрый, как твоя сестра! Не ругай ее, не ругай. Торговка Вера выбросила ее на улицу по злому наговору, а податься ей было некуда. Один человек устроил ее сюда, и она сказала, что готова на все, лишь бы помочь братьям. Ты понимаешь? Не ругай сестру… Она у тебя святая. Будь мне так мало лет, я бы не смогла». Я выбежал из этого дома, перемахнул через забор, побежал по дороге. Я был потрясен. Анюта продавала себя, лишь бы вытащить нас из голода и отчаянья. Все мы жили на ее деньги. Ели колбасу, мясные консервы, сгущенное молоко, конфеты, булки. Радовались и веселись. Улыбались и смеялись. И Анюта, глядя на нас, тоже радовалась. Рассказывала, что торгует дрожжами. Наверное, Паша-Сытый знал мою Анюту и тоже покупал ее… Я повернул назад, чтобы расспросить Пашу. Во мне разливалась злоба. Я думал, что ударю его ножом, если он признается. Или Наденька расскажет, как было. Или я узнаю правду еще как-нибудь. Подойдя к дому, я остановился. У калитки стояла Наденька, накинув на плечи платок. Она сказала: «Я тебя очень понимаю. Но ведь никто не виноват, верно? Это жизнь такая. Ты больше не приходи сюда, хорошо? Ради твоей Анюты». Я спросил: «Паша-Сытый был с ней?» Женщина ответила: «Нет. Ему нравятся те, кто постарше… Но ты не говори ему. Мы тоже не скажем, обещаю». Я вернулся в дом, дождался Пашу, и мы попрощались с женщинами и поехали в пивную. Я жадно пил пиво и водку и не мог опьянеть. Паша-Сытый удивился: «Первый раз вижу, чтобы после такого красивого «отдыха» человек был мрачный и даже злой. В чем дело? Что такое? Неужто не получилось? Не может быть!» Я сказал: «Получилось. Как хотел, так и вышло. А ты не лезь не в свое дело. Я вспомнил маму и сестру, уже умерших, вот и тоскливо». Паша-Сытый заказал еще водки и закусок. Он был неплохой человек. В 1949 году он поехал в Крым и там остался на жительство. А я раньше него ушел с базы, но поехал не на юг, а вернулся в свой город, который всегда недолюбливал, даже ненавидел. Жалкое, пропащее место. Но меня тянуло туда, где навсегда осталась моя сестра. Я так часто думал о ней, что иногда у меня не получалось переменить мысли. Я пережил сильное душевное потрясение. Я говорил себе, что должен отплатить Анюте за мое спасение и ее жертву. Поэтому я и вернулся в свой город. Со станции пошел не домой, а на кладбище, долго стоял у могилы и разговаривал с сестрой. Я сказал: «Спи спокойно, Анюта, а я буду охранять твой покой. Я твой верный пес! Никогда не оставлю тебя, пока сам не помру. А там, на том свете, мы встретимся и уже не расстанемся». Я рассуждал, как буду каждую неделю приходить и ухаживать за могилой. Поставлю ограду. Установлю скамейку. Посажу цветы и какое-нибудь деревце. Пусть к Анюте слетают птицы. Я останусь в этом городе на всю жизнь. Выучусь, получу профессию. Например, пойду в шоферы. Моя жизнь изменилась навсегда – я теперь не такой, как прежде.
Я пошел домой, а там за столом сидел дядя Матвей, ужинал, пил водку. Я сказал: «Вот, вернулся. Буду здесь жить. Потому что в этом городе моя сестра Анюта. Не оставлю ее, стану ее верным псом. А если у вас на этот счет другое мнение, мне все равно». Матвей Денисович был мудрым человеком, и он сказал: «Поступай, как хочешь, парень, только не будь таким мрачным. Что бы у тебя там ни случилось, не впадай в меланхолию. Кем хочешь стать – шофером? Я тебе помогу. В этом городке мало интересного, но если ты решил остаться, так и быть». И я остался. И вот с 1948 года я каждую неделю, как обещал, ухаживаю за могилой моей сестры. Ухаживают мои дети, мои внуки. Слова Анюты – «Нужно продержаться до приезда дяди Матвея» навсегда вошли в мою память и в мое сердце. Она спасла нам жизнь, пожертвовав собой. Она готова была на все ради нас, и я готов на все ради нее, даже умершей. Ее могила одна из немногих, которая сохранилась с сороковых годов. Всегда ухоженная, опрятная. Почти все захоронения тех лет сравнялись с землей. Я ни разу надолго не покидал наш город, потому что я верный пес моей Анюты. На моей груди с 1948 года художественная татуировка – точный портрет моей сестры. Моя Анюта всегда со мной…
Тетя Клава скончалась в 1959 году. Дядя Матвей – в 1966-м. Павлик закончил школу, уехал из нашего города навсегда, стал ученым, последнее десятилетие до своей кончины в 2006 году проживал за границей. Никто из них никогда не знал подлинную историю Анюты, поскольку я ее никому не рассказывал».
Конец




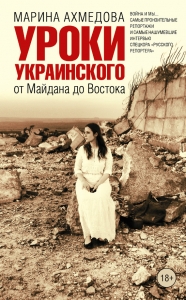

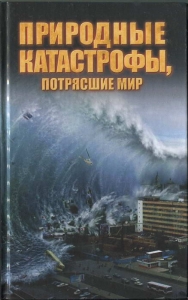


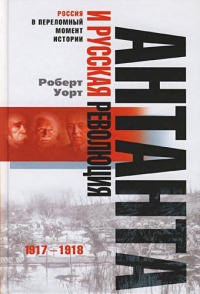
Комментарии к книге «1946 г, 47 г, 48 г, 49 г. или Как трудно жилось в 1940-е годы», Герман Шелков
Всего 0 комментариев