Вождь и культура. Переписка И. Сталина с деятелями литературы и искусства. 1924–1952. 1953–1956 Составитель В. Т. Кабанов
К читателю
Как бы это изъяснить, Чтоб совсем не рассердить Богомольной важной дуры, Слишком чопорной цензуры? Александр Пушкин 1822Законная и бесспорная власть, сильная всею силой своего народа и единая с ним, не имеет повода бояться никакой свободы, напротив, свобода есть верная союзница и опора такой власти.
Михаил Катков 1867Читатель почувствует существенную разницу между задиристым вольнолюбием молодого Пушкина и зрелым суждением публициста Каткова, в шестидесятые годы рьяного поборника свободы как основы государственного устройства. Но дело здесь не в разности их возрастов.
Между датами приведенных цитат в жизни российской печати и российской жизни вообще произошли большие перемены. После смерти Николая Первого и поражения России в Крымской войне начался сложный и длительный период отечественной реформации.
Отмена крепостного права и телесных наказаний, введение земского самоуправления, цензурная и судебная реформы позволили тогдашней России впервые обрести возможность цивилизованного развития в условиях экономической свободы, гласности и правовых отношений в обществе и государстве. Это была Эпоха Великих Реформ шестидесятых годов.
Если действующий до начала реформ Свод Законов Российской Империи предусматривал запрет даже «рассуждений в печати о потребностях и средствах к улучшению какой-либо отрасли государственного хозяйства», то Закон, принятый 6 апреля 1865 года, давал печати возможные облегчения и удобства, а также разрешал обсуждение как отдельного, так и целого законодательства и опубликованных распоряжений правительства.
А 4 сентября 1865 года впервые за все время существования русской печати в Петербурге вышли в свет без предварительно цензурного просмотра и одобрения две газеты: «С.-Петербургские ведомости» и «Голос».
Чем не день печати?
* * *
И все-таки реформы продвигались со скрипом.
Казалось бы: сам царь инициирует реформы, а дело туго идет… Были тому две причины: тихий, но упорный саботаж со стороны высшего чиновничества и нетерпеливое подстегивание со стороны народно-демократических сил, которого власть только пугалась. И недаром пугалась.
4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов стреляет из пистолета в Александра Второго. Слава Богу, неудачно.
Появляется «Земля и воля» – тайное революционное общество разночинцев. Затем вторая «Земля и воля» с ее «дезорганизаторской группой». И наконец, террористическая «Народная воля», которая с седьмой попытки 1 марта 1881 года убивает все-таки Царя-Освободителя! Реформы тут же сменились реакцией. На трон сел Александр Третий, началось очередное замораживание России…
Дальнейшее известно: при последнем царе – Ходынка, Цусима, баррикады в Москве, восстановление «свободы печати», вплоть до черносотенной, Распутин, чудовищная Германская война и полный развал власти. Эту власть в один прекрасный день, брошенную буквально на улице, подобрали большевики и первым своим декретом закрыли «буржуазные» газеты.
Долгое время у нас жила легенда, что «при Ленине» все было правильно и хорошо. Но вот два только факта, касающиеся писателей, к тому же Ленину, казалось бы, небезразличных.
В 1920 году Политбюро ЦК РКП(б) по заявлению т. Ленина приняло постановление «никоим образом не помещать» в журнале «III Интернационал» статей Горького, «ибо в этих статьях не только нет ничего коммунистического, но много антикоммунистического». А еще в 1919 году (тоже при Ленине) была арестована хранительница музея «Ясная поляна», дочь Льва Толстого Александра Львовна Толстая. Правда, вскоре освобождена, но в марте 1920 вновь арестована, в мае освобождена под подписку о невыезде и в августе осуждена на три года концлагеря. Так обошлись с любимой дочкой «матерого человечища», рядом с которым (по выражению Ленина) «в Европе поставить некого».
Политическая цензура при большевиках держалась под собственным именем, правда, недолго. Был изобретен Главлит: Главное управление по охране государственных тайн в печати. Тем не менее работники этого учреждения назывались цензорами, а миновать око Главлита не могли не только детские стихи Агнии Барто, но и наклейки на пивных бутылках и спичечных коробках. И это при том, что любой текст, предназначавшийся к печати, «цензорским» глазом прочитывал редактор, затем зав. редакцией, зам. главного редактора, главный редактор, а за «ошибку» отвечал головой директор издательства перед каким-нибудь министерским Главком.
Но и это было не все. Помимо контролирующих функций государства, была еще одна – высшая – внегосударственная организация – партийная. Она была тоже ступенчатая, и на вершине ее пирамиды восседало Политбюро. Оно было, правда, вне Закона, зато выше Закона и могло решительно все. И это бюро, обладающее высшей и ничем не ограниченной властью, целиком и полностью беспрекословно подчинялось воле одного человека. Звали его – Иосиф Сталин. Он учился когда-то в духовной семинарии, боролся с царизмом, грабил банки, пароходы, караваны и сочинял стихи. Художники, писатели, театр и кино – очень были ему интересны. А писатели и поэты, композиторы и музыканты, актеры, режиссеры и живописцы очень хорошо понимали, что только благоволение Сталина может стать хотя бы временной гарантией их сносного существования в этом мире, а неблагосклонность Его или тем паче гнев в одночасье лишит их работы, свободы, а то и самой жизни. И целование «туфли» великого кормчего стало нормальной и необходимой процедурой. Если же иные деятели культуры, лишенные истинного таланта, замечали, что не стоят они в первом ряду служителей пролетарского искусства, поспешали тут же известить товарища Сталина, что их так называемые «коллеги» совсем в своем порочном «творчестве» не вписываются в «пролетарскую линию».
Не всех челобитчиков удостаивал ответами Сталин. Но и письма без ответа не оставались без последствий. Вождь обладал чудовищной злонамеренной памятью и мог по прошествии того или иного времени одним движением прокуренного пальца сразу уничтожить человека или начать с ним долгую или недолгую игру в кошки-мышки.
* * *
Для того чтобы представленные в книге письма и документы были более понятны читателю по обстоятельствам их возникновения или возникшим по ним последствиям, к большинству из них в книге (сразу после того или иного письма) даются необходимые пояснения.
Думается, что человеку, не жившему в сталинскую эпоху и не прочитавшему об этом времени хотя бы минимум неохватной горы изданной об этом литературы, а также имеющему довольно смутное представление о русской истории от Пушкина до наших дней, эта небольшая скромная книжечка все-таки даст некоторое представление о важной стороне такой недавней нашей с вами истории.
Вячеслав Кабанов
Часть первая Deus et dominus[1]
Демьян Бедный – Сталину
26 июня 1924 г,
Иосиф Виссарионыч, родной!
Очень здесь хорошо. Я в первый раз в своей жизни почувствовал, что, в сущности, я же никогда так не отдыхал. Даже не имел представления, как можно отдыхать. Мозг похож на воду источника, из которого я пью: прозрачный, с легенькими пузырьками.
Говорю это потому, что имею намерение сагитировать вас приехать сюда хоть на один месяц, если нельзя на больший срок. Отдохнете, и ваша ясная голова станет еще яснее и заиграет этакими свежими пузырьками.
Не дураки буржуи были, что ездили сюда стаями ежегодно. Известный вам сторож Григорий рассказывает мне преинтересные вещи, хоть записывай. Он тут с 1900 года. Насмотрелся.
Присматриваюсь к нынешней публике и я. Какая смесь одежд и лиц. Контрасты. Приметил я одного рабочего. Парализованные ноги иксом. Полуволочатся. Руки тоже вертятся как у Ларина. Но кое-как ходит. И много ходит. Потом можно видеть нэпманочку поразительной красоты и несравненного изящества. Я ее мысленно прозвал «мировая скорбь», потому что она вечно хнычет, стонет, заламывает ручки: «зачем люди рождаются, если надо умирать», «зачем в жизни так много жестокого» и т. п. А позавчера, когда я в парке около полудня грелся на солнышке и полудремал, меня разбудило чье-то веселое мурлыканье на непонятном языке. Что-то вроде бесконечного «чум-бара, чу-чу-чум-бара…». Оглянулся. Кто поет? Оказалось, вот этот самый полупарализованный рабочий. Поет, едри его мать, хоть бы что!! Никакой тебе скорби, ни мировой, ни иной. Меня даже, знаете, вроде электрическим током вдарило. Нет меры пролетарской силе, сказывающейся в его нутряном, несокрушимом оптимизме. – «Живее-е-ем!!»
Вчера вечером видел у источника картиночку: очередь человек двести. Сзади всех стоит с кружечкой Атарбеков. Знаменитый по вечекистским якобы жестокостям Атарбеков. Перед ним линия затылков и нэпманских нарядов. Получив свою воду, Атарбеков подошел ко мне явно расстроенный.
– Вижу, Демьяша, не чисто я работаю. Вон того видишь? Я его должен был вывести в расход. А теперь стой за ним в очереди. Дай ему, сукиному сыну, брюшко прополоскать.
Рабочие, те не церемонятся:
– Куда, нэпман, прешь? Не видишь, очередь!
Нэпман покорно становится в очередь, боясь даже поворчать. На всяком месте политграмота.
Вчера же, когда мы разговаривали с Атарбековым, мимо нас по аллее прошло строем около двухсот работниц молодых и пожилых. Идут весело по трое. Мы решили, что с какого-либо собрания. Но представьте мой ужас, когда я, вернувшись к своему флигелю, увидал, что весь дворик запружен этими самыми работницами. Как увидели меня, такое подняли, беда! «Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». Ораторша мне заявила, намекая на проволоку вокруг флигеля, что нет таких проволочных заграждений, которых бы не атаковали работницы, желая повидать и приветствовать своего любимца. Поднесли цветы. Я со вкусом лобызался, отвечая на приветствия, еле-еле удерживался, чтобы не заплакать самым идиотским образом. Нервы стали паршивые. А потом и трогательны очень эти работницы. Чистосердечно вам скажу: при нынешних спорах о «партлинии в литературе и искусстве» – мне эти розы от простых банщиц и поломоек дороже всего на свете, и нет такого иезуитско-талмудического аргумента, который в моих глазах мог противостоять простым словам нехитрого привета: – «любим мы тебя очень»!
И больше ничего. Да большего и быть не может.
Все это очень хорошо. Я очень рад возможности поделиться с вами моим радостным настроением. Вот только не знал, как быть дальше. «Заявок» тут сделано на меня без числа. И обидеть боюсь, и лечиться надо.
Разболтался я в этом вашем веселом флигельке. Не обессудьте. Главное-то ведь в том, что я вам настоятельно советую побывать здесь.
Говорят, вы здесь лечились не ахти как аккуратно. Я о себе не могу этого сказать. Питаюсь скудно и все такое, как мне предписано. Увидим, что выйдет. Пока успеха не заметно. Должно быть, крепко запущена эта проклятущая подагра.
Газеты получаю решительно все и аккуратно. Амнистионные нотки вашего «доклада секретарям укомов» не без лукавства. К сожалению, не на ком проверить впечатления. Оппозиция ведь преимущественно центрально-городская штучка.
На сем месте точка. До встречи… если не случится чего глупого, потому что в Ессентуках изрядно «шалят». В вагоне у меня задержано и передано в уголовку двое. Каждую ночь, что я здесь, где-либо происходит сюрприз с ограблением. А так как при мне жена и дочурка, то страхи к ночи принимают ощутительные размеры.
На счастье, я глух на одно ухо, и когда этим ухом сплю, то другое все равно ничего не слышит.
Ну, всего!
Крепко вас любящий
ДЕМЬЯН
P.S. У вас там от жары собаки бесятся, а у нас здесь все время с прохладцей. А не слишком ли будет жарко зимой… если урожай подведет. Ненадежный это товарищ, Урожай. Нестойкий, сукин сын. Почистить бы его. Скажите там Ярославскому. Он мужик «старательный». В парт, «кулаки» метит.
P.P.S. Смеялся очень, читая разъяснения Ваковского о прахе Маркса, насчет которого, де, не хлопотали. Вспомнил я новый анекдот, будто «англичане согласились выдать нам прах Маркса в обмен на… прах Зиновьева!» Остроумные черти!
– Слушайте, приезжайте. А потом мы будем «на Типлис гулялся».
Легкомысленный ДЕМЬЯН
Необходимые пояснения. По Советскому Союзу, в том числе на отдых и лечение, Демьян путешествовал в персональном «синем» вагоне, там были спальня, столовая, библиотека, включающая словари и энциклопедию Брокгауза – Ефрона, и пишущая машинка «Ундервуд».
Ю. Ларин – зам. председателя Госплана.
Атарбеков – председатель Закчека, погиб в автокатастрофе; говорили, что это подстроено за его расстрелы.
Из письма кронштадтского военного моряка Ивана Зенушкина по поводу речи Сталина на пленуме ВЦСПС 19 ноября
26 ноября 1924 г.
«… Вы выдвигаете положения, противоречащие некоторым словам Ильича, а также взглядам пролетариата на тов. Троцкого…»
Далее Зенушкин цитирует «Популярный политсловарь» (изд. 1924 г.), где сказано, что Троцкий «организовал и руководил восстанием 25 октября… Организатор Красной Армии… Организовал победу над Колчаком, Деникиным…»
«В течение 7-ми лет, – писал Зенушкин, – Троцкий был в глазах пролетариата не только вождем партии, а и вождем Армии…» При этом Зенушкин еще ссылался на предисловие Ленина к книге Дж. Рида («… Я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран».)
Сталин – военному моряку Ивану Зенушкину
1 декабря 1924 г.
Здравствуйте, тов. Зенушкин.
Письмо Ваше получил. Хотя и мало у меня времени, однако постараюсь коротко ответить.
1) Джон Рид, конечно, не знал и не мог знать обстановки заседания ЦК от 16-го октября. Заседание происходило ночью, строго конспиративно, вдали от центра города. Конспиративность эта диктовалась не только условиями слежки вообще, но и особым положением Ленина, находившегося тогда в подполье и служившего объектом отчаянной охоты ищеек Керенского. Уже из этого видно, что никто из не членов ЦК не мог присутствовать на этом заседании. И действительно, на заседании присутствовали только перечисленные в протоколе 12 человек. Фраза Джона Рида о рабочем, ворвавшемся на заседание ЦК, есть позаимствованная у сплетников фантазия американского социалиста, падкого на сенсацию. Советую обратиться с письмом к тов. Троцкому (или товарищам Бубнову, Ломову и т. д.) с вопросом сообщить правду об этой сплетне. Вы увидите, что все эти товарищи подтвердят Вам фантастичность сообщения Джона Рида.
Как могло случиться, что тов. Ленин дал предисловие к книге Джона Рида без всяких оговорок насчет некоторых неверных сообщений? Я думаю, что Ленин не читал всю книгу Рида и дал предисловие лишь для того, чтобы содействовать распространению книги ввиду наличия в ней других очень важных качеств. Дело в том, что на другой день после победы Ильич и другие товарищи интересовались не отдельными фантастическими местами книги Джона Рида, а тем, чтобы противопоставить общее описание хода нашей революции в книге Джона Рида, в основном безусловно правдивое, той лжи и клевете, которую тогда распространяла западная европейская печать. В этом был центр тяжести, а не в отдельных частных искажениях, допущенных в книге Джона Рида.
Почему тов. Крупская согласилась дать предисловие? Спросите тов. Крупскую, она, как знаете, жива и сумеет ответить.
2) Разговоры о том, что тов. Троцкий организовал Красную Армию и победу над Колчаком и Деникиным, преувеличены втрое, если не вчетверо. Вы ссылаетесь на политсловарь, который будто бы собрал сведения о т. Троцком из ЦК. Должен Вам сказать, что, во-первых, авторы словаря не пользовались ни одним документом из ЦК (они изложили в словаре свое мнение), во-вторых, если бы они обратились в ЦК за документами, то они убедились бы, что дифирамбы, воспеваемые тов. Троцкому, лишены почвы. Нам некогда было разрушать легенду о т. Троцком или о ком бы то ни было другом из «вождей», тем более что легенды эти не представляли опасности для партии. Но теперь, когда на легендах стараются строить атаку на партию, мы, члены ЦК, в частности я, поставили перед собой цель бороться и с легендами. Это, пожалуй, не понравится кой-кому из товарищей, ищущих себе царя и услаждающих себя красивыми легендами. Но что поделаешь, – правду все же надо восстановить.
Советую Вам обратиться к тов. Троцкому и спросить его: правду ли я сообщил в своей речи о Деникине и Колчаке.
3) Что касается т.т. Каменева и Зиновьева, то я нисколько не отрицаю их ошибок. Но я должен сказать, что их ошибки менее серьезны, чем ошибки тов. Троцкого до Октябрьской революции и после 17-го года. Мы не могли бы победить в Октябре, если бы у нас не было готовой сплоченной партии, скованной за период царизма от 1903 до 1917 года. Заслуга т.т. Зиновьева и Каменева состоит в том, между прочим, что они строили (конечно, вместе с другими лидерами) большевистскую партию в продолжение 15-ти лет. Тяжкий грех т. Троцкого состоит в том, что он разрушал в продолжение того же периода нашу большевистскую партию. Забывать эту разницу нельзя. Я уже не говорю о разногласиях по Брестскому миру и профдискуссии, когда тов. Каменев и Зиновьев стояли в одних рядах с Лениным против тов. Троцкого.
Вот почему я отношусь по-разному к ошибкам тов. Троцкого, с одной стороны, и т.т. Каменева и Зиновьева, с другой стороны.
С коммунистическим приветом
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. В дальнейшем моряк Зенушкин отречется от «заблуждений» и направит объяснение Мехлису в редакцию «Правды»: «От тогдашних мимолетных сомнений у меня не оставалось и следа…»
Демьян Бедный – Сталину
4 декабря 1925 г,
ВЦКРКП(б)
Toв. СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В конце минувшего ноября месяца мне из ЦКК было сообщено, что состоится специальное заседание президиума ЦКК для обсуждения вопроса о протекционных вагонах, а в частности, и о моем вагоне и что мое присутствие на означенном заседании необходимо.
Я сообщил, что предпочту, чтобы вопрос о моем вагоне решался без меня. Мне казалось, что вопрос об оставлении в моем распоряжении вагона не может возбудить никаких сомнений, так как целесообразность такой привилегии доказана семилетней практикой.
На днях я получил нижеследующую выписку из протокола № 118 заседания президиума ЦКК от 23 XI с. г.
СЛУШАЛИ:
О протекционных вагонах и пользовании протекционным вагоном тов. Демьяном Бедным.
ПОСТАНОВИЛИ:
4. Не возражать против оставления за Демьяном Бедным протекционного вагона с тем, чтобы он был использован исключительно для деловых поездок по разовым мандатам (Прин[ято] 3 голосами против 2-х).
ОСОБОЕ МНЕНИЕ т.т. Ярославского и Чуцкаева. «Считать, что в интересах поддержки престижа тов. Д. Бедного, как коммуниста и как пролетарского поэта, необходимо отменить расход на содержание протекционного вагона» (превышающий 10.000 рублей в год).
Итак: постановление об оставлении в моем распоряжении прошло всего большинством одного голоса: три против двух. Эти два – авторитетные товарищи и члены президиума ЦКК, т.т. Ярославский и Чуцкаев. Могу ли я пренебречь их «особым мнением».
Я сделал естественный вывод, что при таком расхождении мнений в составе президиума ЦКК я не могу дальше пользоваться протекционным вагоном без особого постановления Центрального Ком. партии, подтверждающего несомненную, установленную фактами целесообразность такого пользования.
Аргументировать лично в пользу такого постановления ЦК я не в состоянии по той же самой причине, по какой я отказался это делать перед президиумом ЦКК. Мне пришлось бы давать самому себе оценку, разъяснять методы моей работы и их своеобразие, ссылаться на ту исключительно важную роль, какую вагон играл в моей работе в фронтовое и последующее время, говорить о плодотворности того контакта в любой момент с любым местом, какой создается наличием «всегда готового», оборудованного для моей работы вагона, и т. д. и т. д.
Уже самая необходимость в такого рода с моей стороны аргументации доказывала бы, что во мнении если не всей руководящей части партии, то значительной ее группы произошло явное снижение оценки моей работы. Тогда о чем говорить? Надо будет сделать дальнейший вывод – и только. А у поэтов, как известно, выводы делаются сами собой:
Их голос сорванный дрожит От незаслуженной обиды.Нельзя, однако, не отметить странности «особого мнения». Вагон надо отобрать у меня для поддержки моего «престижа». Стало быть, я целых семь лет, пользуясь вагоном, непрерывно ронял свой престиж. Товарищу Ярославскому полезно было бы проделать со мной одну, не дутую, не прорекламированную в газетах, поездку в любой провинциальный город и убедиться, насколько «уронен» мой престиж. Он с удивлением убедился бы в том, что не только благодаря вагону престиж не уронен, но сам злополучный вагон превратился в сюжет трогательной легенды: «тов. Ленин дал Демьяну Бедному вагон, чтобы Демьян ездил по России да смотрел, хорошо ли народ живет» (см. журн[ал] «Печ[ать] и револ[юция]» за тек[ущий] год).
«Дал Ленин». Разве это не верно? «Ленин» много мне дал, ничего не отбирая. Нужно ли, чтобы легенда о вагоне приобрела внезапный конец: «Умер Ленин, и вот у Демьяна…», или «Проштрафился Демьян, и вот у него…» Пользы от обоих вариантов мало.
«Особое мнение»! Было время, вы помните его, Иосиф Виссарионович, так как вам пришлось тогда ратовать за меня – было время, когда меня чуть политически не угробила таким вот «а-ля Ярославский» подходом покойная Конкордия Самойлова. Сколько усилий было сделано Владимиром Ильичем, чтобы вернуть меня в старую «Правду». Противодействие Самойловой и ее группы было сломлено. Самойловой пришлось уйти. Теперь через двенадцать лет – можно взвесить, много ли бы выиграла партия, если бы победила «элементарность» Самойловой. («И пишет в «Правде» по складам элементарная мадам».) Такой ли уж это несущественный пустяк – вышвырнуть из арсенала партии мои десять томов, десять снарядов со взрывчатой начинкой!.. Самойлова была по-своему честной. Но она меня «ела». Будь она теперь членом президиума ЦКК – а это могло быть так, она, вне всякого сомнения, осталась бы тоже при «особом мнении». Элементарность.
Я больше скажу, раз уж мне волей-неволей пришлось писать это письмо, которое останется в партархиве и попадет на глаза нашим партпотомкам, я считаю, что я окреп и существую как «Демьян Бедный», имея потенциально «против себя» громаднейшую часть, «подавляющее большинство» нашей, более мня старой, верхушечной партинтеллигенции, в оформлении революционного сознания и воли которой я не участвовал и потому кажусь ей «явлением десятого разряда». Ольминский пишет (Эпоха «Звезды» и «Правды»), что на меня, нового пришельца, «старики косились». Это мягко сказано. Меня чуть не погубили! Дальше было не легче. «Подавляющее» большинство меня не подавило только потому, что не оно решало целиком дело. Были читатели. Был Ильич и еще кое-кто. И я сам не из навоза сделан: упорствовал. Не скрою: я тоже интеллигентщину недолюбливал. Она труслива. Прихорашивается. «Упрощается».
– Ах, как бы чего мужик или рабочий не сказал!
– Ах, как бы он чего не подумал!
Маскарад прежде бывших добрых старых народолюбцев. Кому он был нужен? Мужик, скажем, барина нюхом берет. Его не обманешь. Страх твой он уловит. У меня этого страха никогда не было и быть не могло. «Вот я – таков, каков уж есть, мужик и сверху и с изнанки. С отцом родным беседу весть я не могу без перебранки». И разве я не перебранивался с мужиками? Натурально. В Калуге, напр., был случай на крестьянском совещании: осердившись, я стал «крыть» мужиков. А они с криками: «Крой! Тебе можно!» – бросились ко мне и чуть не задушили своей лаской. Этой потехе был свидетель тов. Л. Сосновский.
А вот у т. Ярославского есть страх. Он боится за меня. Думает, что меня надо «прихорашивать». «Поддержать престиж»… отнятием вагона. Недавно другой интеллигент, тоже член ЦКК, тов. Смидович, пошел еще дальше в желании «поддержать» мой престиж: он настоятельно рекомендовал мне, отдыхая на солнышке в Сочи, чтобы я надел лапти, взял посох и ушел на несколько лет в странничество. Какой это стариной пахнет! И каким незнанием народа! В этом отношении насколько трезв М. И. Калинин. Когда заграничные, уже чужие, враждебные интеллигенты стали в газетах подхихикивать тоже насчет вагона, Калинин резонно ответил: «Очевидно, они иначе не мыслят: если ты крестьянин или рабочий, то, какую бы ты обязанность ни исполнял, можешь продвигаться по святой Руси на крыше вагона или пешком, с посохом в руках на манер деревенских юродивых, на посмешище врагов рабочих и крестьян» («За эти годы», стр. 9).
Но в отношении меня т. Смидович – а он для меня лицо собирательное – договорился прямо до чудовищных вещей: «Ничего б я вам так не пожелал, Демьян, как того, чтобы на вас обрушилось какое-либо ужасное несчастье. Тогда ваш талант засверкал бы новыми красками. Мы могли бы насладиться дивными стихами…» и т. д.
Крайне своеобразное мнение тов. Смидовича напомнило мне о существовании в прежние блаженные времена особых, тонких ценителей соловьиного пения, которые придерживались того мнения, что для того, чтобы соловей запел исключительно хорошо, надо, чтобы на него тоже «обрушилось ужасное несчастье»: надо ему выколоть глаза, ослепить его.
В применении ко мне можно сказать, что я без вагона в изрядной таки мере «ослепну», но чтоб я лучше от этого запел, сомнительно.
Вот к чему может привести, ничем худым не вызванная, «поддержка» моего престижа.
«Худое», впрочем, как можно догадаться, заключается в том, что я ездил лечиться в вагоне. Правда, я не только лечился, но и работал, так как при мне было все, что мне было нужно. Работаю-то я все-таки как целое «учреждение», как добрый «цех поэтов». Это же неоспоримо? Если бы я, как было условлено с тов. Орджоникидзе, сделал поездку по Кавказу, то отпал бы «личный» момент в пользовании вагоном? Разве не было лучше то, что он, вагон, был бы под рукой, а не вызывать его из Москвы. К чему же создавать неудобства ради «формы»? Но, к сожалению, у меня так сложились обстоятельства, что мне пришлось ехать скорей в Москву. И не по личным делам. У меня их нет: я весь в своей работе. Даже когда я ковыряю пальцем в носу, то это не значит, что я только этим и занят, а не обдумываю, скажем, ответ на «особое мнение».
В постановлении ЦКК, как знак недоверия ко мне по вагонной части, предложено мне пользоваться вагоном только по «разовым мандатам». Против этого я категорически протестую, так как этим создается ненужная, формальная, отнимающая много времени, обременительная канитель. У меня секретарей нет гонять каждый раз за мандатами. Да и вопрос о доверии не пустяк. Если ЦК утвердит вагон за мной, я просил бы об оставлении прежнего порядка пользования вагоном по постоянному персональному, на мое имя, мандату НКПСа. Иначе мне пользоваться им, в сущности, невозможно. Я никогда не буду гарантирован, что мой вагон «всегда готов», а не угнан в какую-либо поездку. «Постоянный» вагон с «разовыми» мандатами – это какой-то нонсенс.
С товарищеским приветом
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
4/ΧΙΙ-25
P.S. Я прошу извинения, что я все-таки был пространен в письме, тогда как я мог в качестве ответа на «особое мнение» ограничиться просто ссылкой на нижеследующую давнюю мою басню, как будто специально написанную в предвидении казуса с вагоном.
КОНЬ И ВСАДНИК
Какой-то всадник благородный, Покамест был он на войне, Не чаял, кажется, души в своем Коне: Сам по три дня сидит, случалося, голодный, А для Коня добудет и сенца, И овсеца, Накормит вовремя и вовремя напоит! Но кончилась война, и честь Коню не та: Товарищ боевой двух добрых слов не стоит, Иль стоит… доброго кнута! Насчет овса уж нет помину: Кормили вьючную скотину Соломой жесткой и сухой, А то и попросту трухой. В работе черной Конь в погоду, в непогоду То тащит кладь, то возит воду… Но подошла опять война, И тощему Коню вновь почесть воздана: Оседлан пышно Конь, причищен и приглажен. Однако же когда, суров и важен, В доспехи бранные наряжен, Сел Всадник на Коня, Конь повалился с ног И, как ни силился, подняться уж не мог. – Хозяин! – молвил он, вздохнув: — По доброй воле Ты обратил Коня в забитого осла, — Так не ищи ж во мне ты прежней прыти боле: Нет прыти у меня: СОЛОМА УНЕСЛА!1914
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
Необходимое пояснение. Эта история с вагоном нашла отражение в мемуарном свидетельстве поэта Александра Жарова. Он рассказывает, как зашел однажды в кабинет к Марии Ильиничне, которая выполняла тогда обязанности по линии партконтроля. Она звонила по телефону Сталину. Разговор был о том, что вагон, в котором с разрешения Ленина разъезжал по фронтам во время гражданской войны Демьян Бедный, теперь ему не нужен и стоит где-то в тупике. И Марии Ильиничне поручено было спросить у Сталина: согласен ли он с тем, чтобы Демьяновский вагон был передан кому-то другому, кто в нем нуждается.
Мария Ильинична говорила спокойно. Вдруг голос ее дрогнул. Сталин, видимо, как-то оборвал ее и положил трубку…
Он сказал: «Согласен. Пусть отберут вагону Демьяна Бедного и отдадут ему мой вагон».
После этого никто уже не покушался на вагон Демьяна.
Демьян Бедный – Сталину
8 октября 1926 г.
Иосиф Виссарионович!
Посылаю – для дальнейшего направления – эпиграмму, которая так или иначе должна стать партийным достоянием. Мне эта х-евина с чувствительным запевом – «зачем ты Троцкого?!.» надоела. Равноправие так равноправие. Демократия так демократия!
Но именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявляют свою семитическую чувствительность.
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
В ЧЕМ ДЕЛО?
Эпиграмма
Скажу – (Куда я правду дену?) — Язык мой мне врагов плодит. А коль я Троцкого задену, Вся оппозиция галдит. В чем дело, пламенная клака? Уж растолкуй ты мне добром: Ударю Шляпникова – драка! Заеду Троцкому – погром!Примечание Д. Бедного: Клака – небольшая часть публики в театре, хлопающая своему любимцу.
Необходимое пояснение. А. Г. Шляпников – член РСДРП с 1901 г., член ЦК РКП(б), с 1926 г. на хозяйственной работе. В 1933 г. исключен из партии. В 1937-м расстрелян.
Сталин – редакциям «Правды» и других газет
2 марта 1927 г.
Дорогие товарищи!
Я очень извиняюсь, что мне пришлось задержать вчера печатание речи. Но вы должны понять, что мною руководили лишь интересы дела. Я говорил на собрании совершенно откровенно. Я поступил так потому, что не было на собрании стенографисток, и знал, что моя речь не будет записываться. Я хотел хоть раз, хоть на одном большом собрании сказать все откровенно об одном из важнейших вопросов нашей международной политики. Ваши корреспонденты записали речь с совершенной полнотой и добросовестностью. Но именно поэтому нельзя ее печатать в таком виде, если мы хотим избегнуть возможных недоразумений и, может быть, даже осложнений во внешнем мире. Поэтому я решил максимально завуалировать речь, сократить ее елико возможно и в таком виде пустить в печать.
С ком. приветом
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. 1 марта 1927 г. Сталин выступил на собрании рабочих Сталинских железнодорожных мастерских Октябрьской дороги. 3 марта речь в изложении опубликована в «Правде».
Сталин – в Политбюро о состоянии здоровья Демьяна Бедного
19 июля 1928 г.
Демьян Бедный в опаснейшем положении: у него открыли 7 % сахара, он слепнет, он потерял 1/2 пуда веса в несколько дней, его жизни угрожает прямая опасность. По мнению врачей, нужно его отправить поскорее за границу, если думаем спасти его. Демьян говорит, что придется взять с собой жену и одного сопровождающего, знающего немецкий язык. Я думаю, что надо удовлетворить его.
И. СТАЛИН
Демьян Бедный – Сталину
20 сентября 1928 г.
Дорогой мой, хороший друг.
После девятинедельного отсутствия я снова дома. Вы меня не узнаете, до того я стал «элегантен». Здорово меня немцы отшлифовали. Был у меня вчера Молотов, и я ему красочно изобразил, какова разница между немецкими врачами и нашими партачами. Молотов прямо руками разводил. Разведете и Вы, когда я повторю Вам то же самое…
В «неметчину» я приехал немым. Меня это так озлобило, что я с азартом стал усваивать немецкий язык. Азарт в чтении был такой, что Ноордены[2] меня пробовали осаживать. Тем не менее, я арендовал немку и два часа в день насиловал ее своими «немецкими» разговорами. Пускался в разговоры, где только было можно и с кем угодно. Нахальство было большое. А результат еще больший. Газеты я читаю свободно, и книги – трудные – почти свободно, а обыкновенные читаю легко. Предвидятся дальнейшие успехи, так как я прикупил немецких книжонок и очень даже замечательных книжонок, которые читаю запоем: книги политические, касающиеся современного положения Германии, или такие, как вышедшие на днях дневники пресловутого генерала Гоффмана[3], которые мною будут весьма использованы, как и многое другое. В моих будущих писаниях неметчина займет большое место. С немцами нам придется расхлебывать сообща политическую] кашу. Хорошие в общем люди. Точней: много там хороших людей, набирающихся понемногу ума-разума, и с каждым днем их делается больше. Некуда им податься.
Да, так это я о чтении. Но я и насобачился в разговоре настолько, что никакой беглейтер «для разговора» мне больше не нужен. Разве для чего другого. Все эти полгода буду два часа ежедневно тренироваться в разговоре с немкой. Во вторичную поездку поеду достаточно мобилизованным, чтобы нахвататься еще больше впечатлений, чем теперь. Хотя и теперь их – на большую книгу. Попробую, что выйдет. Накануне отъезда из Берлина мне знакомый приказчик в книжном магазине преподнес многословную рекламу о выходящей на днях книге «Ди вирклихе ляге ин Русслянд»[4]. Автор – «Лео Троцки». Согласно извещению, «из этой книги мир впервые узнает истину относительно борьбы между «Троцки» и… одним моим приятелем, опирающимся на «коммунистише бюрократии»…
Даже на основании того, что я мог увидеть за такой короткий срок и при таких не совсем благоприятных условиях для наблюдений – я все же пришел к непоколебимому выводу, что если что и идет к концу, то не нынешний, ненавистный Троцкому большевизм. Для этого совсем не нужно пользоваться аргументом «буржуазия разлагается». Наоборот, внешне все сверкает и ошарашивает. Но надо быть совершенно слепым, или абсолютно глупым, или в корне нечестным человеком, чтобы не увидеть, не уразуметь и не признать, что в Европе старый порядок не идет, а неудержимо летит к концу. Потеряна ориентация. И пропал здоровый инстинкт, как он пропадает у существ, которые обречены на гибель. В сущности, это могло бы быть ясно самим обреченным, что дело их конченое. Моментами того или другого из современных горе-политиков «осеняет»: погибаем. Но каждый погибающий – как я со своим диабетом – внезапно испугавшись, спешит успокоить себя надеждами, которые тем обольстительнее, чем они несбыточнее.
Мне очень хочется оформить печатно свои впечатления, но я боюсь, не будет ли моя работа скороспелой и не верней ли будет взяться серьезно за такую книжицу после второй поездки. Я знаю, я чувствую, что кое-что я увидел «по-своему». Но боюсь, поторопившись, сделаться смешным. А мне уже это не пристало. Посмотрим, увидим. Но пока я полон замыслов и желания скорее взяться за работу. Я имел достаточный досуг и соответствующую обстановку, чтобы немного пораздумать о себе, о своей бывшей работе, чтобы без излишней, неискренней скромности сказать себе: много я мог бы сделать лучше, но и то, что сделано, сделано не плохо, и никто другой моей работы пока сделать не может. И скромность тут ни при чем, если я скажу, что чертовски недостает немецким коммунистам вот такого немудрого писателя, как я: немецкий Д. Б[едны]й мог бы иметь еще большее значение, так как в Германии почти все грамотны. Столько материалу для высмеивания и разжигания. И грубый юмор так немецкое простонародье любит!
Дописался я до саморасхваливания. Это потому, что крепко соскучился по всем родном, по вас, и… по самом себе. За границей я был чужой.
Подумал я было махнуть к Вам туда, в Сочи, да передумал, лучше пошлю письмо сначала. Может, Вы так скоро вернетесь, что уж лучше Вас здесь дождаться, а кроме того, тяжело мне будет глядеть – на зажаренного барашка и прочую приятную остроту, к чему нельзя и прикоснуться. Такая досада!!
Баба моя влюбилась в Европу. Вот чистота! Вот порядок! Вот!.. Вот!.. Вот!..
И на это пальцем ткнет, и на это. Димочке, и Светику, и Тамарочке, и Сусанночке!.. Детей много, и каждому есть что взять, а взять не на что. Измучилась бедная женщина. Станет у иного магазинного окна и умирает, умирает. Оттащишь, а она в следующее окно уставится. Глаза мутные, изо рта слюни.
Вот до чего была смешная и жалкая! У нее, наверное, появится тоже диабет, потому что эта болезнь, оказывается, есть результат «перекалки», «перерасхода» своей энергии, организм «отказывается» работать, а сильные волнения именно и дают такую перекалку. И сам теперь буду изображать «цацу», которую нельзя волновать, на которую нельзя наседать, которая, вообще, уже ни к черту не годится, но еще пытается шевелить лапками.
Впрочем, Ноорден в ответ на мое скептическое замечание, что я все равно долго не протяну, ответил остроумно и не без лукавства: «У Вас еще будет достаточно времени, чтобы сделать много справедливого и… несправедливого».
Умный старик.
А кончу я свое «коротенькое» письмо одним пожеланием: не болезни ради, а ради иных результатов, побывать бы Вам под шапкой-невидимкой месяц-другой за границей. Ай-ай-ай, как бы это, представляю я, было хорошо. Ай, как хорошо. Этак с трубочкой в зубах сощурились бы Вы, да поглядели, да усмехнулись, да крякнули, да дернули бы привычно плечом, а потом бы сказали: «во-первых… во-вторых… в-третьих…»
Коротко и ясно[5].
Ясная Вы голова. Нежный человек. И я Вас крепко люблю.
Ваш ДЕМЬЯН
20 сент[ября] 1928 г.
Объединение «Пролетарский театр» – Сталину
Москва, декабрь 1928 г.
Уважаемый товарищ Сталин!
Целиком доверяя Вам как выразителю определенной политической линии, мы, нижеподписавшиеся члены творческого объединения «Пролетарский Театр», хотели бы знать Ваше мнение по следующим вопросам, волнующим не только специальные круги, но, бесспорно, и имеющим общекультурное и общеполитическое значение:
1. Считаете ли Вы, что констатированная партией правая опасность в политике, питаясь теми же корнями, просачивается и в область различных идеологических производств, в частности, в область литературы и театра? Относятся ли к проявлениям правой опасности такие факты, как нашумевший конфликт во МХТ-2 (где советская общественность пока победила), как «головановщина» (не ликвидированная до конца в Большом театре, но поднявшая голову в консерватории, где на ее сторону встала… партийная ячейка!), как поощрение Главискусством сдвига вправо МХТ-1 (где советская и партийная общественность пока бита)?
Считаете ли Вы марксистским и большевистским заявление т. Свидерского (опубликованное в «Рабочей газете») о том, что «всякое (?) художественное произведение уже по своей сущности революционно»? Считаете ли Вы марксистской и большевистской художественную политику, построенную на таком утверждении?
2. Находите ли Вы своевременным в данных политических условиях, вместо того чтобы толкать такую крупную художественную силу, как МХТ-1, к революционной тематике или хотя бы к революционной трактовке классиков, всячески облегчать этому театру соскальзывание вправо, дезорганизовывать идейно ту часть мхатовского молодняка, которая уже способна и хочет работать с нами, сбивать ее с толка, отталкивать вспять эту часть театральных специалистов, разрешая постановку такой пьесы, как «Бег» Булгакова, – по единодушному отзыву художественно-политического совета Главреперткома и совещания в МК ВКП(б), являющейся слабо замаскированной апологией белой героики, гораздо более явным оправданием белого движения, чем это было сделано в «Днях Турбиных» (того же автора)? Диктуется ли какими-либо политическими соображениями необходимость показа на крупнейшей из московских сцен белой эмиграции в виде жертвы, распятой на «Голгофе»?
3. Почему, имея дело с сухой и схематичной агитацией белых газет, мы не полагаемся на «иммунитет» широкого читателя и конфискуем случайно проникающие к нам экземпляры этих газет, отнюдь не думая восстанавливать свободу печати для буржуазии; а имея дело с тою же, по существу, агитацией, но при том искусно замаскированной высоким художественным мастерством «художественников», тем самым во сто крат усугубленной в своей впечатляющей силе, во сто крат более тонкой, действенной и опасной, – благодушно уверены в… «иммунитете» зрителя и щедро тратим народные деньги на подобные инсценировки?
Возможно ли, чтобы в какой-нибудь буржуазной стране (например, в Англии), не находящейся в социалистическом окружении, буржуазная диктатура не только смотрела сквозь пальцы на аналогичные проявления пролетарской идеологии, но и щедро субсидировала их из госбюджета?
Имеем ли мы дело в данном случае с проявлением более высокого в принципе типа советской демократии или же, попросту, с неуместным прекраснодушием?
4. Как расценивать фактическое «наибольшее благоприятствование» наиболее реакционным авторам (вроде Булгакова, добившегося постановки четырех явно антисоветских пьес в трех крупнейших театрах Москвы; при том пьес, отнюдь не выдающихся по своим художественным качествам, а стоящих, в лучшем случае, на среднем уровне)? О «наибольшем благоприятствовании» можно говорить потому, что органы пролетарского контроля над театром фактически бессильны по отношению к таким авторам, как Булгаков. Пример: «Бег», запрещенный нашей цензурой, и все-таки прорвавший этот запрет! в то время как все прочие авторы (в том числе коммунисты) подчинены контролю реперткома.
Как смотреть на такое фактическое подразделение авторов на черную и белую кость, причем в более выгодных условиях оказывается «белая»?
В чем смысл существования Главреперткома, органа пролетарской диктатуры в театре, если он не в состоянии осуществлять до конца свою задачу (что, повторяем, происходит отнюдь не по его вине)?
5. Если все вышеприведенное позволяет говорить о том, что в области художественной политики «не все благополучно», то достаточно ли интенсивна и действенна, по Вашему мнению, та борьба, которая ведется с этим «неблагополучием» и в развитии которой нам приходилось слышать ссылки наиболее последовательных представителей правого «либерального» курса на Ваше сочувствие?
Соответствуют ли истине подобные ссылки, которые мы никак не можем отождествить с хорошо известным нам политическим курсом, представляемым Вами?
Все эти вопросы (особенно последний), как Вы знаете, не могут не волновать широкие круги партийной и советской общественности, интересующейся вопросами культурной революции, и мы просили бы Вас дать на них такой же прямой и четкоориентирующий ответ, какой мы привыкли слышать от Вас по другим вопросам.
Члены объединения «Пролетарский театр» В. Билль-Белоцерковский (драматург), Е. Любимов-Ланской (режиссер, директор Театра им. МГСПС), А. Глебов (драматург), Б. Рейх (режиссер), Ф. Ваграмов (драматург), Б. Вакс (драматург и критик), А. Лацис (теаработник и критик), Эс-Хабиб Вафа (драматург), Н. Семенова (теаработник и критик), Э. Бескин (критик), П. Арский (драматург).
По поручению членов группы: В. Билль-Белоцерковский,
А. Глебов, Б. Рейх.
Сталин – В. Н. Билль-Белоцерковскому
1 февраля 1929 г.
Т. Билль-Белоцерковский!
Пишу с большим опозданием. Но лучше поздно, чем никогда.
1). Я считаю неправильной саму постановку вопроса о «правых» и «левых» в художественной литературе (а значит, и в театре). Понятие «правое» или «левое» в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно – внутрипартийное. «Правые» или «левые» – это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр. Эти понятия могут быть еще применимы к тому или иному партийному (коммунистическому) кружку в художественной литературе. Внутри такого кружка могут быть «правые» и «левые». Но применять их в художественной литературе вообще, где имеются все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных, – значит поставить вверх дном все понятия. Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка, или даже понятиями «советское», «антисоветское», «революционное», «антиреволюционное» и т. д.
2). Из сказанного следует, что я не могу считать «головановщину» ни «правой», ни «левой» опасностью, – она лежит за пределами партийности. «Головановщина» есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться, что он не может освободиться от своих ошибок, что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками, что его надо заставить таким образом уйти за границу.
Или, например, «Бег» Булгакова, который тоже нельзя считать проявлением ни «левой», ни «правой» опасности. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белое дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» эксплуататоров, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно.
3). Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» – рыба. Легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое не есть самое хорошее. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес пролетарского характера. А соревнование – дело большое и серьезное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться формирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы. Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?
4). Верно, что т. Свидерский сплошь и рядом допускает самые невероятные ошибки и искривления. Но верно также и то, что Репертком в своей работе допускает не меньше ошибок, хотя и в другую сторону.
Вспомните «Багровый остров», «Заговор равных» и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра.
5). Что касается «слухов» о «либерализме», то давайте лучше не говорить об этом, – предоставьте заниматься «слухами» московским купчихам.
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. В приведенный текст письма, адресованного драматургу, внесены редакционные поправки, сделанные при подготовке его к публикации в собрании сочинений Сталина 1949 года.
Сталин – украинским литераторам
12 февраля 1929 г.
(Устно, неправленая стенограмма).
… Вы спрашиваете, какие перспективы национальной культуры. Ясно, она будет развиваться. Конечно, мы могли бы, придя в страну, сказать: «Ну, мы маленько подождем, как будет партийный аппарат национализироваться на Украине, литература, профессиональный аппарат, государственный и проч.» Мы на это так смотреть не можем, мы должны это дело двинуть вперед активно. Вот насчет темпа – в этом и состоит покровительственная политика советской власти в отношении развития национальных культур, т. е. то, чем советская власть принципиально отличается от всякой другой власти. А всякая другая власть боится развивать национальную культуру, потому что по-буржуазному – развитие других национальностей есть решение в сторону… (не слышно).
Перспективы какие? Перспективы такие, что национальные культуры даже самых малых народностей СССР будут развиваться и мы будем им помогать. Без этого двинуться вперед, поднять миллионные массы на высшую ступень культуры, и тем самым сделать нашу промышленность, наше сельское хозяйство обороноспособными, – без этого мы не сможем.
Крестьянин – одно дело, если он 4 класса прошел, некоторые элементарные агрономические знания приобрел, если может ориентироваться, – такой крестьянин поднимает сельское хозяйство; другое дело – абсолютно безграмотный, элементарных знаний нет. На каком языке его образовывать? Только на народном, потому что других языков он не знает.
Перспективы такие, что национальные культуры будут развиваться, а советская власть должна развитию национальных культур помогать. Об этом т. Каганович говорил с вами, долго я распространяться не буду, но два слова скажу, что надо различать в национальной культуре две стороны: форму и содержание.
Когда говорят – форма ничего не значит – это пустяки. От формы страшно много зависит, без нее никакого содержания не бывает. Форма – национальная, содержание – социалистическое. Это не значит, что каждый литератор должен стать социалистом, марксистом и проч. Это не необходимо. Это значит, что в литературе, поскольку речь идет о литературе, должны появиться новые герои. Раньше обычно героев иных выдвигали, теперь появиться должны герои из народа, из крестьян, из буржуазии – в том освещении, которого они заслуживают.
Взять, например, таких попутчиков, – я не знаю, можно ли строго назвать попутчиками этих писателей, – таких писателей, как Всеволод Иванов, Лавренев. Вы, может быть, читали «Бронепоезд» Всеволода Иванова, может быть, многие из вас видели его, может быть, вы читали или видели «Разлом» Лавренева. Лавренев не коммунист, но я вас уверяю, что эти оба писателя своими произведениями «Бронепоезд» и «Разлом» принесли гораздо больше пользы, чем 10–20 или 100 коммунистов-писателей, которые пичкают, пичкают, ни черта не выходит: не умеют писать, нехудожественно.
Или взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мыслей. Однако своими «Турбиными» он принес все-таки большую пользу, безусловно.
КАГАНОВИЧ: Украинцы не согласны (шум, разговоры).
СТАЛИН: А я вам скажу, я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите «Дни Турбиных», – общий осадок впечатления у зрителя остается какой? Несмотря на отрицательные стороны, – в чем они состоят, тоже скажу, – общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, – это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди крепкие, стойкие, по-своему честные в кавычках, как Турбин и его окружающие, даже такие люди, безукоризненные по-своему и честные по-своему в кавычках, должны были признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» – это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма.
ГОЛОС: И сменовеховства.
СТАЛИН: Извините. Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие меры – не революционная и революционная[6], советская – не советская, пролетарская – не пролетарская. Но требовать, чтобы и литература была коммунистической – нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая, там изображена правая опасность. Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе. Или, например, «Бег», его запретили, – это правая опасность. Это неправильно, товарищи. Правая и левая опасность – это чисто партийное. Правая опасность – это, значит, люди несколько отходят от линии партии, правая опасность внутри партии. Левая опасность – это отход от линии партии влево. Разве литература партийная? Это же не партийная, конечно, это гораздо шире литература, чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие. Там можно говорить о пролетарском характере литературы, об антипролетарском, о рабоче-крестьянском характере, об антирабоче-крестьянском, о революционном, не революционном, о советском, антисоветском. Требовать, чтобы беллетристическая литература и автор проводили партийную точку зрения, – тогда всех беспартийных надо изгонять. Правда это или нет?
Возьмите Лавренева, попробуйте изгнать человека, он способный, кое-что из пролетарской жизни схватил довольно метко. Рабочие прямо скажут, пойдите к черту с правыми и левыми, мне нравится ходить на «Разлом», и я буду ходить, – и рабочий прав. Или возьмите Всеволода Иванова «Бронепоезд». Он не коммунист, Всеволод Иванов. Может быть, он себя считает коммунистом (шум, разговоры). Ну, он коммунист липовый (смех). Но это ему не помешало написать хорошую штуку, которая имеет величайшее революционное значение, воспитательное значение бесспорно. Как вы скажете – он правый или левый? Он ни правый, ни левый. Потому что он не коммунист. Нельзя чисто партийные мерки переносить механически в среду литераторов.
Я считаю, что тов[арищ] в очках, там сидящий, не хочет меня понять. С этой точки зрения, с точки зрения большего масштаба и с точки зрения других методов подхода к литературе, я и говорю, что даже и пьеса «Дни Турбиных» сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты, в этой пьесе. Эти Турбины по-своему честные люди, даны как отдельные оторванные от своей среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисовать настоящего положения вещей, не хочет обрисовать того, что, хотя они, может быть, и честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят.
У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины – Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и проч. И никак нельзя понять, за что же их собственно гонят большевики, – ведь и Серафима и этот приват-доцент, оба они беженцы, по-своему честные неподкупные люди, но Булгаков, – на то он и Булгаков, – не изобразил того, что эти, по-своему честные люди, сидят на чужой шее. Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее. Вот подоплека того, почему таких, по-своему честных людей, из нашей страны вышибают. Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает.
Но даже у таких людей, как Булгаков, можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбиных». Даже в такой пьесе, даже у такого человека можно взять кое-что для нас полезное. Почему я все это говорю? Потому, что и к литературе нужно прилагать более широкие масштабы при оценке. Правый или левый не подходит. Можно говорить – пролетарский или антипролетарский, советский или антисоветский.
Взять, например, «Бруски» Парфенова[7]. Сейчас самым характерным для деревни является то, что нет одной деревни. Есть две деревни. Новая деревня, которая поворачивается к городу, ждет от него тракторов, агрономических знаний и т. д., хочет жить по-новому, по-новому работать, связаться с городом. Это новая деревня. И есть старая деревня, которая чихать хочет на все новое, на трактора, на агрономические знания и т. д. Старая деревня хочет жить по старинке, – и гибнет. У Парфенова в «Брусках» замечательно обрисовываются эти две деревни, их борьба между собой.
Должна ли быть литература, рисующая деревню, крестьянской? Вот парфеновские «Бруски». Парфенова нельзя назвать крестьянским писателем, хотя он в своем произведении пишет только о крестьянстве, а о городе у него нет ни слова…
Конечно, неправильно, когда говорят, что на Украине литература должна быть чисто крестьянская. Неправильно это. Совершенно правильно то, что раньше рабочие на Украине были русские, а теперь – украинцы. Состав рабочего класса, конечно, будет меняться и будет пополняться выходцами из окружающих деревень. Это общий закон национального развития во всем мире. Если вы возьмете венгерские города лет 40 тому назад, они были немецкими, а теперь стали венгерскими. Возьмите латышские города – они раньше были эстонские, теперь стали латышскими. Состав рабочего класса должен пополняться из окружающих деревень. За волосы нельзя вытаскивать национальности, это трудно и может вызвать отпор со стороны русских элементов и дать некоторый повод русским шовинистам; но, если взять естественный процесс, – не отставать от этого процесса, – национализация пролетариата должна быть и шаг за шагом должна идти. Это общий закон, и смычка национальная, смычка между городом и деревней пойдет.
Украинские рабочие в качестве героев произведений будут выступать, их много теперь. Даже коренные русские рабочие, которые отмахивались раньше и не хотели изучать украинского языка, – а я знаю многих таких, которые жаловались мне: «Не могу, тов. Сталин, изучать украинский язык, язык не поворачивается», – теперь по-иному говорят, научились украинскому языку. Я уже не говорю о новых рабочих, за счет которых будет пополняться состав рабочего класса. У вас сложится такая литература, как здесь, у русских. Там будут изображены и рабочие, и крестьяне, и буржуазия, отрицательно или положительно, – все зависит от вкуса. Они будут изображены так же, как и в других советских странах. И разговоры насчет того, что у вас только крестьянская литература должна быть в смысле героев, они скрывают некоторый шовинизм насчет того, что, мол, плохо дело пошло; даже работники Украины как бы затормозили это дело и считают, что литература для рабочих должна быть русская, а для крестьян – украинская. Это – сознательная или бессознательная махинация у людей, которые не хотят понять того, что рабочий класс все время будет пополняться выходцами из окружающих деревень. Вот вам вопрос о перспективах.
Значит, о судьбах национальных культур в эпоху перехода к социализму, в эпоху диктатуры пролетариата, и о характере украинской литературы я сказал…
Необходимое пояснение. Это застенографированное (и неправленое!) выступление следует воспринимать с учетом замедленности сталинской речи и «значительности» его мысли. Напрашивается предположение, что вождь был не вполне трезв.
Сталин – писателям-коммунистам из РАППа
28 февраля 1929 г.
Уважаемые тов[арищи]!
1). Вы недовольны, что я в разговоре с т. Авербахом защищал т. Б[илля]-Белоцерковского от нападок журнала «На Литпосту». Да, я действительно защищал т. Б[илля]-Белоцерковского. Защищал, так как нападки на т. Б[илля]-Белоцерковского, изложенные в «На Литпосту», несправедливы в основном и недопустимы. Пусть «На Литпосту» ищет себе наивных людей где угодно, – серьезный читатель никогда не поверит ему, что т. Б[илль]-Белоцерковский, автор «Шторма», «Голоса недр», представляет «деклассированного люмпена», что заявление т. Б[илля]-Белоцерковского о Мейерхольде и Чехове есть «повторение заявлений эмигрантской печати», что т. Б[илль]-Белоцерковский является «объективным (?!) классовым врагом» (см. «На Литпосту» № 20–21). Критика должна быть прежде всего правдивой. Вся беда в том, что критика «На Литпосту» неправдива и несправедлива в основном.
2). Допустил ли т. Б[илль]-Белоцерковский ошибку в своем заявлении о Мейерхольде и Чехове? Да, допустил некоторую ошибку. Насчет Мейерхольда он более или менее не прав, – не потому, что Мейерхольд коммунист (мало ли среди коммунистов людей «непутевых»), а потому, что он, т. е. Мейерхольд, как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные черты (кривляние, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону «классического» прошлого), несомненно связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду «чужих». Впрочем, как видно из материалов, приложенных к вашему письму, т. Б[илль]-Белоцерковский сам, оказывается, признал свою ошибку насчет Мейерхольда еще за два месяца до появления критики «На Лит-посту»… Что касается Чехова, то надо признать, что т. Б[илль]-Белоцерковский в основном все же прав, несмотря на то, что он чуточку перебарщивает. Не может быть сомнения, что Чехов ушел за границу не из любви к советской общественности и вообще поступил по-свински, из чего, однако, не следует, конечно, что мы должны всех Чеховых гнать в шею.
Но можно ли на основании этих перегибов, допущенных т. Б[иллем]-Белоцерковским и в основном уже исправленных им, квалифицировать Б[илля]-Белоцерковского как «классового врага»? Ясно, что нельзя. Более того: квалифицировать так Б[илля]-Белоцерковского – значит допустить худший перегиб из всех худших перегибов. Так людей советского лагеря не собирают. Так можно их лишь разбросать и запутать в угоду «классовому врагу».
3). «Но, может быть, Вы (т. е. я) против резкости тона?» – спрашиваете вы. Нет, дело тут не в резкости тона, хотя тон тоже имеет немалое значение. Дело в том, во-первых, что критика «На Литпосту» в отношении Б[илля]-Белоцерковского неправдива и неправильна в основном (она правильна лишь в частностях). Дело в том, во-вторых, что РАПП, видимо, не умеет правильно построить литературный фронт и расположить силы на этом фронте таким образом, чтобы естественно получился выигрыш сражения, а значит, и выигрыш войны с «классовым врагом». Плох тот военачальник, который не умеет найти подобающее место на своем фронте и для ударных и для слабых дивизий, и для кавалерии и для артиллерии, и для регулярных частей, и для партизанских отрядов. Военачальник, не умеющий учитывать особенности всех этих разнообразных частей и использовать их по-разному в интересах единого и нераздельного фронта, – какой же это, прости господи, военачальник? Боюсь, что РАПП иногда смахивает на такого именно военачальника.
Судите сами: общая линия у вас в основном правильна, сил у вас достаточно, ибо вы располагаете целым рядом аппаратов и печатных органов; как работники – вы, безусловно, способные и незаурядные люди; желания руководить – хоть отбавляй, – и все же силы у вас расположены на фронте; да и сам фронт построен у вас таким образом, что вместо гармонии получается нередко какофония, вместо успехов – прорывы.
Вы говорите о «бережном отношении к попутчикам», о «коммунистическом перевоспитании их в товарищеской обстановке». И вместе с тем вы готовы изничтожить Б[илля]-Белоцерковского и целую группу революционных литераторов за пустяк! Где же тут логика, последовательность, пропорция? Много ли у вас таких революционных драматургов, как т. Б[илль] – Белоцерковский?
Возьмите, например, такого попутчика, как Пильняк. Известно, что этот попутчик умеет созерцать и изображать лишь заднюю нашей революции. Не странно ли, что для таких попутчиков у вас нашлись слова о «бережном» отношении, а для Б[илля]-Белоцерковского не оказалось таких слов? Не странно ли, что ругая Б[илля]-Белоцерковского «классовым врагом» и защищая от него Мейерхольда и Чехова, «На Литпосту» не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с «классовым врагом» в художественной литературе?
Дело, очевидно, не в резкости тона, а в вопросе о руководстве сложнейшим фронтом советской художественной литературы. А руководить этим фронтом призваны вы, и только вы, ибо вы есть «Российская Ассоциация пролетарских писателей». Вы забыли, что вам слишком много дано. Забыли, что кому много дано, с того много и спросится. Смешно жаловаться и скулить: «Нас критикуют», «нас травят». Кого же еще критиковать и «ругать», как не вас?
4). Правильно ли поступил т. Керженцев, выступив в защиту Б[илля]-Белоцерковского от нападок «На Литпосту»? Я думаю, что тов. Керженцев поступил правильно. Вы подчеркиваете формальный момент: «У ЦК нет еще формального решения». Но неужели вы сомневаетесь, что ЦК не поддержит политики изничтожения Б[илля]-Белоцерковского, проводимой «На Литпосту»? За кого же вы принимаете ЦК? Может быть, в самом деле поставить вопрос на рассмотрение ЦК? По-дружески советую вам не настаивать на этом: невыгодно, провалитесь наверняка.
5). В ряду вопросов, поставленных в вашем письме, есть один вопрос, который вы почему-то не захотели сформулировать и поставить ясно, но который сквозит в каждой строчке письма. Я имею в виду вопрос о моей переписке с Б[иллем]-Белоцерковским. Вы, как мне кажется, думаете, что моя переписка с Б[иллем]-Белоцерковским не случайна, что она, эта переписка, является признаком какой-то перемены в моих отношениях к РАППу. Это неверно. Я послал т. Б[иллю]-Белоцерковскому свое письмо в ответ на коллективное заявление ряда революционных писателей во главе с т. Б[иллем]-Белоцерковским. Самого Б[илля]-Белоцерковского я лично не знаю, – не успел еще, к сожалению, познакомиться с ним. В момент, когда я писал свой ответ, я не имел представления о разногласиях между РАППом и «Пролетарским театром». Более того – я не знал еще об отдельном существовании «Прол[етарского] театра». Я и впредь буду отвечать (если будет время) любому товарищу, имеющему прямое или косвенное отношение к нашей революционной литературе. Это нужно. Это полезно. Это, наконец, мой долг.
Мне думается, что ваши разногласия с пролетарскими писателями типа Б[илля]-Белоцерковского не имеют и не могут иметь существенного характера. Вы могли бы и должны найти общий язык с ними даже при наличии некоторой организационной «неувязки». Это можно было и нужно сделать, ибо разногласия у вас в конце концов – микроскопические. Кому нужна теперь «полемика» вроде той, которая напоминает в основном пустую перебранку: «Ах, ты, паскуда!» – «От паскуды слышу»? Ясно, что никому не нужна такая «полемика».
Что касается моих отношений к РАППу, они остаются такими же близкими и дружескими, какими были до сегодняшнего времени. Это не значит, что я отказываюсь критиковать ее ошибки, как я их понимаю.
С коммунистическим] приветом.
И. СТАЛИН
P.S. Ваш вопрос о т. Лебедеве-Полянском и его «теории» отпал: нельзя требовать от ЦК, чтобы он «реагировал» на все и вся на свете.
И. СТ[АЛИН]
Необходимые пояснения. В. Н. Билль-Белоцерковский публично приветствовал отъезд за границу Михаила Чехова и задержку Мейерхольда на гастролях в Париже, пояснив, что «рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет» и что «не Чехов и Мейерхольд уезжают, а наоборот, советская общественность «их уезжает». Руководство РАППа, воюющее с Билль-Белоцерковским, воспользовалось выступлением драматурга и обвинило его в «ком-чванстве и презрении к культуре прошлого», а тот пожаловался Сталину. Вот почему Сталин пишет в РАПП.
Е. Микулина о встрече со Сталиным
Май 1929 г.
Как пришла мне в голову дерзкая мысль послать свой сборник очерков о социалистическом соревновании тов. Сталину – я сама не знаю. Я не могу точно уловить момента ее возникновения и того исходного пункта, от которого она могла зародиться.
Я знаю только то, что, когда я написала большую половину книги, утром, лежа в постели, я перебирала в уме написанное, и у меня вдруг явилась необыкновенная уверенность в важности и правдивости очерка. И показалось очень простым отдать их прочесть Сталину. Именно ему, потому что никому из вождей недорога так индустриализация, как ему. От этой мысли я закончила книгу в четыре дня. На меня напала какая-то лихорадка творчества. Я больше волновалась, чем писала.
Но вот книга была написана. Я понесла ее в ГИЗ к своему издателю Файбышеву. Перелистывая брошюру, он поморщился: «Как бы мне не попало за эту книгу. Сектор ведь у меня крестьянский, а в книге больше говорится о рабочих». Мне стало страшно за судьбу книги. Неужели никто не узнает, как проходит на фабриках соревнование? Я сказала ему: «Знаете что? Я снесу ее в ЦО Работниц на отзыв». В тот момент, когда я говорила с ЦО Работниц, у меня снова возникла мысль отнести книжку Сталину Но как, как это сделать? На другой день, сразу решившись и не давая себе времени на размышления, я позвонила в ЦК – кабинет секретаря тов. Сталина. Чей-то голос ответил:
– Я слушаю.
– Я хочу передать тов. Сталину материал о том, как проходит соревнование на предприятиях, – говорю я, чувствуя, что от волнения у меня замирает сердце.
Голос отвечает:
– Ну, что же, пожалуйста, пришлите.
– Но я хочу видеть лично, – возражаю я, собрав последний остаток своих сил.
– Приходите и принесите.
Трубка вешается…
Я никогда не забуду этого дня, потому что он был днем чудес. В тот же день совершенно неожиданно меня позвали к телефону. Я, конечно, не ждала ответа из ЦК, а, лежа на кровати, смотрела, как по потолку ползет первая муха. В телефоне голос, как будто знакомый.
– Мне нужна Микулина.
– Это и есть Микулина, я сама.
– Ну, так слушайте, товарищ. С Вами будет говорить сейчас Сталин.
– Кто? – переспросила я. – Сталин?
– Да, с Вами будет говорить Сталин, не отходите от телефона.
Ту секунду, что я стояла у молчавшей трубки, я вспоминаю, как бешено вертящийся хаос. Уши у меня горели холодным огнем, а по животу ползли мурашки. Наконец трубка ожила и незабываемый, и теперь самый любимый из всех голосов на свете, – голос спросил:
– Вы хотели со мной говорить?
От того чудесного, что на меня накатилось, я могла только ответить:
– Да.
Трубка снова заговорила:
– Я согласен дать Вам предисловие к Вашей книжке.
– Правда? – закричала я, забыв о страхе. – Вы ее прочли? Всю? Она Вам понравилась?
– Да, я ее прочел, – отвечает Сталин. – Это прекрасная, правдивая книга. Надо дать ее в «Правду» вместо фельетона.
– Но мой ГИЗ? Мой договор с ним? Хотя, если Вы хотите, я его разорву, – кричу я.
– Нет, – сказал Сталин, – я не хочу, чтобы Вы материально пострадали. Мы сделаем лучше так: мы дадим отрывки из книги. Это будет Вам хорошо для тиража.
Я готова была влезть в трубку, чтобы увидеть Сталина ближе. И охваченная этим желанием, забыв обо всем, я заорала в трубку:
– Я хочу Вас увидеть, хоть одним краешком глаза, хоть на минутку.
В ответ послышался хохот.
– Зачем же одним глазком, можно – двумя. Вы можете прийти в пятницу в два часа?
– Могу ли я, вот вопрос. Конечно, могу, – закричала я. И добавила: – Ой, я умираю, я не могу. Неужели это Вы действительно со мной говорите? Нет, я должна умереть.
Трубка опять захохотала.
– Нет, не умирайте, товарищ. Надо писать побольше правдивых рассказов. А простите, разрешите задать Вам один нескромный вопрос: Вы партийная?
– Нет, беспартийная.
– Еще один нескромный вопрос: сколько Вам лет?
– Много, – вырвалось у меня. Но тотчас же я спохватилась: – Не знаю – много или нет – 24 года…
– Ну ладно, товарищ, так Вы договоритесь с ГИЗом – не возражает ли он об опубликовании в «Правде» части книги. И приходите в пятницу.
– Если не умру от счастья, – крикнула я.
– Нет, не умирайте. До свидания…
В пятницу с утра меня охватил страх, что я не увижу Сталина, он, наверное, забыл, что я приду? Он будет занят, и я его не увижу… думала, поднимаясь по лестнице ЦК ровно 40 минут второго.
В приемной секретарей та же самая женщина удивленно посмотрела на меня, когда я молча села в кресло.
– Вам что надо, товарищ?
Стараясь говорить как можно незаметнее, я ей сказала:
– Меня к двум часам вызвал Сталин.
Я видела, как недоверчиво скривились у нее губы, и тот момент, что бралась она за телефонную трубку к секретарю Сталина, – был для меня похож на минуту перед казнью. Вдруг оттуда ответят: принять не могут.
Мне хотелось броситься на нее, вырвать трубку, чтобы оттянуть решающий момент, но она уже говорила:
– Ко мне пришла товарищ Микулина из…
То, что ее длинное лицо стало еще длиннее и она не договорила фразы, положила трубку, сказало мне, еще до ее слов: «Можете, товарищ, идти», что меня примут.
– Вы найдете дорогу, товарищ? Комната 521, по коридору налево, – голос у нее сладкий-сладкий…
Я шла по толстой полотняной дорожке, стараясь ступать на носки, но туфли отчаянно скрипели. Дверь поддалась упруго и мягко. В большой комнате за конторкой, обставленной телефонами, сидел человек.
– Вы Микулина?
Я утвердительно кивнула головой. Из двери, которая направо, вышел очень худой и длинный человек с лохматой головой. Это был Товстуха, секретарь Сталина. Он посмотрел на меня и сказал, показывая рукой на дверь налево:
– Идите к Сталину.
– Одна? – Более глупого сказать, конечно, было нельзя, но у меня был такой испуганный, жалкий вид, что Товстуха добавил:
– Да не бойтесь Вы так.
Еще один шаг через порог, и я в кабинете. Я не увидела ничего: ни обстановки, ни комнаты, ничего, кроме фигуры в темном костюме, идущей спиной ко мне по дорожке к столу. Еще секунда, и фигура, сделав три шага, обернулась и пошла ко мне навстречу. Я увидела не то резкое, строгое лицо, которое стоит у каждого из нас на столе и которое смотрит со всех витрин в городе. Нет, я увидела бесконечно добрые глаза и незабываемую улыбку. И все лицо было мягче, округлей и окружено пеплом волос. И густые волосы, зачесанные кверху, и усы, все было пепельное от седины. И первая мысль, мелькнувшая у меня, была: Сталин поседел. И от этого он стал удивительно близким.
Улыбающееся лицо наклонилось ко мне:
– Это Вы – Микулина? Вы написали книгу? Ну, здравствуйте.
Крепкое, сильное пожатие горячей сухой руки, я вся, красная от смущения, сижу в кресле у стола.
А через стол на меня смотрит все время в улыбку сталинское лицо и такие умные глаза, видящие насквозь все самое сокровенное.
– Вы хотели мне что-то сказать?
– Я ничего не скажу, потому что я страшно боюсь и совсем обалдела, – пролепетала я.
– Ха-ха-ха, – засмеялся Сталин. И в смехе показались зубы. И все лицо, усеянное крупными рябинами, тоже засмеялось.
– Боитесь? Не надо бояться. Расскажите, почему Вы написали эту брошюру?
– А как Вы ее находите? – это я говорю.
Он похлопал рукой по моей рукописи, лежавшей у него на столе.
– Правдивая книга, в ней действительно показана жизнь фабрики. А откуда Вы знаете производство? В книге затронуты специальные вопросы, – спрашивает Сталин.
– Я жила в текстильных районах, и потом, я знаю некоторые производства…
– А что? – И он ближе наклоняется ко мне, и глаза смеются, смеются без конца. – В партию не берут?
Я заряжаюсь его весельем и отвечаю, улыбаясь: нет, не берут.
– Говорят, небось, буржуазный элемент?
Мне хочется его расцеловать, расцеловать каждую рябиночку, и я, улыбаясь во весь рот, повторяю за ним: буржуазный элемент.
– А как с комсомолом?
Я коротенько говорю о мужьях-коммунистах, у которых жены-комсомолки постепенно превращаются в домашних хозяек.
На минуту лицо его сереет и делается строгим.
– Да, в быту коммунисты часто бывают плохими учителями. Ну, ничего, это изживется. – И он снова смеется и, вставая, говорит: – Езжайте в совхоз, пишите правдивую книгу и собирайте людей. Ну, а что Вы теперь, не боитесь меня?
– Нет, – отвечаю я. – Разве можно бояться человека, который 20 минут подряд улыбался. А как же я буду собирать людей, я такая маленькая, – поднимаю я на него глаза.
– Маленькая, – говорит он с укором. – Раньше царей на престол сажали в 16 лет, а Вам уже 24, а Вы все маленькая. 24 года – это достаточный возраст. До свидания, товарищ, я предисловие Вам дам на днях. Пишите, работайте, до свидания.
– А кто меня пошлет в совхоз?
– После этой книжки Вам дорога открыта.
Опять моя рука растворяется в его сильном пожатии, и я выхожу. На пороге оглянулась. Сталин стоял, улыбаясь, подняв руку к усам. И вот таким улыбающимся, бесконечно добрым и ласковым я унесла его образ с собой.
Как прекрасно то, что в великих людях, до невозможного занятых работой, под кажущейся строгостью и резкостью скрыта такая бесконечная нежность, внимание и чуткость к людям.
Это трогает, это делает вождей, которых мы любим за их дела, делает их страшно близкими, родными, делает их живыми для нас…
А Сталин… Именно он, про грозность которого ходят легенды, – кто знал, что он сможет уделить столько внимания к начинающей писать девчонке, не побоявшейся обратиться к нему? Это лишний раз показывает то величие человека, умеющего находить слова от тех, которые потрясают мир, до тех, которые наполняют счастьем, несказанной радостью сейчас меня.
Необходимое пояснение. Предисловие Сталина к брошюре Е. Микулиной «Соревнование масс» опубликовано в «Правде» 22 мая 1929 г. Госиздат издал брошюру тиражом 100 тыс. экз.
Сталин – начальнику Главискусства Феликсу Кону о критической заметке журналистки Руссовой по поводу брошюры Е. Микулиной «Соревнование масс»
9 июля 1929 г,
Тов. Феликсу Кон
Копия секретарю областного бюро ЦК
Иваново-Вознесенской области
т. Колотилову
Тов. Кон!
Заметку т. Руссовой о брошюре т. Микулиной («Соревнование масс») получил. Мои замечания на этот счет:
1). Рецензия т. Руссовой производит впечатление слишком односторонней и пристрастной заметки. Я допускаю, что прядилки Бардиной нет в природе и в Зарядье нет прядильной. Допускаю также, что Зарядьевская фабрика «убирается еженедельно». Можно признать, что т. Микулина, может быть, будучи введена в заблуждение кем-либо из рассказчиков, допустила ряд грубых неточностей, и это, конечно, нехорошо и непростительно. Но разве в этом дело? Разве ценность брошюры определяется отдельными частностями, а не ее общим направлением? Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др., но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?
В чем состоит достоинство брошюры т. Микулиной? В том, что она популяризирует идею соревнования и заряжает читателя духом соревнования. В этом суть, а не в отдельных частных ошибках.
2). Возможно, что в связи с моим предисловием к брошюре т. Микулиной критики ждали от этой брошюры слишком многого и чего-то необыкновенного и теперь, разочаровавшись в своих ожиданиях, решили наказать за это автора брошюры. Но это неправильно и несправедливо. Брошюра т. Микулиной, конечно, не является научным произведением. Брошюра т. Микулиной есть рассказ о делах соревнования масс, о практике соревнования. И только. Не вина т. Микулиной, если мое предисловие создало слишком преувеличенное мнение об ее, по сути дела, очень скромной брошюрке. Нельзя за это наказывать автора брошюры, а также читателей брошюры изъятием брошюры из продажи. Изымать из продажи можно лишь произведения не советского направления, произведения антипартийные, антипролетарские. Ничего антипартийного и несоветского в брошюре т. Микулиной нет.
3). Т. Руссова особенно возмущена тем, что т. Микулина «ввела в заблуждение тов. Сталина». Нельзя не ценить заботу о тов. Сталине, проявленную в данном случае т. Руссовой. Но она, эта забота, мне кажется, не вызывается необходимостью.
Во-первых, не так-то легко «вводить в заблуждение тов. Сталина».
Во-вторых, я нисколько не каюсь в том, что предпослал предисловие к незначительной брошюре неизвестного в литературном мире человека, ибо я думаю, что брошюра т. Микулиной, несмотря на ее отдельные и, может быть, грубые ошибки, принесет рабочим массам большую пользу.
В-третьих, я решительно против того, чтобы давать предисловия только к брошюрам и книгам литературных «вельмож», литературных «имен», «корифеев» и т. п. Я думаю, что нам пора отрешиться от этой барской привычки выдвигать и без того выдвинутых литературных «вельмож», от «величия» которых стоном стонут наши молодые, никому не известные и всеми забытые литературные силы.
У нас имеются сотни и тысячи молодых способных людей, которые всеми силами стараются пробиться снизу вверх, для того чтобы внести свою лепту в общую сокровищницу нашего строительства. Но их попытки часто остаются тщетными, так как их сплошь и рядом заглушают самомнение литературных «имен», бюрократизм и бездушие некоторых наших организаций, наконец, зависть (которая еще не перешла в соревнование) сверстников и сверстниц. Одна из наших задач состоит в том, чтобы пробить эту глухую стену и дать выход молодым силам, имя которым легион. Мое предисловие к незначительной брошюре неизвестного в литературном мире автора является попыткой сделать шаг в сторону разрешения этой задачи. Я и впредь буду давать предисловия только к простым и некричащим брошюрам простых и неизвестных авторов из молодых сил. Возможно, что кой-кому из чинопочитателей не понравится подобная манера. Но какое мне до этого дело? Я вообще не любитель чинопочитателей…
4). Я думаю, что следовало бы товарищам иваново-вознесенцам призвать т. Микулину в Иваново-Вознесенск и «надрать ей уши» за те ошибки, которые она допустила. Я отнюдь не против того, чтобы пробрали хорошенько в прессе т. Микулину за ее ошибки. Но я решительно против того, чтобы толкнуть ко дну и поставить крест над этой безусловно способной писательницей.
Что касается изъятия брошюры т. Микулиной из продажи, то эту дикую мысль следовало бы, по-моему, оставить «без последствий».
С комм, приветом
И. СТАЛИН
Молотов – Сталину о романе Ремарка
21 декабря 1929 г.
Здравствуй, Коба!
Пишу сегодня записку Стецкому о книге Ремарка «На западе без перемен». Я решительно против массового распространения этой тупой буржуазно-пацифистской литературы. Пошленькое предисловие Радека достойно этого «левого» полубуржуазного журналиста. Прочти эту книжку, в ней есть и яркие страницы о фронтовых людях, рассматриваемых автором архиограниченно – только как полуживотных и полумещан (всех сплошь!)…
Жму твою руку, пятидесятилетнего! Ко всему прочему должен добавить по-честному, что в своей работе, развитии и пр[очем] многим обязан тебе, твоей помощи.
Привет
В. МОЛОТОВ
Необходимое пояснение. Книга Эриха Марии Ремарка из-за предисловия Радека после 1937 г. попала в «Спецхран». В издании 1959 г. (пер. Ю. Афонькина) роман назван «На западном фронте без перемен».
Сталин – А. М. Горькому в Сорренто
11 июня 1929 г.
Алексей Максим[ович]!
1) Посылаю обещанные вчера два моих письма. Они представляют ответ на ряд вопросов, заданных мне Б[илль]-Белоцерковским и РАПП-ом в порядке личной переписки.
2) Пьесу Спиридонова «26 коммунаров» читал. Пьеса, по-моему, слабая. Это – рассказ, порой неряшливый рассказ, о событиях громадной важности, внутренняя связь которых не понята автором.
Из пьесы нельзя понять, почему и как Бакинские большевики бросили власть (именно бросили, а не только сдали). А это главный вопрос в Бакинских событиях. Либо, щадя память Шаумяна и других товарищей, не нужно вовсе писать пьесу о 26 коммунарах, либо, если писать ее, – нельзя обходить этот главный вопрос и заслонять его всякими мелочами. Автор допустил здесь большую погрешность против исторической] правды, и не только против исторической] правды, но и против молодого поколения, которое хочет учиться на ошибках и промахах (как и на успехах и достижениях) своих старых тов[ари]щей.
Нельзя одобрить попытку автора изобразить каспийских матросов, как сплошную банду пропойц и продажных людей. Это неверно с точки зрения история[еской] правды. Этого не бывает в период гражданской войны, которая вносит дифференциацию и раскол даже в самые замкнутые учреждения и организации. Это не могло быть тогда ввиду наличия такого факта, как существование Советской России.
Непонятно отсутствие в пьесе рабочего класса как субъекта. Дело происходит в нефтяном царстве, в городе рабочих, в Баку, а рабочих, как действующий и борющийся класс, не видно, или почти не видно. Это невероятно. Но это факт.
Есть в пьесе 8—10 великолепных, сочных страниц, говорящих о даровании автора. Очень хорошо вышла фигура Петрова. Недурно вышли Сандро и Макдонель. Остальные лица расплывчаты и бледны. Некоторые достоинства пьесы не возмещают (и не могут возмещать) ее больших недостатков.
В общем, пьеса слабая.
Ну, хватит.
Привет!
И. СТАЛИН
А. М. Горький из Сорренто – Сталину
8 января 1930 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
«Руль» сообщает, что в Чите какой-то журнал не похвалил меня и за это понес наказание. Считая выговор ЦК новосибирцам, это – второй случай. Я вполне уверен, что будет 3-й, 10-й и т. д. Я считаю это явление совершенно естественным и неизбежным, но не думаю, что нужно наказывать пишущих про меня нелестно или враждебно.
Враждебных писем я, как и Вы, как все мы, «старики» – получаю много. Заскоки и наскоки авторов писем убеждают меня, что после того как партия столь решительно ставит деревню на рельсы коллективизма – социальная революция принимает подлинно социалистический характер. Это – переворот почти геологический и это больше, неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией. Уничтожается строй жизни, существовавший тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника. Таких людей – два десятка миллионов. Задача перевоспитать их в кратчайший срок – безумнейшая задача. И, однако, вот она практически решается.
Вполне естественно, что многие из миллионов впадают в неистовое безумие уже по-настоящему. Они даже и не понимают всей глубины происходящего переворота, но они инстинктивно, до костей чувствуют, что начинается разрушение самой глубочайшей основы их многовековой жизни. Разрушенную церковь можно построить вновь и снова посадить в нее любого бога, но когда из-под ног уходит земля, это непоправимо и навсегда. И вот люди, механически усвоившие революционную фразу, революционный лексикон, бешено ругаются, весьма часто скрывая под этой фразой мстительное чувство древнего человека, которому «приходит конец». Обратите внимание: из Сибири, с Д[альнего] Востока ругаются всего крепче, там и мужик крепче.
Но «брань по вороту не виснет», мне она жить не мешает, а в работе – поощряет. Человек я, как Вы знаете, беспартийный, значит: все, что по моему адресу, – партию и руководящих членов ее не задевает. Пускай ругаются. Тем более что некоторые, даже многие ругаются по недоразумению, по малограмотности, и когда им объяснишь суть дела, перестают. Многие торопятся заявить о своей ортодоксальности, надеясь кое-что выиграть этим – и выигрывают.
А, в общем, все идет отлично. Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Так что не наказывайте ругателей, Иосиф Виссарионович, очень прошу Вас. Те из них, которые неизлечимы, не стоят того, чтобы думать о них, а которые легко заболели, – вылечатся. Жизнь наша – талантливейший доктор.
Пользуюсь случаем, еще раз поздравляю с полустолетней службой жизни. Хорошая служба. Будьте здоровы!
А. ПЕШКОВ
А для «Литературной учебы» – напишете? Надобно написать. Для начинающих литераторов это будет полезно. Очень. Напишите!
А. П[ешков].
Необходимое пояснение. В эмигрантской газете «Руль» сообщалось, что в Чите по распоряжению центральной власти закрыт журнал «Наша литература» – за критику Горького. Еще раньше, 15 декабря 1929 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был объявлен строгий выговор фракции ВКП(б) сибирского Пролеткульта «за участие в вынесении резолюции с хулиганскими выпадами против М. Горького» («… изворотливый маскирующийся враг» и пр.), а редактор газеты «Советская Сибирь» и журнала «Настоящее» А. Л. Курс снят с работы.
По случаю 50-летия Сталина 21 декабря 1929 года Горький уже посылал телеграмму.
Заявление Демьяна Бедного
8 января 1930 г.
Копия.
В ЦК ВКП(б)
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕМЬЯНА БЕДНОГО
Довожу до сведения ЦК:
4 января я бросил неотложные работы и помчался в Вятку, так как получил из Вятки – направленную мне через ЦК партии – настоятельную телеграмму о том, что я должен быть во что бы то ни стало 6 января в Вятке на вечере, начинающем неделю культурного творчества, что я молчу на сделанное раньше приглашение и что «рабочие-кожевники возмущены молчанием».
Надо было ехать. Приехал. Торжественности хоть отбавляй. То есть я таки и отбавил: отменил два торжественных вечера в клубе имени Д. Бедного с речами и декламациями в честь моей персоны, а встреча колоннами, объявленная в газете, не состоялась, к счастью, так как поезд опоздал и я приехал поздно ночью. НЕНУЖНОГО было до излишества намечено. НУЖНОГО – ничего! Бросилось в глаза, что ни от окружкома, ни от исполкома не явилось ни одной живой собаки. На мои вопросы встречавшим меня журналистам: что же мы будем делать? Что вы мне покажете из местных достижений? Ответа не было. Некому было отвечать. Седьмого января, не зная, что делать, я после полудня – по чьему-то случайному предложению: вот съездили бы в Ленинский район к кожевникам, – поехал в этот район по невозможной дороге верст за 25 от Вятки, поехал для того, чтобы – после встречи с оркестром и приветствиями – посмотреть на завод, который нужно при первой возможности подпалить с четырех сторон, такая гадость. Вернувшись в Вятку, я держал большую речь в клубе своего имени. После речи, горячо встреченной, раздались шумные требования: чтобы я подольше пробыл в Вятке, познакомился с нею. В ответ я заявил, что нет смысла мне в Вятке задерживаться, так как никто мне ничего не показывает, я не вижу здесь фанатиков нового строительства, которые желали бы похвалиться своими достижениями, я вижу пьяную, богомольную Вятку, справляющую звериным пьянством старый рождественский сочельник.
Казалось бы, после этого-то хоть кто-либо должен был вынырнуть из окружкома или исполкома. Никого! После этого я в течение этого же вечера имел два выступления, на другой день тоже три больших выступления, измотался, охрип. Но и в этот день партийно-советская верхушка играла на вятский манер пьесу «Заговор молчания». На третий день, перед отъездом из Вятки, я послал в окружком нижеследующее письмо:
СЕКРЕТАРЮ ВЯТСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Уважаемый товарищ!
Вот уже третий день, как я в Вятке. Через несколько часов я уезжаю. С чем я уезжаю отсюда? С чувством горечи и недоумения. Вы задолго знали о моем приезде. Вы должны были также знать, что я приеду не для того, чтобы меня встречали на вокзале колоннами, читали в клубе стишки в мою честь и показывали примитивные клубные постановки. Во всяком случае, не это составляло цель моего приезда.
Главное должно было состоять в том, что мне в Вятке что-то покажут, чем-то похвалятся, приведут примеры творческого пролетарского соревнования, обнаружат, словом, что-то советски-ценное и вместе с тем свое, вятское, о чем такая громкая глотка, как моя, должна прокричать на весь Союз.
Случилось же с моим приездом в Вятку нечто в моей практике небывалое: окружком и окрисполком проявили демонстративное невнимание к моему приезду, как будто мой приезд – моя личная прогулка, а не работа по заданию партии.
Я уезжаю из Вятки, не видав Вятки. Мне пришлось выступать на шести собраниях, говорить много и до хрипоты, говорить «вообще», не имея возможности коснуться специально местных достижений и недочетов, так как я был абсолютно не информирован, и встречал загадочные пожимания плечами. Эта загадка должна быть разрешена. Настоящее мое письмо в копии передается в ЦК партии для полного выяснения всего происшедшего – точнее: не происшедшего – в Вятке во время моего приезда.
Если мне будет разрешено, я вятскому партийно-советскому аппаратному поведению дам надлежащее освещение в центральном органе партии. Если такое пренебрежение партийной гласностью, такое укрывательство от «печатного глаза», такое нежелание воспользоваться не каждый день бывающим случаем показать себя с хорошей стороны перед всеми трудящимися Союза, читающими партийный орган, где должны появиться мои вятские впечатления, если все это, говорю я, есть наиболее похвальная и своеобразная черта вятского партийно-советского руководства, то эта черта должна быть прославлена.
С очень грустным приветом
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
Резолюция Сталина: «Письмо нехорошее. И. Сталин».
СТИХОТВОРЕНИЕ Д. БЕДНОГО «ВЯТКА»
Попал я в тихие заводи Вятки В православные святки. Вятичи по улицам праздно шаталися, На бойких лошадях каталися. Попы со звездою Прихожан навещали, А те не водою попов угощали. Гудели торжественно колокола. Вятка пила! – Ну, дела!А. Халатов – Сталину Проект письма А. Халатова А. М. Горькому
28 февраля 1930 г.
Дорогой товарищ Сталин!
Прошу Вас ознакомиться с прилагаемым проектом моего письма к т. Горькому по вопросу 22 тома его собрания сочинений, в котором содержится статья о В. И. Ленине, по моему мнению, нуждающаяся в серьезном пересмотре со стороны автора.
Я считаю необходимым поставить Вас в известность об этом моем обращении к Алексею Максимовичу, и если у Вас будут какие-либо указания, то я их учту при окончательной редакции письма.
С ком. приветом
Арт. ХАЛАТОВ
Халатов – Горькому
Дорогой Алексей Максимович!
Сдали мы по Госиздату в набор 23 тома Ваших произведений, за исключением 22-го тома, включающего воспоминания и заметки о Чехове, Л. Толстом, Л. Андрееве, Короленко, Ленине, Красине и др. По поводу этого тома мы решили предварительно с Вами посоветоваться, так как он вызывает у нас некоторые сомнения.
Больше всего нас тревожат Ваши воспоминания о Ленине. Ведь собрание Ваших сочинений является изданием массовым: оно идет стотысячным тиражом к рабочему читателю. К Вашему слову этот читатель прислушивается с особым вниманием. Это не слова: Вы имели возможность в этом лично убедиться во время Вашего пребывания в СССР. Учитывая это обстоятельство, нужно ли, например, Ваше свидетельство об отношении Ленина к Троцкому («… а вот показали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов…»). За время, истекшее с момента написания Вами этих строк, произошло так много перемен. Мы не хотели бы в массовом издании дать материал, используя который, тайные и явные троцкисты получили бы возможность прикрывать свои позиции Вашим именем.
Мы, конечно, знаем, что у очень больших людей свои «слабости». Но еще так мало времени прошло со дня смерти Ленина; еще не пришло время писать о нем все, и особенно писать в массовом издании. Еще так мало у нас культуры, подлинного интернационализма в рабочей среде – и тут могут быть ложно истолкованы сделанные Вами вскользь такие замечания: «был он насквозь русский человек», «с хитрецой Василия Шуйского, с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого», или слова Ленина: «русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови». Антисемитизма у нас еще много. Наши взаимоотношения с национальностями очень сложны и трудны – и всякие подчеркивания Вами в Ленине черты «гордости Россией и русскими», несомненно, будут использованы антиленинцами. Мы не хотели бы также Вашими устами утверждать в рабочем читателе мнения, что Ленин был «типичным русским интеллигентом», что «Ленин понимал драму бытия несколько упрощенно». Еще труднее нам приводить Ваши опасения, «что и любовь к Ленину у многих – только темная вера измученных и отчаявшихся в чудотворца…» Это, конечно, не так.
Вашей статьей о Ленине мы очень дорожим. Но мы просим Вас ее пересмотреть и проредактировать, учтя наши замечания. Вы знаете, как осторожно мы относимся к каждому слову о Ленине, и Вы не осудите нас за то, что мы вынуждены обратиться к Вам с этой настоятельной просьбой.
Поскольку Вам придется заняться пересмотром 22 тома «Воспоминаний и заметок», не найдете ли Вы возможным попутно перечитать и свои статьи о Толстом? Приходится иметь в виду, что в массах есть еще немало колеблющихся и что толстовцы и др. сектанты ведут у нас широкую пропаганду антиреволюционных идей, прикрываясь толстовским авторитетом. Поэтому необходимо, чтобы Ваши высказывания о нем не были поняты как поддержка взглядов Толстого и его учения.
Я убежден, дорогой Алексей Максимович, что Вы меня поймете и потратите время на просмотр 22-го тома.
Сделайте это поскорее, чтобы не задержать издания, которое мы спешим закончить.
Крепко жму руку.
Александр Безыменский – Сталину
Март 1930 г.
Копия
Дорогой товарищ Сталин!
Если бы вопрос шел о простой травле, я бы к Вам не обратился. Правда, довольно странно и больно оказаться человеком, обнаружившим «объективно» философскую концепцию контрреволюционера. Однако можно это признать логическим завершением четырехлетней внутриорганизационной травли и творческой дискредитации со стороны товарищей «налитпостовцев». Мне нисколько не удивителен тот факт, что они, встретив восторженными кликами пьесу «Выстрел», умудрились в течение десяти месяцев ни слова о ней не написать, а ныне обрушивают против нее громовые статьи, крича о мелкобуржуазной «левизне». Очевидно, присвоение мне философской концепции контрреволюционера должно увенчать здание моего отхода от пролетариата.
Но мне кажется, что все это имеет высоко принципиальное значение. Если проследить за теоретическими корнями пропаганды творческого метода психологического реализма, предписывающего отправляться от отображения индивидуальной психологии; если припомнить, что эта пропаганда сопровождалась замалчиванием или прямой травлей всякого проявления политического жанра в литературе, то немудрено понять заботу тов. Сутырина о воспевании человеческой личности в противовес воспеванию коллектива. Простите меня, но, при всей моей скромности, я осмеливаюсь утверждать, что если по отношению к моей поэме «День нашей жизни» можно ставить вопрос о моем стремлении «уничтожить личность» и моем представлении о социализме как о «социализме середняков», то это обнаруживает чью-то болезнь: или мою, или тов. Сутырина.
Госиздат хотел просить у Вас предисловия к массовому изданию пьесы «Выстрел». Я отсоветовал ему, ибо знаю Ваше законное нежелание давать предисловия к произведениям уже выявившихся литераторов. Но кто знает? Может, мне надо было еще заявить, что Вы не можете давать предисловия к мелкобуржуазным пьесам. Я со всем творческим азартом писал поэму «День нашей жизни». Но, может, действительно мой творческий пыл оборачивается объективным лицом контрреволюционной концепции… Не скажу, чтобы это меня не волновало. В моей творческой и человеческой судьбе это имеет немаловажное значение – особенно Ваше мнение, Ваш ответ. Он мне нужен как хлеб, как воздух, ибо я хочу работать, а лучше уж ничего не делать, чем работать не на дело партии.
Но все же мне гораздо важнее вопрос о болезнях пролетарской литературы, как-то выявившихся из мотивировок полемики тов. Сутырина против поэмы, против политического жанра и т. д. Я прошу Вас ответить на мои вопросы, ибо все-таки уверен в Вашей искренней любви к пролетарской литературе. Вы можете обнаружить неправоту обеих или одной точек зрения на творческие пути пролетарской литературы, а это будет иметь необычайное значение, так как сейчас пролетарская литература должна же перевооружиться, чтобы наилучшим образом выполнить задачи реконструктивного периода.
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ
Вчера мне сказали в «Правде», что в статье тов. Ермилова, которая пойдет в литстранице, есть место, что поэма «День нашей жизни» есть также проявление комсомольского авангардизма. Если это не пришивание уклона, то что же это такое?
Сталин – А. И. Безыменскому
19 марта 1930 г.
Тов. Безыменский!
Пишу с опозданием.
Я не знаток литературы и, конечно, не критик. Тем не менее ввиду Ваших настояний могу сообщить Вам свое личное мнение.
Читал и «Выстрел», и «День нашей жизни». Ничего ни «мелкобуржуазного», ни «антипартийного» в этих произведениях нет. И то, и другое, особенно «Выстрел», можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени.
Правда, есть в них некоторые остатки комсомольского авангардизма. Читая эти произведения, неискушенному читателю может даже показаться, что не партия исправляет ошибки молодежи, а наоборот. Но не этот недостаток составляет основную черту, пафос этих произведений. Их пафос состоит в заострении вопроса на недостатках наших аппаратов и в глубокой вере в возможность исправления этих недостатков. В этом главное и в «Выстреле» и в «Дне нашей жизни». В этом же их основное достоинство. А это достоинство с лихвой перекрывает и оставляет далеко в тени их маленькие, мне кажется, отходящие в прошлое недостатки.
С коммунистическим] приветом
И. СТАЛИН
Β. М. Киршон – Сталину
21 июня 1930 г.
Дорогой тов. Сталин!
Я закончил пьесу, о которой Вам рассказывал. Она называется «Хлеб». Это первая пьеса задуманной мною трилогии. Эта относится к зиме 29 года, остальные будут посвящены непосредственно проблеме коллективизации.
До постановки пройдет еще много месяцев, и я смогу еще исправить пьесу. Очень прошу Вас указать мне ее недостатки.
Я очень жалею, что не мог закончить пьесу раньше, чтобы она могла быть показана съезду или хотя бы напечатана. Но, помня Ваш совет не торопиться, я не счел возможным ускорять работу в ущерб качеству.
Однако я не могу не послать Вам пьесу перед съездом, когда все члены партии отчитываются в своей работе, потому что так же, как и все мы, рассматриваю свое творчество как одну из форм участия в борьбе за линию партии.
С ком. приветом
В. КИРШОН
Необходимое пояснение. В письме речь идет о XVI съезде ВКП(б), на котором Киршон выступит с большой речью – отчетом от имени советских пролетарских писателей. Съезд проходил в Москве с 26 июня по 13 июля 1930 г.
Всеволод Иванов – Сталину
21 июля 1930 г.
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович,
Сей документ, не в пример тому, который я направил Вам полгода тому назад, будет касаться только меня лично.
Отягощенный долгами (коих у меня 14 тысяч), семьей и прочими грехами, накопил я страсть сколько материалов для того, чтобы написать какую-то большую и современную вещь. За оную вещь приняться мне сейчас трудно, так как вынужден я писать рассказики для того, чтобы питать семью, финансового инспектора и сглаживать прочие несуразности нашей писательской жизни. Давно уже А. М. Горький зовет меня и звал поехать в Италию для того, чтобы там посидеть в тени соответствующих деревьев и камней и написать кое-что посолиднее. Сейчас я к нему обратился с просьбой, чтобы он поддержал мое ходатайство перед Союзным Правительством о разрешении мне выехать на полгода с семьей (3 штуки ребят и жена) в Италию и чтобы мне разрешили и выдали валюты на 1000 долларов. С такой же просьбой я обращаюсь к Вам. Я сам понимаю, что деньги сейчас – валюта – куда как нужны для Республики, но в Америке и в Японии идет моя пьеса «Бронепоезд» в больших и хороших театрах, я думаю, что за границей мне будет легче заставить эти театры заплатить мне авторские, и из этих авторских я берусь возвратить ту сумму, которую мне даст Наркомфин. Кроме того, у меня заключен договор с крупнейшим издательством в Европе «Улынтейн» на тот роман, который я думаю закончить в Италии, и, реализовав этот роман, я тоже смогу вернуть деньги. Полагаю, что трудами своими в пользу Республики я заслужил некоего доверия.
Второе, почему я обратился к Вам, – таково: после знаменитой истории с Б. Пильняком у советской общественности создалось к попутчикам некое настороженное внимание, и наряду с Евг. Замятиным и другими довольно часто упоминалось мое имя как упадочника и даже мистика. Заявления эти остаются на совести наших критиков и вызваны они были книгой моей «Тайное тайных» и некоторыми рассказами, от стиля которых я сам теперь отказался и мотивы коих были вытянуты к жизни из моих, чисто личных, плохих настроений. Теперь я и сам с удовольствием бы от них отказался, но что написано пером – да вдобавок «вечным», – того не вырубишь топором. Сейчас я побывал во многих местах России, съездил с писательской бригадой по Средней Азии – в самой отсталой Советской республике Туркмении – и сам я чувствую, и другие говорят, что дух мой стал крепче. Но – известная тень правого попутчика еще лежит на мне густо, и я думаю, что, если бы я подал просьбу о паспорте, где будет указано, что [о]ный писатель намерен уехать с женой, с детьми, не исключена возможность, что некоторые органы отнеслись бы к этому с иронией и подумали б «куда это он едет. Не лучше ли ему посидеть на месте» и прочее, а что касательно денег, то их бы и без иронии не выдали б, так что, даже и получив паспорт, я бы не смог выехать.
Года три тому назад я уже был в Европе, но видал только Европу внешне, поверхностно и не написал об Европе ничего. Теперь, после того как я закончу свою работу в Италии, я думаю, отправив семью обратно, самому поехать в Рур и металлургические районы Германии с тем, чтобы посмотреть, как и чем живут европейские рабочие. Необходимо мне это для того, чтобы с весны будущего года можно было б уехать мне в сердце Донбасса и попытаться написать роман о советских горняках – «Углекопы» некоторым образом, в котором хотелось бы мне провести параллель между европейскими и советскими горняками, а не посмотрев на быт и нужды европейских рабочих, проделать это трудно.
Я понимаю, что задачи, которые я ставлю себе, очень трудны и ответственны, но я полагаю, что за ту любовь и прекрасное отношение, которое я встретил с начала моей литературной деятельности со стороны советской общественности, обязают[8] меня выплатить мой общественный долг перед советским искусством и выплатить его по-настоящему и по-хорошему Этот долг можно выплатить только крупными и с широким охватом работами, в которых отразилась бы эпоха и люди, ее творящие. Я пишу это не для бахвальства, а потому что каждый должен веровать и с этой верой в свое дарование работать. А если не выйдет: катись под откос, и я согласен скатиться под этот откос, не зажмуривая глаз на полном ходу курьерского поезда.
Вот почему я решился написать Вам это письмо, и, оканчивая его, я еще раз повторяю, что поеду в Европу не праздношатающимся туристом и соглядатаем – эти годы уже минули и не вернутся, – я поеду писателем, который обязан и должен сравнить эти два мира, противопоставленные друг другу, и которым, может быть, очень скоро придется встретиться с оружием в руках друг против друга. Я люблю свою страну, я ее слуга и ее оружие – мое оружие.
Желаю Вам всего доброго в исполнении той мировой и ответственнейшей роли, которая выпала Вам на долю.
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ
Адрес мой: Москва, Первая Мещанская, дом № 6, кв. 2.
Или журнал «Красная новь», Ильинка, Старо-Панский, дом 4.
М. А. Булгаков – Сталину
5 мая 1930 г.
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б).
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность.
Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется.
Уважающий Вас
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
Москва, Б. Пироговская, 35а, кв. 6.
Телеф. 2-03-27
Михаил Афанасьевич Булгаков
Необходимое пояснение. 18 марта 1930 года Булгаков написал письмо-обращение в правительство СССР с просьбой определить его творческую и, значит, жизненную судьбу. 3 апреля ему предложили работу режиссера в ТРАМе (Театре рабочей молодежи), а 18 апреля Булгакову позвонили по телефону на квартиру и передали трубку Сталину. Вождь, сказав, что по письму будет «благоприятный ответ», поиграл с Булгаковым мягко, как кошка с мышкой: «А может быть, правда – вас пустить за границу? Что – мы вам очень надоели?» На это Булгаков ответил, что писатель не может жить без родины. Тогда Сталин «посоветовал» ему подать во МХАТ заявление о принятии на службу. На следующий день Булгакова зачислили во МХАТ ассистентом-режиссером, но после долгого безденежья это проблему не решало.
Последняя фраза Сталина в телефонном разговоре с Булгаковым (по свидетельству Е. С. Булгаковой, со слов самого Булгакова) была:
– Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.
Реакция Сталина на письмо Булгакова от 5 мая неизвестна. Встречи не было.
Тем не менее Михаил Афанасьевич сам нафантазировал эту встречу в свойственной ему фантасмагорической манере, а Елена Сергеевна впоследствии этот устный рассказ записала. Приведем эту запись.
Будто бы Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего, – словом, короткое письмо, очень здраво написанное, а подпись: Ваш Трампазлин.
Сталин получает письмо, читает.
Сталин. Что за штука такая?.. Трам-па-злин… Ничего не понимаю!
(Всю речь Сталина Миша всегда говорил с грузинским акцентом.)
Сталин (нажимает кнопку на столе). Ягоду ко мне!
Входит, отдает честь.
Сталин. Послушай, Ягода, что это такое? Смотри – письмо. Какой-то писатель пишет, а подпись «Ваш Трам-па-злин». Кто это такой?
Ягода. Не могу знать.
Сталин. Что это значит – не могу? Ты как смеешь мне так отвечать? Ты на три аршина под землей все должен видеть! Чтоб через полчаса сказать мне, кто это такой!
Ягода. Слушаю, ваше величество!
Уходит, возвращается через полчаса.
Ягода. Так что, ваше величество, это Булгаков!
Сталин. Булгаков? Что же это такое? Почему мой писатель пишет такое письмо? Послать за ним немедленно!
Ягода. Есть, ваше величество! (Уходит.)
Мотоциклетка мчится – дззз! Прямо на улицу Фурманова. Дззз!! Звонок, и в нашей квартире появляется человек.
Человек. Булгаков? Велено вас доставить немедленно в Кремль!
А на Мише старые белые полотняные брюки, короткие, сели от стирки, рваные домашние туфли, пальцы торчат, рубаха расхлистанная с дырой на плече, волосы всклокочены.
Булгаков. Тт!.. Куда же мне… как же я… у меня и сапог-то нет…
Человек. Приказано доставить, в чем есть!
Миша с перепугу снимает туфли и уезжает с человеком.
Мотоциклетка – дззз!!! и уже в Кремле! Миша входит в зал, а там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода.
Миша останавливается у дверей, отвешивает поклон.
Сталин. Что это такое! Почему босой?
Булгаков (разводя горестно руками). Да что уж… нет у меня сапог…
Сталин. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, дай ему!
Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише. Миша пробует натянуть – неудобно!
Булгаков. Не подходят они мне…
Сталин. Что у тебя за ноги, Ягода, не понимаю! Ворошилов, снимай сапоги, может, твои подойдут.
Ворошилов снимает, но они велики Мише.
Сталин. Видишь – велики ему! У тебя уж ножища! Интендантская!
Ворошилов падает в обморок.
Сталин. Вот уж, и пошутить нельзя! Каганович, чего ты сидишь, не видишь, человек без сапог!
Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят.
– Ну, конечно, разве может русский человек!.. Уух, ты!.. Уходи с глаз моих!
Каганович падает в обморок.
– Ничего, ничего, встанет! Микоян! А впрочем, тебя и просить нечего, у тебя нога куриная.
Микоян шатается.
– Ты еще вздумай падать!!Молотов, снимай сапоги!!
Наконец сапоги Молотова налезают на ноги Миши.
– Ну, вот так! Хорошо. Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?
Булгаков. Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят…
Сталин. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.
Звонит по телефону.
– Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише.) Понимаешь, умер, когда сказали ему.
Миша тяжело вздыхает.
– Ну, подожди, подожди, не вздыхай.
Звонит опять.
– Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.
Звонит.
– Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит (косится на Мишу), писателя Булгакова пьеса… Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса… Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?)
Булгаков. Господи! Да хыть бы годика через три!
Сталин. Ээх!.. (Егорову.) Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы (подмигивает Мише) могли бы ее поставить… месяца через три… Что? Через три недели? Ну, что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?.. (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?)
Булгаков. Тхх… да мне бы… ну хыть бы рубликов пятьсот!
Сталин. Аайй!.. (Егорову.) Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо заплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну, что ж, платите, платите! (Мише.) Ну, вот видишь, а ты говорил…
После чего начинается такая жизнь, что Сталин прямо не может без Миши жить – все вместе и вместе. Но как-то Миша приходит и говорит:
Булгаков. Мне в Киев надыть бы поехать недельки бы на три.
– Ну, вот видишь, какой ты друг? А я как же?
Но Миша уезжает все-таки. Сталин в одиночестве тоскует без него.
– Эх, Михо, Михо!.. Уехал. Нет моего Михо! Что же мне делать, такая скука, просто ужас!.. В театр, что ли, сходить?.. Вот Жданов все кричит – советская музыка!советская музыка!.. Надо будет в оперу сходить.
Начинает всех сзывать по телефону.
– Ворошилов, ты? Что делаешь? Работаешь? Все равно от твоей работы толку никакого нет. Ну, ну, не падай там! Приходи, в оперу поедем. Буденного захвати!
– Молотов, приходи сейчас, в оперу поедем! Что? Ты так заикаешься, что я ничего не понимаю! Приходи, говорю! Микояна бери тоже!
– Каганович, бросай свои еврейские штучки, приходи, в оперу поедем.
– Ну что, Ягода, ты, конечно, уж подслушал все, знаешь, что мы в оперу едем. Готовь машину!
Подают машину. Все рассаживаются. В последний момент Сталин вспоминает:
Сталин. Что же это мы самого главного специалиста забыли? Жданова забыли! Послать за ним в Ленинград самый скоростной самолет!
Дззз!.. Самолет взвивается и через несколько минут спускается – в самолете Жданов.
Сталин. Ну, вот, молодец! Шустрый ты у меня! Мы тут решили в оперу сходить, ты ведь все кричишь – расцвет советской музыки! Ну, показывай! Садись. А, тебе некуда сесть? Ну, садись ко мне на колени, ты маленький.
Машина – дззз… – и они все входят в правительственную ложу филиала Большого театра.
А там, в театре, – уже дикая суета, знают, что приезжает начальство, Яков Л. звонил по телефону Самосуду, у того ангина, к Шостаковичу. Самосуд через пять минут приезжает в театр – горло перевязано, температура. Шостакович – белый от страху – тоже прискакал немедленно. Мелик во фраке с красной гвоздикой в петличке готовится дирижировать – идет второй раз «Леди Макбет». Все взволнованы, но скорее приятно взволнованы, так как незадолго до этого хозяин со свитой был на «Тихом Доне», на следующий день все главные участники спектакля были награждены орденами и званиями. Поэтому сегодня все – и Самосуд, и Шостакович, и Мелик ковыряют дырочки на левой стороне пиджаков.
Правительственная ложа уселась. Мелик яростно взмахивает палочкой, и начинается увертюра. В предвкушении ордена, чувствуя на себе взгляды вождей, Мелик неистовствует, прыгает, рубит воздух дирижерской палочкой, беззвучно подпевает оркестру. С него градом течет пот. «Ничего, в антракте переменю рубашку», – думает он в экстазе.
После увертюры он косится на ложу, ожидая аплодисментов, – шиш.
После первого действия – то же самое, никакого впечатления. Напротив – в ложе дирекции – стоят: Самосуд с полотенцем на шее, белый, трясущийся Шостакович и величественно-спокойный Яков Леонтьевич – ему нечего ждать. Вытянув шеи, напряженно смотрят напротив в правительственную ложу. Там – полнейшее спокойствие.
Так проходит весь спектакль. О дырочках никто уже не думает. Быть бы живу…
Когда опера кончается, Сталин встает и говорит своей свите:
– Я попрошу товарищей остаться. Пойдемте в аванложу, надо будет поговорить.
Проходят в аванложу.
– Так вот, товарищи, надо устроить коллегиальное совещание. (Все садятся.) Я не люблю давить на чужие мнения, я не буду говорить, что, по-моему, это какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения.
Сталин. Ворошилов, ты самый старший, говори, что ты думаешь про эту музыку?
Ворошилов. Так что, вашество, я думаю, что это сумбур.
Сталин. Садись со мной рядом, Клим, садись. Ну а ты, Молотов, что ты думаешь?
Молотов. Я, вваше ввеличчество, ддумаю, что это ккакофония.
Сталин. Ну ладно, ладно, пошел уж заикаться, слышу! Садись здесь около Клима. Ну, а что думает наш сионист по этому поводу?
Каганович. Я так считаю, ваше величество, что это и какофония и сумбур вместе!
Сталин. Микояна спрашивать не буду, он только в консервных банках толк знает… Ну ладно, ладно, только не падай! А ты, Буденный, что скажешь?
Буденный (поглаживая усы). Рубать их всех надо!
Сталин. Ну, что ж уж сразу рубать? Экий ты горячий! Садись ближе! Ну, итак, товарищи, значит, все высказали свое мнение, пришли к соглашению. Очень хорошо прошло коллегиальное совещание. Поехали домой.
Все усаживаются в машину. Жданов растерян, что его мнения не спрашивали, вертится между ногами у всех.
Пытается сесть на старое место, то есть на колени к Сталину.
Сталин. Ты куда лезешь? С ума сошел? Когда сюда ехали, уж мне ноги отдавил! Советская музыка!.. Расцвет!.. Пешком дойдешь!
Наутро в газете «Правда» статья:
Сумбур в музыке. В ней несколько раз повторяется слово «какофония».
Сталин – А. М. Горькому в Сорренто
24 октября 1930 г.
Уважаемый Алексей Максимович!
Приехал из отпуска недавно. Раньше, во время съезда, ввиду горячки в работе, не писал Вам. Это, конечно, нехорошо. Но Вы должны меня извинить. Теперь другое дело, – теперь могу писать. Стало быть, есть возможность загладить грех. Впрочем: «Не согрешив, – не раскаешься, не раскаявшись, – не спасешься»…
Дела у нас идут неплохо. Телегу двигаем; конечно, со скрипом, но двигаем вперед. В этом все дело.
Говорят, что пишете пьесу о вредителях, и Вы не прочь были бы получить материал соответствующий. Я собрал новый материал о вредителях и посылаю Вам на днях. Скоро получите.
Как здоровье?
Когда думаете приехать в СССР?
Я здоров.
Крепко жму руку.
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. Сталин упоминает XVI съезд ВКП(б), проходивший в июне-июле 1930 года. Тогда же Горький начал работать над пьесой «Сомов и другие» на тему «вредительства» в советской промышленности. От Сталина ему был послан материал «О контрреволюционной организации в области снабжения населения продуктами питания», а «новый материал» касается готовящегося процесса о «Союзе инженерных организаций (Промпартии)».
А. М. Горький из сорренто – Сталину
2 ноября 1930 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Крючков привез мне Вашу записку, спасибо за привет. Очень рад узнать, что Вы за лето отдохнули.
Был совершенно потрясен новыми, так ловко организованными актами вредительства и ролью правых тенденций в этих актах. Но вместе с этим и обрадован работой ГПУ, действительно неутомимого и зоркого стража рабочего класса и партии. Ну, об этих моих настроениях не буду писать, Вы их поймете без лишних слов, я знаю, что и у Вас возросла ненависть ко врагам и гордость силою товарищей. Вот что, дорогой Щосиф] Виссарионович], – если писатели Артем Веселый и Шолохов будут ходатайствовать о поездке за границу – разрешите Вы им это; оба они, как Всеволод Иванов, привлечены к работе по «Истории гражданской войны», – к обработке сырого материала, работа их будет редактироваться историками под руководством Μ. Н. Покровского – мне, да и для них, было бы полезно поговорить о приемах этой работы теперь же, до весны, когда я приеду.
На днях в Неаполь прибудут 200 человек «ударников», поеду встречать их. Очень рад потолковать с этими молодцами.
Пьесу о «вредителе» бросил писать, не удается, мало материала. Чрезвычайно хорошо, что Вы посылаете мне «новый»! Но – еще лучше было бы, конечно, если б нового в этой области не было.
Сегодня прочитал в «Эксельциоре» статью Пуанкаре. На мой взгляд – этой статьей он расписался в том, что ему хорошо были известны дела «промышленной» и «крестьянской» партий, что Кондратьевы и Ко – люди, не чуждые ему. Очевидно, и вопрос об интервенции двигается вперед понемножку. Однако я все еще не могу поверить в ее осуществимость, «обстановочка» для этого как будто неподходяща. Но Вам виднее, конечно.
Чувствую, что пришла пора везти старые косточки мои на родину. Здоровье, за лето, окрепло. Держу строгий режим. Приеду к Первому мая.
Крепко жму Вашу руку, дорогой товарищ.
А. ПЕШКОВ
Необходимое пояснение. «Акты вредительства», поразившие Горького, это сообщение «Известий» 3 сентября 1930 года об аресте членов так называемой «Трудовой крестьянской партии» Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова и др.
В Неаполь прибыли на теплоходе «Абхазия» граждане, премированные заграничной поездкой за «ударный труд».
Статья Р. Пуанкаре «Когти СССР» опубликована в парижском издании «Эксцельсиор» (Горький ошибся в написании) 30 октября 1930 года.
Горький приехал в Москву 13 мая 1931 года и пробыл в СССР до 31 октября.
Демьян Бедный – Сталину
8 декабря 1930 г.
Иосиф Виссарионович!
Я ведь тоже грамотный. Да и станешь грамотным, «как дело до петли доходит». Я хочу внести в дело ясность, чтобы не было после нареканий: зачем не сказал.
Пришел час моей катастрофы. Не на «правизне», не на «левизне», а на «кривизне». Как велика дуга этой кривой, т. е. в каком отдалении находится вторая, конечная ее и моя точка, я еще не знаю. Но вот что я знаю, и что должны знать Вы.
Было – без Вас – опубликовано взволновавшее меня обращение ЦК. Я немедленно его поддержал фельетоном «Слезай с печки». Фельетон имел изумительный резонанс: напостовцы приводили его в печати, как образец героической агитации, Молотов расхвалил его до крайности и распорядился, чтобы его немедленно включили в серию литературы «для ударников», под каковым подзаголовком он и вышел в отдельной брошюре, – даже Ярославский, никогда не делавший этого, прислал мне письмо, тронувшее меня (см. приложение). Поэты – особенный народ: их хлебом не корми, а хвали. Я ждал похвалы человека, отношение к которому у меня всегда было окрашено биографической нежностью. Радостно я помчался к этому человеку по первому звонку. Уши растопырил, за которыми меня ласково почешут. Меня крепко дернули за эти уши: ни к черту «Слезай с печки» не годится!! Я стал бормотать, что вот у меня другая любопытная тема напечатана. Ни к черту эта тема не годится!
Я вернулся домой, дрожа. Меня облили ушатом холодной воды. Хуже: выбили из колеи. Я был парализован. Писать не мог. Еле-еле что-то пропищал к 7 ноября.
7 ноября мы с Вами встретились. Шуточно разговаривая с Вами, я надумал: дурак я! Зачем я бездарно излагаю ему в прозе план фельетона, когда могу написать этот фельетон даровито и убедить его самим качеством фельетона.
Я засел за работу. Работал каторжно. Тяжело было писать при сомнительном настроении, да еще в гриппу. Написал. Сдал в набор. Около 12 ч[асов] ночи в редакции произошла заминка: Ярославский считал, что вводная часть, будучи слишком исторической, ослабляет вторую, агитационную, не выбросить ли эту вводную часть? Я не сопротивлялся. Но Ярославский, увидя, должно быть, по моему огорченному лицу, что мне этим причиняется боль, сказал: но все же пусть идет, раз набрано и сверстано. Ярославский уехал. Я остался со своими раздумьями. Я знал то, чего он, Ярославский, не знал: у меня будет придирчивый читатель в Вашем лице. А вдруг не удастся мне покорить этого читателя?
Подумавши, я категорически заявил Мехлису и Савельеву: снимаю первую часть! Пошел переполох, так как позднее время, а тут переверстка. Дали знать Ярославскому. Тот меня вызвал к телефону и настойчиво предложил «не капризничать», как ему казалось. Пусть идет весь фельетон. Уговорить меня было не трудно.
Вот и все!
Живой голос либо должен был мою работу похвалить, либо дружески и в достаточно убедительной форме указать на мою «кривизну». Вместо этого я получил выписку из Секретариата. Эта выписка бенгальским огнем осветила мою изолированность и мою обреченность. В «Правде» и заодно в «Известиях» я предан оглашению. Я неблагополучен. Меня не будут почитать после этого не только в этих двух газетах, насторожатся везде. Уже насторожились информированные Авербахи. Охотников хвалить меня не было, охотников поплевать в мой след будет без отказа. Заглавия моих фельетонов «Слезай с печки» и «Без пощады» становятся символическими. 20 лет я был сверчком на большевистской печке. Я с нее слезаю. Пришло, значит, время. Было ведь время, когда меня и Ильич поправлял и позволял мне отвечать в «Правде» стихотворением «Как надо читать поэтов» (см. седьм[ой] т[ом] моих соч[инений], стр. 22, если поинтересуетесь). Теперь я засел тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, начнут продолжать ту политику по отношению ко мне, которая только согнет еще больше мою кривую и приблизит мою роковую, катастрофически конченную точку Может быть, в самом деле, нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически. Но каким же после этого голосом закричала бы моя армия, брошенная полководцем, мои 18 полков (томов), сто тысяч моих бойцов (строчек). Это было бы что-то невообразимое. Тут поневоле взмолишься: «Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет мене чаша сия»!
Но этим письмом я договариваю и конец вышеприведенного вопроса: «обаче не якоже аз хощу, но якоже ты»!
С себя я снимаю всякую ответственность за дальнейшее.
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
Необходимое пояснение. ЦК ВКП(б) 3 сентября 1930 года обращался ко всем партийным, комсомольским и профсоюзным организациям с призывом мобилизовать все силы на выполнение заданий третьего года пятилетки. Это «обращение» и взволновало Демьяна.
В письме Демьяну Бедному («приложение») член ЦК ВКП(б) Е. М. Ярославский писал: «У тебя за последнее время были превосходные вещи: о Троцком, «О темпах», «Слезай с печки»!..»
Сталин – Демьяну Бедному
12 декабря 1930 г.
Т[овари]щу Демьяну Бедному.
Письмо Ваше от 8.XII получил. Вам нужен, по-видимому, мой ответ. Что же, извольте.
Прежде всего о некоторых Ваших мелких и мелочных фразах и намеках. Если бы они, эти некрасивые «мелочи», составляли случайный элемент, можно было бы пройти мимо них. Но их так много и они так живо «бьют ключом», что определяют тон всего Вашего письма. А тон, как известно, делает музыку.
Вы расцениваете решение Секретариата ЦК как «петлю», как признак того, что «пришел час моей (т. е. Вашей) катастрофы». Почему, на каком основании? Как назвать коммуниста, который, вместо того чтобы вдуматься в существо решения исполнительного органа ЦК и исправить свои ошибки, третирует это решение как «петлю»?
Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал Вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле». Почему, на каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для Вас? Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики? Не находите ли, что Вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством? Побольше скромности, т. Демьян.
Вы противопоставляете т. Ярославского мне (почему-то мне, а не Секретариату ЦК), из Вашего письма видно, что т. Ярославский сомневался в необходимости напечатания первой части фельетона «Без пощады», и лишь поддавшись воздействию Вашего «огорченного лица» – дал согласие на напечатание. Но это не все. Вы противопоставляете далее т. Молотова мне, уверяя, что он не нашел ничего ошибочного в Вашем фельетоне «Слезай с печки» и даже «расхвалил его до крайности». Во-первых, позвольте усомниться в правдивости Вашего сообщения насчет т. Молотова. Я имею все основания верить т. Молотову больше, чем Вам. Во-вторых, не странно ли, что Вы ничего не говорите в своем письме об отношении т. Молотова к Вашему фельетону «Без пощады»? А затем, какой смысл может иметь Ваша попытка противопоставить т. Молотова мне? Только один смысл: намекнуть, что решение Секретариата ЦК на самом деле не решение этого последнего, а личное мнение Сталина, который, очевидно, выдает свое личное мнение за решение Секретариата ЦК. Но это уж слишком, т. Демьян. Это просто нечистоплотно. Неужели нужно еще специально оговориться, что постановление Секретариата ЦК «Об ошибках в фельетонах Д. Бедного «Слезай с печки» и «Без пощады» принято всеми голосами наличных членов Секретариата (Сталин, Молотов, Каганович), т. е. единогласно? Да разве могло быть иначе? Я вспоминаю теперь, как Вы несколько месяцев назад сказали мне по телефону: «Оказывается, между Сталиным и Молотовым имеются разногласия. Молотов подкапывается под Сталина» и т. п. Вы должны помнить, что я грубо оборвал Вас тогда и просил не заниматься сплетнями. Я воспринял тогда эту Вашу «штучку» как неприятный эпизод. Теперь я вижу, что у Вас был расчетец – поиграть на мнимых разногласиях и нажить на этом некий профит. Побольше чистоплотности, т. Демьян…
«Теперь я засел, – пишете Вы, – тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, начнут продолжать ту политику по отношению ко мне, которая только согнет еще больше мою кривую и приблизит мою роковую, катастрофически конченую точку. Может быть, в самом деле, нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически».
Итак, существует, значит, какая-то особая политика по отношению к Демьяну Бедному. Что это за политика, в чем она состоит? Она, эта политика, состоит, оказывается, в том, чтобы заставить «крупных русских поэтов» «оборвать свой путь катастрофически». Существует, как известно, «новая» (совсем «новая»!) троцкистская «теория», которая утверждает, что в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь «Перерва». Видимо, эту «теорию» пытаетесь Вы теперь применить к политике ЦК в отношении «крупных русских поэтов». Такова мера Вашего «доверия» к ЦК. Я не думаю, что Вы способны, даже находясь в состоянии истерики, договориться до таких антипартийных гнусностей. Недаром, читая Ваше письмо, я вспомнил Сосновского…
Но довольно о «мелочах» и мелочных «выходках». Их, этих «мелочей», такая прорва в Вашем письме («придирчивый читатель», «информированный Авербах» и т. п. прелести), и так они похожи друг на друга, что не стоит больше распространяться о них. Перейдем к существу дела.
В чем существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. Таковы Ваши «Слезай с печки» и «Без пощады». Такова Ваша «Перерва», которую прочитал сегодня по совету т. Молотова.
Вы говорите, что т. Молотов хвалил фельетон «Слезай с печки». Очень может быть. Я хвалил этот фельетон, может быть, не меньше, чем т. Молотов, так как там (как и в других фельетонах) имеется ряд великолепных мест, бьющих прямо в цель. Но там есть еще ложка такого дегтя, который портит всю картину и превращает ее в сплошную «Перерву». Вот в чем вопрос и вот что делает музыку в этих фельетонах.
Судите сами.
Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса.
А Вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную «Перерву», что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у Вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата.
И вы хотите после этого, чтобы ЦК молчал! За кого Вы принимаете наш ЦК?
И Вы хотите, чтобы я молчал из-за того, что Вы, оказывается, питаете ко мне «биографическую нежность»! Как Вы наивны и до чего Вы мало знаете большевиков.
Может быть, Вы, как человек «грамотный», не откажетесь выслушать следующие слова Ленина:
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что насилия вызывали отпор из нашей Среды, из Среды великорусов, что эта Среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». Откровенные и прикровенные рабы – великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать эти слова. А по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками, капиталистами» (см. Ленин «О национальной гордости великороссов»).
Вот как умел говорить Ленин, величайший интернационалист в мире, о национальной гордости великороссов. А говорил он так потому, что он знал, что: «Интерес (не по-холопски понятый) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев» (см. там же).
Вот она, ясная и смелая «программа» Ленина. Она, эта «программа», вполне понятна и естественна для революционеров, кровно связанных с рабочим классом, с народными массами.
Она непонятна и неестественна для выродков типа Лелевича, которые не связаны и не могут быть связаны с рабочим классом, с народными массами.
Возможно ли примирить эту революционную «программу» Ленина с той нездоровой тенденцией, которая проводится в Ваших последних фельетонах?
Ясно, что невозможно. Невозможно, так как между ними нет ничего общего.
Вот в чем дело и вот чего Вы не хотите понять. Значит, надо Вам поворачивать на старую, ленинскую дорогу, несмотря ни на что. Других путей нет.
В этом суть, а не в пустых ламентациях перетрусившего интеллигента, с перепугу болтающего о том, что Демьяна хотят якобы «изолировать», что Демьяна «не будут больше печатать» и т. п. Понятно?
Вы требовали от меня ясности. Надеюсь, что я дал Вам достаточно ясный ответ.
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. Можно предположить, что Сталину очень не понравился ернический и льстиво-панибратский тон письма Демьяна Бедного, отсюда и такой разнос: поставить на место.
Л. С. Сосновский – партийный журналист, в 1937году репрессирован.
Г. Лелевич (Л. Г. Кальмансон) – один из руководителей Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. В 1926 году от руководства отстранен.
Сталин – А. М. Горькому
Не позднее 15 декабря 1930 г.
Привет Алексею Максимовичу!
Пишу с некоторым запозданием, т. к. диппочта идет к вам, в Италию, лишь в определенные сроки, кажется, раз в 20 дней.
Шолохов и другие уже отправились к Вам. Им дали все, что требуется для поездки.
Показаний Осадчего не посылаю, т. к. он их повторил на суде, и Вы можете познакомиться с ними по нашим газетам.
Видел т. Пешкову. Доктор Левин будет у Вас на днях. Останется месяца полтора или больше – как скажете.
Процесс группы Рамзина окончился. Решили заменить расстрел заключением на 10 и меньше лет. Мы хотели этим подчеркнуть три вещи: а) главные виновники не рамзиновцы, а их хозяева в Париже – французские интервенты с их охвостьем «Торгпромом»; б) людей раскаявшихся и разоружившихся советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством мести, а интересами советского государства; в) советская власть не боится ни врагов за рубежом, ни их агентуры в СССР.
Дела идут у нас неплохо. И в области промышленности, и в области сельского хозяйства успехи несомненные. Пусть мяукают там, в Европе, на все голоса все и всякие ископаемые средневекового периода о «крахе» СССР. Этим они не изменят ни на йоту ни наших планов, ни нашего дела. СССР будет первоклассной страной самого крупного, технически оборудованного промышленного и сельскохозяйственного производства. Социализм непобедим. Не будет больше «убогой» России. Кончено! Будет могучая и обильная передовая Россия.
15-го созываем пленум ЦК. Думаем сменить т. Рыкова. Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспевает за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть), путается в ногах. Думаем заменить его т. Молотовым. Смелый, умный, вполне современный руководитель. Его настоящая фамилия не Молотов, а Скрябин. Он из Вятки. ЦК полностью за него.
Ну, кажется, хватит.
Жму руку.
И. СТАЛИН
P.S. Если действительно решили приехать к весне, хорошо бы поспеть к 1 мая, к параду.
Необходимое пояснение. Заместитель председателя Госплана СССР и РСФСР П. С. Осадный был арестован в ходе процесса Промпартии прямо в зале суда. Отчеты о судебном процессе публиковали «Правда» и «Известия». Л. К. Рамзин – инженер-теплотехник, участник разработки плана ГОЭЛРО, проходил по процессу Промпартии. Помиловав его, Сталин поступил «по-хозяйски»: в 1943 году Рамзин создал конструкцию промышленного прямоточного котла («котел Рамзина») и получил Сталинскую премию.
А.И. Рыкова через неделю вывели из состава Политбюро.
Всеволод иванов и леонид леонов – Сталину
Конец 1930 г. – начало 1931 г.
Дорогой и уважаемый
Иосиф Виссарионович.
Нам очень хотелось бы получить возможность повидать Вас и поговорить по поводу современной советской литературы.
Ваши высказывания по целому ряду вопросов, связанных с экономикой промышленности, сельского хозяйства и пр., внесли огромную ясность в разрешение многих сложнейших проблем нашего строительства. Отсутствие такой же четкой партийной установки в делах литературы вообще заставляет нас очень просить Вас уделить нам хотя бы самое краткое время для такой беседы, тем более что нам хорошо известно Ваше постоянное внимание к этой области искусства.
В случае Вашего согласия просим Вас сделать распоряжение Секретариату позвонить по любому из телефонов (т. Всеволод Иванов 81–02, т. Леонид Леонов – 69–31).
С товарищеским приветом
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
Б. А. Пильняк – Сталину
4 января 1931 г.
Глубокоуважаемый товарищ Сталин.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Если бы у Вас нашлось время принять меня, я был бы счастлив гораздо убедительнее сказать о том, ради чего я пишу.
Позвольте сказать первым делом, что решающе, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей революцией, считая себя революционным писателем и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы.
В моей писательской судьбе множество ошибок. Я знаю их лучше, чем кто-либо, оправдываться в них надо только делами. Должен все же сказать, как это ни парадоксально, – обдумывая свои ошибки, очень часто, наедине с самим собою, я видел, что многие мои ошибки вытекали из убеждения, что писателем революции может быть лишь тот, кто искренен и правдив с революцией: мне казалось, что, если мне дано право нести великую честь советского писателя, то ко мне есть и доверие.
Последней моей ошибкой (моей и ВОКСа) было напечатание «Красного Дерева». Наша пресса обрушилась на мою голову негодованием. Я понес кары. Ошибки своей я не отрицал и считал, что исправлением моих ошибок должны быть не только декларативные письма в редакции, но дела: с величайшим трудом (должно быть, меня боялись) я нашел издателя и напечатал роман «Волга впадает в Каспийское море» (который ныне переведен и переводится на восемь иностранных языков и немецкий перевод которого я сейчас посылаю Вам), – я поехал в Среднюю Азию и печатал в «Известиях ЦИК» очерки о Таджикистане, – последнее, что я напечатал, в связи с процессом вредителей, я прилагаю к этому письму и прошу прочитать хотя бы подчеркнутое красным карандашом. Содержание этих вещей я считал исправлением моих писательских ошибок, – этими вещами я хотел разрушить то недоверие, которое возникло к моему имени после печатной кампании против «Красного Дерева».
Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка «Красного Дерева» комментировалась не только прессой на русском языке, но западноевропейской, американской и даже японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником, – я ответил на это «мученичество» письмом в европейской прессе и вещами, указанными выше. Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот «замученный» писатель в здравом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ (уже в течение трех лет я имею от американских писателей приглашение в САСШ, а в Европе я оказался бы принятым, как равный, писателями, кроме пролетарских, порядка Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Шоу), – если бы этот писатель заявил хотя бы о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, – это было бы политически значимо. Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу, – тем паче, что это было у меня в обычае, так как с 1921-го года, когда я впервые был за границей, я переезжал советские границы четырнадцать раз, а сейчас не был там с 1928-го года.
Кроме этого, у меня есть другие причины, по которым мне надо ехать за границу.
Полупричиной я считаю то обстоятельство, что, не приехав на место, я никак не могу наладить моих переводно-литературных дел, когда переводчики меня безбожно обворовывают, – хотя эта полупричина дала бы Госбанку в год тысячу-полторы валютных рублей, если бы я наладил получение гонораров.
Главная причина – следующая. Годы уходят, и время не ждет, – и с дней десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, к которому я подхожу как к первой моей большой и настоящей работе. Мой писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся. Этот роман посвящен последним полуторадесятилетиям истории земного шара, – и я хочу противопоставить нашу, делаемую, строимую, созидаемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей, – ведь на самом деле перепластование последних лет истории гигантско, – и на самом деле историю перестраиваем мы. Сюжетная сторона этого романа уже продумана, лежит в моей голове, – место действия этого романа – СССР, САСШ, Азия и Европа, – Азию и Европу я представляю, в САСШ я не был, – у меня не хватает знаний, а роман я должен сделать со всем напряжением.
Эти мои соображения я излагал ряду моих товарищей-партийцев, и по совету с ними я подал ходатайство о разрешении мне выезда за границу, месяцев на три – на шесть. Валюты я не просил, так как, все же, часть моих переводов оплачена.
В разрешении выехать за границу мне отказано.
Почему, – я не знаю. Неужели мне надо предположить, что обо мне думают, что я убегу что ли, – но ведь это же чепуха! Не могу же я убежать от самого себя и от своей писательской судьбы, от революции, от своей страны, от языка, от жены, от детей!?
Надо предположить, что это есть продолжение недоверия ко мне, – или меня наказывают? Я оказался в положении мальчишки, потому что, после разговоров с товарищами, я был убежден в получении паспорта, – озаботился в связи с этим об иностранных визах, переговорил с отделом печати НКИД, с ВОКСом о моих маршрутах и о предполагаемых делах и выступлениях за границей. Если это есть наказание, то оно очень жестоко.
Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только лишь революционным писателем. Я напишу нужную вещь.
Позвольте в заключение сказать о моем теперешнем состоянии. Я говорил о моих ошибках и о том методе, который я избрал, чтобы их исправить. Всем сердцем и всеми помыслами я хочу быть с революцией, и очень часто у меня за последний год возникает ощущение, что кто-то меня отталкивает от нее, – я окружен недоверием, в атмосфере которого работать нельзя, – если бы Вы знали хотя бы о том, сколько я обивал порог «Известий», чтобы напечатать ту статью, которую я шлю Вам, и обиваю до сих пор, чтобы допечатать мои таджикские очерки, которые приняты, но для которых катастрофически отсутствует в газете место.
Не ходить же мне ко всем и не говорить: верьте мне.
Но Вас я могу просить об этом, – и я прошу Вас мне помочь.
С величайшим нетерпением жду Вашего ответа.
Позвольте пожелать Вам всего хорошего.
БОР. ПИЛЬНЯК
Необходимое пояснение. БОКС – Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. САСШ – Северо-Американские Соединенные Штаты (устар. название).
Процессу Промпартии Пильняк посвятил статью «Слушайте поступь истории» («Известия», 14.12.30).
Сталин – Б. А. Пильняку
7 января 1931 г.
Уважаемый тов. Пильняк!
Письмо Ваше от 4.1. получил. Проверка показала, что органы надзора не имеют возражений против Вашего выезда за границу. Были у них, оказывается, колебания, но потом они отпали. Стало быть, Ваш выезд за границу можно считать в этом отношении обеспеченным.
Всего хорошего.
Сталин – А. М. Горькому
10 января 1931 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Посылаю документы о 1) группе Кондратьева и 2) о меньшевиках. Просьба – не принимать близко к сердцу содержимое этих документов и не волноваться. Герои документов не стоят того. К тому же есть на свете подлецы почище этих пакостников.
У нас дела идут хорошо. Неважно обстоит дело с транспортом (слишком большой груз навалили), но выправим в ближайшее время.
Берегите здоровье.
Привет!
И. СТАЛИН
Константин Тренев – Сталину
19 марта 1931 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Я, драматург К. Тренев, обращаюсь к Вам в тяжелый момент своей жизни.
По состоянию здоровья своего и семьи я уже свыше двадцати лет живу в Крыму, в г. Симферополе, лишь по временам выезжая, в связи с постановкой моих пьес, в Москву. В данное время я в течение нескольких месяцев работаю над постановкой в Малом театре моей новой пьесы на тему колхозного строительства.
К несчастью, в высшей степени напряженная и ответственная моя работа нарушена тяжелым сообщением моей семьи из Крыма: по неизвестным мне причинам в доме у меня произведен обыск. При обыске абсолютно ничего не взято, но предложено мне по приезде в Симферополь явиться в Г.П.У.
Прежде чем просить Вас, Иосиф Виссарионович, о чем бы то ни было, я считаю нужным дать Вам честное слово советского гражданина и писателя, что политическая совесть моя чиста. С первых же дней советской власти в Крыму и до сей минуты я все силы и литературные способности отдал на честное служение ей. Результатом моих работ была сначала «Пугачевщина» в МХАТе 1-м, потом «Любовь Яровая» в Малом театре. Я надеюсь, что и готовящаяся в Малом театре новая моя пьеса послужит делу социалистического строительства, изображая его с тем же воодушевлением и напряжением творческих сил моих, с каким я стремился отразить великие моменты гражданской войны.
Я уже не молод, здоровье мое серьезно подорвано. В данный момент после исключительно напряженной работы, связанной с пьесой, я, по заявлению врачей, нуждаюсь в немедленном, чуть ли не в постельном лечении и моральном покое, хотя ударная работа над пьесой требует и моего участия.
Прошу Вас, глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, извинить меня за беспокойство, но я уже имел счастливый случай убедиться в Вашем внимании и доверии ко мне и уверен, что оправдаю его. В настоящее же время я позволяю обратиться к Вам с просьбой облегчить мою жизнь и работу, оградив меня и семью мою от незаслуженных тревог и волнений.
С искренним и глубоким уважением
Драматург К. ТРЕНЕВ
Сталин – Мариэтте Шагинян
20 мая 1931 г.
Уваж. тов. Шагинян!
Должен извиниться перед Вами, что в настоящее время не имею возможности прочесть Ваш труд и дать предисловие. Месяца три назад я еще смог бы исполнить Вашу просьбу (исполнил бы ее с удовольствием), но теперь – поверьте – лишен возможности исполнить ее ввиду сверхсметной перегруженности текущей практической работой.
Что касается того, чтобы ускорить выход «Гидроцентрали» в свет и оградить Вас от наскоков со стороны не в меру «критической» критики, то это я сделаю обязательно. Вы только скажите конкретно, на кого я должен нажать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
Н. В. Гоголь и М. А. Булгаков – Сталину
30 мая 1931 г.
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
«Чем дальше, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для проведения большого и стройного труда.
Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру.
…Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее.
…Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».
Н. Гоголь
Я горячо прошу Вас ходатайствовать за меня перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года.
Сообщаю, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу Правительство дать мне возможность их выполнить.
С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен.
Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких.
Причина болезни моей мне отчетливо известна:
На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя.
Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе.
Злобы я не имею, но очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать.
Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.
Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если он замолчал, значит, был не настоящий.
А если настоящий замолчал – погибает.
Причина моей болезни – многолетняя затравленность, а затем молчание.
За последний год я сделал следующее:
несмотря на очень большие трудности, превратил поэму Н. Гоголя «Мертвые души» в пьесу,
работал в качестве режиссера МХТ на репетициях этой пьесы, работал в качестве актера, играя за заболевших актеров в этих же репетициях,
был назначен в МХТ режиссером во все кампании и революционные празднества этого года,
служил в ТРАМе – Московском, переключаясь с дневной работы МХТовской на вечернюю ТРАМовскую,
ушел из ТРАМа 15.III.31 года, когда почувствовал, что мозг отказывается служить и что пользы ТРАМу не приношу,
взялся за постановку в театре Санпросвета (и закончу ее к июле).
А по ночам стал писать.
Но надорвался.
Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы повиты черным, я отравлен тоской и привычной иронией.
В годы моей писательской работы все граждане беспартийные и партийные внушали и внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран.
Если это так – мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного.
Как воспою мою страну – СССР?
Перед тем, как писать Вам, я взвесил все. Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом.
Сообщаю Вам, Иосиф Виссарионович, что я очень серьезно предупрежден большими деятелями искусства, ездившими за границу, о том, что там мне оставаться невозможно.
Меня предупредили о том, что в случае, если Правительство откроет мне дверь, я должен быть сугубо осторожен, чтобы как-нибудь нечаянно не захлопнуть за собой эту дверь и не отрезать путь назад, не получить бы беды похуже запрещения моих пьес.
По общему мнению всех, кто серьезно интересовался моей работой, я невозможен ни в какой другой земле, кроме своей – СССР, потому 11 лет черпал из нее.
К таким предупреждениям я чуток, а самое веское из них было от моей побывавшей за границей жены, заявившей мне, когда я просился в изгнание, что она за рубежом не желает оставаться и что я погибну там от тоски менее чем в год.
(Сам я никогда не был за границей. Сведение о том, что я был за границей, помещенное в Большой Советской Энциклопедии, – неверно.)
«Такой Булгаков не нужен советскому театру», – написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили.
Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен, как воздух.
Прошу Правительство СССР отпустить меня до осени и разрешить моей жене Любови Евгениевне Булгаковой сопровождать меня. О последнем прошу потому, что серьезно болен. Меня нужно сопровождать близкому человеку. Я страдаю припадками страха в одиночестве.
Если нужны какие-нибудь дополнительные объяснения к этому письму, я их дам тому лицу, к которому меня вызовут.
Но, заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: «Может быть, вам, действительно, нужно ехать за границу…»
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР.
М. БУЛГАКОВ
Необходимое пояснение. В отличие от Гоголя, Булгаков, как и Пушкин, так никогда и не побывал за границей.
Сталин – редакции журнала «Красная новь»
Май 1931 г.
К сведению редакции «Красная новь».
Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту.
И. СТАЛИН
P.S. Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтобы наказание пошло им «впрок».
Необходимое пояснение. Записка Сталина касается повести А. П. Платонова «Впрок». На полях повести, опубликованной «Красной новью» (№ 3, 1931), разбросаны многочисленные сталинские умозаключения: «Дурак», «Пошляк», «Беззубый остряк», «Болван», «Подлец», «Мерзавец» и т. д.
Е. И. Замятин – Сталину
Июнь 1931 г.
Уважаемый Иосиф Виссарионович,
приговоренный к высшей мере наказания – автор настоящего письма – обращается к Вам с просьбой о замене этой меры на другую.
Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от года все усиливающейся травли.
Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3–4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал – и продолжаю считать – что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме, поставленный в одной из моих статей (журнал «Дом искусств», № 1, 1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.
С тех пор по разным поводам кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали черта – так критика сделала из меня черта советской литературы. Плюнуть на черта – зачитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его – меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» – еще в 1916 году, – некий критик умудрился найти… «издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи – уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства «Академия» я проредактировал комедию Шеридана «Школа злословия» и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть – и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя, – разрешено было печатать и статью, и даже мое криминальное имя.
Этот факт приведен здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнаженном, так сказать – химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь еще один факт, связанный уже не со случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса – трагедия «Атилла» – заставит наконец замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности я как будто имел все основания. Пьеса была прочитана на заседании Художественного совета Ленинградского Большого Драматического Театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов – и вот выдержки из их отзывов (цитирую по протоколу заседания от 15-го мая 1928 г.).
Представитель фабрики им. Володарского: «Это – пьеса современного автора, трактующего тему классовой борьбы в древние века, созвучную современности… Идеологически вполне приемлема… Пьеса производит сильное впечатление и уничтожает упрек, брошенный современной драматургии, что она не дает хороших пьес…» Представитель завода им. Ленина, отмечая революционный характер пьесы, находит, что «пьеса по своей художественной ценности напоминает шекспировские произведения… Пьеса трагическая, чрезвычайно насыщена действием и будет очень увлекать зрителя».
Представитель Гидромеханического завода считает «все моменты в пьесе весьма сильными и захватывающими» и рекомендует приурочить ее постановку к юбилею театра.
Пусть насчет Шекспира товарищи рабочие хватили через край, но во всяком случае о той же пьесе М. Горький писал, что считает ее «высокоценной и литературно, и общественно» и что «героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней». Пьеса была принята к постановке театром, была разрешена Главреперткомом, а затем… показана рабочему зрителю, давшему ей такую оценку? Нет: затем пьеса, уже наполовину срепетированная театром, уже объявленная на афишах, – была запрещена по настоянию ленинградского Облита.
Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом» Пильняка. Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка – и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году – был подан рядом с «Красным деревом» как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая во МХАТе 2-м четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в издательстве «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и «Федерация», и «Земля и Фабрика», и особенно – «Издательство писателей в Ленинграде». Это последнее издательство еще целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей, в том числе и коммунистов. Весной этого года ленинградский отдел Рапа добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Литературная газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: «… издательство надо сохранить, но не для Замятиных». Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный приговор этому автору был опубликован.
В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР – с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на год, выехать за границу – с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки – искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.
Я знаю, мне очень нелегко будет за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу – об этом достаточно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП (б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде – меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорен к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься – хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я буду приведен к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем – может быть, мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает, главным образом, для европейской литературы – для перевода на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню еще одно другое имя: Б. Пильняка. Как и я, амплуа черта он разделял со мной в полной мере, он был главной мишенью для критики, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?
Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) – мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две мои пьесы, переведенных на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей», уже ставившиеся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес, вдобавок, дает мне возможность не обременять Наркомфин просьбой о выдаче мне валюты. Все эти мотивы – налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу – является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь.
Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие, обратившиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.
Е. ЗАМЯТИН
Необходимое пояснение. Разрешение Замятину выехать за границу выхлопотал Горький.
А. Стецкий – Сталину
5 сентября 1931 г.
Тов. Сталин,
пьеса «Самоубийца» Эрдмана сделана талантливо и остро. Но она – искусственна и двусмысленна.
Любой режиссер может ее целиком повернуть против нас. Поэтому эту пьесу, ее постановку можно разрешить в каждом отдельном случае, в зависимости от того, какой театр и какой режиссер ее ставит.
С коммунистическим] прив[етом]
А. СТЕЦКИЙ
К. С. Станиславский – Сталину
29 октября 1931 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Зная Ваше всегдашнее внимание к Художественному театру, обращаюсь к Вам со следующей просьбой.
От Алексея Максимовича Горького Вы уже знаете, что Художественный театр глубоко заинтересован пьесой Эрдмана «Самоубийца», в которой театр видит одно из значительнейших произведений нашей эпохи. На наш взгляд, Николаю Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны. Прием, которым автор показал живых людей мещанства и их уродство, представляет подлинную новизну, которая, однако, вполне соответствует русскому реализму в его лучших представителях, как Гоголь, Щедрин, и близок традициям нашего театра.
Поэтому, после того как пьеса была закончена автором, Художественному театру показалось важным применить свое мастерство для раскрытия общественного смысла и художественной правдивости комедии. Однако в настоящее время эта пьеса находится под цензурным запретом.
И мне хочется попросить у Вас разрешения приступить к работе над комедией «Самоубийца» в той надежде, что Вы не откажете нам посмотреть ее до выпуска в исполнении наших актеров.
После такого показа могла бы быть решена судьба этой комедии. Конечно, никаких затрат на постановку до ее показа Вам Художественный театр не произведет.
СТАНИСЛАВСКИЙ
Отзыв К. Гандурина (главрепертком) о пьесе Эрдмана «Самоубийца», представленный Сталину
5 ноября 1931 г.
Копия
ОТЗЫВ О ПЬЕСЕ Н. ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА»
Главное действующее лицо пьесы Эрдмана «Самоубийца» – Федя Петунии.
О нем говорят в течение всей пьесы, но он ни разу на сцену не появляется.
Петунии единственный положительный персонаж пьесы (писатель, прозрачный намек на Маяковского), кончает самоубийством и оставляет записку: «Подсекальников прав, жить не стоит».
В развитие и доказательство смысла этого финала, по сути дела, и построена вся пьеса в весьма остроумной форме (повторяя «Мандат» того же автора), излагающая анекдотический случай с обывателем мещанином Подсекальниковым, в силу целого ряда житейских обстоятельств симулирующего самоубийство.
Пьеса полна двусмысленных ситуаций. Она как будто стремится дать сатиру на обывателей, мещан, внутри эмигрантствующих интеллигентов, но построена таким образом, что антисоветские сентенции и реплики, вложенные в уста отрицательных персонажей (а отрицательные персонажи все действующие лица), звучат развернутым идеологическим и политическим протестом субъективного индивидуализма и идеализма против коллектива, массы, пролетарской идеологии, «35 тыс. курьеров», – невежественных Егорушек, желающих навязать интеллигенции свои вкусы.
Подсекальников выведен в смешном виде, но изрекает с точки зрения классового врага вовсе не смешные вещи. Он ходячий сборник (точно как и другие действующие лица) антисоветских анекдотов, словечек и афоризмов. Эти крылатые фразы пронизывают всю пьесу, и убрать их купюрами нельзя, не разрушая органической ткани всей пьесы.
Мораль пьесы: в столь жалких условиях, когда приходится приглушать все свои чувства и мысли, когда необходимо в течение многих лет «играть туш гостям», когда «искусство – красная рабыня в гареме пролетариата», – жить не стоит.
С другой стороны, пьеса, возможно, помимо субъективной воли автора, требуя для интеллигенции «права на шепот» – этим самым наносит ей типичный эмигрантский удар, как интеллигенции в советских условиях способной только на шепот. С третьей стороны, пьеса представляет собой гуманистический призыв оставить в покое, не трогать всех этих Аристархов и им подобных, никому не мешающих и «безобидных» людей, а на деле – классовых врагов.
Пьесу в ее нынешнем виде можно без единой помарки ставить на эмигрантских сценах. Ибо вместо осмеяний внутренней эмигрантщины и обывательщины она выражает, хотя и в завуалированный форме, эмигрантский протест против советской действительности. В таком виде отрицательный эффект постановки пьесы Эрдмана был бы во много раз больше, чем от постановки «Натальи Тарповой», «Партбилета», «Багрового острова» и др. им подобных пьес, которые пришлось снимать с величайшими скандалами после первых же спектаклей.
Пьеса была запрещена ГРК в начале сентября 1930 г. Она была также отклонена театром им. Вахтангова. После читки ее на Худполитсовете театра им. Мейерхольда она получила резко отрицательную оценку в ряде московских газет. Своевременно она была направлена в прошлом году в Культпроп тов. Рабичеву по его просьбе.
Предс. ГРК– ГАНДУРИН
Сталин – К. С. Станиславскому
9 ноября 1931 г.
Многоуважаемый Константин Сергеевич!
Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство»[9]. Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Мнение и мотивы Реперткома можете узнать из приложенного документа. Мне кажется, что отзыв Реперткома недалек от истины. Тем не менее я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели. Культпроп нашей партии (т. Стецкий) поможет Вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант.
Привет
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. Упомянутый в письме «приложенный документ» это, видимо, решение Главреперткома от 25.09.30. о запрете пьесы «Самоубийца» к постановке.
А. М. Горький – Сталину
25 января 1932 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Прилагаю копию письма моего Илье Ионову, я очень прошу Вас обратить внимание на вреднейшую склоку, затеянную этим ненормальным человеком и способную совершенно разрушить издательство «Академия». Ионов любит книгу, это, на мой взгляд, единственное его достоинство, но он недостаточно грамотен для того, чтобы руководить таким культурным делом. Я знаю его с 18-го года, наблюдал в течение трех лет, он и тогда вызывал у меня впечатление человека психически неуравновешенного, крайне – «барски» – грубого в отношениях с людьми и не способного к большой ответственной работе. Затем мне показалось, что поездка в Америку несколько излечила его, но я ошибся, – Америка только развила в нем заносчивость, самомнение и мещанскую – «хозяйскую» – грубость. Он совершенно не выносит людей умнее и грамотнее его и по натуре своей – неизлечимый индивидуалист в самом плохом смысле этого слова.
Мне кажется, что его следовало бы заменить в «Академии» другим человеком, и – не одним даже. Не пригодятся ли на эту работу: Лев Каменев, Сутырин, П.С. Коган или кто-нибудь другой? Дело очень крупное, требует больших знаний.
Тихонов и Виноградов защищаются мною отнюдь не по личным симпатиям, а именно потому, что это люди знающие. Сейчас я составляю планы изданий для молодежи – «Историю женщины от первобытных времен до наших дней», «Историю всемирного купца», «Историю русского быта», т. е. историю средней буржуазии – мещанства. Работа над этими изданиями требует серьезных культурных сил.
Прилагаю также письмо некоего Иринина. Я не знаю – кто он, но слышал, что служит в одном из наших берлинских учреждений. Письмо – сумбурное, как видите.
За три недели, которые прожил у меня Авербах, я присмотрелся к нему и считаю, что это весьма умный, хорошо одаренный человек, который еще не развернулся как следует и которому надо учиться. Его нужно бы поберечь. Он очень перегружен работой, у него невроз сердца и отчаянная неврастения на почве переутомления. Здесь его немножко лечили, но этого мало. Нельзя ли ему дать отпуск месяца на два, до мая? В мае у него начинается большая работа, большая работа по съезду писателей и подготовке к празднованию 15 октября[10].
Очень прошу Вас: распорядитесь, чтобы выпустили сюда литератора Мих. Слонимского, он едет для работы над новым романом. Слышу много отрадного о произведениях Шолохова, Фадеева, Ставского, Горбунова, кажется, 32-й будет урожайным годом по литературе.
Завтра в Неаполе спускают на воду второй траллер[11] «Амурец», недавно спущен и ушел на Дальвосток – «Уссуриец». Очень хороши ребята – командный состав – на этих судах. Третье судно будет спущено в феврале.
Огорчен я тем, что развернутый план «Истории гражданской войны» все еще не проверен. Так хотелось бы выпустить первый том ее к 15 году!
О намерениях италианцев не буду писать, наверное, Вы знаете это лучше меня.
Имею к Вам просьбу: не пора ли восстановить в партии Владимира Зазубрина, сибирского писателя. Человек он прекрасно настроенный, написал очень хороший роман «Горы», а наказан – достаточно крепко. И едва ли заслуженно в такой мере. Очень ценный человек.
Будьте здоровы, крепко жму руку.
А. ПЕШКОВ
Необходимое пояснение. Илья Ионов – работник Наркомпроса. Иринин – фамилия вымышленная. Съезд пролетарских писателей СССР намечалось провести в мае 1932 года, но тогда съезд не состоялся. Сибирский писатель В. Я. Зазубрин (Зубцов) был исключен из партии по подозрению в сотрудничестве до 1917 года с царской охранкой, в 1937 году арестован и расстрелян.
Б. Пильняк – Сталину
28 января 1932 г.
Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Я должен был бы написать Вам сейчас же после возвращения из Америки, чтобы благодарить Вас за данную мне возможность быть за границей. Я хотел это сделать, приложить к письму ту книгу, которую я сейчас заканчиваю, об Америке. Но мои обстоятельства сейчас складываются так, что я, кажется, теряю возможность не только что-либо издавать, но и вообще считаться советским гражданином, хотя вины я за собой не чувствую.
Ваше письмо, Иосиф Виссарионович, которое Вы прислали мне в связи с моею поездкой, накладывало на меня обязательства, которые я нес с гордостью. Я уверен, что НКИД подтвердит, что моя поездка, равно как и мои выступления, были полезны для СССР. Я десятка два раз выступал публично, на рабочих собраниях Германии, Америки, в Сорбонском университете и т. д. Везде я отождествлял судьбу советской литературы с судьбою коммунизма, утверждал, что будущее только у нас. В Нью-йоркском Таймсе, в частности, было однажды напечатано: «Пильняк предрекает гибель капитализма в Америке». У меня дома хранится около восьмисот газетных и журнальных вырезок – только американских, – связанных с моею поездкой, как с поездкой советского писателя, – т. е. моя поездка была замечена хорошо.
Должен сказать, что я вернулся с утроенными, с удесятеренными революционными настроениями. Вернувшись, я сел за книгу об Америке.
За месяцы моей поездки обо мне в советской прессе появилось несколько заметок. Ни одной из них не было такой, которая, говоря по существу, не паскудила б меня. В качестве примера разрешите привести эпизод. Зимой 30–31 годов в «Известиях» печатались мои очерки о Таджикистане, которые впоследствии вышли отдельными книгами, как по-русски, так и на иностранных языках. Прежде чем печатать эти очерки, я давал их на просмотр председателю Тадж. Совнаркома тов. Ходжибаеву. По поводу этих очерков была только одна заметка в
Литературной Газете от 10 июня 31 г., подписанная некими краеведами. Меня не было тогда в СССР. Заметка эта была так несправедлива, что тов. Ходжибаев нашел необходимым ее опровергнуть. Тов. Ходжибаев говорил мне, что все те три краеведа, подписавшие эту заметку, поименно отказались от написанного обо мне. Об этом нигде не напечатано. Таких примеров я могу привести много. Но это одна лишь и не главная сторона дела.
Вернувшись, я получил от нескольких товарищей и организаций предложения и поручения прочитать лекции об Америке. Такое предложение я получил, в частности, от Дома Печати, и в начале ноября, по предложению Правления, я говорил там об американских журналистических и писательских нравах. Без малого через два месяца после того, в Правде от 25 декабря 31 г. появилась резолюция ячейки «Правды» под заглавием «За большевистскую бдительность на фронте печати». Эта резолюция была посвящена выступлению Левидова. Но она коснулась и меня, в традициях, установившихся по отношению ко мне, двумя фразами:
«…проявления гнилого либерализма со стороны руководства Дома Печати, предоставившего трибуну Левидовым, а еще ранее, Борису Пильняку».
«…Фракция признала также политической ошибкой постановку в ДП доклада Пильняка об Америке».
Этими фразами все, касающееся меня, и ограничено. Как видите, оценки того, что я говорил, не имеется, но получается по прямому смыслу обеих этих фраз, что ошибочно вообще давать мне право выступать вне зависимости от того, что я говорю, т. е. ошибочно, если я нахожусь в рядах советской общественности.
Я имел две открытые лекции в Политехническом музее – об них нигде отзывов не было.
Но заметку «Правды» наша общественность так и расценила, что я выкинут из ее рядов. Случайно совпало, что того же 25 декабря я был направлен в Тулу с докладом. Я был свидетелем в Туле, как на мою лекцию собирались люди и расходились с нее, ибо доклад мой был экстренно отменен именно в связи с заметкой «Правды». Заметка «Правды» оказалась той каплей, которая количество статей обо мне превратила в качество. Но не только о моих выступлениях не может быть сейчас и речи, но со мной порван договор на издание моих книг, которые, начиная от «Голого года», переиздавались и Главлитом запрещены не были, равно как не запрещены и сейчас. Договор расторгнут 27 января, и я не знаю, где я теперь могу издавать мои книги. На издание моей книги об Америке у меня есть предложения из ряда стран, даже от американских издателей, хотя они и знают, что эта книга будет скандальна для Америки, – и мне неизвестно, как мне издать эту книгу только в СССР.
Я написал в «Правду», прося реабилитировать меня. «Правда», за подписью тов. Мехлиса, ответила мне на мое имя письмом, где, в частности, сообщается:
«Само собой разумеется, что помещение в «Правде» материала о вашем докладе не означает, что вы не можете выступать с лекцией о вашей поездке по Америке».
Материала, как видно из приведенных выше выписок, о моем докладе в «Правде» не печаталось. Дело сейчас опирается уже не только в лекции об Америке, но о моем положении в советской общественности. Не приклеивать же мне письмо тов. Мехлиса себе на лоб, чтобы от меня не отворачивались.
Я просил редакцию «Правды» высказаться по этому поводу на своих страницах. Ответа я не получил до сих пор.
Эта же заметка «Правды», расценивающая политической ошибкой мое выступление среди товарищей по профессии в Доме Печати, не только оставляет меня вне рядов советской общественности, но сводит насмарку всю мою поездку за границу, ибо она ставит меня в положение самозванца и явно уже ставит в положение политической бестактности мои выступления за границей, где, с одной стороны, я был гостем наших полпредств, но где иной раз мне приходилось выступать не среди товарищей, но среди врагов.
Нет труднее отталкиваемому человеку – оправдываться, когда он не чувствует себя виноватым. В таких условиях легче вообще бросить заниматься литературным трудом, тем паче, что такие условия могут грозить и голодом. Но работать – я хочу, и моя судьба навсегда связана с нашей революцией и ее генеральной линией.
Я прошу Вашей помощи, Иосиф Виссарионович. Я хочу чувствовать себя советским гражданином и работать в нормальных для советского писателя условиях. Я прошу Вас помочь мне восстановить права советского гражданина и писателя.
Разрешите заранее благодарить Вас, Иосиф Виссарионович.
Ваш БОРИС ПИЛЬНЯК
К этому письму я прилагаю «Таджикистан» на русском и французском языках. Я очень просил бы Вас просмотреть их[12].
Стихотворение Александра Безыменского, переданное Сталину
6 марта 1932 г.
ПЕСНЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ[13]
Сроки гнева на истеке, Зорче взгляд, большевики! Вновь маячат на востоке Белой армии штыки. …Наш Союз врагов осилит! Нас никак не упрекнуть, Если пуля, выбрав путь, Грянет белым прямо в грудь И, пробив ее навылет, Попадет в кого-нибудь. …………………………… Мы окрепли. Мы спокойны, Мы сильны как никогда. Не нужны Союзу войны. Дорог мир стране труда. Если ж вдруг на пятилетку Нападут враги страны, Испытают нашу меткость Поджигатели войны! Наш Союз врагов осилит! Нас никак не упрекнуть, Если пуля, выбрав путь, Грянет белым прямо в грудь И, пробив ее навылет, Попадет… в кого-нибудь.А. БЕЗЫМЕНСКИЙ
Необходимое пояснение. На тексте стихотворения есть следующая пометка: «Т. Сталину. Время ли печатать? 6/3. Л. Мехлис». Резолюция Сталина: «Прекрасная вещь. Но печатать сейчас не следует. Cm.».
А. М. Горький – Сталину
24 марта 1932 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович —
телеграмму Вашу получил и принял соответствующие меры. Сожалею, что бестактность Р. Лонга разрушила серьезное дело, но, думаю, что – через некоторое время дело это следует возобновить, разумеется, не по нашей инициативе и в форме несколько иной.
Пользуясь случаем, разрешаю себе поделиться с Вами впечатлением, которое вызывает у меня полемика группы Панферова – Серафимовича с ведущей группой РАППа. Идеологические мотивы первой группы для меня не совсем ясны, но насколько я понимаю, она стремится к примитивизму и опрощению в области литературы, желает сузить рамки тем, однако не указывает с достаточной ясностью: почему и зачем это нужно? Если я не ошибаюсь, тогда – это стремление вредно и в нем чувствуется присутствие элемента угодничества начинающим писателям и желания группы Панферова занять командную позицию.
Начинающих писателей нужно убеждать: учитесь! И вовсе не следует угождать их слишком легкому отношению к литературной работе. В массу рапповцев эта полемика вносит смущение, раздоры и вызывает в ней бесплодную трату времени на исследование вопроса не – «кто прав», а «за кем идти?». Именно так формулируют свое настроение молодые писатели в их письмах ко мне. Как видите – формулировка, за которую не похвалишь.
Бесконечные групповые споры и склоки в среде РАППа, на мой взгляд, крайне вредны, тем более что мне кажется: в основе их лежат не идеологические, а главным образом личные мотивы. Вот что я думаю. Затем, кажется мне, что замена руководящей группы РАППа, – в которой объединены наиболее грамотные и культурные из литераторов-партийцев, – группой Серафимовича – Ставского, Панферова пользы дальнейшему росту РАППа – не принесет.
Здесь, в Неаполе и Венеции, строятся траллера для Мурманска и Владивостока. Выстроят траллер, и он стоит месяца полтора до того, как приедет из Союза команда.
Прилагаю перевод статейки из газеты «Рома», м. б. она проскользнула мимо внимания товарищей, для которых такие заметки небезынтересны.
Жду с нетерпением, когда можно будет ехать в Москву. Здоров.
Крепко жму Вашу руку.
А. ПЕШКОВ
Сейчас приехал Афиногенов.
Необходимое пояснение. Горький заключил контракт с издательством «Рей Лонг и Ричард Р. Смит» на подготовку книги «Правда о СССР», авторизованную Сталиным. После того как Р. Лонг разрекламировал «будущую книгу Сталина» с «разъяснением его отношений с Лениным и Троцким», Горький контракт расторг.
«Полемика», о которой упоминает Горький, шла внутри РАППа (прежде это называлось ВАПП) между двумя группировками, сошедшимися вокруг двух РАППовских журналов: «На литературном посту» (Авербах, Киршон, Лебединский, Фадеев) и «Октябрь» (Панферов, Ставский, Ильенков). «Октябристы» провозгласили роман Ф. Панферова «Бруски» – «примером для советского писательства», а «налитпостовцы» назвали этот роман «чисто середняцким». По сути шла борьба за право контроля над всей советской литературой. Еще в мае 1931 года РАПП предложила всем пролетарским писателям «заняться художественным показом героев пятилетки» и доложить об исполнении в течение двух недель.
18 марта 1932 года итальянская газета «Рома» сообщила о создании эмигрантской организации «Белая полиция охраны» – для защиты от «нападений красных». Об этой статье идет речь в письме Горького.
Группа поэтов – Сталину
Не позднее 7 мая 1932 г.
Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля о перестройке литорганизаций произвело на нас огромное впечатление.
Это постановление создает ту необходимую творческую атмосферу, которой за последнее время так не хватало всей советской литературе в целом и нашей поэзии в особенности.
В то время как советская поэзия занимает первое место в мировой поэзии, в то время как советская читательская общественность уделяла и уделяет вопросам поэзии огромное внимание, в практике наших литорганизаций советская поэзия не только не имела соответственных ее значению прав, но нередко явно третировалась этими организациями. Ни в РАПП, ни в ВССП, ни во Всероскомдраме, ни в ВОКП и т. д. поэты никогда не привлекались к активному руководству, в результате чего поэзией фактически руководили люди, некомпетентные в этой области. Отсюда создание дутых величин, дезориентированность, ведущая к творческой подавленности поэтической общественности.
Что касается издательств и журналов, то в состав редколлегий и правлений, как правило, входили исключительно прозаики. Поэты же либо не входили совершенно, либо кооптировались по узко групповому признаку.
Именно этой узко групповой атмосфере мы обязаны примером выдвижения РАППом одного из начинающих поэтов, не имеющего ни идейного, ни художественного авторитета в поэтической среде, фактически на пост заведующего судьбами советской поэзии.
Вот почему мы считаем необходимым привлечь нас, наряду с прозаиками, к реконструированию нового Союза писателей.
Мы считаем своим долгом довести до сведения Центрального Комитета наши соображения по поводу того, что отдельные группы и товарищи, культивировавшие в прежде существовавших литературных организациях групповщину, замкнутость и тенденции к отрыву писателей от политических задач современности, попытаются перенести эти навыки в новый создающийся Союз советских писателей.
Последние №№ «Литгазеты» и журнала «На литературном посту» убеждают нас в том, что наши опасения имеют вполне реальную основу. Отдельные группы и товарищи пытаются смазать решение ЦК, пытаются представить дело так, что ничего не произошло, что изменилось лишь название союза, а не содержание его работы.
Указывая на это, мы просим принять все меры к ликвидации таких тенденций, обещая ЦК самую горячую, самую активную поддержку в направлении борьбы с враждебными течениями и влияниями на советскую литературу, в направлении борьбы с кружковщиной, литературщиной, групповщиной, на основе развернутой большевистской самокритики, на основе борьбы за генеральную линию партии во всех областях работы.
Более подробную информацию по затронутому вопросу мы хотели бы сделать в Центральном Комитете, для чего просим вызвать нас в ближайшее время.
НИКОЛАЙ АСЕЕВ
ДЖЕК АЛТАУЗЕН
АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ
АЛЕКСАНДР ЖАРОВ
ВЕРА ИНБЕР
СЕМЕН КИРСАНОВ
МИХАИЛ СВЕТЛОВ
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ
ИОСИФ УТКИН
ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ
Необходимое пояснение. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года ликвидировалась Ассоциация пролетарских писателей, а все писатели, «поддерживающие платформу советской власти», объединялись «в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем».
ВССП – теперь, после постановления, уже бывший Всероссийский союз советских писателей; Всероскомдрама – бывшее Всероссийское общество советских драматургов, композиторов, авторов кино, клуба и эстрады; ВОКП – бывшее Всероссийское объединение колхозных писателей.
В. М. Киршон – Сталину
9 октября 1932 г.
Дорогой товарищ Сталин!
Посылаю Вам свою пьесу, задуманную давно и окончательно оформившуюся во время поездки за границу
Очень прошу Вас прочесть ее и дать мне указания.
С коммунистическим приветом.
В. КИРШОН
Необходимое пояснение. Драматург и литературный функционер Владимир Киршон не в первый раз просит указаний у Сталина. В данном случае речь идет о его новой пьесе «Суд» – о рабочем движении на Западе и «борьбе немецких коммунистов против социал-демократических предателей».
Сталин – В. М. Киршону
15 октября 1932 г.
Тов. Киршон!
Пьеса вышла у Вас неплохая. Хорошо бы пустить в дело немедля.
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. Сталин делал ставку на борьбу с немецкими социал-демократами, поэтому Киршон и получил командировку в Германию и написал пьесу «Суд» в угоду Сталину. Поражение социал-демократии в Германии очень помогло приходу к власти фашистов.
А. М. Горький – Сталину
28 февраля 1933 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович —
разрешите ознакомить Вас с письмом моим И. М. Гронскому.
Серьезнейшее дело организации литвуза требует Вашего в нем участия, ибо дело это совершенно новое, а ставить его нужно образцово, без лишней словесной игры, на строгом изучении материала истории.
Затем я бы сердечно просил Вас подумать об идеи организации «Клуба мастеров культуры». Мне кажется, что учреждение такого типа сыграло бы весьма значительную роль в развитии нашей культуры.
«Городок писателей» – как видите – возбуждает у меня скептическое к нему отношение.
Читаю отчеты о съезде ударников-колхозников с глубочайшей радостью. Отличнейшая идея и должна дать отличные результаты.
Крепко жму Вашу руку. Будьте здоровы, дорогой, могучий человек.
А. ПЕШКОВ
Необходимое пояснение. И. М. Гронский в это время отв. редактор «Известий» и председатель оргкомитета по подготовке Первого съезда советских писателей. Горький посылает Сталину текст своего письма Гронскому, где изложил свои соображения в связи с предполагаемым созданием литературного вуза. По поводу идеи создания «городка писателей» Горький высказался так, что это будет «деревня индивидуалистов» с перспективой «искусственного создания касты» и «обывательское истребление времени на творчество пустяков».
Сталин – А. М. Горькому
Не ранее 1 марта 1933 г.
Здравствуйте, дорогой Алексей Максимович!
Письмо (второе) получил.
1. Насчет «городка писателей». Я совершенно с Вами согласен. Это – дело надуманное, которое к тому же может отдалить писателей от живой среды и развить в них самомнение.
2. Клуб литераторов (готовых и уже пишущих) – дело нужное и полезное. Хорошо бы иметь конкретный план организации клуба. С Вашим приездом обязательно двинем это дело вперед.
3. Как думаете – не следует ли организовать литературный вуз Вашего имени при клубе литераторов или около него?
Дела идут у нас неплохо.
Привет!
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. 19 июля 1933 года было принято постановление СНК РСФСР «О строительстве Городка писателей».
А. Н. Афиногенов – Сталину
(Сопроводительная записка)
2 апреля 1933 г.
Посылаю Вам пьесу «Ложь», о которой пять месяцев тому назад я писал Вам и говорил с Вами. Буду счастлив каждому Вашему указанию, каждой пометке на полях, если Вы найдете ее заслуживающей внимания. В Москве пьесу хотят ставить МХТ-1-й и ΜΧΤ-2-й параллельно. Хотелось бы услышать Ваше мнение и по этому поводу.
А.
Сталин – А. Н. Афиногенову
Не ранее 2 апреля 1933 г.
Тов. Афиногенов!
Идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами вышли, физическими, нравственными, политич. уродами (Горчакова, Виктор, Кулик, Сероштанов). Даже Рядовой выглядит местами каким-то незавершенным, почти недоноском. Единственный человек, который ведет последовательную и до конца продуманную линию (двурушничества) – это Накатов. Он наиболее «цельный».
Для чего понадобился выстрел Нины? Он только запутывает дело и портит всю музыку.
Кулику надо бы противопоставить другого честного, беспорочного и беззаветно преданного делу рабочего (откройте глаза и увидите, что в партии есть у нас такие рабочие).
Надо бы дать в пьесе собрание рабочих, где разоблачают Виктора, опрокидывают Горчакову и восстанавливают правду. Это тем более необходимо, что у Вас нет вообще в пьесе действий, есть только разговоры (если не считать выстрела Нины, бессмысленного и ненужного).
Удались Вам, по-моему, типы отца, матери, Нины. Но они не доработаны до конца, не вполне скульптурны.
Почти у каждого героя имеется свой стиль (разговорный). Но стили эти не доработаны, ходульны, неряшливо переданы. Видимо, торопились с окончанием пьесы.
Почему Сероштанов выведен физическим уродом? Не думаете ли, что только физические уроды могут быть преданными членами партии?
Выпускать пьесу в таком виде нельзя.
Давайте поговорим, если хотите.
Привет!
И. СТАЛИН
P.S. Зря распространяетесь о «вожде». Это нехорошо и, пожалуй, неприлично. Не в «вожде» дело, а в коллективном руководителе – в ЦК партии.
И. СТАЛИН
Из письма Демьяна Бедного – Сталину
5 апреля 1933 г.
Иосиф Виссарионович! Мне как-то даже совестно, что вот некстати подошла эта возрастная дата и вынудила Политбюро судить и так, и так: и плох Демьян, и сохранить бы его. Твердо, искренне Вам говорю, что мне этот горестный, не вовремя подкравшийся «юбилей» самому встал поперек горла. Не озабочивайтесь, пожалуйста, какую бы этому юбилею придать расцветку? Не обязательно нужно награждать меня «орденом Ленина», поскольку возникают сомнения, что я его заслуживаю, или опасения, не пришлось бы меня этого ордена лишать. Пусть само ненаграждение будет истолковано уже как лишение, – пусть даже проскользнет самая дата неотмеченной, – все равно никто не услышит моей жалобы. Улыбаться только мне трудно. И работать будет еще трудней. Но работать я буду. Буду работать в твердой уверенности, что подлинный мой праздник не уйдет, не уйдет от меня. Праздничным днем будет тот день, когда много грязи и шелухи стряхнется, свеется с меня, – когда устранятся все сомнения, и партия, ЦК и Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, без колебаний скажете мне: «Ты – наш, мы тебе верим!»
Всего не скажешь. Об одном прошу: поверьте искренности этого письма и тому, что это не какой-то тактический прием и что никаких личных моментов оно не преследует.
О личном говорить не приходится: оно целиком поглощено тем, что составляет стержень моей жизни: горячо поработать и честно завершить путь, с которого у меня нет и быть не может никакого поворота.
Сердечный привет!
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
Необходимое пояснение. Накануне вопрос о 50-летней дате Демьяна Бедного обсуждался на Политбюро, где в адрес юбиляра было высказано много замечаний, о чем юбиляру стало известно.
Из комментария Л.В. Максименкова:
Бедный будет награжден орденом Ленина 11 апреля… В постановлении Президиума ЦИК отмечались литературные заслуги «выдающегося пролетарского поэта»… ЦК приветствовал «пролетарского писателя – поэта»… Газета «Правда» – «поэта-большевика, старого правдиста («Правда», 1033. 12, 13 апр.). Через месяц поэтические произведения Демьяна снова, после долгого конфликтного перерыва, начнут регулярно публиковаться в «Правде».
Г. г. ягода – Сталину
9 июля 1933 г.
Направляю Вам некоторые из неопубликованных сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Масса и Вольпина.
Басни эти довольно широко известны среди литературных и окололитературных кругов, где упомянутые авторы лично читают их.
Эрдман Н. Р. – 1900 г. рождения, беспартийный, автор шедшей у Мейерхольда комедии «Мандат», автор снятой с постановки пьесы «Самоубийца».
Масс В. 3. – 1896 г. рождения, беспартийный, известен как соавтор Эрдмана по некоторым обозрениям и киносценариям. Масс – Эрдман являются авторами «Заседания о смехе».
Вольпин М. Д. – 1902 г. рождения, поэт-сатирик, соавтор Эрдмана, сотрудник «Крокодила».
Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты.
Приложение: упомянутое.
Зам. Председателя ОГПУ
Г. ЯГОДА
Мы не знаем, какие именно басни «деятель культуры» Ягода приложил к своему письму, однако в качестве необходимого пояснения приведем фрагмент из книги Бенедикта Сарнова «Наш советский новояз» (М., 2002):
«Была, например, такая – ставшая потом знаменитой – басня, сочиненная то ли Николаем Эрдманом, то ли Владимиром Массом, то ли ими обоими:
Раз ГПУ, придя к Эзопу, Схватило старика за жопу. Смысл этой басни прост и ясен: НЕ НАДО БАСЕН!То, что басен «не надо», они узнали на собственной шкуре. На каком-то правительственном приеме Василий Иванович Качалов, подвыпив, прочел несколько басен, сочиненных Эрдманом и Массом. Вожди возмутились, и тут же было задействовано ГПУ. У Эрдмана и Масса был и третий соавтор – Михаил Давыдович Вольпин. В сочинении этой басни он участия, кажется, не принимал. Но в сочинении других – принимал. Во всяком случае, за то место, за которое ГПУ схватило Эзопа, были схвачены все трое.
Василий Иванович тяжело переживал случившееся. Он искренне считал себя чуть ли не главным виновником несчастья… Но Николай Робертович вину Качалова решительно отрицал… Стихи и басни, читанные им на том банкете, были, в общем-то, довольно невинные:
Вороне где-то Бог послал кусочек сыра… – Но Бога нет! – Не будь придира: Ведь нет и сыра.… Была, правда, как рассказывают, прочитана там Качаловым, помимо басен, еще и шуточная эрдмановская «Колыбельная»:
Видишь, слон заснул у стула, Танк забился под кровать, Мама штепсель повернула, Ты спокойно можешь спать…Далее шло описание разных знаменитых людей, в том числе и героев-полярников во главе со Шмидтом… А кончалась эта «Колыбельная» так:
Спят герои, с ними Шмидт На медвежьей шкуре спит. В миллионах разных спален Спят все люди на земле… Лишь один товарищ Сталин Никогда не спит в Кремле!»Из письма А. Н. Афиногенова – Сталину
Ноябрь 1933 г.
…Т. Киршон передал мне, что Вы остались недовольны вторым вариантом пьесы «Семья Ивановых» («Ложь»). Прежде чем снять пьесу – хотелось бы показать Вам результаты работы над ней актеров МХАТ-1-го и 2-го (в первых числах декабря с.г.). Если же Вы находите это излишним, – я немедленно сам сниму пьесу Прошу Вас сообщить мне Ваше мнение по данному вопросу
Резолюция на письме:
Т. Афиногенов! Пьесу во втором варианте считаю неудачной.
И. СТАЛИН
М. А. Булгаков – Сталину
11 июня 1934 г.
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Разрешите мне сообщить Вам о том, что со мною произошло.
1.
В конце апреля этого года мною было направлено Председателю Правительственной Комиссии, управляющей Художественным театром, заявление, в котором я испрашивал разрешения на двухмесячную поездку за границу, в сопровождении моей жены Елены Сергеевны Булгаковой, а также разрешение обменять советскую валюту на иностранную в количестве, которое будет найдено нужным для поездки.
В заявлении была указана цель моей поездки – сочинение книги о путешествии по Западной Европе и кратковременное лечение на юге Франции.
Так как я действительно страдаю истощением нервной системы, связанным с боязнью одиночества, то я и просил о разрешении моей жене сопровождать меня, с тем, чтобы она оставила здесь, на время поездки, находящегося на моем иждивении и воспитании моего семилетнего пасынка.
Отправив заявление, я стал ожидать одного из двух ответов, то есть разрешения на поездку или отказа в ней, считая, что третьего не может быть.
Однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье.
17 мая мне позвонили по телефону (я не спросил, кто это был), справляясь о том, подавал ли я заявление о заграничной поездке.
Причем произошел следующий разговор:
– Вы подавали заявление относительно заграничной поездки? – Да.
– Отправьтесь в Иностранный отдел Мосгубисполкома и заполните анкету Вашу и Вашей жены.
– Когда это нужно сделать?
– Как можно скорее, так как Ваш вопрос будет разбираться 21 или 22 числа.
В припадке радости я даже не справился о том, кто со мной говорит, немедленно явился с женой в И НО исполкома и там отрекомендовался. Служащий, выслушав, что меня вызвали в ИНО по телефону, предложил мне подождать, вышел в соседнюю комнату, а вернувшись, попросил меня заполнить анкеты.
По заполнении он принял их, присоединив к ним по две фотографических карточки, денег не принял, сказавши:
– Паспорта будут бесплатные.
Советских паспортов не принял, сказавши:
– Это потом, при обмене на заграничные.
А затем добавил буквально следующее:
– Паспорта вы получите очень скоро, так как относительно вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня[14], но уже поздно. Позвоните ко мне восемнадцатого утром.
Я сказал:
– Но восемнадцатого выходной день.
Тогда он ответил:
– Ну, девятнадцатого.
19 мая утром, в ответ на наш звонок, было сказано так:
– Паспортов еще нет. Позвоните к концу дня. Если паспорта будут, вам их выдаст паспортистка.
После звонка к концу дня выяснилось, что паспортов нет, и нам было предложено позвонить 23 числа.
23 мая я лично явился с женою в ИНО, причем узнал, что паспортов нет. Тут о них служащий стал наводить справку по телефону, а затем предложил позвонить 25 или 27 мая.
Тогда я несколько насторожился и спросил служащего, точно ли обо мне есть распоряжение и не ослышался ли я 17 мая?
На это мне было отвечено так:
– Вы сами понимаете, что я не могу вам сказать, чье это распоряжение, но распоряжение относительно вас и вашей жены есть, так же как и относительно писателя Пильняка.
Тут уж у меня отпали какие бы то ни было сомнения, и радость моя сделалась безграничной.
Вскоре последовало еще одно подтверждение о наличии разрешения для меня. Из Театра мне было сообщено, что в секретариате ЦИК было сказано:
– Дело Булгаковых устраивается.
В это время меня поздравляли с тем, что многолетнее писательское мечтание о путешествии, необходимом каждому писателю, исполнилось.
Тем временем в ИНО исполкома продолжались откладывания ответа по поводу паспортов со дня на день, к чему я уже относился с полным благодушием, считая, что сколько бы ни откладывали, а паспорта будут.
7 июня курьер Художественного Театра поехал в ИНО со списком артистов, которые должны получить заграничные паспорта. Театр любезно ввел и меня с женой в этот список, хотя я подавал свое заявление отдельно от Театра.
Днем курьер вернулся, причем даже по его растерянному и сконфуженному лицу я увидел, что случилось что-то.
Курьер сообщил, что паспорта даны артистам, что они у него в кармане, а относительно меня и моей жены сказал, что нам в паспортах ОТКАЗАНО.
На другой же день, без всякого замедления, в ИНО была получена справка о том, что гражданину Булгакову М. А. в выдаче разрешения на право выезда за границу отказано.
После этого, чтобы не выслушивать выражений сожаления, удивления и прочего, я отправился домой, понимая только одно, что я попал в тягостное, смешное, не по возрасту, положение.
2.
Обида, нанесенная мне в ИНО Мосгубисполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я и прошу Вас о заступничестве.
…могу надеяться получить разрешение на заграничную поездку так просто, как это могут делать мои товарищи по работе в МХАТ.
Единственной причиной этого, как я предполагаю, может быть только одно: не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположения, что я, отправившись в кратковременное путешествие, останусь за границей навсегда?
Если это так, то я, принимая на себя ответственность за свои слова, сообщаю Вам, что предположение это не покоится ни на каком, даже призрачном, фундаменте.
Я не говорю уже о том, что для того, чтобы удалиться за границу после обманного заявления, мне надлежит разлучить жену с ребенком, ее самое поставить этим в ужасающее положение, разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в Художественном театре, ославить себя, – и, главное, – все это неизвестно зачем.
Здесь важно другое: я не могу постичь, зачем мне, обращающемуся к Правительству с важным для меня заявлением, надлежит непременно помещать в нем ложные сведения?
Я не понимаю, зачем, замыслив что-нибудь одно, испрашивать другое?
И тому, что я этого не понимаю, у меня есть доказательство.
Именно я четыре года тому назад обращался к Правительству с заявлением, в котором испрашивал или разрешения выехать из Союза бессрочно, или разрешения вступить на службу в МХАТ.
Задумав тогда бессрочный отъезд, под влиянием моих личных писательских обстоятельств, я не писал о двухмесячной поездке.
Нынче же, в 1934 году, задумав кратковременную поездку, я и прошу о ней.
У меня нет ни гарантий, ни поручителей.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре моего дела – о поездке с моей женой во Францию и Италию для сочинения книги, на срок времени со второй половины июля по сентябрь этого года.
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
Необходимое пояснение. Письмо сохранилось не полностью, и часть его воспроизведена по черновику – также неполному. Повторим, что Михаил Булгаков не увидел заграницу до конца своих дней.
А. М. Горький – Сталину (С сокращениями)
2 августа 1934 г.
Посылаю Вам мой «доклад» и очень прошу Вас ознакомиться с ним поскорее, чтобы я успел внести в него поправки, которые Вы, может быть, сделаете…
Состав правления Союза намечается из лиц, указанных в статье Юдина, тоже прилагаемой мною. Серафимович, Бахметьев и да и Гладков, – на мой взгляд, – «отработанный пар», люди интеллектуально дряхлые. Двое последних относятся к Фадееву враждебно, а он, остановись в своем развитии, видимо, переживает это как драму, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль лит. вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился. Оценку Мирским «Последнего из Удэге» я считаю совершенно правильной, но, – судя по Юдину, – Фадеев только обиделся на нее. Мое отношение к Юдину принимает характер все более отрицательный. Мне противна его мужицкая хитрость, беспринципность, его двоедушие и трусость человека, который, сознавая свое личное бессилие, пытается окружить себя людьми еще более ничтожными и спрятаться в их среде.
Я не верю в искренность коммунизма Панферова, тоже малограмотного мужика, тоже хитрого, болезненно честолюбивого, но парня большой воли. Он очень деятельно борется против критического отношения к «Брускам», привлек в качестве своего защитника Варейкиса, какой-то Гречишников выпустил о нем хвалебную книжку, в которой утверждается, что «познавательное значение «Брусков», без всякого преувеличения, огромно», и повторена фраза из статьи Васильковского: «Брусков» не заменяют и не могут заменить никакие, даже специальные исследования о коллективизации». Разумеется, в книжке этой нет ни слова о «Поднятой целине» Шолохова и о «Ненависти» Шухова. Вполне естественно, что на этих авторов неумеренное восхваление Панферова действует болезненно и вредно.
Лично для меня Панферов, Молчанов и другие этой группы являются проводниками в среду литераторов и в литературу – мужика, со всем его индивидуалистическим «единоличным» багажом. Литература для них – «отхожий промысел» и трамплин для прыжков на высокие позиции. Мое недоверчивое и даже враждебное отношение к мужику не уменьшается от того, что мужик иногда говорит языком коммуниста. Мужицкая литература и литература о мужике требует особенно внимательного чтения и особенно острой критики. Все чаще приходится отмечать, что мужик учится не так жадно, как пролетарий. Вот последний случай: Молчанову были предложены средства для того, чтобы он поехал на одну из больших строек, пожил там, посмотрел, как работает пролетариат для возрождения деревни. Он отказался, сославшись на то, что пишет новую книгу. Критика его «Крестьянина» отскочила от него, как от гуся вода.
Вишневский, Лебединский, Чумандрин не могут быть руководителями внепартийных писателей, более грамотных, чем эти трое. Комфракция в Оргкоме не имеет авторитета среди писателей, пред которыми открыто развернута борьба группочек. И я должен сказать, что у нас группочки создаются фактом меценатства: у некоторых ответственных товарищей есть литераторы, которым «вельможи» особенно покровительствуют, которых особенно и неосторожно похваливают. И около каждого из таких подчеркнутых симпатий «начальства» литераторов организуется группочка еще менее талантливых, чем он, но организуется не как вокруг «учителя», а – по мотивам бытовым, узколичным. «Имярек» в свою очередь тоже, играя роль мецената, проводит в издательстве недозрелые «плоды творчества» юных окуней, щурят и прочих рыбок из разряда хищных.
«Имярек» хлопочет о пайке и квартире для своего поклонника, которого он именует «учеником», но работе не учит и не может учить, ибо – сам невежда. К этому надобно прибавить, что мы имеем дело по преимуществу с людьми 30 лет, т. е. с пережившими в отрочестве и юности «тяжелые времена», а эти времена отразились на психике многих 30-летних весьма вредно: люди слишком жадны к удовольствиям жизни, слишком спешат насладиться и не любят работать добросовестно. А некоторые «спешат жить» так стремительно, что поспешность их вызывает такое впечатление: люди не уверены в том, что действительность, создаваемая партией, достаточно окрепла и будет развиваться именно так, как развивается, думают, что мужик только притворяется коллективистом и что у нас есть все посылки к фашизму и что «война может возвратить нас дальше, чем к нэпу». Если б это думал только мещанин, обыватель, тогда неважно, но так думают некие «партийцы», и это мне кажется тревожным, хотя, как известно, я – «оптимист»…
Все выше – и очень неполно – сказанное убеждает меня в необходимости серьезнейшего внимания к литературе – «проводнику идей в жизнь», – добавлю: не столько идей, как настроений. Дорогой, искренно уважаемый и любимый товарищ, Союз литераторов необходимо возглавить солиднейшим идеологическим руководством. Сейчас происходит подбор лиц, сообразно интересам честолюбцев, предрекающий неизбежность мелкой, личной борьбы группочек в Союзе, – борьбы вовсе не по линии организации литературы как силы, действующей идеологически едино. Культурно-революционное значение литературы понимается не многими. Знаю, что Вам будут представлены списки людей, которые рекомендуются в Правление и в Президиум Союза писателей. Не знаю – кто они, но – догадываюсь.
Лично мне кажется, что наиболее крепко возглавили бы Союз лица, названные в списке прилагаемом. Но если даже будет принят предлагаемый состав Правления Союза писателей, – я убедительно прошу Вас освободить меня от председательства в Союзе по причине слабости здоровья и крайней загруженности лит. работой. Председательствовать я не умею, еще менее способен разбираться в иезуитских хитростях политики группочек.
Я гораздо полезнее буду как работник литературы. У меня скопилось множество тем, над коими я не имею времени работать.
Сердечно жму руку и желаю Вам хорошо отдохнуть.
М. ГОРЬКИЙ
Необходимое пояснение. Горький посылает Сталину свой доклад на предстоящем Первом съезде советских писателей.
В статье Π. Ф. Юдина «О писателях-коммунистах» («Правда», 23.07.34) им было представлено «крепкое ядро квалифицированных писателей»: А. Серафимович, Д. Бедный, М. Шолохов, А. Фадеев, Ф. Панферов, Ф. Гладков, А. Корнейчук, В. Вишневский и т. д.
Из письма В. М. Киршона – Сталину и Кагановичу
15 июня 1934 г.
ЦК ВКП(б) т. Сталину
Т. Кагановичу
Дорогие товарищи!
Я не люблю жаловаться, и поэтому, несмотря на создавшуюся невероятно тяжелую для меня обстановку скрытой и открытой травли, я не обращался к Вам.
… Я пишу Вам это письмо в связи с появившейся сегодня, 15 июня, статьей о «Чудесном сплаве» в «Правде». В этой статье дается оценка спектакля в ТРАМе, и ни слова не упоминается о спектакле в МХАТе, что само по себе ошибочно, – нельзя проходить мимо постановки коммунистических пьес в лучшем театре СССР.
Оценка ЦО партии имеет громадное значение для зрителя, театра и автора. В глазах зрителя она представляет линию партии.
Это прекрасно знает т. Мехлис и печатает рецензию, злостная несправедливость которой состоит в том, что из нее следует, будто вопреки автору, который «дальше сомнительных острот не пошел», театром создан спектакль. Рецензия даже кончается тем, что «проблема чудесного сплава разрешена на совместной работе постановщика с талантливым коллективом».
Автора, как видите, не существует. Это ли не издевка, понятная всем и каждому?
… Стыдно обращаться со всем этим в ЦК, но больше обратиться некуда, а состояние такое, что просто нет сил приниматься за следующую работу.
С коммунистическим приветом.
В. КИРШОН
Необходимое пояснение. В марте 1934 г. Кыршон направил Сталину экземпляр своей пьесы «Чудесный сплав» с дарственной надписью: «Тов. Сталину – самому замечательному человеку нашей эпохи. В. Киршон». Однако отношение Сталина к Киршону уже переменилось. Можно предположить, что это связано с провалом сталинской доктрины, нацеленной на борьбу с социал-демократией в Германии (см. пояснение к письму Киршона от 9 октября 1932 г.). Именно эта борьба во многом способствовала приходу к власти германского фашизма.
Сталин – Мехлису и Кагановичу
15 июня 1934 г.
Т.т. Мехлису и Кагановичу
У нас нет «ЦО партии», – у нас имеется «Орган ЦК» «Правда». Это далеко не одно и то же.
И. СТАЛИН
Из письма А. А. Жданова – Сталину
28 августа 1934 г.
Дорогой тов. Сталин!
На съезде писателей сейчас идут прения по докладам о драматургии. Вечером доклад Бухарина о поэзии. Думаем съезд кончать 31-го. Народ уже начал утомляться. Настроение у делегатов очень хорошее. Съезд хвалят все вплоть до неисправимых скептиков и иронизеров, которых так немало в писательской среде.
В первые 2 дня были серьезные опасения за съезд. Это было, когда шли доклады по первому вопросу. Поскольку они читались, народ бродил по кулуарам. Съезд как-то не находил себя. Зато прения и по докладу Горького, и по докладу Радека были очень оживленные. Колонный зал ломился от публики. Подъем был такой, что сидели без перерыва по 4 часа и делегаты не ходили почти. Битком набитая аудитория, переполненные параллельные залы, яркие приветствия, особенно пионеров, колхозницы Смирновой из Московской области здорово действовали на писателей. Общее единодушное впечатление – съезд удался.
Писатель увидел отношение страны к литературе, увидел самого себя, почувствовал огромную ответственность за свою деятельность. Поэтому все речи носили отпечаток серьезной подготовки. Общий тон, заданный на съезде, как-то исключил сразу же возможность превратить съезд в арену групповой борьбы. Все старались, как умели, перекрыть друг друга идейностью выступлений, глубиной постановки творческих вопросов, внешней отделкой речи…
Из письма А. М. Горького – в ЦК ВКП(б)
1 сентября 1934 г.
Уважаемые товарищи,
Съезд литераторов Союза Советских Социалистических республик обнаружил почти единодушное сознание литераторами необходимости повысить качество их работы, и – тем самым – признал необходимость повышения профессиональной технической квалификации.
Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов и стремятся укрепить за собой командующие посты – остались в незначительном меньшинстве. Они – партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только не понимать необходимость повышения [качества] их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, – как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева, Ставского и двух, трех других.
Однако т. Жданов сообщил мне, что эти люди будут введены в состав Правления Союза как его члены. Таким образом, люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они. Само собой разумеется, что это не создаст в Правлении атмосферы, необходимой для дружной и единодушной работы. Лично я знаю людей этих весьма ловкими и опытными в «творчестве» различных междуусобий, но совершенно не чувствую в них коммунистов и не верю в искренность их. Поэтому работать с ними я отказываюсь, ибо дорожу моим временем и не считаю себя вправе тратить его на борьбу против пустяковых «склок», которые неизбежно и немедленно возникнут…
В качестве необходимых пояснений приведем выдержки из «спецсообщений» секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР «О ходе Всесоюзного съезда советских писателей», где приводятся высказывания ряда писателей, дающих оценку работе съезда:
…Μ, М. Пришвин. Все думаю, как бы поскорее уехать, – скука невыносимая… Все время чувствую от этого какую-то нехорошую горечь.
… Бабель. Мы должны демонстрировать миру единодушие литературных сил Союза. А так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит. Пусть раздувает наша пресса глупые вымыслы о колоссальном воодушевлении делегатов. Ведь имеются еще и корреспонденты иностранных газет, которые по-настоящему осветят эту панихиду. Посмотрите на Горького и Демьяна Бедного. Они ненавидят друг друга, а на съезде сидят рядом, как голубки. Я воображаю, с каким наслаждением они повели бы в бой на этом съезде каждый свою группу.
…Жаров прочел следующую эпиграмму:
Наш съезд был радостен и светел, И день был этот страшно мил — Старик Бухарин нас заметил И, в гроб сводя, благословил.…Л. Леонов. Ничего нового не дал съезд, кроме доклада Бухарина, который всколыхнул болото и вызвал со стороны Фадеевых-Безыменских такое ожесточенное сопротивление.
… Нарбут. Рассказывал, что Д. Бедный, уже после бухаринского доклада, говорил Безыменскому и Жарову: «Не бойтесь, со мной не пропадете».
И еще одно пояснение – запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 7 сентября 1934 года:
Съезд писателей закончился несколько дней назад – банкетом в Колонном зале. Рассказывают, что было очень пьяно. Что какой-то нарезавшийся поэт ударил Таирова, обругав его предварительно «эстетом»…
Сталин – работникам советской кинематографии
11 января 1935 г.
Привет и наилучшие пожелания работникам советской кинематографии в день ее славного пятнадцатилетия.
Кино в руках Советской власти представляет огромную, неоценимую силу.
Обладая исключительными возможностями духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, подымать их культуру и политическую боеспособность.
Советская власть ждет от вас новых успехов – новых фильмов, прославляющих подобно «Чапаеву» величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизующих на выполнение новых задач и напоминающих как о достижениях, так и о трудностях социалистической стройки.
Советская власть ждет от вас смелого проникновения ваших мастеров в новые области «самого важного» (Ленин) и самого массового из искусств – кино.
И. СТАЛИН
А. Лахути – Сталину
19 февраля 1935 г.
Дорогой товарищ Сталин.
Прошел еще один год бесплодного ожидания возможности увидеться с Вами.
Я не мог бы быть так настойчив, если бы речь шла о личном деле. Хорошо зная цену каждой минуте Вашего времени, я все же еще раз убедительно прошу Вас подарить мне несколько минут.
С коммунистическим приветом
ЛАХУТИ
Необходимое пояснение. Абольгасем Ахмедзаде Лахути (1887–1957) – иранский поэт, эмигрировавший в СССР. Вступил в ВКП(б).
Демьян Бедный – Сталину
15 апреля 1935 г.
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
МОСКВА
Рождественский бульвар, д. 15, кв. 2
Апреля 15 дня 1935 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Обращаюсь я к Вам, как правило, только тогда, когда мне уже податься некуда, когда – крайность. Еще три дня назад, услыхав мои сетования, Ворошилов посоветовал мне: «Пиши Сталину». Я три дня колебался, так как не хотел ставить всего на карту, а мое все базируется на созданной для внутреннего подкрепления утешительной мысли, что какая-то часть Вашего расположения ко мне сохранена и что если я обретаюсь порой в очень нерадостном состоянии, то потому что «Сталин же этого не знает». (Словесная формулировка, собственно, моей жены.) А если бы знал…
Речь идет о моем сильно накренившемся здоровье и о возможности так работать, как бы мне хотелось и как бы я мог.
Тяжело отразилось на моем здоровье следующее обстоятельство: с осени 1931 года по сей день я не имею ни зимнего, ни летнего здорового отдыха, томясь безвыездно в городе. У меня нет загородного приюта и нет никакой возможности его создать. Лето 32 года и лето 33 года свелось к тому, что я на своем фордике, когда уже было дышать нечем, уезжал за город, «в кусты», как диктовалось шоферу. Отдышавшись часа три «в кустах», я возвращался обратно.
В прошлом 34 году я после долгих мытарств снял в деревне Баковке пол-избы у лесного сторожа. Но тут оказала себя с неожиданной стороны моя популярность: дворик маленький, голый, заборчик тоже реденький, а вокруг заборчика вечная толчея любопытных, вечное заглядывание и осматривание меня, – осматривание это кончилось тем, что меня приняли за самозванца, что я какой-то проходимец, назвавшийся Д. Бедным, который не мог же вот тут рядом с Буденным ютиться в крестьянской полуизбе. Во избежание дальнейших кривотолков мне пришлось смотаться.
Поехал я тогда к Енукидзе, он хозяин дома, где я живу, авось и с дачей что-либо для меня выдумает. Енукидзе начал с того, что стал в подробностях показывать мне свою – действительно, до невозможности великолепную – дачу. Под конец взмыло у меня горькое чувство, и я сказал доброму хозяину: «Хорошо живешь, Енукидзе. Что я в сравнении с тобою? Я живу в деревне на сеновале».
Добрый хозяин, улыбаясь, ожег меня, как хлыстом, таким ответом: «И на сеновале можно хорошо и уютно устроиться. Коврами, напр., сено устлать. Вот Аванесов так жил».
Я буквально опешил перед безмерностью такого бесстыдства. Овладев собою, я сказал доброму хозяину иронически: «Для того, чтобы сказать о тебе, что ты пьешь счастье полной чашей, тебе не достает достойной твоего жилья чаши. Я тебе подарю ее».
– Подари, – сказал хозяин.
Чаши я, несмотря на многократные напоминания при встречах, не дарил. Но подарил ему ее совсем недавно, когда ему уже было не до нее, до этой прекрасной чаши. Пусть пьет из нее то, что в нее нальется.
В моей жизни это редчайший случай ответа на обиду. Доказательством силы этой обиды служит уже одно то, что я не удержался от того, чтобы вспомнить ее даже в этом письме.
Убедясь, что дачу, воздух и здоровье мне надо добывать самому, я вынужден был сделать попытку – устроить сие при помощи аппарата, строящего недалеко от Баковки и от Буденного писательские дачи. Я исхлопотал себе участок земли, примыкающий к Буденному Прижался я к такому соседу с умыслом, стройка производится ВЦИКом большая, авось что-либо и мне перепадет, вода, например, и свет, опять же и дорога соседу выложена прекрасная, а я и без того уже добиваю моего заезженного форда.
Получился, однако, двойной просчет. Дача моя еле-еле оформилась в тот сруб, в ту уродину, которая изображена на прилагаемом снимке. Строить дальше ее не из чего и не на что. Я стою, так[им] образ[ом], перед потерей четвертого лета. Дачи нет. А если бы мне удалось это дупло застеклить хотя бы по-летнему, то все равно… подъезда к даче нету. Семен Михайлович твердо усвоил старое мнение, что «сосед мой – враг мой». Поэтому, когда я стал просить его – позволить хотя бы в дурную погоду проскочить на машине через его участок, я получил отказ в самой непристойной форме. Наладить проезд мимо Буденного тоже оказалось мне не под силу. Этот проезд нужен не только мне, а группе колхозов, буквально воющих от созданного Буденным бездорожья. Выход есть только один: у Буденного прихвачено земли и лесу больше 11 гектаров, – участок форму имеет такую: ружье, – в прикладе, далеко от дула и от мушки, дом. Если у самой мушки – на узкой полоске сдвинуть забор влево на 11 саженей, колхозы – и я – получат проезд, прекратится ругань, вой, ржанье лошадей, карабканье пешеходов у буденовского забора.
Вот какое дело, родной Иос[иф] Вис[сарионович]! Теперь «Сталин знает». Я жажду – здоровья и работы. В тираж выходить мне рано. И не нужно это никому, кроме наших врагов. Я удивительно, незаслуженно счастлив поздним счастьем в моем новом, покойном, культурном и скромном домашнем быту. И весь я – по линии творческих замыслов – в бодром, радостном, уверенном, певучем настроении. Гири – только те, на которые я здесь сетую. Чего бы я хотел? По существу, немногого: чтобы мне сделали то, чего я не имею возможности сделать сам, никакой возможности. В лучшем случае, Хозотдел ВЦИКа мог бы убрать к черту мой нескладный сруб и поставить для меня более пристойную деревянную дачу комнаты в 4–5 с необходимыми жилпостройками. Я почти уверен, что мою «стройку» – так она неудачна – и достраивать умный инженер не захочет.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я был бы удручен, если бы Вы на секунду подумали, что мое письмо диктуется хоть тенью «личного» интереса. У меня нет тут ничего личного. Это, если хотите, у поэта чисто профессиональная потребность, чуя приток вдохновения, поэт – по Пушкину —
Бежит он дикий и суровый, И звуков и смятенья полн, На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы…Надо ли законность этого доказывать?
Сердечный привет!
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
P.S. Прилагаю полученный мною пробный экземпляр моих басен в кукрыниксовском оформлении. Не делаю на нем надписи, так как готовится особо переплетенный экземпляр, который будет подписан автором и художниками.
ДБ
Резолюция Сталина: Членам ПБ. Просьба ознакомиться. По-моему, надо помочь Демьяну, т. е. либо достроить старую дачу, либо дать другую.
И. Сталин.
А. С. Щербаков – секретарям ЦК ВКП(б)
17 сентября 1935 г.
По поручению секретарей ЦК ВКП(б) Отдел культурно-просветительной работы вторично ознакомился с положением МХАТ им. Горького.
Положение театра не улучшается, а ухудшается. Руководство МХАТ – К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко театром совершенно не интересуются. Они больше заняты своими оперными театрами. Все более обостряющаяся взаимная склока меду ними совершенно уничтожила единое руководство МХАТом. В театре сейчас две линии, два лагеря, вербующие своих сторонников, втягивающие актеров и режиссеров в мелкие интриги и дрязги. Созданы два секретариата, усиленно раздувающие склочную атмосферу…
Новых постановок очень мало, и большинство даже крупных актеров не имеют никаких новых ролей. Народный артист Леонидов не имеет новых ролей около 3-х лет, народная артистка Книппер-Чехова за ряд лет сыграла лишь небольшую роль во «Врагах», народный артист Тарханов не имеет работы около 3 лет. Еще хуже положение заслуженных артистов: Л. М. Коренева без ролей – 4 года. В. А. Вербицкий – 2 года, Μ. М. Яншин – 2 года, Н. В. Тихомирова – долгое время дублировала других актеров и только в прошлом году получила небольшую роль матери в «Платоне Кречете», В. Я. Станицын – 4 года репетирует роль Мольера, спектакль будет неизвестно когда.
Творческой работы с актерами не ведется, они предоставлены сами себе. Особенно плохо положение так называемых «молодых» актеров (со стажем 10 лет работы в МХАТ): они в полном забросе, годами не получают новых ролей, их никто не учит, их запросы и требования никого не интересуют.
Все более и более создается обстановка, при которой актеры и режиссеры МХАТ стремятся использовать свои силы вне стен театра (в ТРАМе, во всякого рода студиях, на педагогической работе и т. д.). Производственная дисциплина очень низкая. Работа над новыми пьесами затягивается на весьма продолжительное время. Так, например, пьеса «Мольер» Булгакова начала репетироваться, когда закладывалась первая шахта метро, и эта пьеса до сих пор не готова…
Отдел культурно-просветительной работы считает необходимым принять срочные меры к оздоровлению МХАТ и, ликвидировав двоевластие, назначить туда директора – члена ВКП(б), имеющего необходимый опыт и авторитет среди художественной интеллигенции…
Завотделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б)
А. ЩЕРБАКОВ
Резолюция на письме: Обсудить.
Сталин.
Л. Ю. Брик – Сталину
24 ноября 1935 г.
Дорогой товарищ Сталин,
после смерти поэта Маяковского, все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.
У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за матерьялами, сведениями, фотографиями.
Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы стихи его печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.
А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.
Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием.
Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции.
Но далеко не все это понимают.
Скоро шесть лет со дня его смерти, а «Полное собрание сочинений» вышло только наполовину, и то – в количестве 10 000 экземпляров.
Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана.
Детские книги не переиздаются совсем.
Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно.
После смерти Маяковского в постановлении Правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.
Материалы разбросаны. Часть находится в Московском литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея о Маяковском почти не упоминается.
Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.
Через некоторое время мне сообщили, что Московский совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.
Домик маленький деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков пер. 15). Одна квартира – Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался переселить.
Квартира очень характерная для быта Маяковского – простая, скромная, чистая.
Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы из быта и рабочей обстановки великого поэта революции – не лучше ли восстановить все это, пока мы живы.
Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.
Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде – в площадь и улицу имени Маяковского. Но и это не осуществлено.
Это основное. Не говорю о ряде мелких фактов. Как например: по распоряжению Наркомпроса из учебника современной литературы на 1935-й год выкинули поэмы «Ленин» и «Хорошо». О них и не упоминается.
Все это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского – его агитационной роли, его революционной актуальности. Недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.
Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземплярах.
Поэтому не заботятся о том, чтобы, пока они не затеряны, собрать все относящиеся к нему материалы.
Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающих поколений.
Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и сопротивление – и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского.
Л, БРИК
Мой адрес: Ленинград, у л. Рылеева, 11, кв. 3 телефоны: коммутатор Смольного, 25–99 Некрасовская АТС 2-90-69
Резолюция на письме: Т. Ежов! Очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву, привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет!
И. Сталин.
Необходимое пояснение. Никто не ожидал столь мощно благоприятной реакции Сталина на письмо Л.Ю. Брик. Значение сталинской резолюции даже не сравнимо со столь ничтожной милостью, как «достроить старую дачу» Демьяну! Что же побудило Сталина на этот поистине исторический шаг?
В книге Бенедикта Сарнова «Маяковский. Самоубийство» (М.: 2006) дается на этот счет весьма основательное «предположение». Хотя писать «похвалы главному хозяину» в 35-м году Маяковский уже, конечно, не мог, но «можно было использовать в пропагандистских целях упоминания в его старых поэмах того, кто стал к этому времени «главным хозяином». – Вас вызывает товарищ Сталин. Направо третья, он – там. – Товарищи, не останавливаться! Чего стали?! В броневики и на почтамт! —Бенедикт Сарнов напоминает, что ведь роль Сталина в Октябрьской революции все еще оставалась неясной: в знаменитой книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» Сталин даже не упомянут…
«Еще важнее для Сталина была другая строфа Маяковского – особенно, если вырвать ее из контекста стихотворения и прочесть с пафосом, педалируя главное (главное для Сталина) слово:
Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо. С чугуном чтоб и с выделкой стали о работе стихов, от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин.В таком прочтении эти четыре строчки могли стать краеугольным камнем того пьедестала, на котором возвышалась бы грандиозная фигура вождя».
Именно после сталинской резолюции «Маяковского, – по словам Бориса Пастернака, – стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он не повинен».
Б. Л. Пастернак – Сталину
Декабрь 1935 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.
И еще тяжелое чувство. Я сперва написал Вам по-своему с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не свое, чужое.
Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?
«Грузинские лирики» – работа слабая и несамостоятельная, честь и заслуга которой всецело принадлежит самим авторам, в значительной части замечательным поэтам. В передаче Важа Пшавелы я сознательно уклонился от верности форме подлинника по соображениям, которыми не смею Вас утомлять, для того, чтобы тем свободнее передать бездонный и громоподобный по красоте и мысли дух оригинала.
В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, я люблю его и написал об этом целую книгу. Но и косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.
Именем этой таинственности горячо любящий и преданный Вам
Б. ПАСТЕРНАК
Необходимое пояснение. В октябре 1935 года в Ленинграде были арестованы муж А. А. Ахматовой искусствовед Η. Н. Пунин и ее сын Л. И. Гумилев. В письме к Сталину Ахматова и Пастернак просили его принять участие в судьбе арестованных. Вскоре Пунин и Гумилев были освобождены из-под стражи.
На письме Пастернака имеется резолюция: Мой архив. И. Сталин.
Сталин – В. П. Ставскому
10 декабря 1935 г.
Тов. Ставский!
Обратите внимание на т. Соболева. Он, бесспорно, крупный талант (судя по его книге «Капитальный ремонт»). Он, как видно из его письма, капризен и неровен (не признает «оглобли»). Но эти свойства, по-моему, присущи всем крупным литературным талантам (может быть, за немногими исключениями).
Не надо обязывать его написать вторую книгу «Капитального ремонта». Такая обязанность ниоткуда не вытекает. Не надо обязывать его написать о колхозах или Магнитогорске. Нельзя писать о таких вещах по обязанности.
Пусть пишет, что хочет и когда хочет.
Словом, дайте ему перебеситься… И поберегите его.
Привет!
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. В. П. Ставский – литературный функционер, секретарь Союза советских писателей, после смерти Горького стал генеральным секретарем ССП, депутатом Верховного Совета, главным редактором «Нового мира» (1937–1941).
К. С. Станиславский – Сталину
1 января 1936 г.
Дорогой, глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Я получил от Вас привет, переданный мне т. Животовой (пом. директора МХАТ), глубоко тронут Вашим вниманием и Вашим участием. От нее я узнал, что Вас интересует положение Художественного Театра, и это обязывает меня высказать Вам всю правду о нем. Я понимаю, что должен сделать это очень кратко, принимая во внимание Вашу перегруженность вопросами всемирного значения.
Огромные сдвиги, происходящие во всех областях строительства нашей родины, новые люди, новый быт, зарождающаяся новая человеческая цивилизация заставляют меня, одного из старейших представителей театра, искренно преданного искусству, волноваться его судьбой. Наш театр может и должен стать самым передовым театром нашей страны в сценическом отображении всей полноты внутренней духовной жизни рабочего человека, ставшего хозяином земли.
Театральное дело во всем мире находится в состоянии застоя. Вековые традиции уходят.
Но к счастью, СССР в настоящее время является подлинным преемником лучших традиций как европейского театра, так и всего того хорошего, что было в старых традициях русского театра. Надо успеть передать наиболее ценное молодому подрастающему поколению и вместе с ним не только удержать их, но и закрепить для дальнейшего развития. О сохранении этих зерен вековых достижений театра и развитии из них нового прекрасного искусства мы, представители современного театра, должны больше всего заботиться, сохранить их можно только в театре наивысшей культуры и наивысшего мастерства. Этот театр должен стать вышкой, к которой подтянутся все остальные театры. В свое время такой вышкой был Малый театр, а затем – Художественный. Теперь же такой настоящей вышки нет. Художественный Театр спустился со своих высот и превращается в лучшем случае в приличный производственный театр, но запросы зрителя растут и могут опередить его.
Весь свой опыт, все свои знания, все свое время и здоровье, все свои последние годы я хотел бы отдать на создание подлинного творческого театра. В поисках путей создания такого театра я обратился к молодежи, организовав несколько месяцев тому назад Оперно-драматическую Студию, и с этой же целью я работаю над своей второй книгой, в которой я хочу передать весь свой опыт и все свои знания. Но одним из важнейших путей является сохранение и развитие творческого богатства, накопленного Художественным Театром. С этим богатством небрежно обращается некоторая часть труппы, которой не нужно и неудобно большое творчество, предъявляющее большие требования к человеку-художнику.
Вот эта борьба между высокими стремлениями и мелкими преходящими интересами происходит в данное время в Московском Художественном Театре и раздирает его на части. Творческий опыт и стремление к большому искусству – на стороне немногих оставшихся «стариков» и части растущей молодежи. На другой стороне большая энергия, направленная на маленькие доступные задачи.
Борьба трудная, – и нужна своевременная помощь для того, чтобы при преклонном возрасте нас, обоих руководителей, и разности наших творческих принципов и запутанных между нами 40-летних отношений можно было бы вывести Театр из того состояния, в котором он находится. Необходим опытный, культурный директор коммунист, который помог бы нам с В.И. Немировичем-Данченко наладить наши взаимные отношения для творческого руководства Театром. Наиболее подходящей кандидатурой для этой сложной, трудной работы мне представляется тов. Μ. П. Аркадьев, Начальник Управления Театрами Народного комиссариата просвещения РСФСР, как человек с театральным опытом, тактом и большой энергией.
Наряду с этим необходимо укрепление партийной организации Театра культурным и квалифицированным руководителем.
Необходим тщательный и строгий пересмотр и переоценка всего творческого коллектива Театра для определения людей, годных на большую творческую экспериментальную работу, могущих создать подлинный театр.
Нужно обязать работников Театра в спешном порядке повысить свою квалификацию до степени истинных мастеров искусства, установив с этой целью премиальное вознаграждение.
У нас в Театре должен быть брошен лозунг «темпы в повышении актерского мастерства», – тогда темпы театрального производства, естественно, сами собой повысятся.
Лица же, не могущие войти в коллектив квалифицированных мастеров, должны будут продолжать работать на прежних условиях в Филиале под руководством МХАТ, пополняя свои ряды новыми актерами для создания производственного театра.
МХАТ же должен быть превращен в вышку театрального искусства. Зная Вашу любовь к театру, я надеюсь на Вашу помощь.
Преданный Вам
К СТАНИСЛАВСКИЙ
Резолюция на письме: Тт. Молотову, Акулову, Керженцеву, Бубнову, Щербакову. Как быть?
И. Сталин.
А. С. Щербаков – Сталину
8 января 1936 г.
Тов. Сталину И. В.
По существу письма тов. Станиславского сообщаю: Культпросветотдел ЦК ВКП(б) в двух своих записках на Ваше имя освещал тяжелое положение в Московском Академическом театре им. Горького (отсутствие единого руководства, бедность репертуара и малое количество новых постановок, незанятость артистов, работающих поэтому на стороне, бесперспективность и уныние среди артистов и т. д.). Сообщая о таком состоянии МХАТа им. Горького, отдел ставил вопрос о назначении в театр директора-коммуниста, имеющего необходимый авторитет и знания. Все актеры требуют руководства и крепкой власти.
Станиславский некоторое время назад был против назначения директор а-коммуниста.
Сейчас тов. Станиславский, стремясь восстановить утраченное МХАТом положение «вышки театрального искусства», сам просит назначить директора-коммуниста в театр. Это предложение я считаю правильным.
Кроме кандидатуры тов. Аркадьева – на пост директора театра – можно выдвинуть кандидатуру тов. Литовского – начальника Главреперткома.
Пересмотр и переоценка творческого коллектива театра, безусловно, нужны, но это мероприятие необходимо произвести очень осторожно и во всяком случае после того, как новое руководство театра ознакомится с фактическим положением дела в театре.
Что же касается остальных вопросов (учеба актеров, темпы работы, расширение репертуара), поставленных тов. Станиславским, то они разрешатся вместе с общим оздоровлением обстановки в театре.
Тов. Станиславского и Немировича-Данченко следует оставить почетными директорами МХАТа.
Зав. отделом
культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б
А. ЩЕРБАКОВ
Из дневника Е.С. Булгаковой.
1936. 26 января…
В МХАТ назначен красным директором некий Аркадьев.
Необходимое пояснение. В должности директора МХАТа Μ. П. Аркадьев пробыл только полтора года. Летом тридцать седьмого в связи с Парижской Всемирной выставкой МХАТ собирался на гастроли в Париж. Аркадьев в интервью «Правде» проинформировал общественность, что театр покажет в Париже спектакли «Анна Каренина», «Враги», «Любовь Яровая» и… «Борис Годунов» (соч. А. Пушкина). Аркадьев при этом не учел, что как раз на днях Сталин в беседе со Ждановым и Керженцевым разъяснил им, что «Годунов» не годится из-за «хорошего изображения Пушкиным поляков и Лжедмитрия и невыгодного изображения русских: Лжедмитрия приняли!»
Узнав об этом, Аркадьев на другой же день поместил в «Правде» письмо в редакцию, сообщив той же общественности, что вкралась ошибка: «будто предполагается постановка четвертой пьесы – «Борис Годунов». Поправка Аркадьева была расценена в верхах как разглашение закрытых сведений о запрете спектакля сверху. Аркадьев был от должности отстранен, затем арестован «как польский шпион» и расстрелян.
А. Лахути – Сталину
Послание в стихах
29 января 1936 г.
РОДНОМУ СТАЛИНУ
Ты, Сталин, более великий, чем величье, Познал сердца людей и душу красоты. Душа моя поет и сердце громко кличет, Что Ленина и ЗНАК, и путь – все дал мне ты.ЛАХУТИ
29/1-36 г.
Барвиха, Санаторий Кремля
(Перевод Ц. Бану)
Необходимое пояснение. Перевод (машинописный) и манускрипт на фарси переслан Поскребышеву с просьбой передать Сталину. 29 августа 1936 года зам. зав. Отделом культпросветработы ЦК ВКП(б) А. И. Ангаров, зав. сектором литературы этого отдела В. Я. Кирпотин докладывали секретарям ЦК ВКП(б) о прошедшем заседании партгруппы Правления Союза советских писателей. В докладной записке было, между прочим, отмечено: «Тов. Лахути при всеобщем внимании рассказал об отеческом внимании и заботе, оказанной ему лично тов. Сталиным… Заседание партгруппы закончилось сплоченно и дружно, под сильным впечатлением выступлений о поддержке, оказываемой советской литературе любимым вождем партии и страны т. Сталиным».
Илья Ильф и Евг. Петров – Сталину
26 февраля 1936 г.
Товарищу И. В. Сталину
ЦК ВКП(б)
В течение четырех месяцев мы путешествовали по Соединенным Штатам Америки, осматривали заводы, новостройки, национальные парки, различные государственные и культурные учреждения, знакомились с организацией быта, общественного питания, отдыха, беседовали с огромным количеством самых разнообразных людей, проехали 16 000 км в автомобиле. В результате мы собрали большой литературный материал.
Работа в «Правде» научила нас пользоваться оружием писателя не только для так называемой большой литературы, но и для ежедневной будничной борьбы за социализм.
Мы знаем – каждому человеку, который по-настоящему любит свою родину, не терпится увидеть ее самой сильной, самой богатой, самой культурной в мире. Иной раз эта нетерпеливость приводит людей к самохвальству, к зазнайству, к желанию преждевременно почить на лаврах; но в основе своей чувство это здоровое, радостное, чистое и необыкновенно сильное.
И вот во власти этого чувства мы оказались во время путешествия по Америке. Если говорить правду, это было не столько путешествие по Америке, сколько по Советскому Союзу. Мы по целым дням ехали по американским дорогам, а думали о дорогах советских, мы ночевали в американских гостиницах, а думали о советских гостиницах, мы осматривали заводы Форда, а видели Горьковский автозавод, мы изучали американскую кинематографию, а в мыслях у нас была кинематография советская. Совершенно естественно, все виденное мы старались приложить к нашей советской жизни, перевести на практические рельсы.
1
Во время поездки по Америке, приближаясь к Калифорнии, мы прочли в американской прессе телеграмму о том, что в СССР принято решение о постройке на юге страны кинематографического города – советского Холливуда.
Через несколько дней мы попали в Холливуд американский, покуда единственный в мире специальный кинематографический город, с опытом которого нельзя не считаться при разрешении вопросов кинематографии в нашей стране.
Мы осмотрели несколько холливудских студий и беседовали с большим количеством очень опытных американских кинематографистов.
И вот, в результате бесед и осмотра студий, у нас появились серьезнейшие сомнения – нужен ли нам специальный киногород на юге страны? Действительно ли наша кинематография нуждается в строительстве такого города? Рационально ли это?
Мы не знаем, какие доказательства были приведены работниками нашей кинематографии, когда они защищали идею киногорода. Судя по газетам, специальная комиссия, выехавшая на юг, ищет место с наибольшим количеством солнечных дней и наиболее красивым пейзажем. Следовательно, основными вопросами являются – солнце и красота природы.
Решительно всем американским кинематографистам, которых мы видели в Холливуде, мы задавали один и тот же вопрос:
– Пользуетесь ли вы солнцем во время съемок ваших картин?
И неизменно получали один и тот же ответ:
– Нет, не пользуемся.
– Как? Совершенно не пользуетесь?
– Нет, если и пользуемся, то очень редко. Наше павильонное солнце для нас удобнее и лучше настоящего. В павильоне мы можем осветить декорацию или актера так, как это нам нужно. Потом даже в Холливуде не всегда бывает такое освещение, которое нам необходимо в данный момент. А в павильоне у нас всегда есть именно то солнце, которое нам нужно.
Из всех разговоров мы вынесли впечатление, что солнце перестало играть прежнюю роль в делах кинематографии. И не только из разговоров. Сейчас у Холливуда появился серьезный соперник. И это город с наименьшим, вероятно, количеством солнечных дней. Это самый туманный город в мире – Лондон. Еще несколько лет тому назад подобное соперничество казалось невероятным – Лондон соперничает с Холливудом! Сейчас – это факт. Этим вопросом с увлечением занимается буржуазная кинематографическая печать. Это стало возможным только недавно, на основе современной кинематографической техники.
Все американские специалисты, с которыми мы беседовали, единодушно сказали, что, если бы сейчас им заново пришлось создавать кинематографию в Америке, они не строили бы специального города, вдалеке от культурных центров страны, а строили бы студию там, где есть актеры, где есть музыканты, певцы, писатели, – то есть в больших городах.
Мы не являемся специалистами в вопросах кинематографической техники. Мы хотим лишь дать добросовестную информацию по такому важному поводу, как постройка города, хотим как можно точнее передать все, что мы узнали и увидели. У нас есть сейчас несколько огромных кинофабрик в Москве и Киеве. Это огромные железобетонные здания. Московскую фабрику до сих пор не достроили. Мы немного знакомы с деятельностью этих фабрик. Пока что – это кустарщина. Работа там еще не освоена. У нас нет кадров – нет актеров, сценаристов. Совершенно непонятно, как можно строить специальный город, не поставив на ноги, не достроив уже существующих фабрик, не имея собственных актеров, а приглашая их из театров. Нет никакого сомнения в том, что ни один актер Художественного театра не бросит своей работы, чтобы уехать в Крым или Сухум. Но если бы даже это все было возможно, если бы существующие фабрики были достроены и хорошо работали, если бы кинематография имела актеров и сценарии – все равно в постройке специального города нет нужды, так как солнце перестало быть двигательной силой в кинематографии.
Единственным доводом в пользу киногорода могло бы быть такое возражение: американцы и англичане делают плохие антихудожественные фильмы и отвергают солнце по причине коммерческой жадности. Мы же хотим создавать очень высокие художественные произведения на основе подлинных пейзажей, и для этого нам нужно солнце.
Пусть так. Американцы, действительно, выпускают отвратительные картины. На 10 хороших картин в год в Холливуде приходится 700 совершенно убогих картин. Но надо совершенно откровенно сказать, что эти убогие картины в техническом отношении сняты вполне удовлетворительно, чего нельзя сказать о наших даже самых лучших, действительно художественных картинах. Что же касается подлинных пейзажей, то Эйзенштейн все равно поедет снимать одесскую лестницу для «Потемкина» в Одессу, а Довженко поедет снимать тайгу для «Аэрограда» в Сибирь, а никак не в Сухум или Крым. И они будут абсолютно правы. И конечно, для некоторых больших художников необходимость в экспедициях никогда не потеряет своей актуальности. Так что и с этой точки зрения, как нам кажется, в специальном киногороде нет никакой необходимости. А дальнейшее гигантское расширение советской кинематографии, в котором страна так нуждается, может с большим успехом протекать там, где заложен фундамент кинематографии, где уже произведены крупные затраты, на основе создания действительно хорошей советской пленки, на основе освоения существующей кинопромышленности.
2
Нас поразил высокий уровень американской жизни. Однажды мы ехали по пустыни, в штате Аризона, направляясь из Гранд-Кеньон в Зайан-Кеньон. Это была пустыня в полном смысле слова. Не было ни людей, ни растений. Мы проехали две сотни миль, не встретив ни одной живой души, если не считать нескольких шоссейных рабочих, исправлявших дорогу. Потом мы проехали превосходный мост через речку Литтль Колорадо и увидели бензиновую станцию и небольшой дом. Кроме этих двух сооружений, вокруг ничего не было. До следующего населенного пункта было тоже не менее двух сотен миль. И вот в домике, где проезжим сдавались комнаты, мы нашли: электричество, горячую и холодную воду, превосходные постели, идеальной белизны простыни и полотенца, ванну, радио, водяное отопление и нормальный американский обед (не слишком вкусный, но разнообразный и питательный). Здесь, в пустыне, было решительно все, что можно найти в Нью-Йорке, Вашингтоне или Сан-Франциско. Даже мебель была такая же, как в Нью-Йорке или Вашингтоне, – стандартные переносные лампы с твердыми бумажными абажурами, качающиеся кресла, стулья, камин. И плату с нас взяли умеренную – такую же, как в Вашингтоне или Нью-Йорке, хотя, пользуясь безвыходным положением путешественников, могли бы содрать сколько угодно.
Мы привели этот пример не в качестве исключения, а в качестве правила. 16 000 километров пути дают нам право утверждать, что в любом пункте Соединенных Штатов человек может найти абсолютно все удобства. В некоторых местах эти удобства будут более совершенны (электрическая плита, комнатный рефрижератор), в некоторых – менее совершенны (газ, нефтяная печка), но они будут всюду. Они несомненно носят массовый характер.
Мы сознательно подчеркиваем всю грандиозность американского Standart of life (уровня жизни), чтобы не отвлекаться от главной темы доклада – какие еще способы (помимо уже применяющихся) были бы хороши для скорейшей организации такого (а впоследствии и более высокого) уровня у нас.
Круг вопросов очень велик – чистота, общественное питание, организация государственных парков, обслуживание дорог, состояние различных мест общего пользования, стирка белья, чистка одежды и т. д. и т. п. В случае надобности мы готовы все это детализировать, хотя ведь всеми этими вопросами давно занимаются специалисты и все это превосходно знают без нас. Вообще все, что мы сейчас пишем, известно ездившим в Америку специалистам. Дело же в том, как используется их опыт и достаточен ли опыт отдельных товарищей, побывавших в Америке, для того, чтобы не на словах, а на деле добиться в нашей стране американской чистоты, американского обслуживания, американского уровня быта. Нам кажется, что недостаточен. Что бы ни говорили и ни писали об американском уровне ездившие в Америку товарищи – всего этого мало.
На обратном пути из Америки мы познакомились на пароходе с группой инженеров и рабочих из кузовного цеха автозавода им. Сталина. Они ездили совершенствоваться в своем деле. Мы подружились с ними. Позже мы снова встретились с ними уже на нашей пограничной станции Негорелое. Трудно передать волнение и радость этих людей, очутившихся, наконец, в родном доме. Они восторженно глядели на пограничников, с наслаждением пили в буфете русский чай из блюдечка, требовали черный хлеб. Они были до краев переполнены одним из самых замечательных человеческих чувств – чувством родины. Вечером мы опять увидели автозаводцев – в вагоне-ресторане курьерского поезда Негорелое – Москва. Они на что-то сердились.
– Что с вами, товарищи? – спросили мы.
– Грязь, – ответил один из них. – Вы только посмотрите, как грязно в вагоне-ресторане.
В течение нескольких минут они, как в микроскопе, успели рассмотреть пятнышки на скатерти, бывшую в употреблении салфетку, идиотский пыльный цветок на столе. Успели заметить, что у бессмысленно суетившейся и тараторившей официантки нет косынки и в разные стороны торчат нечесаные волосы, что на белом кителе официанта красуется несколько винных пятен, что сам официант работает дурно, но тем не менее позорно угодлив и почтителен, успели почувствовать тяжелый запах кухни.
Они не были безразличны, как может быть безразличен только враг. Они испытывали почти физическую боль. Они страдали так, как может страдать лишь человек, крепко любящий свою родину.
– И это, вероятно, самый лучший вагон-ресторан на транспорте, – сказал другой товарищ, – так как он поставлен обслуживать заграничную линию.
– Ответьте нам на один вопрос, – спросили мы наших новых друзей, – только честно, положа руку на сердце. Если бы вы до поездки за границу работали, скажем, в Советском Контроле и вам поручили бы обследовать этот вагон-ресторан, что вы сказали бы о такой вот скатерти?
– Если говорить честно, мы нашли бы ее вполне удовлетворительной.
– А теперь?
– Теперь мы считаем, что это грязная половая тряпка.
Затем они с жаром принялись толковать о том, какие порядки заведут в своем кузовном цехе и какая идеальная будет там чистота. Уж они-то теперь знают, что такое чистота, знают, как надо поставить работу.
Этот разговор, который мы передаем со стенографической точностью, окончательно подкрепил те мысли, которые запали нам на ум еще в Америке и волновали нас всю дорогу.
Американский уровень надо воочию увидеть, увидеть не только людям техники, инженерам, которых периодически посылают в Америку и которые в основном занимаются только вопросами техники, но и специально с этой целью посланным в Америку в качестве туристов рядовым инженерам партии – секретарям районных комитетов.
В прошлом году летом мы объездили несколько районов Украины, и всюду, решительно всюду, во всех областях жизни, в каждой мелочи мы видели руку и вкус секретаря райкома. С какой быстротой пойдет повышение бытового уровня страны, если секретари райкомов своими глазами увидят и поймут, что это такое – массовое обслуживание потребителя, как выглядит газолиновая станция, кафетерия, гостиница, стандартная мебель, чистая скатерть, уборная, душ, бетонная дорога, рейсовый автобус дальнего следования, десятицентовый магазин, идеально простая и деловитая обстановка контор, режим времени, грошовые примитивные, но необыкновенно комфортабельные домики для туристов, справочное бюро и еще сотни необыкновенно важных вещей.
Мы уже не говорим о колоссальном культурном, образовательном и политико-воспитательном значении таких экскурсий, если только они хорошо подготовлены и организованы, если составлены правильные маршруты и умно подобраны объекты для изучения.
Как мы убедились, такая поездка не демобилизует людей, не развивает в них дух уныния (дескать, вот чего добились капиталисты, а мы далеко отстали). Напротив, у людей руки чешутся – работать, скорей работать! Работать лучше, умнее, продуктивнее, достигнуть американского уровня, а потом перегнать его.
Мы понимаем, что в основе поднятия уровня жизни лежит общее увеличение производства предметов широкого потребления и улучшения качества этих предметов; но вопрос вкуса, развитие вкуса у людей, которые непосредственно на местах изо дня в день строят новую жизнь, играет, как нам кажется, также большую роль. Поэтому хорошо организованные поездки в Америку партийных работников могут принести стране большую пользу.
ИЛЬЯ ИЛЬФ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
Б. З. Шумяцкий[15] – Сталину
27 февраля 1936 г.
Секретно
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
Уважаемый Иосиф Виссарионович!
Меня крайне удивило содержание письма к Вам писателей Ильфа и Петрова в части, касающейся их наблюдений над американским кино.
В своем письме к Вам т.т. Ильф и Петров пишут, что, побывав в США, они осмотрели несколько студий и беседовали с большим количеством очень опытных американских киноспециалистов, которые будто бы сообщили им, что они считают невыгодным и ненужным пользоваться натурой и солнечным освещением при съемках фильма и что будто бы все это заменяется сейчас декорациями и искусственным светом.
Я не знаю, с кем именно они беседовали, но уверен, что ни один, знающий кинематографию Голливуда человек не мог говорить им того, о чем они пишут.
Я допускаю только одну возможность: в Голливуде сейчас действительно существуют панические настроения, вызванные огромным увеличением налогов на кинематографию в Калифорнии. В Голливуде, в связи с этим, говорят о необходимости перебираться в другие солнцестойкие штаты, о постройке нового Голливуда и так далее. Очень многие фирмы сейчас терпят крах, перестраиваются, распадаются и так далее. Возможно, что эти конъюнктурные настроения, вызванные депрессией особого рода, и были приняты Ильфом и Петровым за действительное положение вещей.
Надо совершенно не знать не только кино и его технику, но даже просто элементарную физику, чтобы прийти к утверждению о целесообразности замены солнца в кино искусственным светом.
Живую природу, живые пейзажи в кинокартинах нельзя совершенно заменить декорациями, прежде всего по художественным соображениям, по характеру кино как реалистического искусства (поэтому-то в кино всегда, во всех странах, как правило, около 40–50 % всех сцен снимаются на натуре, при солнечном свете).
Нельзя сделать этого и по экономическим соображениям. Наши фабрики уже сегодня, при небольших производственных планах, ощущают недостаток электроэнергии, и съемочные группы из-за этого простаивают посреди рабочего дня.
Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что при отказе от натурных съемок по рецепту т.т. Ильфа и Петрова потребуется такое количество электроэнергии, для которого при каждой нашей студии необходимо построить сверхмощную электростанцию.
Товарищи предлагают ежегодную, непроизводительную затрату миллионов рублей только на одну электроэнергию, не говоря уже о недопустимом обеднении художественных качеств всякой картины от порочной в своей основе попытки заменить богатство натуры (природы, ландшафта, улиц, площадей, городов, деревень и так далее) бутафорно-декоративной подделкой их.
Наконец, замена натуры декорациями невозможна и потому, что в ателье наших киностудий пришлось бы строить целые города, улицы, площади, горы для каждых нескольких кадров, в то время как сейчас мы снимаем их на натуре.
Площади самих ателье нужно было бы увеличить в сотни раз, что было бы явно дороже постройки любого киногорода.
Другое, не менее легкомысленное утверждение т.т. Ильфа и Петрова о том, будто Голливуд не нужен даже самой американской кинематографии, будто туманный и бессолнечный Лондон бьет уже Голливуд, – легко опровергается тем, что карликовая кинематография Англии (20 художественных картин в год вместо 700 Голливуда) из-за отсутствия солнца страдает общим и для нас с нею пороком длительных сроков постановки фильмов, огромной их себестоимости и необходимостью ездить за натурой в колонии и на юг Франции.
Для примера привожу лично мною обследованные постановки только что вышедшего в Лондоне фильма реж. Александра Корда по сценарию Г. Уэллса «Грядущие события», который ставился англичанами 10 месяцев, и камерного фильма Рене Клера, который ставился 9? месяцев, то есть так же недопустимо долго, как и у нас. И если английская кинематография не имеет возможности построить свой Голливуд, то творчески это совпадает и с камерностью большинства фильмов, и с импрессионизмом, со съемками в мрачных и туманных тонах.
Поверхностный подход т.т. Ильфа и Петрова к этому сложному делу сказался еще и в том, что они не потрудились узнать о поразительном примере итальянского кино, огромные киностудии которого расположены в более солнечных, чем Москва и Ленинград, районах (Рим и его окрестности). Итальянцы, невзирая на войну и кризис, ввиду необходимости для производства съемок фильмов гораздо большей солнцестойкости, чем имеется в районе Рима, форсированно строят сейчас специальный киногород на юге страны, в местности с большим количеством солнцестойких дней и с более богатой флорой.
Критика отдельных существенных недочетов нашего кинопроизводства дана т.т. Ильфом и Петровым в общем правильно, но основные установки их письма явно ошибочны и проистекают из того, что они с вопросами кино не только не знакомились, но осведомлялись о них, очевидно, из ненадежных источников.
Единственное объяснение, которое я могу дать ошибке писателей, – это то, что кто-то, очевидно сознательно, направил их мысли в ошибочную сторону, тем более что после их пребывания в Голливуде в конце декабря я имел из САСШ сообщение от директора Амкино т. Берлинского, в котором указывалось, что названные писатели попали туда в крайне неудачное время и им не удалось в Голливуде побывать ни в одной современной киностудии, ни побеседовать с кем-нибудь из авторитетных киноспециалистов. Их сопровождал там работник Амкино, все их встречи и беседы тов. Берлинскому были известны.
Все другие возражения т.т. Ильфа и Петрова против киногорода считаю абсолютно бездоказательными, так как возражение, что мы не найдем для киногорода актеров, режиссеров, художников и др., опровергается уже тем, что при такой комплексной организации производства, как киногород, только существующие сейчас художественные кадры дадут минимум в два раза больше фильмов. Конечно, трудности будут, но не они решают.
Так как письмо названных писателей разослано всем членам ПБ и руководящим работникам советских органов – прошу Вас не отказать ознакомить их и с этим моим кратким ответом с тем, что на днях представлю Вам документальное опровержение непроверенных заявлений по кино т.т. Ильфа и Петрова.
Б. ШУМЯЦКИЙ
Б. З. Шумяцкий о беседе со Сталиным
9 марта 1936 г.
Моя краткая запись беседы с Иос[ифом] Виссарионовичем] на просмотре 9 марта 1936 года.
Присутствовали: Иос[иф] Вис[сарионович], Жданов, Серго, Микоян, Вася.
Просили показать «Чапаева». Перед началом Иос[иф] Вис[сарионович] спросил о том, что это Ильф и Петров вздумали пропагандировать замену солнца и натуры декорациями и искусств [енным] светом?
Б. Шум[яцкий]. Рассказал, что это брехня, что ни натуру, ни солнца не заменить ни фактически, ни экономически, что Ильф [и] Петр[ов] никого в Голливуде не видели, кроме трех известных нам людей, которые им ничего подобного их письму не говорили, что оба писателя, не зная английского языка, ходили с нашим переводчиком, который отрицает, чтобы кто бы то ни было им о ненужности киногорода говорил.
Иос[иф] Вис[сарионович]. Значит, просто болтали. Да это и ясно из их письма. Разве можно лишить фильм натуры. Какие же павильоны надо тогда строить, размером в километры, и все же естественной натуры и солнца, леса, моря, гор и рек не создашь. Так у нас часто бывает. Увидят что-то из окна вагона и выдают за достоверность. Ну, а где вы выбрали место для кино-города?
Б. Шум[яцкий]. Сообщает, указывая, что Комиссия вернулась и к 1 апреля даст окончательные выводы.
Иос[иф] Вис[сарионович]. А все же куда больше склоняется?
Б. Шум [яркий]. Больше к Крыму.
Иос[иф] Вис[сарионович]. Конечно. Закавказье не подходит.
Анас[тас] Ив[анович]. Да, там много осадков.
Иос[иф] Вис[сарионович]. Вот надо еще обследовать район Краснодара, Азова и Таганрога. Хорошо, если бы они подошли. Их надо культурно обживать. Попробуйте проверить. Только не тяните с выбором места, планированием и стройкой. Мне сообщили, что Муссолини строит у себя киногород в два года – смотрите, обскакает. Есть ли у вас люди для этого?
Серго. Он просит у меня Маерса. Если тот согласен, я его отдам Шумяцкому.
Б. Шум[яцкий]. Подробно информирует про Итальянский киногород и обещает ускорить все работы, указывая, что на днях ГУКФ создаст ячейку строительства.
Серго. Действуйте. А то снова какие-нибудь знатные путешественники начнут опорочивать это дело, благо склочничать всегда легче.
Иос[иф] Висс[арионович]. При этом указал, что киногороду соседство с большим городом не нужно и вредно.
Начался просмотр фильма «Чапаев». Смотрели хорошо, с напряженным вниманием.
Иос[иф] Вис[сарионович]. После просмотра сказал, сколько раз (38) смотрю, и все с новым интересом. Замечательный фильм.
Серго. Да, такого другого равного по силе – еще не было.
Иос[иф] Вис[сарионович]. Да, пожалуй. Это, конечно, лучший фильм.
Разговор перешел о ближайших постановках.
Иос[иф] Вис[сарионович]. Указал, правильно сделал, что немного осадил тех, кто кичился не работой, а прошлыми фильмами. В результате дали место для выдвижения десятка крупнейших мастеров. У нас находятся люди, которые за недооценку Эйзенштейна, Пудовкина и Довженко – Шумяцкого ругают. Но зря. Шумяцкий поступил правильно. Ни для кого не закрыты пути соревнования, но круг признанных, маститых прорвал и расширил.
Серго. Снова напомнил, что Шумяцкому мешают работать и пытаются кино растащить.
Иос[иф] Вис[сарионович]. Мало, что пытаются!
П. М. Керженцев – Сталину
29 февраля 1936 г.
Тов. Сталину И. В.
Тов. Молотову В.М.
О «Мольере» М. Булгакова (в филиале МХАТа)
1. В чем был политический замысел автора? М. Булгаков писал эту пьесу в 1929–1931 гг. (разрешение Главреперткома от 3.Χ.31 г.), т. е. в тот период, когда целый ряд его пьес был снят с репертуара или не допущен к постановке («Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег» и одно время «Братья Турбины»). Он хотел в своей пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет в разрез с политическим строем, пьесы которого запрещают.
В таком плане и трактуется Булгаковым эта «историческая» пьеса из жизни Мольера. Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная «Кабала», руководимая попами, идеологами монархического режима. Против Мольера борются руководители королевских мушкетеров, – привилегированная гвардия и полиция короля. Пускается клевета про семейную жизнь Мольера и т. д. И одно время только король заступается за Мольера и защищает его против преследования католической церкви.
Мольер произносит такие реплики: «Всю жизнь я ему (королю) лизал шпоры и думал только одно: не раздави… И вот все-таки раздавил…» «Я, быть может, Вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал? Ваше величество, где же Вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер?». «Что я должен сделать, чтобы доказать, что я червь?»
Эта сцена завершается возгласом: «Ненавижу бессудную тиранию!» (Репертком исправил: «королевскую».)
Несмотря на всю затушеванность намеков, политический смысл, который Булгаков вкладывает в свое произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих намеков и не заметят.
Он хочет вызывать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при «бессудной тирании» Людовика XIV.
2. А что представляет из себя «Мольер» как драматургичес
кое произведение? Это ловко скроенная пьеса в духе Дюма или Скриба, с эффектными театральными сценами, концовками, дуэлями, изменами, закулисными эпизодами, исповедями в католических храмах, заседаниями в подземелье членов «кабалы» в черных масках и т. п.
Пьеса о гениальном писателе, об одном из самых передовых борцов за новую буржуазную культуру против поповщины и аристократии, об одном из ярчайших реалистов XVIII[16]столетия, крепко боровшегося за материализм против религии, за простоту против извращенности и жеманства. А где же Мольер?
В пьесе Булгакова писателя Мольера нет и в помине. Показан, к удовольствию обывателя, заурядный актерик, запутавшийся в своих семейных делах, подлизывающийся у короля – и только.
Зато Людовик XIV выведен как истый «просвещенный монарх», обаятельный деспот, который на много голов выше всех окружающих, который блестит, как солнце, в буквальном и переносном смысле слова.
Поскольку в основе сюжета взята именно семейная жизнь Мольера, вся пьеса принижена до заурядной буржуазной драмы.
Если оставить в стороне политические намеки автора и апофеоз Людовика XIV, то в пьесе полная идейная пустота – никаких проблем пьеса не ставит, ничем зрителя не обогащает, но зато она искусно в пышном пустоцвете подносит ядовитые капли.
3. Что же сделал театр с этим ядовитым пустоцветом? Политические намеки он не хотел подчеркивать и старался их не замечать. Не имея никакого идейного материала в пьесе – театр пошел по линии наименьшего сопротивления. Он постарался сделать из спектакля пышное зрелище и взять мастерством актерской игры.
Вся энергия театра ушла в это внешнее. Декорации (Вильямса), костюмы, мизансцены – все это имеет задачей поразить зрителя подлинной дорогой парчой, шелком и бархатом. (Недаром постановка обошлась в 360 тыс. руб., а «Гроза» – в 100 тыс. руб.)
Все внешние эффекты особо подчеркнуты и разыграны (сцена ужина во дворце, заседание «кабалы» в подземелье, исповедь в соборе под орган и хоровое пение и т. д.).
Блестящая технически игра Болдумана (Людовика XIV) носит такой же характер внешнего показа и возвеличения образа короля, с затушеванием подлинных черт «просвещенного» деспотизма и грубости. Комизм Яншина (Бутон) также внешнего порядка (прием повторения одних и тех же словечек и жестов) без углубления образа. Станицын в Мольере усиленно пользуется теми же внешними техническими приемами (например, заикается, что сугубо противоречит самому типу блестящего актера Мольера). На внешней красивости строит свою роль Ливанов.
В результате мы имеем пышный, местами технически блестящий спектакль, но совершенно искажающий эпоху и образы ведущих исторических фигур того времени. Зритель видит мудрого монарха Людовика и жалкого писателя Мольера, погубленного своей семейной драмой и корнями некоей таинственной «кабалы».
Идейная содержательность спектакля на уровне романов Дюма-сына. Тяжелый итог после четырехлетней работы для филиала МХАТа, давшего столько образцов глубоко идейных и крепко-реалистических спектаклей.
4. Мои предложения: Побудить филиал МХАТа снять этот спектакль не путем формального его запрещения, а через сознательный отказ театра от этого спектакля, как ошибочного, уводящего их с линии социалистического реализма. Для этого поместить в «Правде» резкую редакционную статью о «Мольере» в духе этих моих замечаний и разобрать спектакль в других органах печати.
Пусть на примере «Мольера» театры увидят, что мы добиваемся не внешне блестящих и технически ловко сыгранных спектаклей, а спектаклей идейно насыщенных, реалистически полнокровных и исторически верных – от ведущих театров особенно.
Председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР
КЕРЖЕНЦЕВ
Резолюция на письме: Молотову. По-моему, т. Керженцев прав. Я за его предложение.
И. Сталин
Дневник Е. С. Булгаковой
1936.
16 февраля. Итак, премьера «Мольера» прошла. Сколько лет мы ее ждали! Зал был, как говорит Мольер, нашпигован знатными людьми. Тут и Акулов, и Керженцев, Литвинов и Межлаук, Могильный, Рыков, Гай, Боярский… Не могу вспомнить всех. Кроме того, вся масса публики была какая-то отобранная, масса профессоров, докторов, актеров, писателей. Афиногенов слушал очень внимательно, а в конце много аплодировал, подняв руки и оглядываясь на нашу ложу.
Успех громадный. Занавес давали, по счету за кулисами, двадцать два раза. Очень вызывали автора…
24 февраля. В мхатовской газете «Горьковец» отрицательные отзывы о «Мольере» Афиногенова, Всеволода Иванова, Олеши и Грибкова, который пишет, что пьеса «лишняя на советской сцене»…
9 марта. В «Правде» статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», без подписи.
Когда прочитали, М. А. сказал: «Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу».
Днем пошли во МХАТ – «Мольера» сняли, завтра не пойдет.
Другие лица…
15 марта. Звонок. М. А. вызывает Керженцев.
– Можете ли, М. А., сейчас приехать?
– Сейчас? Я хотел сейчас пообедать.
А. М. Горький – Сталину
10 марта 1936 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович, —
сообщаю Вам впечатления, полученные мною от непосредственного знакомства с Мальро.
Я слышал о нем много хвалебных и солидно обоснованных отзывов от Бабеля, которого считаю отлично понимающим людей и умнейшим из наших литераторов. Бабель знает Мальро не первый год и, живя в Париже, пристально следит за ростом значения Мальро во Франции. Бабель говорит, что с Мальро считаются министры и что среди современной интеллигенции романских стран этот человек – наиболее крупная, талантливая и влиятельная фигура, к тому же обладающая и талантом организатора. Мнение Бабеля подтверждает и другой мой информатор Мария Будберг, которую Вы видели у меня; она вращается среди литераторов Европы давно уже и знает все отношения, все оценки. По ее мнению, Мальро – действительно человек исключительных способностей.
От непосредственного знакомства с ним у меня получилось впечатление приблизительно такое же: очень талантливый человек, глубоко понимает всемирное значение работы Союза Советов, понимает, что фашизм и национальные войны – неизбежное следствие капиталистической системы, что, организуя интеллигенцию Европы против Гитлера с его философией, против японской военщины, следует внушать ей неизбежность всемирной социальной революции. О практических решениях, принятых нами, Вас осведомит т. Кольцов.
Недостатки Мальро я вижу в его склонности детализировать, говорить о мелочах так много, как они того не заслуживают. Более существенным недостатком является его типичное для всей интеллигенции Европы «за человека, за независимость его творчества, за свободу внутреннего его роста» и т. д.
Т. Кольцов сообщил мне, что первыми вопросами Мальро были вопросы о Шагинян, о Шостаковиче. Основная цель этого моего письма – тоже откровенно рассказать Вам о моем отношении к вопросам этим. По этому поводу я Вам еще не надоедал, но теперь, когда нам нужно заняться широким объединением европейской интеллигенции, – вопросы эти должны быть поставлены и выяснены. Вами во время выступлений Ваших, а также в статьях «Правды» в прошлом году неоднократно говорилось о необходимости «бережного отношения к человеку». На Западе это слышали, и это приподняло, расширило симпатии к нам.
Но вот разыгралась история с Шостаковичем. О его опере были напечатаны хвалебные отзывы в обоих органах центральной прессы и во многих областных газетах. Опера с успехом прошла в театрах Ленинграда, Москвы, получила отличные оценки за рубежом. Шостакович – молодой, лет 25, человек, бесспорно, талантливый, но очень самоуверенный и весьма нервный. Статья в «Правде» ударила его точно кирпичом по голове, парень совершенно подавлен. Само собою разумеется, что, говоря о кирпиче, я имел в виду не критику, а тон критики. Да и критика сама по себе – не доказательна. «Сумбур», а – почему? В чем и как это выражено – «сумбур»? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья «Правды», разрешило стае бездарных людей, халтуристов, всячески травить Шостаковича. Они это и делают. Шостакович живет тем, что слышит, живет в мире звуков, хочет быть организатором их, создать из хаоса мелодию. Выраженное «Правдой» отношение к нему нельзя назвать «бережным», а он вполне заслуживает именно бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов.
Крайне резко звучит и постановление о театре Берсенева. Берсенев, конечно, тоже ошеломлен, и, разумеется, на главу его будет возложен венец, как на главу невинно пострадавшего.
Театров в Москве мало, театр для детей необходим, это так, но где репертуар для такого театра? И зачем, для кого существуют театры гениального Мейерхольда и не менее гениального Таирова? Существует мнение, что один из этих театров необходим для актрисы Райх, а другой – для актрисы Коонен.
Необходимое пояснение. После того, как 26 января 1936 года Сталин, Молотов, Микоян и Жданов прослушали в филиале Большого театра оперу Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда (Катерина Измайлова)», в «Правде» уже 28 января появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки», разгромившая оперу и начавшая кампанию «борьбы с формализмом».
20 марта зам. зав. отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) А.И. Ангаров подал в секретариат ЦК «записку», в которой, в частности, говорилось:
«Несомненно, что существует молчаливый сговор формалистов различных направлений, даже враждовавших в прошлом между собой… Поведение этих лиц является не чем иным, как скрытой формой саботажа указаний партии. По существу они исходят из принципа невмешательства партии во внутренние дела искусства».
Сталин – Б. З. Шумяцкому
9 декабря 1936 г,
Тов. Шумяцкий!
1) Щорс вышел слишком грубоватым и малокультурным. Нужно восстановить действительную физиономию Щорса.
2) Боженко не вполне вышел. Автор, видимо, больше сочувствует Боженко, чем Щорсу.
3) Штаб Щорса не видно. Почему?
4) Не может быть, чтобы у Щорса не было трибунала, иначе он не стал бы сам расстреливать бойцов из-за пустяков (табакерка и пр.).
5) Нехорошо, что Щорс выглядит менее культурным и более грубым, чем Чапаев. Это неестественно.
И. СТАЛИН
Необходимое пояснение. Записка Сталина адресована начальнику Главного управления кинематографии, а речь идет о сценарии кинофильма «Щорс», подготовленном А. П. Довженко.
Из беседы Сталина с Лионом Фейхтвангером
8 января 1937 г.
ФЕЙХТВАНГЕР. Я просил бы Вас подробнее определить функции писателя. Я знаю, что Вы назвали писателей инженерами душ.
СТАЛИН. Писатель, если он улавливает основные нужды широких народных масс в данный момент, может сыграть очень крупную роль в деле развития общества. Он обобщает смутные догадки и неосознанные настроения передовых слоев общества и инстинктивные действия масс делает сознательными.
Он формирует общественное мнение эпохи. Он помогает передовым силам общества осознать свои задачи и бить вернее по цели. Словом, он может быть хорошим служебным элементом общества и передовых устремлений этого общества.
Но бывает и другая группа писателей, которая, не поняв новых веяний эпохи, атакует все новое в своих произведениях и обслуживает таким образом реакционные силы общества. Роль такого рода писателей тоже не мала, но с точки зрения баланса истории она отрицательна. Есть третья группа писателей, которая под флагом ложно понятого объективизма старается усидеть между двух стульев, не желает примкнуть ни к передовым слоям общества, ни к реакционным. Такую группу писателей обычно обстреливают с двух сторон: передовые и реакционные силы. Она обычно не играет большой роли в истории развития общества, в истории развития народов, и история ее забывает так же быстро, как забывает прошлогодний снег…
ФЕЙХТВАНГЕР. Хотел бы спросить, что означает Ваше определение интеллигенции как межклассовой прослойки в докладе о Конституции СССР. Некоторые думают, что интеллигенция не связана ни с одним классом, имеет меньше предрассудков, большую свободу суждения, но зато меньше прав. Как говорил Гете – действующий не свободен, свободен только созерцающий.
СТАЛИН. Я изложил обычное марксистское понимание интеллигенции. Ничего нового я не сказал, класс – общественная группа людей, которая занимает определенную стойкую, постоянную позицию в процессе производства. Рабочий класс производит все, не владея средствами производства. Капиталисты – владеют капиталом. Без них, при капиталистическом строе, производство не обходится. Помещики владеют землей – важнейшим средством производства. Крестьяне владеют малыми клочками земли, арендуют ее, но занимают в сельском хозяйстве определенные позиции. Интеллигенция – обслуживающий элемент, не общественный класс. Она сама ничего не производит, не занимает самостоятельного места в процессе производства. Интеллигенция есть на фабриках и заводах – служит капиталистам. Интеллигенция есть в экономиях и имениях – служит помещикам. Как только интеллигенция начинает финтить – ее заменяют другими. Есть такая группа интеллигенции, которая не связана с производством, как литераторы, работники культуры. Они мнят себя «солью земли», командующей силой, стоящей над общественными классами. Но из этого ничего серьезного получиться не может. Была в России в 70-х годах прошлого столетия группа интеллигенции, которая хотела насиловать историю и, не считаясь с тем, что условия для республики не созрели, пыталась втянуть общество в борьбу за республику. Ничего из этого не вышло. Эта группа была разбита – вот вам самостоятельная сила интеллигенции!..
Следует ли из всего этого, что у интеллигенции должно быть меньше прав?
В капиталистическом обществе следует. В капиталистическом обществе смотрят на капитал – у кого больше капитала, тот умнее, тот лучше, тот располагает большими правами. Капиталисты говорят: интеллигенция шумит, но капитала не имеет. Поэтому интеллигенция там не равноправна. У нас совершенно иначе.
Если в капиталистическом обществе человек состоит из тела, души и капитала, то у нас человек состоит из души, тела и способностей трудиться. А трудиться может всякий: обладание капиталом у нас привилегий не дает, а даже вызывает некоторое раздражение. Поэтому интеллигенция у нас полностью равноправна с рабочими и крестьянами. Интеллигент может развивать все свои способности, трудиться так же, как рабочий и крестьянин…
ФЕЙХТВАНГЕР. В каких пределах возможна в советской литературе критика?
СТАЛИН. Надо различать критику деловую и критику, имеющую целью вести пропаганду против советского строя.
Есть у нас, например, группа писателей, которые не согласны с нашей национальной политикой, с национальным равноправием. Они хотели бы покритиковать нашу национальную политику. Можно раз покритиковать. Но их цель не критика, а пропаганда против нашей политики равноправия наций. Мы не можем допустить пропаганду натравливания одной части населения на другую, одной нации на другую. Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нацией.
Есть группа литераторов, которая не хочет, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов, а такие элементы у нас имеются. Дать право пропаганды за фашизм, против социализма – нецелесообразно…
Критику деловую, которая вскрывает недостатки в целях их устранения, мы приветствуем. Мы, руководители, сами проводим и предоставляем самую широкую возможность любой такой критики всем писателям.
Но критика, которая хочет опрокинуть советский строй, не встречает у нас сочувствия. Есть у нас такой грех…
ФЕЙХТВАНГЕР. Как человек, сочувствующий СССР, я вижу и чувствую, что чувства любви и уважения к Вам совершенно искренни и элементарны. Именно потому, что Вас так любят и уважают, не можете ли Вы прекратить своим словом эти формы проявления восторга, которые смущают некоторых ваших друзей за границей?
СТАЛИН. Я пытался несколько раз это сделать. Но ничего не получается. Говоришь им – нехорошо, не годится это. Люди думают, что я это говорю из ложной скромности.
Хотели по поводу моего 55-летия поднять празднование. Я провел через ЦК ВКП(б) запрещение этого. Стали поступать жалобы, что я мешаю им праздновать, выразить свои чувства, что дело не во мне. Другие говорили, что я ломаюсь. Как воспретить эти проявления восторгов? Силой нельзя. Есть свобода выражения мнений. Можно просить по-дружески.
Это проявление известной некультурности. Со временем это надоест. Трудно помешать выражать свою радость. Жалко принимать строгие меры против рабочих и крестьян.
Очень уж велики победы…
ФЕЙХТВАНГЕР. Я боюсь, что употребление вами слова «демократия» – я вполне понимаю смысл вашей новой конституции и ее приветствую – не совсем удачно. На Западе 150 лет слово «демократия» понимается как формальная демократия. Не получается ли недоразумение из-за употребления Вами слова «демократия», которому за границей привыкли придавать определенный смысл. Все сводится к слову «демократия». Нельзя ли придумать другое слово?
СТАЛИН. У нас не просто демократия, перенесенная из буржуазных стран. У нас демократия необычная, у нас есть добавка – слово «социалистическая» демократия. Это другое. Без этой добавки путаница будет. С этой добавкой понять можно. Вместе с тем мы не хотим отказываться от слова демократия, потому что мы в известном смысле являемся учениками, продолжателями европейских демократов, такими учениками, которые доказали недостаточность и уродливость формальной демократии и превратили формальную демократию в социалистическую демократию. Мы не хотим скрывать этот исторический факт…
Необходимое пояснение. Сталин не случайно заговорил о «национальной политике» и «равноправии наций». Ведь он беседует с европейским писателем-антифашистом, к тому же евреем.
Ромен Роллан – Сталину
Вильнев (Во) Вилла Ольга
18 марта 1937 г.
Дорогой товарищ Сталин,
Еще раз обращаюсь к Вам, пользуясь разрешением, которое Вы дали мне, когда, два года тому назад, я имел возможность беседовать с Вами.
Накануне процесса против Бухарина, и никоим образом не оспаривая собранные против него улики, я обращаюсь к Вашему высокому духу гуманности и понимания высших интересов СССР.
Ум порядка Бухаринского ума является некоторым богатством для его страны, его можно бы и нужно бы сохранить для советской науки и мысли. Если он смог, на основе вреднейших идеологий, преступным образом проступиться, следует казнить эти идеологии, но пощадить человека научной ценности, ими сбитого с дороги, – который, признав свою ошибку и сожалея о ней, сможет помочь сорвать маску с этих идеологий и вести против них энергичную борьбу.
В течение полутора века, с тех пор как Революционный Трибунал Парижа приговорил к смерти гениального химика Лавуазье, мы, самые пламенные революционеры, самые верные памяти Робеспьера и Великого Комитета Общественного
Спасения, всегда горько сожалели об этой казни и угрызались ею.
Разрешите мне также упомянуть о дорогом нам обоим имени: о нашем общем друге Максиме Горьком. Я часто видел у него Бухарина, я видел близкую дружбу, их связывавшую. Память о ней да спасет Бухарина! Во имя Горького, я прошу у Вас пощады для него. Как бы он ни был виновен, он человек другой породы, чем обвиняемые предыдущего процесса. Он сможет еще принести честь советской мысли и свидетельствовать в истории о Вашем духе великодушия.
Прошу Вас верить, дорогой товарищ Сталин, моей искренней преданности.
РОМЕН РОЛЛАН
Необходимое пояснение. Р. Роллан встречался со Сталиным в Кремле 28 июня 1935 года, и Сталин тогда сказал, что он для Рол-лана «в полном распоряжении».
Бухарин был арестован 27 февраля 1937 года как один из руководителей «антисоветского правотроцкистского блока». Процесс по этому «делу» проходил 2—13 марта 1938 года. Бухарин расстрелян.
Говоря о «предыдущем процессе», Роллан имеет в виду «дело антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (Зиновьев, Каменев и др.); слушалось 19–24 августа 1936 года.
П. Ф. Юдин – Сталину
23 апреля 1937 г.
Секретарям ЦК ВКП(б) тов. Сталину, тов. Кагановичу.
Мною было подано прилагаемое при этом заявление в партгруппу Союза писателей.
20 апреля это заявление рассматривалось на закрытом заседании партгруппы президиума Союза писателей.
На этом заседании выявилась отвратительная картина политического и бытового разложения Киршона.
На протяжении многих лет Киршон фактически жил у Ягоды. Принимал участие вместе с Крючковым и другими во всякого рода пьянках. Киршон настолько завяз и погряз с Ягодой, что он сам затруднялся ответить на вопрос: что его заставляло быть столь близким к Ягоде. На это он сказал только, что он думал, что образ жизни Ягоды вполне отвечает этике ответственных советских руководителей.
Щедроты и заботы о Киршоне со стороны Ягоды доходили до таких пределов, что когда Киршон поехал вместе с писателями на пленум в Минск, то на вокзале в Минске Киршона встречала группа ответственных работников НКВД, на своей машине увезли в гостиницу (или дом) НКВД.
Еще более безобразные вещи выявились о политических связях Киршона с Авербахом.
Тт. Панферовым и Фадеевым было заявлено, что Авербах, Киршон и другие в своей среде вели разговоры троцкистского характера. На одном из их совещаний на квартире Авербаха обсуждался вопрос о противопоставлении М. Горького т. Кагановичу.
Велись разговоры, направленные против тов. Кагановича.
Выявилась также антипартийная деятельность Авербаха, Киршона и других стоящих близко к Крючкову в попытках всяческого противопоставления Горького партгруппе Союза, особенно деятельность по натравливанию Горького против писателей-коммунистов сильно была развернута перед съездом писателей.
По моему мнению, Киршон во всех отношениях разложившийся, чужой партии человек и связан с преступной деятельностью Ягоды, Авербаха, Крючкова и других.
Очень близко к этой компании находились Минц – двуликий Янус, подхалим Ягоды и Крючкова, Бруно Ясенский, Афиногенов.
П. ЮДИН
Необходимое пояснение. П.Ф. Юдин – литературный функционер, отв. редактор журнала «Литературный критик», потом секретарь Оргкомитета по подготовке Первого съезда советских писателей, член Правления и член Президиума ССП
СССР. Личность Юдина, напомним, охарактеризовал Горький в письме к Сталину от 2.08.34 г.: «Мне противна его мужицкая хитрость, беспринципность, его двоедушие и трусость человека, который, осознавая свое личное бессилие, пытается окружить себя людьми еще более ничтожными…» Сообщая о «связях» Киршона с Ягодой и Крючковым (секретарем Горького), Юдин делает безошибочный ход, поскольку и тот, и другой уже осуждены и расстреляны. «Связь» с Авербахом тоже наказуема, потому что Авербах – родной брат жены Ягоды и скоро будет расстрелян. Афиногенов и Минц от этого доноса не пострадали, а И. И. Минц даже сделался академиком и официальным историком Октябрьской революции.
Бруно Ясенский – Сталину
25 апреля 1937 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мне совестно отнимать у Вас время личными вопросами. Но партия законно требует от нас, советских писателей, создания (в особенности к 20-летию Октября) политически актуальных, художественно добросовестных литературных произведений. Со времени опубликования моего последнего большого романа «Человек меняет кожу» я вот уже третий год работаю над новым романом, направленным против врагов народа – троцкистов и их хозяина – германского фашизма. Я противопоставляю в этом произведении два мира: мир коммунизма и фашизма, – и пытаюсь на этом фоне вскрыть методы подпольной работы гестапо и ее агентов у нас в стране – троцкистских предателей. Тема сложная и трудная. За время моей работы мне приходилось неоднократно перерабатывать и перестраивать роман, в частности, после последнего процесса врагов народа Пятакова, Радека и др., раскрывшего целый комплекс новых фактов. Этим и объясняется, что работа над романом у меня несколько затянулась. Тем не менее я подготовил уже к печати 1-ю книгу романа, которую начинаю печатать с апрельского номера «Нового мира». Мне чрезвычайно хотелось бы закончить в ближайшие месяцы и 2-ю (последнюю) книгу, чтобы роман в целом мог увидеть свет до 20-ой Октябрьской годовщины.
Ни Союз писателей, ни кто бы ни было не помогал мне в этой работе. Я думаю, что законно желание, чтобы мне в ней, по крайней мере, не мешали. К сожалению, один из руководящих на нашем участке товарищей, которому поручено заниматься литературой, тов. П. Юдин иначе понимает свою задачу. В номере «Правды» от 23 апреля текущего года в своей статье «Почему РАПП надо было ликвидировать» тов. Юдин ставит меня в один ряд с врагом народа троцкистом Авербахом, выдвигая чудовищное и порочащее меня, как коммуниста, обвинение:
«Авербах, Киршон, Афиногенов, Бруно Ясенский по сути дела стали на путь сопротивления решению ЦК партии. Эта группа развенчанных «литвождей» продолжала свою групповую деятельность и после постановления ЦК…»
Всем, в том числе и т. Юдину, отлично известно, что я прибыл в СССР всего за два с лишним года до ликвидации РАПП, что в руководстве РАПП я никогда не состоял, в напостовской печати не напечатал ни одной строчки, и за все существование РАПП в рапповской печати не появилась ни одна строка о моих литературных произведениях. Зная, как усердно напостовская руководящая группа занималась саморекламой своих произведений, довольно трудно объяснить такое упорное замалчивание именно моей творческой работы, если б я действительно принадлежал к этой руководящей группе. Наоборот, мои резкие выступления против поднимавшегося тогда на щит «Рождения героя» Либединского, в особенности же мое выступление в печати против замалчивания РАППом Маяковского, не снискали ко мне отнюдь благоволения руководящей напостовской группы, творческие установки которой ярче всего олицетворял т. Фадеев.
Таким образом, не будучи никогда «литвождем», в каковые задним числом пытается возвести меня т. Юдин, от ликвидации РАПП, если можно так шутливо выразиться, я не терял ничего, «кроме своих цепей».
Если кто-либо когда-либо возвеличивал меня и «венчал», так это именно т. Юдин, опубликовавший незадолго до съезда писателей в той же «Правде» статью, где возводил меня в разряд ведущих писателей-коммунистов, достигших большого художественного совершенства. Тов. Юдин был в это время секретарем Оргкомитета и, очевидно, не возвышал бы меня так, зная, что я веду борьбу против решения ЦК партии.
Что же с тех пор изменилось? В чем же состоят мои «преступления», дающие сейчас т. Юдину право ставить меня на одну доску с врагами народа и делать это на страницах «Правды»?
«Преступление» мое состояло в том, что после ликвидации РАПП я продолжал считать, что т. Фадеев не вполне освободился от групповых напостовских методов руководства. Когда же т. Юдин, в бытность свою секретарем Оргкомитета, целиком попал в плен к т. Фадееву, я имел неосторожность выступить на одном из пленумов против него, т. Юдина, с критикой его неверной теории о двух струях в Союзе советских писателей, и затем, накануне съезда писателей, подписать совместно с Гладковым, Шолоховым, Бахметьевым, Афиногеновым и Киршоном письмо секретарям ЦК партии с критикой деятельности Оргкомитета, возглавляемого т. Юдиным.
Этих-то двух «преступлений» не может мне простить т. Юдин, пытавшийся заклеить рот самокритике одиозным ярлыком групповщины.
После съезда писателей я ушел с головой в свою творческую работу, не вмешиваясь ни в какие литературные дрязги. Роман, который я начинаю сейчас печатать, будет наглядно свидетельствовать о том, насколько добросовестно я выполнил указания партии.
Арест Л. Авербаха предоставил т. Юдину долгожданный случай запятнать мое литературное и политическое имя.
Несколько месяцев тому назад «Правда», отвечая на гнусные выпады пана Валевского в польском сейме, перечисляла мою фамилию рядом с фамилией Леваневского и других поляков, обретших подлинную родину в СССР и заслуживших любовь широких масс советского народа. Я не считаю, что я заслужил эту любовь, но я знаю, что всей своей жизнью и работой я постараюсь ее заслужить. Позавчера те же читатели «Правды» узнали вдруг, что тот же Бруно Ясенский оказался сподвижником предателя-троцкиста Авербаха в его борьбе против ЦК партии. И все это на основании ничем не мотивированного, ни на чем не основанного самоличного заявления т. Юдина. Спрашивается, кому это нужно? Кому на руку увеличивать кадры троцкистских предателей за счет ничем не запятнанных писателей-коммунистов, никогда не состоявших ни в каких политических связях с троцкистскими бандитами, никогда не проявлявших никаких колебаний от генеральной линии партии?
Голословное обвинение т. Юдина может иметь только один результат: срыв моей творческой работы. Мне придется сейчас, отложив в сторону роман, заняться розыском печатных доказательств моей непринадлежности к авербаховской группе, рыться в старых журналах, припоминать разговоры пятилетней давности с отдельными товарищами, отчитываться и объясняться на десятке заседаний. Вы понимаете сами, что продолжать в таких условиях работу над романом почти немыслимо. Таким образом, я не смогу, как мне этого хотелось бы, дать к 20-ой годовщине законченное произведение, мобилизующее читателя на борьбу с врагами народа и их пособниками. Тов. Юдину, который, работая в отделе печати ЦК и в известной степени шефствуя над литературой, никогда даже не поинтересовался, что я пишу, конечно, от этого ни холодно, ни жарко. Но в интересах ли нашей партии такого рода методы «литературного руководства»?
Вот о чем мне хотелось Вас спросить, и вот почему я решился отнимать у Вас время своим письмом.
С коммунистическим приветом
Б. ЯСЕНСКИЙ
Необходимое пояснение. Говоря о «новом романе», Б. Ясенский имеет в виду «Заговор равнодушных», фрагменты которого опубликовал «Новый мир» в 1956 году.
Бруно Ясенский был арестован 31 июля 1937 года и 17 сентября расстрелян.
В. М. Киршон – Сталину
14 мая 1937 г.
Вчера было заседание парткома партийной организации Союза советских писателей. Меня исключили из партии с ужасными формулировками. Обо мне уже сказано, как о руководителе контрреволюционной группировки в литературе (это на основании литературной групповщины, которая была после постановления ЦК о ликвидации РАПП), сказано, что я переродился, сказаны такие вещи, после которых не место не только в партии, но и на советской земле.
Я совершил еще одну роковую ошибку. В 1921 году, через год после вступления в партию, когда мне было 16 лет, на профсоюзной дискуссии я голосовал за троцкистскую платформу. Через несколько дней, когда нам в кружке объяснили вредность этой платформы, я осудил свое голосование. Это был для меня эпизод, который не только не оставил какого-нибудь следа, но которому я просто не придавал значения, потому что всю остальную жизнь активно боролся против троцкизма и других контрреволюционных групп за линию партии. Именно поэтому я последнее время на вопрос о том, был ли я в каких-нибудь группировках, не указывал факта этого голосования, ибо никакой группировки тогда не было, и это носило случайный характер. Я могу привести тому много свидетелей. С Авербахом же я познакомился только через несколько лет после этого.
Дорогой товарищ Сталин! Благодаря своим безобразным поступкам, общению с проклятыми врагами народа, политической слепоте, разложению, которому я поддался, я попал в страшный круг, из которого я не в состоянии вырваться. Товарищи мне не доверяют, ни один голос не поднимается в мою защиту, потому что слишком с подлыми врагами я имел дело, потому что вел себя последнее время недостойно коммуниста.
Но, товарищ Сталин, поймите же трагедию человека, которого обвиняют в том, что он враг партии, и который в этом неповинен. У меня нет никаких сил больше выносить всю страшную тяжесть обрушившегося на меня. Я знаю, что все это я заслужил. Ведь я так был обласкан партией, я пользовался ее доверием, я с величайшим стыдом думаю о том, как гнусно я вел себя, доведя все до такого состояния.
Родной товарищ Сталин, сейчас все опасаются не разоблачить врага, и поэтому меня изображают врагом. Ведь Вы же знаете, что это неправда. Не верьте всему этому, товарищ Сталин! Помогите мне вырваться из этого страшного круга, дайте мне любое наказание. Полученный мной урок никогда не пройдет даром.
Простите меня, что я все пишу и пишу Вам, но это – от отчаяния человека, который остался совершенно один. Товарищ Сталин, мне 34 года. Неужели Вы считаете меня конченым человеком? Ведь я еще много могу сделать для Партии и Родины.
Товарищ Сталин, родной, помогите мне.
Ваш
КИРШОН
Необходимое пояснение. В «записке» секретаря ССП В. П. Ставского в ЦК ВКП(б) товарищу Сталину, в частности, говорилось, что «авербаховская группа в течение долгого времени проводила свои антипартийные фракционные нелегальные собрания на квартирах Авербаха, Киршона и, впоследствии, у Ягоды»; что «Киршон – будучи связан с Ягодой и Авербахом самым тесным (?) образом, оторвался от партийной организации, от рабочих, развалил работу драмсекции Союза писателей, допустил ряд уголовных преступлений в ведении денежных дел драматургов и т. д.».
Письмо Киршона к Сталину это предсмертный вопль гибнущего человека. Правда, раньше Киршон легко губил других.
В. М. Киршон был арестован и «ликвидирован».
Л. З. Мехлис – Сталину, Молотову, Ежову
19 июля 1937 г.
Товарищам СТАЛИНУ
МОЛОТОВУ
ЕЖОВУ
Сегодня в редакцию «Правды» явился Демьян Бедный и принес мне поэму под названием «Борись или умирай».
Главный редактор «Правды)
Под заголовком поэмы подпись: «Конрад Роткемпфер. Перевод с немецкого». В конце – перевел Демьян Бедный. В этой поэме ряд мест производит странное впечатление (эти места в прилагаемом экземпляре обведены красным карандашом). Особенно странными кажутся строки: «Фашистский рай. Какая тема! Я прохожу среди фашистского эдема, где радость, солнце и цветы…», а также строки: «Кому же верить? Словечко брякнешь невпопад, тебе на хвост насыплют соли». И совсем странны строки заключительной части: «Родина моя, ты у распутья. Твое величие превращено в лоскутья».
Когда я указал Демьяну Бедному на эти и некоторые другие места поэмы – он охотно согласился их вычеркнуть. Он предлагал даже напечатать ее без его подписи – просто как перевод с немецкого. К концу разговора выяснилось, что никакой поэмы Конрада Роткемпфера не существует и самое имя этого якобы автора выдумано. Поэма написана Демьяном Бедным. Как он объяснил, – это своеобразный литературный прием.
Экземпляр этой поэмы прилагаю. Прошу указания.
Л. МЕХЛИС
Сталин – Л. З. Мехлису
20 июля 1937 г.
Тов. Мехлис!
На Ваш запрос о басне Демьяна «Борись или умирай» отвечаю письмом на имя Демьяна, которое можете ему зачитать.
НОВОЯВЛЕННОМУ ДАНТЕ, т. е. КОНРАДУ, ТО БИШЬ… ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ.
Басня или поэма «Борись или умирай», по-моему, художественно-посредственная штука. Как критика фашизма, она бледна и неоригинальна. Как критика советского строя (не шутите!), она глупа, хотя и прозрачна.
Так как у нас (у советских людей) литературного хлама и так немало, то едва ли стоит умножать залежи такого рода литературы еще одной басней, так сказать…
Я, конечно, понимаю, что я обязан извиниться перед Демьяном-Данте за вынужденную откровенность.
С почтением
И. СТАЛИН
Л. З. Мехлис – Сталину
21 июля 1937 г.
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
В ночь на 21 июля в редакцию был приглашен Демьян Бедный в связи с его «поэмой» – «Борись или умирай». Я выполнил поручение ЦК и прочитал ему Ваше письмо.
Прикидываясь дурачком, Демьян говорил:
– Я либо сумасшедший, либо кляча. Стар, не понимаю.
Он всячески пытался представить, что речь в «поэме» идет о конине, хлебе и т. п. вещах, но отнюдь не о чем-либо другом.
– Придется, – говорил он, – поехать в деревню, поливать капусту, – выражая этим мысль, что писать ему нельзя.
Демьяна, видимо, кто-то серьезно опутал.
Л. МЕХЛИС
Маленькая иллюстрация. Вот как звучит начало этой басни Демьяна:
Как новый Данте, я иду фашистским адом. Фашисты сбилися с копыт. Ища меня, фашистский следопыт Не вторгнется ко мне внезапно на дом: Я стал кочующим номадом. Вчерашний мой ночлег сегодня мной забыт. Меня зовут Роткемпфером Конрадом Вразлад с фамилией моею родовой, Поэт подпольно-боевой. Я говорю простым народным честным складом. И т. д.В. п. ставский – Сталину
16 сентября 1937 г.
В ЦК ВКП(б)
тов. Сталину И. В.
В связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила Шолохова я побывал у него в станице Вешенской.
Шолохов не поехал в Испанию на Международный конгресс писателей. Он объясняет это «сложностью своего политического положения в Вешенском районе».
М. Шолохов до сих пор не сдал ни IV-й книги «Тихого Дона», ни 2-й книги «Поднятой целины». Он говорит, что обстановка и условия его жизни в Вешенском районе лишили его возможности писать.
Мне пришлось прочитать 300 страниц на машинке рукописи IV книги «Тихого Дона». Удручающее впечатление производит картина разрушения хутора Татарского, смерть Дарьи и Натальи Мелеховых, общий тон разрушения и какой-то безнадежности, лежащий на всех трехстах страницах; в этом мрачном тоне теряется и вспышка патриотизма (против англичан), гнева против генералов у Григория Мелехова.
М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу:
– Большевиком же его я делать никак не могу.
Какова же Вешенская обстановка у Шолохова? Три месяца тому назад арестован бывший секретарь Вешенского райкома ВКП(б) Луговой – самый близкий политический и личный друг Шолохова. Ранее и позднее арестована группа работников района (бывший зав. районным заготовительным отделом Красюков, бывший председатель райисполкома Логачев и другие), – все они обвиняются в принадлежности к контрреволюционной троцкистской организации.
М. Шолохов прямо мне заявил:
– Я не верю в виновность Лугового, и если его осудят, значит, и я виноват, и меня осудят. Ведь мы вместе все делали в районе.
Вспоминая о Луговом, – он находил в нем только положительные черты; особенно восхвалял ту страсть, с которой Луговой боролся против врагов народа Шеболдаева, Ларина и их приспешников.
С большим раздражением, граничащим со злобой, говорил М. Шолохов:
– Я еще не знаю, как передо мной обернутся нынешние работники края.
– Приезжал вот 2-й секретарь – Иванов Иван Ульяныч, два дня жил, вместе водку пили, разговаривали; как он хорошо говорил. Я уже думал, что он крепче Евдокимова, а вот он врагом народа оказался, арестован сейчас!
– Смотри, что делается! Гнали нас с севом, с уборкой, а сами хлеб в Базках гноят. Десятки тысяч пудов гниет под открытым небом!
На другой день я проверил эти слова Шолохова. Действительно, на берегу Дона в Базках лежат (частью попревшие) около 10.000 тонн пшеницы. Только в последние дни (после дождей) был прислан брезент. Вредители из Союзхлеба арестованы.
Озлобленно говорил М. Шолохов о том, что районный работник НКВД следит за ним, собирает всяческие сплетни о нем и о его родных.
В порыве откровенности М. Шолохов сказал:
– Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится.
Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство.
Я в лоб спросил его, – не думал ли ты, что вокруг тебя орудуют враги в районе, и что этим врагам выгодно, чтобы ты не писал? Вот ты не пишешь, – враг, значит, в какой-то мере достиг своего!
Шолохов побледнел и замялся. Из дальнейшего разговора со всей очевидностью вытекает, что он допустил уже в последнее время грубые политические ошибки.
1). Получив в начале августа письмо (на папиросной бумаге) из ссылки от бывшего зав. районным заготовительным отделом Красюкова, он никому его не показал, а вытащил впервые только в разговоре со мной. И то, – как аргумент за Лугового. В письме Красюков писал, что он невиновен, что следствие было неправильное и преступное, и т. д.
На мой вопрос: снял ли он копию с этого письма? – Шолохов сказал, что снял, но ни т. Евдокимову, ни в райком не давал.
2). Никакой партработы Шолохов, будучи одним из 7-ми членов райкома, не ведет, в колхозах не бывает, сидит дома или ездит на охоту да слушает сообщения «своих» людей.
Колхозники из колхоза им. Шолохова выражали крайнее недовольство тем, что он их забыл, не был уже много месяцев:
«Чего ему еще не хватает в жизни? Дом – дворец двухэтажный, батрак, батрачка, автомобиль, две лошади, коровы, стая собак, а все ворчит, сидит дома у себя».
3). На краевой конференции Шолохов был выбран в Секретариат и ни разу не зашел туда.
В крае (Ростов Дон) к Шолохову отношение крайне настороженное.
Тов. Евдокимов сказал:
– Мы не хотим Шолохова отдавать врагам, хотим его оторвать от них и сделать своим!
Вместе с тем тов. Евдокимов также и добавил:
– Если б это был не Шолохов с его именем, он давно бы у нас был арестован.
Тов. Евдокимов, которому я все рассказал о своей беседе с Шолоховым, сказал, что Луговой до сих пор не сознался, несмотря на явные факты вредительства и многочисленные показания на него. На качество следствия обращено внимание краевого управления НКВД.
Очевидно, что враги, действовавшие в районе, – прятались за спину Шолохова, играли на его самолюбии (бюро райкома не раз заседало дома у Шолохова), пытаются и сейчас использовать его как ходатая и защитника своего.
Лучше всего было бы для Шолохова (на которого и сейчас влияет его жены родня, – от нее прямо несет контрреволюцией) – уехать из станицы в промышленный центр, но он решительно против этого, и я был бессилен его убедить в этом.
Шолохов решительно, категорически заявил, что никаких разногласий с политикой партии и правительства у него нет, но дело Лугового вызывает у него большие сомнения в действиях местных властей.
Жалуясь, что он не может писать, М. Шолохов почему-то нашел нужным упомянуть, что вот он послал за границу куски
IV книги, но они были задержаны в Москве (Главлитом) и из заграницы к нему пришли запросы: – где рукопись? Не случилось ли чего?
Шолохов признал и обещал исправить свои ошибки и в отношении письма Красюкова, и в отношении общественно-партийной работы. Он сказал, что ему стало легче после беседы.
Мы условились, что он будет чаще писать и приедет в ближайшее время в Москву.
Но основное – его метание, его изолированность (по его вине), его сомнения вызывают серьезные опасения, и об этом я и сообщаю.
С комм, приветом
Вл. СТАВСКИЙ
Стихи Демьяна Бедного, предложенные им «Правде» для опубликования 26 января 1938 г. (Печатаются в сокращении)
БУДЕМ БИТЬ
Инженер. Советский. Честный. Он пришел и доложил: – Новый случай, вам известный, Он меня насторожил. Эти взрывы и пожары… Растревожен весь Кузбасс… Столь тревожные удары… Не вредительство ль у нас? ……………………………. В кабинете снова двое, Шу-шу-шу и шу-шу-шу: – Дело срочно-боевое… Порешите! – Порешу! То был штаб троцкистский, местный, У бандита был бандит. Инженер – советский, честный — Через ночь он был убит. Чрез неделю снова взрывы… Жертвы… Дети и отцы… Для фашистской директивы Подыскались подлецы. ……………………………..Небольшое пояснение. Главный редактор «Правды» Лев Мехлис передал стихи Демьяна в Кремль. Резолюция Сталина: «Слабо. Это не удар по Троцкому, а царапина небольшая. И. Ст.»
М. А. Булгаков – Сталину
4 февраля 1938 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Разрешите мне обратиться к Вам с просьбой, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинине.
Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего такое выражение в прессе, я позволю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу.
Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, если Вы найдете нужным рассмотреть эту просьбу, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения.
М. БУЛГАКОВ
Необходимое пояснение. Письмо Булгакова попало в Особый сектор ЦК ВКП(б), Поскребышев сделал пометку «НКВД», и письмо ушло туда. Сталин письма не читал.
М. А. Шолохов – Сталину
16 февраля 1938 г.
Дорогой т. Сталин!
После освобождения из-под ареста секретаря Вешенского РК ВКП(б) Лугового, председателя РИКа Логачева и уполномоченного Ком[итета по] Заготовкам при] СНК Красюкова бюро Ростовского обкома партии приняло решение о возвращении Лугового и других на прежнюю работу В этом решении было записано следующее: «… Материалами следствия установлено, что тт. Луговой, Логачев и Красюков были злостно оговорены участниками контрреволюционных] правотроцкистских и эсеровско-белогвардейских организаций в своих подлых вражеских целях».
Эта формулировка неверна по существу и придумана для того, чтобы замести следы вражеской работы. Чего проще: оклеветали вешенских коммунистов враги, на то они и враги, чтобы клеветать; оклеветанные реабилитированы; заблуждение, в коем пребывали Ростовский обком и обл[астное] УНКВД, рассеяно решением ЦК. А на самом деле было все это иначе. Обком (враги, бывшие в нем и находящиеся сейчас) создали на Лугового и остальных дело, заведомо зная, что Луговой и остальные непричастны к вражеской работе, враги исключили их из партии, а враги, сидящие в органах НКВД Ростовской области, заставили других арестованных дать на Лугового, Логачева и Красюкова ложные показания. И не только некоторых арестованных заставили клеветать, но пытались всеми мерами и способами добиться таких же ложных показаний и от самих Лугового, Логачева и Красюкова. В какой-то мере они преуспели и здесь: сломленный пытками Логачев дал ложные показания на многих честных коммунистов, в том числе и на меня, и даже самого себя оговорил. Логачев, которого, как и остальных арестованных, буквально истязали в Новочеркасской тюрьме (к методам следствия и допроса, практиковавшимся в Азово-Черноморье, я вернусь в конце письма), дал именно те показания, какие от него вымогали.
В обкоме и в областном УНКВД была и еще осталось недобитой мощная, сплоченная и дьявольски законспирированная группа врагов всех рангов, ставившая себе целью разгром большевистских кадров по краю. Она – эта группа – многого достигла, особенно в северных районах края, где основательно поработал враг народа Лукин со своими помощниками. Вешенское дело – прямое этому доказательство. Но Луговой и остальные вешенцы благодаря Вашему вмешательству освобождены, а сотни других коммунистов, посаженных врагами партии и народа, до сих пор томятся в тюрьмах и ссылке.
Пора распутать этот клубок окончательно, т. Сталин! Не может быть такого положения, когда, к примеру, Луговой освобожден и восстановлен в партии, а те, кто арестован и осужден «за связь с врагом народа Луговым», все еще страдают и несут незаслуженное наказание. Не должны остаться безнаказанными те, которые сознательно сажали честных коммунистов. Но пока положение остается прежним: невиновные сидят, виновные здравствуют, и никто не думает привлекать их к ответственности.
… Край, округ, станица, – вот откуда жали на нас. Но не думайте, что мы были уж такие бедные-несчастные. Мы знали, что если дело дойдет до серьезного, то Вы нас в трату не дадите. На Вас, т. Сталин, на ЦК была надежда. Была, есть и будет. А если б этой надежды не было, да разве можно было бы года жить под таким чертовым прессом?
С 1936 г. дело пошло быстрее. Подвернулся случай рассчитаться с нами простым и безопасным способом – началось по краю выкорчевывание врагов. Случаем этим не преминули воспользоваться. В Кашарском районе органами НКВД была вскрыта эсеровская организация. Изъятие проводил в числе других работников НКВД наш уполномоченный НКВД Тимченко. В слободе Н.-Греково арестовали учителя Иванкова. Родом из этой слободы был Красюков П. А. – член бюро Вешенского РК, мой товарищ, однажды уже сидевший в тюрьме по милости врага народа Овчинникова.
Тимченко и Сперанский – нач[альник] Миллеровского окружного отдела НКВД – в прошлом сиятельный дворянин и поручик царской армии – выжали из Иванкова показания о причастности Красюкова к эсеровской организации. Одного этого показания было достаточно: Красюкова арестовали 23 ноября 1936 г.
Красюков 16-летним мальчишкой ушел добровольцем в Красную армию, с 1920 г. Был секретарем комсомольской ячейки, сам рождения 1903 г. Иванкова видел всего несколько раз. Происхождением из бедняцкой семьи. Но кому все это было нужно? Кого интересовало прошлое Красюкова? Надо было арестовать одного из вешенцев, нашелся благовидный предлог, и арестовали. Расчет был простой: вырвать у Красюкова ложные показания на всех вешенцев, а тогда уж добраться и до остальных, на основе этих показаний.
… В феврале ко мне пришел директор Грачевской МТС соседнего Базковского района Корешков, ранее работавший в Вешенской на должности зав. райзо. Он рассказал следующее: его вызвал к себе нач[альник] Миллеровского окр[ужного] отдела НКВД Сперанский, продержал на допросе 14 часов, а под конец заявил: – «Ты служил в белой армии и скрыл это при вступлении в партию. Будучи в белых, ты расстреливал красноармейцев. У нас на тебя имеется вот какое дело, – и показал огромную папку. – Посадить тебя мы можем в любой момент. Но пока мы этого не думаем делать. Все зависит от тебя. Ты нам нужен. Ты в дружеских отношениях со Слабченко, с Луговым, с Шолоховым. Пока ты нам должен дать материал на Слабченко, как на троцкиста. Ты нам должен помочь размотать его. Поезжай к нему в совхоз, пей с ним водку и добывай материал, как на троцкиста, иначе тебе будет плохо. Пойми, что ты в наших руках. И сейчас я с тобой разговариваю по-мирному, а вот когда сядешь к нам в подвал, – тогда разговаривать будем по-иному…» Тут же Сперанский предупредил Корешкова, что если он кому-либо скажет об этом разговоре, то его не только арестуют, но и немедленно расстреляют.
Корешков спросил у меня: – «Что мне делать?»
Я посоветовал ему написать т. Ежову о том, что Сперанский провоцирует его и понуждает под угрозой ареста давать лживые материалы на Слабченко.
Ездил ли Корешков к Слабченко или нет, я не знаю. Но в марте Слабченко был арестован по распоряжению Сперанского. А некоторое время спустя арестовали и Корешкова.
… Тем временем по краю начались аресты коммунистов, ранее работавших в Вешенской и хорошо относившихся к Луговому. В Морозовском районе за связь с Луговым был арестован пред. Морозовского РИКа Лимарев, работавший с Луговым в Вешенском РК заворгом, арестовали Каплеева, работавшего когда-то в Вешенском районе в Заготзерно, и еще раньше арестовали пред. Базковского РИКа Шевченко, ранее работавшего в Вешенской зам. пред. РИКа.
Новый секретарь Вешенского РК Капустин, которого, по словам Шацкого, лично Евдокимов выбрал для Вешенской из 15 просмотренных им секретарей РК, развернул при посредстве Чекалина и Тимченко работу по «искоренению коммунистов, связанных с Луговым и Логачевым». За четыре м[еся]ца по Вешенскому району было исключено из партии и арестовано под разными предлогами 18 членов партии и 16 комсомольцев.
… Через некоторое время Тимченко заявил мне, что ему придется арестовать Шолохова В. – моего родственника, комсомольца с 1924 г., работавшего директором Еланской средней школы. На мой вопрос, – что сделал Шолохов В. преступного? – Тимченко ответил: – «На него у меня имеется целая куча материалов». Я попросил ознакомить меня с этими материалами. Тимченко показал мне несколько листов, перепечатанных на машинке. Это обвинительное заключение содержало в себе самый чудовищный вымысел, дикую нелепицу, чепуху.
… Арестовать Шолохова В. не удалось, но Тимченко деятельно продолжал собирать на него материалы, используя свою осведомительную сетку и всех, кто по тем или иным причинам имел на Шолохова зуб. Одновременно начали дело и против другого моего родственника, работавшего в начальной школе х[утора] Черновского зав. школой.
… Красюков, с арестом которого начался открытый поход против вешенцев, был отправлен через Миллерово в Ростов, во внутреннюю тюрьму УНКВД. 23/11—36 г. его арестовали, с 25/11начались допросы. На первом же допросе продержали 4 суток подряд. В течение 96 часов ему дали поесть два раза. Не спал он за это время ни минуты.
О чем спрашивали сменявшиеся по очереди следователи – лейтенанты Топильский, Марков и сержант Бобров? Заставляли показывать на «троцкиста» Слабченко, на Корешкова, вымогали показания о вражеской работе, которую Красюков, якобы, вел. С января 1937 года начали допрашивать обо мне, о Луговом, о Логачеве. Через короткие передышки, измерявшиеся часами, снова вызывали на допрос и держали в кабинете следователя по 3–4—5 суток подряд. Следователи в один голос говорили, что Луговой и Логачев арестованы, что они уже дали показания, грозили расстрелом, морили безо сна. Не добившись желательных им показаний, 17/3—37 г. Красюкова бросили в карцер – каменный мешок 2 м длины и полутора м[етров] ширины, сырой, абсолютно темный. Спал на голом полу. Пробыл в карцере 22 суток. И снова истощенного, замученного, еле державшегося на ногах под руки притащили в следовательский кабинет, и снова допрашивали по 3–4 суток. 25/4 вызвал нач[альник] отделения СПО капитан Осинин. Короткий разговор:
«Молчишь? Не даешь показания, сволочь? Твои друзья сидят. Шолохов сидит. Будешь молчать – сгноим и выбросим на свалку, как падаль!»
Допрашивали, не разрешая садиться. Стоял до тех пор, пока держали ноги, потом ложился на пол и поднять не могли уже никакими пинками. Не было такого издевательства, которому Красюкова не подвергали бы: неслыханные ругательства, плевки, отказ выпускать в уборную, допросы с запрещением садиться по полсуток, допросы без сна по 3–5 суток, голод, – вот что входило в систему следствия.
После того как следователи убедились в том, что из Красюкова выжать желательных для них показаний не удастся, его отправили в Ростовскую тюрьму. Летом сидел в камере, построенной на 8 человек, но в которую ухитрились поместить 60 заключенных. Спали на полу «валетами», лежа только на боку, в полусогнутом положении, причем, если надо было повернуться на другой бок одному, то поворачиваться вынуждены были все 60. Жара была такая, что, по словам находившегося в камере кочегара, превосходила во много раз жару в машинном отделении парохода. По очереди подползали к дверной щели, чтобы хоть несколько раз глотнуть затхлого, но прохладного воздуха из коридора.
Никакими пытками Красюкова не могли заставить клеветать на себя и других. И когда ему говорили, что он издохнет в тюрьме, – он отвечал: – «И помирая буду говорить: да здравствует коммунистическая партия и советская власть! А вы, фашисты, смотрите и учитесь, как надо умирать честным коммунистам!»
В сентябре его отправили в Миллерово. Из 20 суток, проведенных там, 18 он пробыл на допросах. В Миллерово по указанию Сперанского его допрашивали по 6 суток подряд, не давали сутками воды, по трое суток не давали есть. Довели до того, что он заболел кровавым поносом, и если бы не подоспел вызов в Москву, то он, наверняка, умер бы в Миллеровской тюрьме. Всего просидел он в тюрьме 11с половиной м[еся]цев.
О своем состоянии в тогдашнее время Красюков говорит так: – «Самая страшная пытка это лишать сна. Приходилось изо всех сил бороться с собой, чтобы не пойти на соблазн легкой смерти, не дать любое показание, которое от меня вымогали. В такие минуты, когда просиживал или простаивал в кабинете следователя по 5 бесконечных суток, расстрел или другое наказание казались избавлением. Поддерживала вера в правоту своего дела, а поэтому и выбрал самую тяжелую смерть: решил лучше умереть замученным, чем лгать на себя и на других».
Лугового с момента ареста посадили в одиночку. Допрашивали следователи Кондратьев, Григорьев и Маркович. Метод изнурения заключенного был тот же, но с некоторыми отступлениями. Так же допрашивали по несколько суток подряд, сажали на высокую скамью, чтобы ноги не доставали пола, и не приказывали вставать в течение 40–60 часов, потом давали передышку в два-три часа и снова допрашивали. Луговой выстаивал по 16 часов, руки по швам, перед следовательским столом. К вариациям допроса можно отнести следующее: плевали в лицо и не велели стирать плевков, били кулаками и ногами, бросали в лицо окурки. Потом перешли на более утонченный способ мучительства: сначала лишили матраца на постели, на следующий день убрали из одиночки кровать; чтобы предохранить больные легкие от простуды, т. к. лежать надо было на голом цементном полу (Луговой болен туберкулезом), он подстилал под спину веник, – взяли и веник из камеры. Затем против одиночки Лугового поместили сошедшего с ума в тюрьме арестованного работника КПК Гришина, и тот своими непрестанными воплями и криками не давал забыться и в те короткие часы, когда приводили с допросов. Не помогло и это, – перевели в карцер, но в карцер особого рода, клоповник. В наглухо приделанной к стене кровати кишели, по словам Лугового, миллионы клопов. Ложиться на полу строжайше запрещали. Лежать можно было только на этой кровати. Но освещение в камере было так искусно устроено (затененный свет), что вести борьбу с клопами было абсолютно невозможно. Через день тело покрывалось кровавыми струпьями, и человек сам становился сплошным струпом. В клоповнике держали неделю, затем снова в одиночку. Вымогание ложных показаний, «подавление психики» арестованного достигалось и таким путем: среди ночи в камеру приходил следователь Григорьев, вел такой разговор: – «Все равно не отмолчишься! Заставим говорить! Ты в наших руках. ЦК дал санкцию на твой арест? Дал. Значит, ЦК знает, что ты враг. А с врагами мы не церемонимся. Не будешь говорить, не выдашь своих соучастников, – перебьем руки. Заживут руки, – перебьем ноги. Ноги заживут, – перебьем ребра. Кровью ссать и срать будешь! В крови будешь ползать у моих ног и, как милости, просить будешь смерти. Вот тогда убьем! Составим акт, что издох, и выкинем в яму».
Логачев испытал то же самое. Издевались, уничтожали человеческое достоинство, надругивались, били. На допросе продержали 8 суток, потом посадили на 7 суток в карцер, переполненный крысами. В карцере сидел в одном белье, до этого раздели. Из карцера уже не вели, а несли на носилках. Отнялась левая нога. Допрашивали 4 суток. Пролежал в одиночке 3 часа, и снова понесли на допрос. Допрашивали 5 суток подряд. Не мог сидеть, падал со стула, просил разрешения у следователя Волошина прилечь на постеленную на полу дорожку, но тот не разрешил лечь там. Пролежал на голом полу около часа, и снова подняли. Снова пытали 4 суток. Провоцировали. Следователь Маркович кричал: – «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, блядина, сидит у нас! И сидит крепко!
Контрреволюционный писака, а ты его покрываешь?!» Бил по лицу. К концу четвертых суток Логачев подписал то, что состряпал и прочитал ему следователь.
О своем тогдашнем состоянии говорит коротко: – «Дошел, вернее, довели, до того, что если б предложили подписать, что я был римским папой, – и это подписал бы. Хотелось только одного: поскорее умереть».
… Т. Сталин! Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен; этот метод приводил и неизбежно будет приводить к ошибкам. Тех, которым подчинены следователи, интересует только одно: дал ли подследственный показания, движется ли дело. А самих следователей, судя по делу Лугового и др., интересует не выяснение истины, а нерушимость построенной ими обвинительной концепции. Недаром следователь Шумилин, вымогая у Красюкова желательные для него, Шумилина, показания, на вопрос Красюкова: – «Вы хотите, чтобы я лгал?» – ответил: – «Давай ложь. От тебя мы и ложь запишем».
… Надо покончить с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным. Нельзя разрешать вести беспрерывные допросы по 5-10 суток. Такой метод следствия позорит славное имя НКВД и не дает возможности установить истину.
… Из уст знакомых колхозников я сам не раз слышал, что живут они в состоянии своеобразной «мобилизационной готовности»; всегда имеют запас сухарей, смену чистого белья на случай ареста. Ну, куда же это годится, т. Сталин? И не это ли обстоятельство способствовало тому, что великолепный урожай пр[ошлого] года еле убрали, огромное количество хлеба сгнило в поле, семена не сохранили, зяби не допахали?
Дорогой т. Сталин! Прошу Вас лично – Вы всегда были внимательны к нам – прошу ЦК, – разберитесь с нашими делами окончательно!
Доведите до сведения Н.И. Ежова о содержании моего письма, ведь он сделал первый почин в распутывании вешенского клубка, и пришлите комиссию из больших людей нашей партии, из настоящих коммунистов, которые распутали бы этот клубок до конца. Обком ничего не делает и не сделает! Я уже говорил Евдокимову: – «Почему обком не предпринимает никаких мер, чтобы освободить из тюрем тех, кто сидит за связь с Луговым, кто посажен врагами?» Он ответил: – «Ты говорил об этом Ежову? Ну, и хватит. А что я могу сделать?» Сажать он мог, а говорить об освобождении неправильно посаженных не может. Тогда почему же он мог спрашивать о Шацком, Семякине, Шестовой: – «А не зря ли они посажены? Не оклеветали ли их?»
… За пять лет я с трудом написал полкниги. В такой обстановке, какая была в Вешенской, не только невозможно было продуктивно работать, но и жить было безмерно тяжело. Туговато живется и сейчас. Вокруг меня все еще плетут черную паутину враги. После отъезда Тимченко и Кравченко их подручные продолжают вести активную работу. Ознакомьтесь с заявлением, которое прилагаю, и Вы увидите, что старая история продолжается. О действиях этого «политически зрелого» мерзавца Сидорова, терроризировавшего колхозников, выдававшего себя за «тайного агента» НКВД, РК довел до сведения районного] о[тдела] НКВД. Результаты следствия, проведенного работником НКВД Костенко, указаны в этом заявлении. Знает об этом и Евдокимов. Но до настоящего времени Сидоров не привлечен к ответственности. Всего не перескажешь, т. Сталин, хватит и этого.
Письмо повезу сам. Если понадоблюсь Вам – Поскребышев меня найдет. Если не увижу Вас, – очень прошу через Поскребышева сообщить мне о Вашем решении. Крепко жму Вашу руку.
М. ШОЛОХОВ
Необходимое пояснение. Письмо М. А. Шолохова публикуется с сокращениями. «За пять лет я с трудом написал полкниги» – речь идет о «Поднятой целине».
В. И. Немирович-Данченко – Сталину
6 января 1939 г.
Дорогой, горячо любимый Иосиф Виссарионович! Музыкальный театр моего имени теряет великолепную артистку – певицу Галемба. Она выслана на вольное поселение, кажется, только за проступки мужа. Я не знаю точно, но судя по
легкости наказания и по характеру ее личности, вина ее не такая, чтобы стыдно было просить о полном помиловании.
Я решился на это. Уж очень досадно, если бы от резкой перемены климата и оторванности от родного театра пропала такая артистка.
Простите меня за это письмо. Поверьте, что оно продиктовано исключительно преданностью театральному делу и глубочайшей верой в Вашу справедливость.
Весь Ваш
Вл. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО
Галемба – Софья Михайловна. Место ссылки – Атбасар.
Необходимое пояснение. Софья Михайловна Галемба была арестована 22 февраля 1938 года как «жена изменника родины» – начальника отдела вооружений Инженерного управления РККА А.Л. Галембы. Осуждена Особым совещанием на 5 лет ссылки. Сталин на письмо Немировича положил резолюцию: «Нужно, если можно, освободить и вернуть в Москву». 9 января 1939 года нарком внутренних дел Берия доложил об исполнении указания.
В. В. Виноградов – Сталину
Февраль 1939 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Обращаюсь к Вам как к организатору советской науки и ее руководителю с просьбой улучшить условия моей научной работы, если моя работа нужна и полезна советскому народу, советскому государству. В условиях теперешней моей жизни мне почти невозможно продолжать и решительно невозможно закончить большое исследование о русском языке (часть моей работы увидела свет – и при сем прилагается).
В 1934 году по постановлению Коллегии ОГПУ я был выслан на три года в г. Киров (б. Вятка). В 1936 г. по пересмотру дела я был освобожден из ссылки и с тех пор живу в г. Можайске (за пределами стокилометровой зоны от Москвы). Все эти годы я честно и с напряжением всех сил работал на пользу советской науки и советской культуры. О качестве моих работ может дать отзыв любой из советских специалистов по русской филологии. За последние пять лет мною напечатаны и подготовлены к печати шесть книг (из них 3 – пособия для высшей школы) и девять больших научно-исследовательских статей (всего до 200 печатных листов). Кроме того, я являюсь одним из шести авторов «Толкового словаря русского языка» (I и II т. вышли). По приглашению Наркомпроса в 1936–1937 гг. я организовал отдел пушкинского языка на Всесоюзной Пушкинской выставке, ныне по распоряжению правительства превращенной в Пушкинский музей.
В отрыве от столичных библиотек и архивов, принужденный тратить по 8 часов на железнодорожные поездки, не имея легальных возможностей работать в Москве, я страдаю от двойственности своего положения. Я пишу курсы по русскому языку для высшей школы, – между тем лишен возможности преподавать в вузах. Я занимаюсь научно-исследовательской работой – и почти не могу пользоваться научными сокровищницами Москвы. Меня считают крупным лингвистом, но я не имею профессиональных прав любого советского ученого.
Я прошу Вас разрешить мне прописку в Москве в комнате моей жены. Ваше доверие даст мне новые силы для еще более напряженной работы во славу советской науки и советского народа.
Проф. Викт. ВИНОГРАДОВ Мой адрес: г. Можайск, Моек. обл.
2-я Железнодорожная, д. 28.
Виктору Владимировичу Виноградову
Необходимое пояснение. В верхней части письма помета Поскребышева: «От проф. русского языка Виноградова». К письму приложена справка НКВД: «Гр-н Виноградов Виктор Владимирович был осужден Особым Совещанием 2/VI-1934 года к ссылке в Горък. Край, сроком на три года, исчисляя таковой с 8/П-1934 года… Срок ссылки и высылки… истек 8/П-1937 года, с какового времени Виноградов имеет право свободного проживания». Вот только Виктору Владимировичу забыли об этом сказать: что срок истек два года назад.
Сталин, по прочтении справки, проявил гуманность: «Удовлетворить просьбу проф. Виноградова. И. Cm.».
М. А. Шолохов – Сталину
11 декабря 1939 г.
Дорогой т. Сталин!
24 мая 1936 г. я был у Вас на даче. Если помните, – Вы дали мне тогда бутылку коньяку. Жена отобрала ее у меня и твердо заявила: – «Это – память, и пить нельзя!» Я потратил на уговоры уйму времени и красноречия. Я говорил, что бутылку могут случайно разбить, что содержимое ее со временем прокиснет, чего только не говорил! С отвратительным упрямством, присущим, вероятно, всем женщинам, – она твердила: «Нет! Нет и нет!» В конце концов я ее, жену, все же уломал: договорились распить эту бутылку, когда я кончу «Тихий Дон».
На протяжении этих трех лет, в трудные минуты жизни (а их, как и у каждого человека, было немало), я не раз покушался на целостность Вашего подарка. Все мои попытки жена отбивала яростно и методично. На днях, после тринадцатилетней работы, я кончаю «Тихий Дон». А так как это совпадает с днем Вашего рождения, то я подожду до 21-го и тогда, перед тем как выпить, – пожелаю Вам того, что желает старик из приложенной к письму статейки.
Посылаю ее Вам, потому что не знаю, – напечатает ли ее «Правда».
Необходимое пояснение. 23 декабря 1939 года «Правда» опубликовала статью М. Шолохова «О простом слове», посвященную 60-летию Сталина. Герой статьи 21 декабря садится со всей семьей за стол и говорит: «Нынче Сталину стукнуло шестьдесят годков. Хороший он человек. Дай бог ему побольше здоровья и еще прожить на белом свете столько, сколько он прожил!»
На письме Шолохова резолюция: «Мой архив. И. Сталин».
Группа кинематографистов – Сталину
Июль 1940 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
После больших колебаний мы решились написать Вам. Не раз за последние два года ставили перед собой вопрос о возможности этого обращения. То, что под ним стоят наши подписи, а не какие-либо другие, не результат того, что мы как-то особо связаны; мы работаем на разных студиях, у нас разные творческие пути, и единственное у нас общее – сознание ответственности за свое дело.
Мы знаем, как безмерно Вы заняты. И все-таки мы обязаны просить Вас прочесть это письмо. Мы нарочно ни с кем из наших товарищей не обсуждали его, не «собирали подписи». Но в то же время мы убеждены, что каждый киноработник скажет то же, что говорим мы.
Положение дел в киноискусстве кажется нам очень тревожным. В год выходит три-четыре хорошие картины. Все остальное исключительно убого, серо, скучно, подчас безграмотно и пошловато.
Технически все без исключения картины стоят на чрезвычайно низком уровне. Проекция и массовая печать настолько плохи, что народ видит эти картины в еще худшем, окончательно изуродованном виде.
Из самого молодого, боевого, задорного, радостного и веселого искусства кинематограф превращается в серую, доктринерскую жвачку. Самое острое, после печати, орудие в руках партии – кинематограф не выполняет своих задач перед страной.
Моральное состояние творческих работников очень тяжелое.
… Отношения между руководством и художниками советского кино достигли пределов невозможного. Руководство кинематографии не понимает, что за 22 года партия вырастила в советском кино кадры подлинных партийных и непартийных большевиков-художников. Вместо того чтобы во всей своей деятельности опираться на эти кадры, оно, руководство, отбрасывает их от себя, рассматривая художников кино как шайку мелкобуржуазных бездельников, как рвачей, как богему.
В результате творческие работники перестали уважать свое руководство и доверять ему. Они считают это руководство беспомощным, невежественным и зазнайским. На благополучных, бюрократически организуемых активах и конференциях перестали выступать даже самые активные из нас. Только отдельные вспышки скандального характера стихийно возникают от времени до времени на узких собраниях. Все наболевшее загнано внутрь и прорывается только в кулуарных разговорах. Самое страшное, что все это порождает апатию и неверие в возможность изменения этих условий.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы знаем, что Вы с любовью следите за работой и успехами советского кино. Мы боимся потерять эту Вашу любовь, которая всегда – любовь народа. Именно поэтому мы не можем замкнуться каждый в свою работу, не можем не тревожиться за общую судьбу советской кинематографии.
Мы считаем себя не вправе молчать. Каждый из нас, так же как и вся масса творческих работников кино, готов отдать все свои силы, чтобы оправдать доверие народа.
Мы просим о Вашем вмешательстве. Кроме того, если бы Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, нашли возможным принять группу художников советской кинематографии, поговорить с ними об их делах, то это было бы огромным счастьем для каждого из них и сыграло бы решающую роль в развитии советского киноискусства.
ТРАУБЕРГ, Мих. РОММ, Ал. КАПЛЕР, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, Ф. ЭРМЛЕР, Гр. АЛЕКСАНДРОВ
Необходимое пояснение. Сталин кинематографистов не принял, но результат от их письма был: постановлением Политбюро образовали Комиссию по предварительному просмотру и выпуску на экраны новых кинофильмов. Состав Комиссии: тт. Андреев, Маленков, Вышинский и Жданов. Комиссия, просмотрев очередной фильм, как правило, выносила решение: «Показать фильм тов. Сталину». Сталин смотрел аккуратно, а воротясь из отпуска, смотрел все пропущенное. Он и оставался главным оценщиком произведений киноискусства.
Сталин – А. Е. Корнейчуку
28 декабря 1940 г.
Многоуважаемый Александр Евдокимович!
Читал Вашу «В степях Украины». Получилась замечательная штука, – художественно-цельная, веселая-развеселая. Боюсь только, что слишком она веселая: есть опасность, что разгул веселия в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания.
Между прочим: я добавил несколько слов на 68 странице. Это для большей ясности.
Привет!
И. СТАЛИН
С. М. Эйзенштейн и Л. Р. Шейнин – Сталину
31 декабря 1940 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Обращаемся к Вам с просьбой разрешить вопрос о постановке фильма «Престиж империи».
Этот фильм будет построен на основе исторических материалов 1912–1913 годов и известного дела Бейлиса.
Эта тема увлекает не с точки зрения еврейской проблемы, отсутствующей в нашей стране, и не с точки зрения разработки фабулы самого процесса, а как тема о великом русском народе, ответившем на процесс массовой волной забастовок протеста. Этот же русский народ в лице крестьян, вошедших в состав присяжных (по указу царя, в состав присяжных по этому делу вошли почти исключительно крестьяне, так как Николай, по его выражению, в этом процессе поставил «ставку на простолюдина»), вынес оправдательный приговор, несмотря на огромное воздействие, которому подверглись присяжные заседатели.
Великий русский народ и героическое большевистское подполье, возглавившее огромную волну забастовок и протестов против этого процесса и превратившее его в поединок между народом и самодержавием, – такова генеральная тема фильма, политический смысл которого далеко выходит за рамки процесса Бейлиса.
Подлинные исторические материалы, которые в последнее время удалось обнаружить в архивах охранки и министерства юстиции, проливают новый свет на этот процесс, и все эти материалы, как нам кажется, дают замечательные фабульные и художественные возможности показа и раскрытия эпохи (канун войны, Ленские события и новый подъем революционного движения в России).
Эта тема рассматривается нами не как повод для показа сенсационного процесса, а как реальная возможность создать большое социально-историческое полотно, имеющее историко-познавательное значение.
Неоднократные высказывания Владимира Ильича о значении дела Бейлиса дают нам уверенность в полезности такого фильма.
В основу фильма будет положена пьеса «Дело Бейлиса», которая уже написана.
Однако Комитет по делам кинематографии дает согласие на постановку этого фильма лишь при условии согласования этой темы с ЦК ВКП(б).
Просим Ваших указаний.
Художественный руководитель киностудии «Мосфильм», заслуженный деятель искусств, профессор
С. ЭЙЗЕНШТЕЙН
Автор пьесы «Дело Бейлиса»
Л. ШЕЙНИН
Необходимое пояснение. Напомним, что в 1913 году в Киеве проходил сфабрикованный процесс по делу еврея М. Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве русского мальчика. Благодаря протестам общественности (А.М. Горький, В.Г. Короленко и др.) Бейлис был оправдан.
11 января 1941 года А.А. Жданов по поручению Сталина встретился с Эйзенштейном и сообщил ему мнение вождя о нецелесообразности постановки картины.
А. А. Фадеев – Сталину, Андрееву, Щербакову
13 декабря 1941 г.
В ЦК ВКП(б)
Товарищу И.В. СТАЛИНУ.
Товарищу А.А. АНДРЕЕВУ.
Товарищу А.С. ЩЕРБАКОВУ.
Среди литераторов, находящихся в настоящее время в Москве, распространяется сплетня, будто Фадеев «самовольно» оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на произвол судьбы.
Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее:
1. Днем 15 октября я получил из Секретариата тов. Лозовского директиву явиться с вещами в Информбюро, для того чтобы выехать из Москвы вместе с Информбюро.
Эту же директиву от имени тов. Щербакова мне передали работники Информбюро тов. тов. Афиногенов, Бурский и Петров.
Я не мог выехать с Информбюро, так как не все писатели по списку, составленному в Управлении агитации и пропаганды ЦК, были мною погружены в эшелон, и я дал персональное обязательство тов. Микояну и тов. Швернику выехать только после того, как получу указание Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.
Мне от имени тов. Щербакова разрешено было задержаться насколько необходимо.
Я выехал под утро 16 октября, после того как отправил всех писателей, которые мне были поручены, и получил указание выехать от Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.
2. Я имел персональную директиву от ЦК (тов. Александров) и Комиссии по эвакуации (тов. Шверник, тов. Микоян, тов. Косыгин) вывезти писателей, имеющих какую-нибудь литературную ценность, вывезти под личную ответственность.
Список этих писателей был составлен тов. Еголиным (работник ЦК) совместно со мной и утвержден тов. Александровым. Он был достаточно широк – 120 человек, а вместе с членами семей некоторых из них – около 200 человек (учтите, что свыше 200 активных московских писателей находятся на фронтах, не менее 100 самостоятельно уехало в тыл за время войны и 700 с лишним членов писательских семей эвакуированы в начале войны).
Все писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным превышением (271 человек) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября (за исключением Лебедева-Кумача, – он еще 14 октября привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался, – Бахметьева, Сейфуллиной, Мариэтты Шагинян и Анатолия Виноградова – по их личной вине). Они, кроме А. Виноградова, выехали в ближайшие дни.
Для обеспечения выезда всех членов и кандидатов Союза Писателей с их семьями, а также работников аппарата Союза (работников Правления, Литфонда, Издательства, журналов, «Литгазеты», Иностранной комиссии, Клуба) Комиссия по эвакуации при Совнаркоме СССР по моему предложению обязала НКПС предоставить Союзу Писателей вагоны на 1000 человек (в эвакуации какого-либо имущества и архивов Правления Союза было отказано).
За 14 и 15 октября и в ночь с 15 на 16 организованным и неорганизованным путем выехала, примерно, половина этих людей. Остальная половина (из них по списку 186 членов и кандидатов Союза) была захвачена паникой 16 и 17 октября. Как известно, большинство из них выехали из Москвы в последующие дни.
3. Перед отъездом мною были даны необходимые распоряжения моему заместителю (тов. Кирпотину), секретарю «Литгазеты» (тов. Горелику) и заместителю моему по Иностранной комиссии (тов. Аплетину). Секретарь парторганизации тов. Хвалебнова, уезжавшая с мужем с разрешения Краснопресненского райкома, дала при мне необходимые распоряжения своему заместителю (тов. Хмара) и Зав. Секретной частью Союза (тов. Болихову).
Кирпотин моих распоряжений не выполнил и уехал один, не заглянув в Союз. Это, конечно, усугубило паническое настроение оставшихся. Остальные работники свои обязательства выполнили.
4. Перед отъездом Информбюро из Москвы тов. Бурский передал мне от имени тов. Щербакова указание: создать работающие группы писателей в г.г. Свердловске, Казани и Куйбышеве.
В Куйбышеве такая группа создана при Информбюро (человек 15). В Казани и Чистополе (120 человек) и Свердловске (30 человек). Остальные писатели с семьями (в большинстве старики, больные и пожилые, но в известной части и перетрусившие «работоспособные») поехали в Ташкент, Алма-Ата и города Сибири.
Организация писательских групп в Казани и Свердловске, очищение их от паникеров, материально-бытовое устройство, преодоление некоторых политически вредных настроений – вся эта работа более или менее завершена, группы эти созданы и работают.
5. Работа среди писателей (в течение 15 лет) создала мне известное число литературных противников. Как это ни мелко в такое время, но именно они пытаются выдать меня сейчас за «паникера».
Это обстоятельство вынуждает меня сказать несколько слов о себе. Я вступил в партию в период колчаковского подполья, 2 1/2 года был участником гражданской войны (от рядового бойца и политрука пулеметной команды до комиссара бригады), участвовал в штурме Кронштадта в 1921 г. и дважды был ранен.
Я делал немало ошибок, промахов и проступков. Но на всех самых трудных этапах революции, включая и современный, я не был просто «поддерживающим» и «присоединяющимся», а был и остался активным борцом за дело Ленина и Сталина. Изображать меня «паникером» – это глупость и пошлость.
Как и многие большевики, я с большой радостью остался бы в Москве для защиты ее, и как у многих большевиков, все мои помыслы и желания направлены к фронту.
Если бы мне разрешили выехать на фронт в качестве корреспондента или политработника, я смог бы принести пользы не меньше других фронтовых литераторов.
А. ФАДЕЕВ
А. Н. Толстой – Сталину
2 июня 1943 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, я послал Вам пьесу «Трудные годы», – вторую часть драматической повести «Иван Грозный». Пьеса охватывает те годы, – 1567–1572, которые для русской историографии были наиболее темными, т. к. архивные документы того времени погибли или были сознательно уничтожены; лишь только теперь советские историки (Виппер, Бахрушин и др.) пролили свет на это время.
«Трудные годы» – самостоятельная, законченная пьеса, которая может идти на сцене – вне связи с первой частью.
Драматическая повесть «Иван Грозный» начата в самое трудное время, – в октябре 1941 года (пьесой «Орел и орлица»), когда со всей силой, со всей необходимостью, нужно было разворошить, по-новому понять и привлечь, как оружие борьбы, историю русской культуры. История советского двадцатипятилетия и неистощимые силы в этой войне показали, что русский народ – почти единственный из европейских народов, который два тысячелетия сидит суверенно на своей земле, – таит в себе мощную, национальную, своеобразную культуру, пускай до времени созревавшую под неприглядной внешностью. Идеи величия русского государства, непомерность задач, устремленность к добру, к нравственному совершенству, смелость в социальных переворотах, ломках и переустройствах, мягкость и вместе – храбрость и упорство, сила характеров, – все это – особенное, русское и все это необычайно ярко выражено в людях 16 века. И самый яркий из характеров того времени – Иван Грозный. В нем – сосредоточие всех своеобразий русского характера, от него, как от истока, разливаются ручьи и широкие реки русской литературы. Что могут предъявить немцы в 16 веке? – классического мещанина Мартина Лютера?
Первая пьеса «Орел и орлица» была для меня опытным пониманием Грозного, становлением его характера, в ней, как через узкую щель, пролез в 16 век, чтобы услышать голоса и увидеть реальные образы людей того времени.
Вторая пьеса «Трудные годы» – рассказ о делах Грозного. Разумеется, и думать было нечего втиснуть в три с половиной листа пьесы все дела и события. Драматургия лимитирована театральным временем, а в исторической пьесе, и – правдой исторических фактов. В «Трудных годах» я не насиловал фактов, а шел по ним, как по вехам, стараясь понять их смысл, стараясь выявить их причинность, утерянную или искаженную историками 19 века.
Дорогой Иосиф Виссарионович, моя пьеса «Трудные годы» лежит пока без движения. Я обращался к тов. Щербакову, но он не дал мне ни положительного, ни отрицательного ответа. Комитет по делам искусства не принимает никакого решения. Малый театр со всей горячностью хочет осуществить постановку «Трудные годы», и он мог бы показать постановку в конце ноября, в декабре.
Очень прошу Вас, если у Вас найдется время, ознакомиться с пьесой, которая для меня – за всю мою литературную жизнь самое трудное и самое дорогое произведение.
С глубоким уважением
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
Необходимое пояснение. Сталин познакомился с пьесами А. Н. Толстого, автору были переданы устные замечания вождя.
А.Н. Толстой – Сталину
16 октября 1943 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я переработал обе пьесы. В первой пьесе вместо четвертой картины (Курбский под Ревелем) написал две картины: взятие Грозным Полоцка и бегство Курбского в Литву. Во второй пьесе заново написаны картины – о Сигизмунде Августе и финальная: Грозный под Москвой. Отделан смыслово и стилистически весь текст обоих пьес; наиболее существенные переделки я отметил красным карандашом.
Художественный и Малый театры с нетерпением ждут: будут ли разрешены пьесы.
Дорогой Иосиф Виссарионович, благословите начинать эту работу.
С глубоким уважением
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
А. Н. Толстой – Сталину
24 ноября 1943 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович,
уже после того, как я послал Вам обе переработанные пьесы, мне пришлось в первой пьесе «Орел и орлица» написать еще одну картину, чтобы конкретнее выступала линия противной стороны, – феодалов и Курбского.
Таким образом, в первой пьесе, которую я сейчас посылаю Вам в последней редакции, вместо четвертой – выброшенной – картины сейчас – три новых картины: 4-ая, – взятие Грозным Полоцка, 5-ая, – княжеский заговор в Москве, связанный с Курбским, и 6-ая, – бегство Курбского.
В остальных восьми картинах, в соответствии с новыми картинами, усилена и заострена линия абсолютизма Грозного. Пьеса, мне кажется, выиграла от этих переделок и в исторической правдивости, и в усилении роли самого Грозного. Художественный театр, Малый московский и ленинградский Большой драматический очень хотят приступить к работе. Но пьесы пока еще не разрешены к постановке и печати. Помогите, дорогой Иосиф Виссарионович, благословите начать работу в театрах, если Вы согласитесь с моими переделками.
С глубоким уважением
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
Необходимое пояснение. Пьесу «Орел и орлица (Иван Грозный)» Малый театр поставил в октябре 1944 года; премьера пьесы «Трудные годы (Иван Грозный)» прошла в МХАТе 16 июня 1946 года.
М. М. Зощенко – Сталину
26 ноября 1943 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Только крайние обстоятельства позволяют мне обратиться к Вам.
Мною написана книга – «Перед восходом солнца». Это – антифашистская книга. Она написана в защиту разума и его прав. Помимо художественного описания жизни, в книге заключена научная тема об условных рефлексах Павлова. Эта теория основным образом была проверена на животных. Мне, видимо, удалось доказать полезную применимость ее и к человеческой жизни.
При этом с очевидностью обнаружены грубейшие идеалистические ошибки Фрейда.
И это еще в большей степени доказало огромную правду и значение теории Павлова – простой, точной и достоверной.
Редакция журнала «Октябрь» не раз давала мою книгу на отзыв академику А.Д. Сперанскому и в период, когда я писал эту книгу, и по окончании работы. Ученый признал, что книга написана в соответствии с данными современной науки и заслуживает печати и внимания.
Книгу начали печатать. Однако, не подождав конца, критика отнеслась к ней отрицательно. И печатанье было прекращено.
Мне кажется несправедливым оценивать работу по первой ее половине, ибо в первой половине нет разрешения вопроса. Там приведены лишь материалы, поставлены задачи и отчасти показан метод. И только во второй половине развернута художественная и научная часть исследования, а также сделаны соответствующие выводы.
Дорогой Иосиф Виссарионович, я не посмел бы тревожить Вас, если б не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни. Она, может быть, нужна и советской науке.
Ради научной темы я позволил себе писать, быть может, более откровенно, чем обычно принято. Но это было необходимо для моих доказательств. Мне думается, что эта моя откровенность только усилила сатирическую сторону – книга осмеивает лживость, пошлость, безнравственность.
Я беру на себя смелость просить Вас ознакомиться с моей работой либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно и, во всяком случае, проверить ее целиком.
Все указания, которые при этом могут быть сделаны, я с благодарностью учту.
Сердечно пожелаю Вам здоровья.
Мих. ЗОЩЕНКО Москва, гостиница «Москва», № 1038. Михаил Михайлович Зощенко.
Необходимое пояснение. Первая часть повести М. Зощенко была опубликована в четырех номерах «Октября» за 1943 год.
Вторая часть («Повесть о разуме») напечатана через тридцать лет.
Ответом на письмо для Зощенко стала разносная статья в газете «Литература и искусство» (Л. Дмитриев «О новой повести М. Зощенко», 4.12.43). Затем явилась «статья» в февральском «Большевике» за 1944 год, подписанная «ленинградскими рядовыми читателями»… Но это было только началом государственной травли Михаила Зощенко, устроенной А. А. Ждановым с благословения «лучшего друга писателей».
М. М. Зощенко – А.С. Щербакову
8 января 1944 г.
В ЦК партии А. С. Щербакову
Писателя Μ. М. Зощенко
Заявление.
Мою книгу «Перед восходом солнца» я считал полезной и нужной в наши дни. Но печатать ее не стремился, полагая, что книга эта не массовая, ввиду крайней ее сложности. Высокая, единодушная похвала многих сведущих людей изменила мое намерение.
Дальнейшая резкая критика смутила меня – она была неожиданной.
Тщательно проверив мою работу, я обнаружил, что в книге имеются значительные дефекты. Они возникли в силу жанра, в каком написана моя книга. Должного соединения между наукой и литературой не произошло. Появились неясности, недомолвки, пробелы. Они иной раз искажали мой замысел и дезориентировали читателя. Новый жанр оказался порочным. Соединять столь различные элементы нужно было более осмотрительно, более точно.
Два примера:
1. Мрачное восприятие жизни относилось к болезни героя. Освобождение от этой мрачности являлось основной темой. В книге это сделано недостаточно ясно.
2. Труд и связь с коллективом во многих случаях приносит больше пользы, нежели исследование психики. Однако тяжелые формы психоневроза не излечиваются этим методом. Вот почему показан метод клинического лечения. В книге это не оговорено.
Сложность книги не позволила мне (и другим) тотчас обнаружить ошибки. И теперь я должен признать, что книгу не следовало печатать в том виде, как она есть.
Я глубоко удручен неудачей и тем, что свой опыт произвел несвоевременно. Некоторым утешением для меня является то, что эта работа была не основной. В годы войны я много работал и в других жанрах. Сердечно прошу простить меня за оплошность – она была вызвана весьма трудной задачей, какая, видимо, была мне не под силу.
Я работаю в литературе 23 года. Все мои помыслы были направлены на то, чтобы сделать мою литературу в полной мере понятной массовому читателю. Постараюсь, чтобы и впредь моя работа была нужной и полезной народу. Я заглажу свою невольную вину.
В конце ноября я имел неосторожность написать письмо т. Сталину.
Если мое письмо было передано, то я вынужден просить, чтобы и это мое признание стало бы известно тов. Сталину. В том, конечно, случае, если Вы найдете это нужным. Мне совестно и неловко, что я имею смелость вторично тревожить тов. Сталина и ЦК.
Мих. ЗОЩЕНКО
8 января 44 г.
Москва
Если потребуется более обстоятельное разъяснение ошибок, допущенных в книге – я это сделаю. Сейчас я побоялся затруднять Вас обширным заявлением. М.З.
Гостиница «Москва», № 1038. Мих. Зощенко.
С. В. Михалков – Сталину
7 февраля 1944 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, 30 декабря 1943 г. в Большом театре я дал обещание Вам и товарищу В. М. Молотову написать стихи о наших днях.
Посылаю Вам «Быль для детей».
Ваш СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ
Резолюция Сталина: Молотову. Хорошее стихотворение. Следовало бы сегодня же сдать в «Правду», в какой-либо детский журнал (газету) и, может быть, в «Комсомольскую] правду.
И. Сталин.
Резолюция Молотова: В «Пионерскую правду».
Молотов.
Необходимое пояснение. В отдельном письме Молотову Сергей Михалков дал пояснение о стихах: «Они были начаты в 1942 году, а закончены и переработаны мною после нашей беседы в Большом театре, когда я дал слово Вам и т. Сталину написать по-новому о войне с немцами. Ваш Сергей Михалков». Стихотворение будет опубликовано в «Правде» через четыре дня, 11 февраля 1944 г. Помимо встречи на презентации нового Государственного гимна СССР в Большом театре поэт Михалков и журналист Эль Регистан (авторы слов гимна) встречались со Сталиным 28 октября и 4 ноября 1943 г.
К. И. Чуковский – редакции «Правды»
14 марта 1944 г.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Напечатанная в «Правде» от 1-го марта статья П. Юдина о моей сказке «Одолеем Бармалея!» заставила меня внимательно пересмотреть эту сказку, и мне стала очевидна та литературная и политическая ошибка, которую я совершил.
Эта ошибка заключается в том, что я пытался выразить привычным для меня образом моих старых детских сказок великие события нашей эпохи и не почувствовал, что эти образы для этой цели совсем не пригодны.
Говорить о событиях всемирно-исторической важности тем же голосом, который звучал в моих сказках, написанных лет 20 назад, значило, – как я с глубоким сожалением вижу теперь, – исказить и спутать представления детей о действительности, о великом подвиге, совершаемом нашим народом.
Все это я заявляю со всей отчетливостью: сказка моя оказалась объективно плохой.
Вместе с тем я решительно отвергаю всякое предположение о том, что я мог «сознательно опошлить великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма».
Вся моя многолетняя деятельность, как детского писателя, исключает возможность подобных предположений, и, конечно, я приложу все усилия, чтобы дальнейшей работой вернуть себе то уважение советской общественности, без которой мне, как писателю, невозможно ни жить, ни работать.
К. ЧУКОВСКИЙ
А. Лахути – Сталину
5 мая 1945 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович.
Некто пожелал обратиться с вопросом к Нилу. Боясь помешать великой жизненосной реке, занятой могучим стремлением вперед, он сел на берегу и молча стал дожидаться, пока Нил хоть на мгновение оторвется от своего державного занятия. Но тщетны были ожидания, благодатные волны продолжали неустанно стремиться вперед, и чудак умер, так и не дождавшись подходящей минуты, чтобы обратиться к Нилу со своим заветным вопросом.
Я годами уподоблялся тому человеку, но не хотел бы уподобиться ему до конца (а ведь я не так уж молод) и потому, перестав дожидаться невозможного, прошу Вас о том, чего не мог бы сделать и Нил, но что можете Вы: среди безбрежного потока великих трудов найти минуту, чтобы выслушать человека, безмерно нуждающегося в Вашем направляющем слове.
ЛАХУТИ
Патриарх Московский и всея Руси Алексий – Сталину
30 июня 1945 г.
Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Русская православная церковь, всегда призывающая благословение Божие на Ваши, дорогой Иосиф Виссарионович, необъятные труды во благо нашей страны, вместе со всем народом нашим сердечно приветствует Вас, радуется Вашей всемирной славе и единодушно поет Вам, Великому Генералиссимусу нашей любимой Родины и нашего победоносного воинства, многая, многая лета.
Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ
Кинорежиссер Г.В. Александров – Сталину
6 марта 1946 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Товарищ Большаков И.Г. информировал меня о Вашем отрицательном мнении по поводу второй серии картины С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный», а также о решении ЦК ВКП(б) о запрещении выпуска фильма на экран за его нехудожественность и антиисторичность.
Цель моего письма – не защищать фильм!
Исключительные и чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня беспокоить Вас.
В среде творческих работников кинофильм «Иван Грозный», как первая серия, так и вторая, вызвал резкую критику. Особенно вторую серию резко упрекали за то, что эпизод Ефросиньи Старицкой заслонил всю государственную деятельность царя Ивана; за отсутствие в картине народных сцен; за отсутствие русской природы, архитектуры и обстановки. Упрекали также за любование жуткими сторонами жизни, излишний показ религиозных моментов, вместо показа организации Русского государства и подготовки к Ливонским походам, вместо показа борьбы за дорогу к Балтийскому морю.
Четыре месяца тому назад руководство студии Мосфильм решило, что снятый материал не может составить самостоятельной картины и правильно отобразить деятельность царя Ивана. С.М. Эйзенштейну было предложено доработать фильм; доснять к нему сцены государственной деятельности и подготовки к Ливонской войне и соединить предлагаемую третью серию со второй серией, сделав единый фильм, который закончить «Победой у моря».
Но режиссер С.М. Эйзенштейн воспринял это болезненно отрицательно и просил руководство студии дать ему возможность закончить вторую серию по ранее утвержденному сценарию и не искажать его основного плана.
Присвоение режиссеру и автору первой серии фильма «Иван Грозный» С.М. Эйзенштейну Сталинской премии 1-й степени еще больше укрепило его уверенность в своей правоте. Мы решили не насиловать его и удовлетворить просьбу С.М. – доделать фильм до конца по его плану и лишь после этого принимать окончательное решение.
2-го февраля Эйзенштейн закончил работу над фильмом и сдал материал в кинолабораторию, но через несколько часов после этого (на празднике по случаю присвоения Сталинских премий работникам кино) у Эйзенштейна неожиданно произошел очень тяжелый приступ грудной жабы, который продолжался 36 часов. Только своевременное вмешательство медицины и применение сильно действующих средств спасло его от смерти.
Внезапно заболев, Эйзенштейн не успел посмотреть картины в готовом виде.
Придя в себя после приступа, Эйзенштейн просил меня показать фильм Художественному Совету Кинокомитета.
Большинство членов Художественного Совета отнеслись к фильму отрицательно и подвергли его жестокой критике – отметив, однако, что работа сделана весьма добросовестно, оригинальна по творческим приемам, нова по средствам выразительности и весьма профессиональна. Отмечены были также большие достижения в области творческого и технического освоения цветных съемок по новому методу. Художественный Совет решил поручить комиссии выработать предложения по исправлению и доработке фильма, но состояние Эйзенштейна было настолько плохо, что ни о каких поправках и доработках не могло быть и речи в ближайшее время.
Эйзенштейн из больницы настойчиво требовал, чтобы фильм был показан Вам, Иосиф Виссарионович. Просмотр фильма Вами сделался как бы целью его жизни. Этот просмотр волновал его больше всего другого.
В этот фильм вложил он более пяти лет своей жизни и труда. Он снимал его в трудных условиях в г. Алма-Ате, и ничего у него не было в жизни кроме этого фильма.
Откладывать просмотр Вами – значило затягивать и усиливать волнение С.М., которые ему противопоказаны.
После его ежедневных и настойчивых требований, я просил товарища И.Г. Большакова показать Вам картину.
Результат просмотра для него будет крайне неожиданным. Судя по его словам, он ждал благоприятных результатов и был в них уверен.
Известие о такой отрицательной оценке безусловно послужит причиной сильного волнения, которое для него в данный момент смерти подобно.
Зная Вас, Иосиф Виссарионович, как человека внимательного к людям и их несчастьям, человека отзывчивого и душевного, а с другой стороны, зная в течение 26 лет режиссера Эйзенштейна, как активного деятеля нашей кинематографии, как учителя многих ныне прославленных мастеров, как основоположника советской кинематографии и принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, изложенные выше, я осмеливаюсь просить Вас, Иосиф Виссарионович, не принимать окончательного решения по картине «Иван Грозный» до выздоровления ее автора.
Выздоровев и посмотрев свое произведение, Эйзенштейн, может быть, предложит такой вариант монтажа и поправок, который спасет все средства и силы, затраченные на эту большую работу.
Обращаюсь к Вам как художественный руководитель студии Мосфильм и бывший ученик Эйзенштейна.
С глубоким уважением и любовью к Вам
Гр. АЛЕКСАНДРОВ
О. Михальцева-Соболева – Сталину
21 марта 1946 г.
От Ольги Ивановны Михальцевой-Соболевой,
неизменного друга писателя ЛЕОНИДА СОБОЛЕВА
Товарищ Сталин,
в жизни бывает, когда даже независимый и сильный человек нуждается в моральной поддержке. Оглянувшись вокруг на густо населенный наш огромный и такой крошечный мир, я поняла, что говорить мне сейчас не с кем, слишком значительным представляется вопрос.
И мыслью обратилась к Вам.
Я ни о чем конкретном не прошу Вас, тем все это, быть может, сложнее.
У меня ощущение, что в нашем доме идет четвертый акт пьесы, когда все концы сводятся с концами и впереди лежит лишь неизбежная, закономерная, но все же несколько гадательная развязка пятого акта.
И если от нас она зависит, то мне становится страшно от ответственности, которую я чувствую на себе. Отсюда тоскливая потребность разделить эту непосильную ответственность: ценность объекта перерастает границы личного.
Речь идет о ЛЕОНИДЕ СОБОЛЕВЕ.
Однажды было у него уже такое тяжелое физическое и душевное состояние, которое привело к необходимости решительных мер. Но тогда, три года тому назад, растущие успехи на фронте оказались более действительными, чем санаторный режим, и через 11 дней мы удрали из санатория на южный фронт, и все обошлось.
Сейчас его положение несравнимо серьезнее.
Мир застал нас в Германии. С армией мы вошли в Берлин и оттуда проделали «по Европам» 20.000 километров на машине. Видели неповторимое и незабываемое. Леонид вернулся переполненный драгоценным творческим материалом и сел за стол.
Он просиживал за столом дни и ночи, но реальной работы не получалось. С его точки зрения, ничего не получалось. Он перестал совершенно спать. Нервное истощение дошло до предела. Лучшие врачи, по моему настоянию, смотрели его, говорили с ним. Организм, в основном, оказался здоровым, и я перестала тревожить его этими дополнительными раздражителями.
Леонид потерял волю к действию и становится в тягость самому себе.
Речь Черчилля взорвала его. Он зашагал по комнате. Ему захотелось ответить.
Но все растущая неудовлетворенность своей работой убивает в нем веру в ценность и нужность этой работы. И вспыхнув, он тут же погас.
Мгновенную радость принесло известие, полученное от югославского посла о награждении орденом Братства. Югославию Леонид очень полюбил и от души провел там громадную работу, – ряд предвыборных конференций по всей стране, когда в длительных беседах он рассказывал людям, почему мы победили в этой войне.
Возвращение с Тихого Океана сына, которого мы не видели два года, а до этого едва не потеряли, когда он шесть месяцев лежал полумертвый в госпитале, внесло еще одну Радость.
Но успокаивая и даже подымая дух, все это действует недолго, как наркотик на очень измученный, травмированный, тяжело больной организм.
Леонид потерял веру в качество того, что он делает, потерял веру в свое творческое «я», следовательно, в свою нужность, потерял интерес к жизни, стал, повторяю, в тягость самому себе.
Он, жизнерадостный, непосредственный, цельный, веселый, большой ребенок, – помрачнел.
Если бы не его исключительный, светлый талант, создавший единственную в своем роде, неувядаемую книгу «Капитальный ремонт», первый том новых «Войны и Мира», которая может и должна быть дописана им, я никогда не посмела бы обращаться к Вам.
Сталкиваясь с самыми разнообразными людьми в самых близких и отдаленных уголках земли, я всякий раз убеждаюсь в том, какая подлинная ценность этой прекрасной советской книги. Ее до сих пор помнят, цитируют, перечитывают и любят.
Во время войны Леонид стал писать новый роман – «Зеленый луч», о молодом человеке, командире флота. Он написал пять больших глав. Он любит этот роман, возвращается к нему, но роман почти не двигается.
С искренним запалом писал он «Дорогами Побед» – и, вернувшись, думал сразу продолжать их. Но и эта книга не двигается.
Мне кажется, что дело не в этих отдельных задуманных книгах: весь материал о последней войне войдет сам собой в продолжение «Капитального] Р[емонта]». Он оживет естественно, органически вплетенный в живую ткань развивающихся биографий героев, и Леонид дорастет до подлинной оценки всего пережитого, вторично пережив это через жизнь своих героев.
Леонид сейчас созрел, как мыслитель и художник, и полон до краев. Нужен маленький и верный толчок, чтобы это богатство вырвалось наружу сквозь мрачную броню недоверия к себе, прорвать которую самому мешает страшная усталость.
Какой должен быть этот толчок… взываю к Вашему великому уму и великому житейскому опыту.
Всем существом знаю, что Леонид может, продолжив «Капит. Ремонт», создать изумительную книгу о нашей эпохе, где на принципе его характерных «параллелей», встанут обе войны, империалистическая и отечественная.
Но развязка нашего пятого акта может быть и трагической. Был момент, когда, быть может, я прибегла к запрещенному приему, чтобы предотвратить ее: я сказала очень зло, что его имя, присоединенное к именам Есенина, Маяковского и Яхонтова, может вызвать слишком много ликований там, где злопыхательства и так хватает.
Он не ожидал такой постановки вопроса, – удар был неожиданный. Он отрезвел, на время.
Но я боюсь за него, очень боюсь.
ОЛЬГА ИВАНОВНА МИХАЛЬЦЕВА-СОБОЛЕВА
Москва. Тверской бульвар 25, кв. 17.
Т. К-136-85.
С. М. Эйзенштейн – Сталину
14 мая 1946 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я до сих пор не писал Вам, чувствуя и зная, как сильно Вы заняты и перегружены серьезнейшими государственными делами.
Однако, поскольку меньшей нагрузки для Вас в ближайшее время вряд ли предвидится, я все-таки берусь написать Вам.
Дело идет о второй серии фильма «Иван Грозный».
Мы настолько торопили его завершение к началу этого года, что в момент окончания фильма (февраль с.г.) сердечные спазмы, появившиеся у меня от переутомления, в свою очередь завершились сердечным припадком (инфаркт) – и вот я уже четвертый месяц лежу в больнице.
Сейчас опасность миновала, и в ближайшее время я перехожу на санаторный режим. Физически я сейчас поправляюсь, но морально меня очень угнетает тот факт, что Вы до сих пор не видели картины, уже готовой в течение нескольких месяцев, – и в особенности потому, что Вы так доброжелательно отнеслись к первой серии.
К этому прибавляются еще всякие неточные и беспокоящие сведения, доходящие до меня, о том, что «историческая тематика» будто бы вообще отодвигается из поля внимания куда-то на второй и третий план.
Очень Вас прошу поэтому, дорогой Иосиф Виссарионович, если Вы найдете кусочек свободного времени, посмотреть эту мою работу и разрешить мое беспокойство и тревоги.
Картина является второй частью задуманной трилогии о царе Иване – между первой серией, которую Вы знаете, и третьей, которая еще должна сниматься и будет посвящена Ливонской войне.
Чтобы оттенить оба эти широкие батальные полотна, данная серия взята в более узком разрезе: она внутримосковская и сюжет ее строится вокруг боярского заговора против единства Московского государства и преодоления царем Иваном крамолы.
Простите, что беспокою Вас своей просьбой.
Искренне уважающий Вас кинорежиссер
С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙН
Необходимое пояснение. 9 августа 1946 года на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о кинофильме «Большая жизнь» Сталин в своем выступлении коснулся и второй серии «Ивана Грозного>»:
– Не знаю, видел ли кто его, я смотрел, – омерзительная штука! Человек совершенно отвлекся от истории. Изобразил опричников, как последних паршивцев, дегенератов, что-то вроде американского Ку-Клукс-Клана. Эйзенштейн не понял того, что войска опричнины были прогрессивными войсками… У Эйзенштейна старое отношение к опричнине… В наше время другой взгляд на опричнину… И т. д.
Через девять месяцев Сталин ответил на письмо Эйзенштейна, вызвав его с актером Н. Черкасовым в Кремль на беседу (см. запись беседы 26 февраля 1947 года).
Из выступления Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о журналах «Звезда» и «Ленинград»
9 августа 1946 г.
Мы, ленинцы, исходим из того, что журналы, являются ли они научными или художественными, все равно они не могут быть аполитичными. Это я говорю к тому, что многие из писателей, из тех, которые работают в качестве ответственных редакторов, и прочие, думают, что политика – дело правительства, дело ЦК. Не наше, мол, дело политика. Написал человек хорошо, художественно, красиво, – надо пустить в ход, несмотря на то, что там имеются гнилые места, которые дезориентируют нашу молодежь, отравляют ее. В этом у нас расхождения со многими из литераторов и из тех, которые занимают руководящие посты в редакциях. Мы, попросту говоря, требуем, чтобы наши товарищи руководители литературы и пишущие руководствовались тем, без чего советский строй не может быть, т. е. политикой, чтобы нам воспитывать молодежь не наплевистски, безыдейно и не воспитывать людей вроде Зощенко, потому что они проповедуют безыдейность и говорят: «Ну вас к богу с вашей критикой. Мы хотим отдохнуть, пожить, посмеяться», поэтому они пишут такие бессодержательные, пустенькие вещи, даже не очерки и не рассказы, а какой-то рвотный порошок. Можно ли терпеть таких людей в литературе? Нет, мы не можем держать таких людей, которые должны воспитывать нашу молодежь. И вот вы, товарищи редакторы, члены редакционных коллегий, писатели, считайтесь с этим. Советский строй не может терпеть воспитания нашей молодежи в духе наплевистском, в духе безыдейности, поэтому наши товарищи литераторы должны перестроиться. Зощенко пишет. Другие наши люди – заняты и не всегда им дают место, а для Зощенко место дают. Вот это и называется аполитичным отношением к общенародному делу.
Второе. Приятельские отношения, не политический подход к писателю, а приятельские отношения. Это проистекает от аполитичности литераторов, из-за приятельских отношений с людьми, они попросту не критикуют. Это тоже не годится. Здесь либерализм идет за счет интересов государства и за счет интересов правильного воспитания нашей молодежи. Что выше: приятельские отношения или интересы государства? Я считаю, что последнее выше…
Если редактора возьмут себе за правило никого не обижать, а будут считаться с тем, что у Ахматовой авторитет былой, а теперь чепуху она пишет, и не могут в лицо ей сказать: «Послушайте, у нас теперь 1946 год, а 30 лет тому назад, может быть, вы писали хорошо для прошлого, а мы – журнал настоящего». Надо иметь мужество сказать.
Разве у нас журналы – частные предприятия, отдельные группы? Конечно, нет. В других странах, там журнал является предприятием вроде фабрики, дающей прибыль. Если он прибыли не дает, его закрывают. Это частные предприятия отдельных групп капиталистов, лордов в Англии. У нас, слава богу, этого порядка нет. Наши журналы есть журналы народа, нашего государства, и никто не имеет права приспосабливаться к вкусам людей, которые не хотят признавать наши задачи и наше развитие. Ахматова и другие – какое нам до этого дело. У нас интересы одни – воспитывать молодежь, отвечать на ее запросы, воспитывать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть любые препятствия. Разве Анна Ахматова таких людей может воспитывать, или тот балаганный рассказчик Зощенко? Какого черта с ними церемонятся!…
Теперь, что касается журналов конкретно. Много хорошего дал журнал «Звезда». Я бы хотел, чтобы Саянов остался в качестве главного редактора, если он берется, если у него хватит мужества действительно руководить боевым таким журналом. Бывает так, что журнал – это почтовый ящик, все, что приносят в почтовый ящик – принимают. Чем отличается журнал от почтового ящика? Тем, что плохое откладывает, а хорошее пускает. Если тов. Саянов способен вести дело так, чтобы «Звезда» не превратилась в почтовый ящик и в складочное место, а чтобы «Звезда» был журналом, руководящим писателями, которые пишут, и давал бы ведущую линию направления, я бы выступил за Саянова. Говорят, что у него характер слабый, воли мало. Верно или нет, я его не знаю, а Зощенко пускать нельзя, ибо не нам же перестраиваться во вкусах. Пусть он перестраивается. Не хочет перестраиваться, пусть убирается ко всем чертям.
Другой журнал – «Ленинград». Я вижу, что вообще материала не хватает этим двум журналам, может быть, поэтому иногда и помещают всякую чепуху, что надо выпустить журнал… Я думаю, что лучше иметь один журнал, да хороший, чем два журнала, да хромающих. В «Звезде» последнее время не хватает людей.
Что касается тех, которые с фронтов приезжают и хотят свою лапу наложить на журнал, есть среди них и военные, в чинах, много рангов имеют и проявляют свою настойчивость, вы таких людей не должны пропускать. Мало ли что военный, чинов много имеет, ранги имеет, а если в литературе слаб? Ни в коем случае также пускать их нельзя. Пусть это вас, товарищи редактора, не смущает, если к вам будут приставать наши военные бывшие и настоящие, ставшие литераторами, пусть вас не смущает это, критикуйте их, как и других писателей. Пусть вам будет известно, что ЦК вас будет только хвалить, что вы обрели в себе силу критиковать даже таких людей, которые имеют много чинов, много рангов и мало понимают в литературе. Вот об этом Вишневский говорил, что к нему приходил один военный. А если он олух? Так и сказать ему: «Учись, уважать будем, а не научишься, не требуй того, что не следует». А из-за того, что чинов много, ранги имеет – за это награды получил, а литература не должна страдать, интересы воспитания не должны страдать. Эти люди на войне дрались очень хорошо, но вы не думайте, что там не было хныкающих людей и писателей, вроде Зощенко. Всякие были. Ведь в армии было 12,5 миллионов человек. Разве можно предположить, что все они были ангелами, настоящими людьми. Разве это возможно? Всякое бывало. Этих людей надо встречать, как и всех – хорошо пишешь, почет и уважение, плохо пишешь – учись.
Небольшое пояснение. Журнал «Звезда» был все же сохранен.
В. саянов – Сталину
15 августа 1946 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович,
Невозможно найти слова, которые достаточно полно выразили бы чувство благодарности Вам, живущие в моем сердце. Добрые Ваши слова – самое большое счастье моей жизни. Я не могу, да и до конца дней моих не смогу, вспоминать о них без радостных слез.
Вы спрашивали у меня, есть ли у меня мужество и воля, чтобы вести дальше редакционную работу. Я так был взволнован на собрании, что ничего не смог ответить на Ваш вопрос. Позвольте же теперь сказать, что силы для выполнения порученного дела я найду и, если это потребуется, всем своим опытом, знаниями и практической черновой работой буду помогать новому редактору «Звезды».
Преданный Вам
В. САЯНОВ
М. М. Зощенко – Сталину
27 августа 1946 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в ряды Красной Армии и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.
Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений – с кем мне надо идти – с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого никто от меня не отнимет.
Мою литературную работу я начал в 1921 г. И стал писать с горячим желанием принести пользу народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью.
Нет сомнения, я делал ошибки, впадая иной раз в карикатуру, каковая в двадцатых годах требовалась для сатирических листков. И если речь идет о моих молодых рассказах, то следует сделать поправку на время. За четверть столетия изменилось даже отношение к слову. Я работал в советском журнале «Бузотер», каковое название в то время не казалось ни пошлым, ни вульгарным.
Меня никогда не удовлетворяла моя работа в области сатиры. Я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это сделать было нелегко, так же трудно, как комическому актеру играть героические роли.
Однако шаг за шагом я стал избегать сатиры и, начиная с 30-го года, у меня было все меньше и меньше сатирических рассказов.
Я это сделал еще и потому, что увидел, насколько сатира опасное оружие. Белогвардейские издания нередко печатали мои рассказы, иной раз искажая их, а подчас и приписывая мне то, что я не писал. И к тому же не датировали рассказы, тогда как наш быт весьма менялся на протяжении 25 лет.
Все это заставило меня быть осмотрительней и, начиная с 35 года, я сатирических рассказов не писал, за исключением газетных фельетонов, сделанных на конкретном материале.
В годы Отечественной войны с первых же дней я активно работал в журналах и газетах. И мои антифашистские фельетоны нередко читались по радио. И мое сатирическое антифашистское обозрение «Под липами Берлина» играли на сцене Ленинградского театра «Комедия» в сентябре 1941 года.
В дальнейшем же я был эвакуирован в Среднюю Азию, где не было журналов и издательств, и я поневоле стал писать киносценарии для студии, находящейся там.
Что касается моей книги «Перед восходом солнца» (начатой в эвакуации), то мне казалось, что книга эта нужна и полезна в дни войны, ибо она вскрывала истоки фашистской «философии» и обнаруживала одно из слагаемых в той сложной сумме, которая иной раз толкала людей к отказу от цивилизации, к отказу от высокого сознания и разума.
Я не один так думал. Десятки людей обсуждали начатую мною книгу. В июне 43 года я был вызван в ЦК, и мне было указано продолжать эту мою работу, получившую высокие отзывы ученых и авторитетных людей.
Эти люди в дальнейшем отказались от своего мнения, и поэтому я не сосчитал возможным усиливать их трусость или сомнения своими жалобами. А если я сейчас и сообщаю об этом, то отнюдь не в плане жалобы, а с единственным желанием показать, какова была обстановка, приведшая меня к ошибке, вызванной, вероятно, каким-то моим отрывом от реальной жизни.
После резкой критики, которая была в «Большевике», я решил писать для детей и для театров, к чему всегда у меня была склонность.
Этот маленький шуточный рассказ «Приключения обезьяны» был написан в начале 45 года для детского журнала «Мурзилка». И там же он и был напечатан.
А в журнал «Звезда» я этого рассказа не давал. И там он был перепечатан без моего ведома.
Конечно, в толстом журнале я бы никогда не поместил этот рассказ. Оторванный от детских и юмористических рассказов, этот рассказ в толстом журнале несомненно вызывает нелепое впечатление, как и любая шутка или карикатура для ребят, помещенная среди серьезного текста.
Однако в этом моем рассказе нет никакого эзоповского языка и нет никакого подтекста. Это лишь потешная картинка для ребят без малейшего моего злого умысла. И я даю в этом честное слово.
А если бы я хотел сатирически изобразить то, в чем меня обвиняют, так я бы мог это сделать более остроумно. И уж во всяком случае не воспользовался таким порочным методом завуалированной сатиры, методом, который вполне был исчерпан еще в 19 столетии.
В одинаковой мере и в других моих рассказах, в коих усматривался этот метод – я не применял сатирической направленности. А если иной раз люди стремились увидеть в моем тексте какие-либо якобы затушеванные зарисовки, то это могло быть только лишь случайным совпадением, в котором никакого моего злого умысла или намерения не было.
Я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Мне весьма тяжело быть в Ваших глазах литературным пройдохой, низким человеком или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.
Мих. ЗОЩЕНКО
Необходимое пояснение. 7 августа 1946 года Управление пропаганды ЦК (Александров и Еголин) направило Жданову докладную записку «О неудовлетворительном состоянии журналов «Звезда» и «Ленинград», где о Зощенко было сказано, что он стремился «издевательски подчеркнуть трудности жизни нашего народа в дни войны».
9 августа состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу о журналах «Звезда» и «Ленинград» с участием писателей: В. Саянова, Вс. Вишневского, А. Прокофьева и Н. Тихонова. Здесь Сталин выразился о Зощенко так: «Вся война прошла, все народы обливались кровью, а он ни одной строчки не дал. Пишет он чепуху какую-то, прямо издевательство». И еще: «Он проповедник безыдейности»; «Злопыхательские штуки».
14 августа принято постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»: «Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезды» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца»…» 21 августа этот текст опубликовала «Правда».
15 и 16 августа Жданов перед партактивом и писателями Ленинграда озвучил с трибуны чудовищные мерзости в адрес Зощенко и Ахматовой – все, какие смог занять или придумать.
Вряд ли Сталин прочитал письмо Зощенко, зато он внимательнейшим образом читал ленинградский доклад Жданова. Об этом свидетельствует записка от 19 сентября:
«Т. Жданов! Читал Ваш доклад. Я думаю, что доклад получился превосходный. Нужно поскорее сдать его в печать, а потом выпустить в виде брошюры. Мои поправки в тексте. Привет!
И. СТАЛИН»
Μ. М. Зощенко – А. А. Жданову
10 октября 1946 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. ЖДАНОВУ А. А.
от Зощенко
Дорогой Андрей Александрович!
Более 25 лет я писал юмористические рассказы, считая, что этим я приношу пользу и радость советскому читателю. У нас не было критики, которая бы правильно ориентировала писателя, и поэтому мое мнение о пользе моей работы я подтверждал следующими доказательствами:
1. А. М. Горький писал мне (13 октября 30 г.): «Юмор Ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня, да и для множества грамотных людей бесспорно, так же как бесспорна и его социальная педагогика».
2. У меня сохранилось несколько тысяч читательских писем. Слова благодарности почти в каждом письме утверждали мое представление, что работа моя не только социально полезна, но и приносит радость.
3. В 1939 году за литературные заслуги я был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Союз писателей, представляя меня к награде, разделял, стало быть, мнение Горького и читателей.
4. Множество сатирических журналов (до 12, в которых я работал) и массовые тиражи моих книг говорили мне о том, что сатирический жанр нужен и поощряется.
Все это утверждало мое представление о полезности моей работы. Да я и сам полагал, что, работая в своем жанре, я помогаю вскрыть недостатки, помогаю бороться с пережитками прошлого.
Мне очень трудно сейчас определить, в чем же именно заключаются мои ошибки. Но я допускаю, что сатирический жанр уводил меня иной раз к шаржу. Хотя мне всегда казалось, что такой прием законен и он в традициях литературы (Щедрин, Гоголь, Свифт). Тем более, что я писал об отрицательных явлениях. И некоторый шарж был необходим для того, чтобы вызвать у читателя смех, улыбку, для того, чтобы ярче подчеркнуть написанное.
И, пользуясь таким приемом, я никаких злых намерений не имел. Да и злоба никогда не питала мою литературу.
Напротив, мне всегда казалось, что полезней и радостней изображать положительные стороны жизни и светлые черты характеров. И к такой положительной теме я постоянно стремился. Хотя осуществить такой переход было крайне нелегко, так же нелегко, как комическому актеру перейти на героические роли. Тем не менее с 30-х годов я стал пробовать свои силы в других жанрах. И мне удалось написать ряд повестей и рассказов на положительную тему.
Я очень подавлен тем, что случилось со мной. Я с трудом возвращаюсь к жизни. Но у меня еще есть некоторые силы, чтобы работать.
Совестно признаться, но до постановления ЦК я не совсем понимал, что требуется от литературы. И сейчас я бы хотел заново подойти к литературе, заново пересмотреть ее.
Я прошу Вас и Центральный Комитет позволить мне представить на рассмотрение новые мои работы, начатые недавно. В течение года я бы мог закончить две большие работы. При этом я, конечно, не прошу каких-либо льгот или снисхождения в моем трудном и сложном положении. Мне единственно нужно Ваше хотя бы молчаливое согласие на это, для того, чтобы у меня была некоторая уверенность, что новые мои работы будут рассмотрены.
Я понимаю всю силу катастрофы. И не представляю себе возможности реабилитировать свое имя. И не для того я буду работать. Я не могу и не хочу быть в лагере реакции.
Прошу Вас дать мне возможность работать для советского народа. Я считаю себе советским писателем, как бы меня ни бранили.
М. ЗОЩЕНКО
Беседа Сталина, Жданова и Молотова с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым
26 февраля 1947 г.
Мы были вызваны в Кремль к 11 – ти часам[17].
В 10 часов 50 минут пришли в приемную. Ровно в 11 часов вышел Поскребышев проводить нас в кабинет.
В глубине кабинета – Сталин, Молотов, Жданов.
Входим, здороваемся, садимся за стол.
СТАЛИН. Вы писали письмо. Немножко задержался ответ. Встречаемся с запозданием. Думал ответить письменно, но решил, что лучше поговорить. Так как я очень занят, нет времени, – решил, с большим опозданием, встретиться здесь… Получил я Ваше письмо в ноябре месяце.
ЖДАНОВ. Вы еще в Сочи его получили.
СТАЛИН. Да, да. В Сочи. Что вы думаете делать с картиной?
Мы говорим о том, что мы разрезали вторую серию на две части, отчего Ливонский поход не попал в эту картину, и получилась диспропорция между отдельными ее частями, и исправлять картину нужно в том смысле, что сократить часть заснятого материала и доснять, в основном, Ливонский поход.
СТАЛИН. Вы историю изучали?
ЭЙЗЕНШТЕЙН. Более или менее…
СТАЛИН. Более или менее?.. Я тоже немножко знаком с историей. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина – это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамена и уходить с войны, – образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны, как ку-клукс-клан.
Эйзенштейн сказал, что они одеты в белые колпаки, а у нас – в черные.
МОЛОТОВ. Это принципиальной разницы не составляет.
СТАЛИН. Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решения… Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана Грозного в таком направлении были допущены отклонения и неправильности. Петр I – тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России. Еще больше допустила его Екатерина. И дальше. Разве двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы.
Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввел государственную монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто ее ввел, Ленин второй.
ЖДАНОВ. Эйзенштейновский Иван Грозный получился неврастеником.
МОЛОТОВ. Вообще сделан упор на психологизм, на чрезмерное подчеркивание внутренних психологических противоречий и личных переживаний.
СТАЛИН. Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии не верно, что Иван Грозный так долго целуется с женой. В те времена это не допускалось.
ЖДАНОВ. Картина сделана в византийском уклоне, и там тоже это не практиковалось.
МОЛОТОВ. Вторая серия очень зажата сводами, подвалами, нет свежего воздуха, нет шири Москвы, нет показа народа. Можно показывать разговоры, можно показывать репрессии, но не только это.
СТАЛИН. Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.
Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее.
… Дальше Сталин делает ряд замечаний по поводу трактовки образа Ивана Грозного и говорит о том, что Малюта Скуратов был крупным военачальником и героически погиб в войну с Ливонией.
… ЧЕРКАСОВ. Я уверен в том, что переделка удастся.
СТАЛИН. Дай вам бог, каждый день – новый год. (Смеется.)
… Жданов говорит, что Эйзенштейн увлекается тенями (что отвлекает зрителя от действия) и бородой Грозного, что Грозный слишком часто поднимает голову, чтобы было видно его бороду.
Эйзенштейн обещает в будущем бороду Грозного укоротить.
СТАЛИН (вспоминая отдельных исполнителей первой серии «Ивана Грозного»). Курбский – великолепен. Очень хорош Старицкий (артист Кадочников). Он очень хорошо ловит мух. Тоже: будущий царь, а ловит руками мух!
Такие детали нужно давать. Они вскрывают сущность человека.
… Сталин указывает Черкасову, что он умеет перевоплощаться и что, пожалуй, у нас еще умел перевоплощаться артист Хмелев.
Черкасов сказал, что он многому научился, работая статистом в Мариинском театре в Ленинграде в то время, когда там играл и выступал Шаляпин – великий мастер перевоплощения.
СТАЛИН. Это был великий актер.
Жданов задал вопрос: как снимается «Весна»?
ЧЕРКАСОВ. Скоро заканчиваем. К весне – «Весну» выпустим.
Жданов говорит, что ему материал «Весны» очень понравился. Очень хорошо играет артистка Орлова.
ЧЕРКАСОВ. Очень хорошо играет артист Плятт.
ЖДАНОВ. А как играет Раневская! (И замахал руками.)
… Сталин интересуется, как играет артистка Орлова. Он одобрительно отзывается о ней как об актрисе.
Черкасов говорит, что это – актриса большой работоспособности и таланта.
ЖДАНОВ. Орлова играет хорошо.
И все вспоминают «Волгу-Волгу» и роль почтальона Стрелки в исполнении Орловой.
ЧЕРКАСОВ. Вы смотрели «Во имя жизни»?
СТАЛИН. Нет, не смотрел, но мы имеем хороший отзыв от Климента Ефремовича. Ворошилову картина понравилась.
Ну, что же, тогда, значит, вопрос решен. Как вы считаете, товарищи (обращается к Молотову и Жданову), – дать возможность доделать фильм товарищам Черкасову и Эйзенштейну? – и добавляет: передайте об этом товарищу Большакову.
Черкасов спрашивает о некоторых частностях картины и о внешнем облике Ивана Грозного.
СТАЛИН. Облик правильный, его менять не нужно. Хороший внешний облик Ивана Грозного.
ЧЕРКАСОВ. Сцену убийства Старицкого можно оставить в сценарии?
СТАЛИН. Можно оставить. Убийства бывали.
ЧЕРКАСОВ. У нас есть в сценарии сцена, где Малюта Скуратов душит митрополита Филиппа.
ЖДАНОВ. Это было в Тверском Отроч-монастыре?
ЧЕРКАСОВ. Да. Нужно ли оставить эту сцену?
Сталин сказал, что эту сцену оставить нужно, что это будет исторически правильно.
Молотов говорит, что репрессии вообще показывать можно и нужно, но надо показать, почему они делались, во имя чего. Для этого нужно шире показать государственную деятельность, не замыкаться только сценами в подвалах и закрытых помещениях, а показать широкую государственную деятельность.
Черкасов высказывает свои соображения по поводу будущего переделанного сценария, будущей второй серии.
СТАЛИН. На чем будет кончаться картина? Как лучше сделать еще две картины, то есть 2-ю и 3-ю серии? Как мы это думаем вообще сделать?
Эйзенштейн говорит, что лучше соединить снятый материал второй серии с тем, что осталось в сценарии, – в одну большую картину.
Все с этим соглашаются.
СТАЛИН. Чем будет у нас кончаться фильм?
Черкасов говорит, что фильм будет кончаться разгромом Ливонии, трагической смертью Малюты Скуратова, походом к морю, где Иван Грозный стоит у моря в окружении войска и говорит: «На морях стоим и стоять будем!»
СТАЛИН. Так оно и получилось, и даже немножко больше.
Черкасов спрашивает, нужно ли наметку будущего сценария фильма показывать для утверждения Политбюро?
СТАЛИН. Сценарий представлять не нужно, разберитесь сами. Вообще по сценарию судить трудно, легче говорить о готовом произведении. (КМолотову.) Вы, вероятно, очень хотите прочесть сценарий?
МОЛОТОВ. Нет, я работаю несколько по другой специальности. Пускай читает Большаков.
Эйзенштейн говорит о том, что было бы хорошо, если бы с постановкой этой картины не торопили.
Это замечание находит оживленный отклик у всех.
СТАЛИН. Ни в коем случае не торопитесь, и вообще поспешные картины будем закрывать и не выпускать. Репин работал над «Запорожцами» 11 лет.
МОЛОТОВ. 13 лет.
СТАЛИН (настойчиво). 11 лет.
Все приходят к заключению, что только длительной работой можно действительно выполнить хорошие картины.
По поводу фильма «Иван Грозный» Сталин говорил, что если нужно полтора-два года, даже три года для постановки фильма, то делайте в такой срок, но чтобы картина была сделана хорошо, чтобы она была сделана «скульптурно». Вообще мы сейчас должны поднимать качество. Пусть будет меньше картин, но более высокого качества. Зритель наш вырос, и мы должны показывать ему хорошую продукцию.
Говорили, что Целиковская хороша в других ролях. Она хорошо играет, но она балерина.
Мы отвечаем, что в Алма-Ату нельзя было вызвать другую артистку.
Сталин говорит, что режиссер должен быть непреклонный и требовать то, что ему нужно, а наши режиссеры слишком легко уступают в своих требованиях. Иногда бывает, что нужен большой актер, но играет не подходящий на ту или иную роль, потому что он требует и ему дают эту роль играть, а режиссер соглашается.
ЭЙЗЕНШТЕЙН. Артистку Гошеву не могли отпустить из Художественного театра в Алма-Ату для съемок. Анастасию мы искали два года.
СТАЛИН. Артист Жаров неправильно, несерьезно отнесся к своей роли в фильме «Иван Грозный». Это несерьезный военачальник.
ЖДАНОВ. Это не Малюта Скуратов, а какой-то «шапокляк»!
СТАЛИН. Иван Грозный был более национальным царем, более предусмотрительным, он не впускал иностранное влияние в Россию, а вот Петр – открыл ворота в Европу и напустил слишком много иностранцев.
Черкасов говорит о том, что, к сожалению и к своему стыду, он не видел второй серии картины «Иван Грозный». Когда картина была смонтирована и показана, он в то время находился в Ленинграде.
Эйзенштейн добавляет, что он тоже в окончательном виде картину не видел, так как сразу после ее окончания заболел.
Это вызывает большое удивление и оживление.
Разговор кончается тем, что Сталин желает успеха и говорит: «Помогай бог!»
Пожимаем друг другу руки и уходим. В 0.10 минут беседа заканчивается.
А. А. Фадеев – Сталину и Маленкову
17 ноября 1948 г.
Секретно
В СЕКРЕТАРИАТ ЦК ВКП(б)
товарищу И. В. СТАЛИНУ
товарищу Г. М. МАЛЕНКОВУ
Направляю Вам постановление Секретариата Союза Советских Писателей по поводу переиздания книги И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» по серии «Избранных произведений советской литературы».
Генеральный Секретарь Союза Советских Писателей СССР
А. ФАДЕЕВ
Постановление Секретариата Союза Советских Писателей СССР
От 15 ноября 1948 г.
Секретариат Союза Советских Писателей считает грубой политической ошибкой издательства «Советский писатель» выпуск в свет книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Ошибка эта имеет тем большее значение, что книга вышла массовым тиражом (75 тыс. экз.) по серии «Избранных произведений советской литературы».
Секретариат считает недопустимым, что редактор отдела советской литературы издательства тов. Тарасенков даже не прочел этой книги, целиком доверившись редактору книги т. Ковальчик.
Секретариат ССП проявил недопустимую беспечность и безответственность в вопросе об издании книги Ильфа и Петрова: после того как Секретариат в решении от 2 декабря 1946 года (прот. № 26) обратил внимание издательства на необходимость тщательного пересмотра переиздаваемых по избранной серии книг, в том числе и книги Ильфа и Петрова, в свете новых требований, – никто из членов Секретариата не прочел книги
Ильфа и Петрова. Секретариат целиком доверился редактору книги тов. Ковальчик и в своем постановлении от 21 ноября 1947 г. (прот. № 47) разрешил ее к выпуску в свет.
Ни в процессе прохождения книги, ни после ее выхода в свет никто из членов Секретариата ССП и из ответственных редакторов издательства «Советский писатель» не прочел этой книги до тех пор, пока работники Агитпропотдела ЦК ВКП(б) не указали на ошибочность издания этой книги.
Таким образом, вредная книга могла выйти в свет по серии «Избранных произведений советской литературы», просмотренная только одним человеком, ее редактором по его единоличному мнению и заключению.
Секретариат считает недопустимым издание этой книги, потому что она является клеветой на советское общество. Романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» были написаны в период НЭПа. Если в то время еще и могла иметь некоторое положительное значение содержащаяся в книге критика нэпманских элементов, то и тогда книга в целом давала извращенную картину советского общества в период НЭПа.
Нельзя забывать, что Евгений Петров и, в особенности, Илья Ильф, как многие другие представители советской писательской интеллигенции, не сразу пришли к пониманию пути развития советского общества и задач советского писателя. Романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» свидетельствуют о том, что авторы преувеличили место и значение нэпманских элементов и что авторам в тот период их литературной деятельности присущи были буржуазно-интеллигентский скептицизм и нигилизм по отношению ко многим сторонам и явлениям советской жизни, дорогим и священным для советского человека.
По романам Ильфа и Петрова получается, что советский аппарат сверху донизу заражен бывшими людьми, нэпманами, проходимцами и жуликами, а честные работники выглядят простачками, идущими в поводу за проходимцами. Рядовые советские люди, честные труженики подвергаются в романах осмеянию с позиций буржуазно-интеллигентского высокомерия и «наплевизма».
Авторы позволяют себе вкладывать в уста всяких проходимцев и обывателей пошлые замечания в духе издевки и зубоскальства по отношению к историческому материализму, к учителям марксизма, известным советским деятелям, советским учреждениям.
Все это вместе взятое не позволяет назвать эту книгу Ильфа и Петрова иначе как книгой пасквилянтской и клеветнической. Переиздание этой книги в настоящее время может вызвать только возмущение со стороны советских читателей.
Сознавая свою ответственность перед читателем, а также в целях предотвращения возможности издания подобных книг в будущем, Союз Советских Писателей СССР постановляет:
1. Ввести, как правило, следующий порядок прочтения книг по серии «Избранных произведений советской литературы»: каждая книга должна быть прочитываема, кроме редактора книги, редактором соответствующего отдела и главным редактором издательства, и их заключение по книге должно рассматриваться Секретариатом ССП. И только после прочтения книги всеми членами Секретариата и положительного заключения книга может быть издана.
2. Установить в отношении любой книги, выходящей в издательстве «Советский писатель», что после прочтения ее редактором соответствующего отдела и главным редактором издательства она должна быть просмотрена, по крайней мере, двумя членами Секретариата и может выйти в свет только после их положительного заключения.
3. Объявить выговор редактору книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» тов. Е.И. Ковальчик.
4. Объявить выговор редактору отдела советской литературы издательства А. К. Тарасенкову, допустившему выход в свет книги Ильфа и Петрова без ее предварительного прочтения.
5. Поручить В.В. Ермилову написать в «Литературной газете» статью, вскрывающую клеветнический характер книги Ильфа и Петрова.
Необходимое пояснение. Ситуацию с выпуском книги Ильфа и Петрова рассмотрел Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), о чем было доложено секретарю ЦК Г. М. Маленкову. В записке отдела, в частности, говорилось:
«… В романе «Двенадцать стульев» приведены пошлые, антисоветского характера остроты О. Бендера. Беседуя с дворником дома социального обеспечения о старухах, находящихся на пансионе в этом доме, он называет их «невестами», которые «еще до исторического материализма родились…» (стр. 35).
Пошлыми остротами и анекдотами пестрит вся книга Ильфа и Петрова. Зубоскаля по поводу статистики, авторы «рядового гражданина СССР» называют «розовощеким индивидуумом, обжорой, пьяницей и сластуном» (стр. 128).
Общественная жизнь страны в романах описывается в нарочито комическом тоне, окарикатуривается. Так, например, в романе «Двенадцать стульев» проведение праздника 1 мая в одном из советских городов, организация массовых субботников и пуск трамвая представлены авторами как нелепая затея головотяпов (стр. 110–113).
В облике советской Москвы авторы не заметили ничего нового в сравнении с прошлым, в ней улицы заполняют лотошники, беспризорные, развратная молодежь. Авторы романов пишут: «…На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок… А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «джимми» (стр. 243)…
В декабре 1947 года издательство «Советский писатель» обращалось в Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить включить в юбилейную серию «Библиотека избранных произведений советской литературы» книгу сатирических романов И. Ильфа и Е. Петрова. Издательству было тогда рекомендовано не переиздавать романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
Издательство не посчиталось с этим указанием и выпустило романы. Книга вышла без предисловия, без каких бы то ни было критических замечаний по поводу содержания романов. Более того, в биографической справке, напечатанной в конце книги, романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» без всяких оговорок объявляются любимыми произведениями советских читателей…
Серьезную ошибку допустил цензор Главлита, подписавший книгу к выходу в свет.
Секретариат Союза писателей СССР 15 ноября обсудил вопрос об издании романов Ильфа и Петрова и признал выпуск книги грубой ошибкой издательства «Советский писатель»…
Одновременно следует указать Секретариату Союза писателей (т. Фадееву) на грубую ошибку, допущенную Секретариатом, принявшим постановление о включении романов Ильфа и Петрова в юбилейную серию.
Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается.
Д. Ш ШИЛОВ
Ф. ГОЛОВЕНЧЕНКО
Н. МАСЛИН
Нельзя, однако, утверждать, что инициатива в разгроме книги Ильфа и Петрова принадлежала Фадееву. Скорее всего, он подневольно выполнял указание Агитпропа.
В качестве же дополнительного пояснения к содержанию представленных документов приведем выдержки из размышлений Бенедикта Сарнова относительно сущности и судьбы двух романов Ильфа и Петрова. Эти размышления убедительно показывают, что высшие партийно-политические органы страны вовсе не ошибались в истинном значении и художественном смысле этих переизданных романов.
«… Ильф и Петров стали сатириками не «корысти ради», а «токмо волею» Богом данного им художественного дара. Сама природа этого дара побуждала – и даже вынуждала – их, точно по поговорке, ради красного словца не щадить и родного отца.
Вот так и вышло, что едва ли не главным предметом осмеяния, недвусмысленного сатирического глумления стала у них и сама советская власть.
Подобно приятелю бухгалтера Берлаги, бывшему присяжному поверенному И. Н. Старохамскому, утверждавшему, что единственное, где он может чувствовать себя свободным, это сумасшедший дом («Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!»), любой читатель 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов мог бы сказать, что дилогия Ильфа и Петрова – едва ли не единственная книга во всей советской литературе, наедине с которой он ощущает себя по-настоящему свободным.
Как я уже говорил, авторы «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» ухитрились создать художественное пространство, в котором каждый персонаж мог свободно думать и говорить все, что ему заблагорассудиться. Точь-в-точь, как И. И. Старохамский в сумасшедшем доме («Вся власть Учредительному собранию!.. И ты, Брут, продался большевикам!… и т. п.).
В какой еще книге тех лет вы могли встретить героя, который отважился бы вслух выговорить такое:
– Вот наделали делов эти бандиты Маркс и Энгельс…
Или:
– Основной причиной ваших снов является само существование советской власти. Но в данный момент я устранить ее не могу. У меня просто нет времени… Я устраню ее на обратном пути…
Именно вот этим забытым ощущением полной, совершенной, абсолютной свободы и пленяли эти две книги Ильфа и Петрова читателей, уже привыкших жить в мире ледяной, тотальной несвободы.
… Создав своего Остапа, Ильф и Петров отчасти искупили давний грех старой русской литературы, где фигура предпринимателя являлась перед нами либо в образе жулика Чичикова, либо в худосочном, художественно убогом облике гончаровского Штольца.
В отличие от Штольца Остап – художественно полнокровен, а в отличие от Чичикова он – жулик не по призванию, а по несчастью. Жуликом его сделали обстоятельства, имя которым – социализм.
Может быть, кому-нибудь такое сравнение покажется слишком смелым и даже кощунственным, но я бы не побоялся уподобить Остапа художнику или поэту, которому (как некогда Тарасу Шевченко) запрещено рисовать и сочинять стихи. Разница лишь в том, что Шевченко было запрещено прикасаться к холсту и бумаге высочайшим повелением, относящимся к нему персонально, а Остапу (и таким, как он) не позволило заниматься любимым делом само устройство того общества, в котором ему выпало жить.
Николай Заболоцкий сказал однажды: «Я только поэт и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть».
Романы Ильфа и Петрова (опять-таки независимо от того, хотели этого их авторы или нет, и даже независимо от того, сознавали или не сознавали это они сами) наглядно и неопровержимо показали, что социализм несет смерть не только искусству, но всем видам и формам творчества».
Бенедикт Сарнов.
«Ильф и Петров на исходе столетия»
А. Упит – Сталину
20 декабря 1948 г.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Только что ко мне прибыла своим ходом с автомобильного завода, носящего Ваше имя, прекрасная машина – лимузин. Как мне передали, обладателем этого великолепного и удобного средства передвижения я стал благодаря Вашему личному распоряжению об отпуске для меня автомашины «ЗИС-110».
Разрешите мне от всей души и сердца поблагодарить Вас за эту помощь и выразить пожелание еще долгие Вам годы, в крепком здоровье, направлять наш государственный корабль к светлым берегам обетованной земли – к коммунизму
Глубоко и искренне уважающий Вас
АНДРЕЙ УПИТ
Необходимое пояснение. Упит Андрей Мартынович (1877–1970) – латышский советский писатель, член Компартии с 1917 года, народный писатель Латв. ССР, зам. председателя Президиума Верховного Совета Латв. ССР, председатель Правления Союза писателей Латв. ССР, Герой Соц. Труда.
И. Г. Эренбург – Сталину
2 января 1950 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович,
простите, что решаюсь побеспокоить Вас просьбой, связанной с моей работой.
Я работаю над продолжением «Бури». На судьбах различных героев этой книги – советских людей, французов, американцев, немцев – я хочу показать историю послевоенных лет, борьбу за мир. Поездка в США в 1946 г. позволяет мне дать ряд американских глав. Но мне не хватает материала для существенной части романа, протекающей во Франции (во время Парижского конгресса я провел там всего десять дней). Поэтому я прошу разрешить мне поехать на полтора-два месяца во Францию и на две-три недели в Берлин. Если почему-либо невозможно во Францию, в одну из соседних с ней стран (Бельгию, Италию, Швейцарию), где я мог бы собрать материал.
Я осмелился Вас этим потревожить, потому что без такой поездки мне пришлось бы отказаться от книги, над планом которой я работаю последнее время.
Я не могу закончить это письмо, не высказав Вам того, о чем мы все сейчас думаем: не пожелав Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и счастья.
С глубоким уважением
И. ЭРЕНБУРГ
Резолюция Сталина: «удовлетворить».
Необходимое пояснение. Жизнь и деятельность Эренбурга могла завершиться еще в 1949 году, когда министр госбезопасности СССР Абакумов представил вождю список лиц, намечаемых к аресту по так называемому «делу» Еврейского антифашистского комитета. Фамилия Эренбурга стояла в списке одной из первых. Но против его фамилии Сталин не поставил галочку и пометку Ар (Арестовать), а лишь оставил полувопросительный значок. Можно предположить, что Сталин оставил Эренбурга на свободе как не до конца использованный резерв.
Тем не менее в Париж Эренбург в 1950 г. не попал: Франция не дала ему визу, и он ограничился Берлином и Бельгией.
Мариэтта Шагинян – Сталину
1 февраля 1950 г.
Дорогой Иосиф Виссарионович, посылаю Вам только что вышедшую в юбилейной серии «Гидроцентраль»: это и старая, и новая книга. Для того, чтоб можно было ее переиздать, я написала 75 % текста заново. Правка шла не за счет простой вставки новых кусков в старый текст, а за счет углубления всего романа, писанного 20 лет назад, – новым, накопленным мною опытом; я поставила себе задачей ярче и конкретней раскрыть основную тему романа, – тему критики и самокритики как разрешения противоречий нашей действительности; отсюда выросла необходимость дать исторически точнее, глубже и конкретней историческую обстановку (28 год), углубить и раскрыть образы партийных работников, снять устаревшую шелуху сюжетной выдумки. Переработка велась в этом направлении и взяла у меня 11 месяцев напряженнейшего труда. Книга вышла в начале 1949 года в Гослитиздате и сейчас выходит новым изданием в «Советском писателе». Но, несмотря на необычность такой большой правки в нашей писательской среде и в то же время ее насущную необходимость (ведь за последнее время стало ясно, что надо переработать много новых книг, среди них – «Молодую гвардию» Фадеева, «За власть советов» Катаева, «Дым отечества» Симонова и т. д.), – опыт переработки, произведенный мною, не заинтересовал никого из критиков. Я ходила в «Правду», «Известия», «Литгазету», журналы, показывала черновики правки, говорила о принципиально важном для нас вопросе – правильно решить задачи такой правки, о важности критического разбора возможных ошибок, какие могут оказаться в моей работе, или удач, которые могут иметь профессиональное значение для всех нас, но все это по несколько месяцев лежало в редакциях (черновики и оба варианта для сравнения), а просьбы мои остались безответными. Между тем они имели в виду общую пользу для дела.
Дорогой Иосиф Виссарионович, 20 лет назад Ваше письмо спасло «Гидроцентраль» из-под сукна издателей, где она лежала в бездействии. Это письмо дало мне силы и веру в себя для создания нового текста «Гидроцентрали». Прошу Вас опять – прочтите мой труд (ведь это – лучшее из всего, что я сумела сделать за всю жизнь), не дайте ему остаться нераскрытым, непроанализированным и потому – остающимся бесполезным для развития советской литературы.
Ваша МАРИТЭТТА ШАГИНЯН
Леонид Ленч – Поскребышеву
1 марта 1950 г.
Уважаемый товарищ Поскребышев!
Я написал рассказ «Дорогой гость», в котором попытался выразить горячую и трогательную любовь простых людей к товарищу Сталину
Убедительно прошу Вас лично познакомиться с рассказом и сообщить мне, могу ли я дать этот рассказ в печать и может ли артистка Малого театра, заслуженная артистка РСФСР Л.В. Орлова, рассчитывать на получение разрешения исполнять этот рассказ с эстрады, в частности, на концертах на избирательных участках.
С глубоким уважением:
ЛЕОНИД ЛЕНЧ
Необходимое пояснение. Один из секретарей Сталина (Логинов) направил рассказ в Агитпроп (тов. Кружкову) для оценки. В ответе на имя Поскребышева было сказано, что рассказ «носит сугубо «эстрадный» характер в самом плохом смысле этого слова» и что «образ товарища Сталина не раскрыт совершенно».
Вкратце сюжет рассказа таков:
Сталин катался на машине по Подмосковью и на шоссе встретил мальчика Ванюшу, прокатил его и дал гостинец. Внучек рассказал об этом бабушке, и она побежала на сельскую площадь, а там уже – Сталин. Бабушка смутилась:
«– Ничего, говорю, я такого не делаю, Иосиф Виссарионович! Живу, небо копчу!..
А он положил свою руку Ванюшке на голову и говорит:
– Вы нового советского гражданина воспитываете, а это уже большое дело! Ведь для нас человек – самый драгоценный капитал. Спасибо вам, Прасковья Дмитриевна, за Ваню Бессмертного…
Сказал и уехал…»
М. А. Шолохов – Сталину
3 января 1950 г.
Дорогой товарищ Сталин!
В 12-м томе Ваших Сочинений опубликовано Ваше письмо тов. Феликсу Кону В этом письме указано, что я допустил в романе «Тихий Дон» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.
Товарищ Сталин! Вы знаете, что роман читается многими читателями и изучается в старших классах средних школ и студентами литературных факультетов университетов и педагогических институтов. Естественно, что после опубликования Вашего письма тов. Ф. Кону у читателей, преподавателей литературы и учащихся возникают вопросы, в чем я ошибся и как надо правильно понимать события, описанные в романе, роль Подтелкова, Кривошлыкова и других. Ко мне обращаются за разъяснениями, но я молчу, ожидая Вашего слова.
Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне, в чем существо допущенных мною ошибок.
Ваши указания я учел бы при переработке романа для последующих изданий.
С глубоким уважением к Вам
М. ШОЛОХОВ
Необходимое пояснение. В письме Ф. Я. Кону вождь выразился так: «Знаменитый писатель нашего времени тов. Шолохов допустил в «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др., но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда негодная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?» (Сталин И. В. Собр. соч. Т. 12, М., 1949. С. 112).
На письмо Сталин не ответил, но у Шолохова стали возникать проблемы с переизданием романа.
А. А. Ахматова – Сталину
24 апреля 1950 г,
Ленинград, Фонтанка, 34, кв. 44
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Вправе ли я просить Вас о снисхождении к моему несчастью.
6 ноября 1949 г. в Ленинграде был арестован мой сын, Лев Николаевич Гумилев, кандидат исторических наук. Сейчас он находится в Москве (в Лефортове).
Я уже стара и больна и я не могу пережить разлуку с единственным сыном.
Умоляю Вас о возвращении моего сына. Моей лучшей мечтой было увидеть его работающим во славу советской науки.
Служение Родине для него, как и для меня, священный долг.
АННА АХМАТОВА
Недостаточное пояснение. Письмо поступило в Особый сектор ЦК ВКП(б). Вождь, видимо, не читал.
Ф. И. Панферов – Сталину
9 марта 1951 г.
Товарищ Сталин!
Я недавно вернулся из Нижне-Чирского избирательного округа, в который входили такие станицы, как Нижний Чир, Калач и т. д.
Вы эти бывшие белогвардейские крепости прекрасно знаете по временам гражданской войны.
Признаться, я чуточку трухнул, когда узнал о том, что именно эти станицы выдвинули меня в депутаты Верховного Совета РСФСР: ожидал, что столкнусь с людьми – теми далекими, которые когда-то яростно бились против Советской власти.
На самом же деле все оказалось иным: лампасники куда-то сгинули, руководящее положение заняло новое поколение – люди, преданные Советской власти и партии.
На собраниях и митингах я встретился не меньше как с сорока тысячами избирателей, и все они просили меня передать Вам сердечный поклон.
Вот я Вам его и передаю.
ФЕДОР ПАНФЕРОВ
А. А. Фадеев – Сталину
31 марта 1951 г.
Товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Прошу предоставить мне отпуск сроком на 1 год для написания нового романа.
Со дня выборов меня Генеральным секретарем Союза Писателей в 1946 году я почти лишен возможности работать как писатель.
Впервые в 1948 году мне был дан более или менее длительный отпуск – на 3 месяца, но он был нарушен. Мне был поручен одновременно большой доклад о Белинском к сотой годовщине со дня его смерти, а через некоторое время я был отозван из отпуска для проведения конгресса в защиту мира в г. Вроцлаве, в Польше.
В 1950 году мне был снова предоставлен более или менее продолжительный отпуск – на 4 месяца, который я использовал, как писатель, на все 100 %. За этот относительно короткий срок мною было написано около 10 печатных листов нового текста – «Молодая Гвардия». Срок этот был слишком мал, чтобы до конца, начисто отделать все эти 10 печатных листов (240 страниц машинописного текста). Я смог сдать в издательство только часть фактически написанного мною. Мне буквально не хватило одного месяца, чтобы сдать все. Дальнейшая общественная работа уже не дала мне возможности выкроить этот один месяц вплоть до нынешнего дня.
Таким образом, даже фактически выполненная работа повисла в воздухе на неопределенный срок.
Но дело не только в окончании «Молодой гвардии». Несмотря на то, что по роду своих занятий я искусственно оторван от жизни рабочих и колхозников нашей страны, голова моя преисполнена новых замыслов. Они возникли от реального соприкосновения с нашей жизнью, но чтобы осуществить эти замыслы, я, конечно, должен иметь время, чтобы глубже и разносторонней ознакомиться с этими сторонами жизни. Назову некоторые из этих замыслов.
1. Роман о молодежи крупного советского индустриального предприятия в наши дни. Фактически это роман о нескольких поколениях русского рабочего класса, роман о партии и комсомоле. Фактически это роман о победе индустриализации нашей страны. И я знаю, что смогу лучше, чем многие, показать подлинную поэзию индустриального труда, показать нашего рабочего младшего и старших поколений во весь рост.
2. Роман о современной колхозной молодежи. Тема эта опять-таки много шире и глубже, чем простой показ жизни современной колхозной молодежи.
3. Мой старый роман «Последний из Удэге» давно уже внутренне преобразован мною. Прежняя тема приобрела третьестепенное значение. Название изменено. В роман должны быть введены исторические деятели, в первую очередь Сергей Лазо, которого я близко знал лично. В романе будет широко показана японская и американская интервенция. Наша дружба с корейским и китайским народами.
Я не говорю уже о том, что мне хотелось бы ближе связаться с одной из гигантских строек коммунизма. Я смог бы написать о них не хуже многих – нет, не хуже.
Я не говорю уже о тех многих рассказах и повестях, которые заполняют меня и умирают во мне не осуществленные. Я могу только рассказывать эти темы и сюжеты своим друзьям, превратившись из писателя в акына или в ашуга.
Обязанности мои необыкновенно расширились за эти годы. Объем работы Союза писателей неизмеримо вырос. Прибавилась огромная сфера деятельности, связанная с борьбой за мир. Работа Комитета по Сталинским премиям расширилась во много раз. Надо очень много читать, слушать и смотреть. На мне лежит редактура академического собрания сочинений Л. Толстого и весь архив А.М. Горького. Следует учесть и работу как депутата Верховного Совета СССР, а теперь и РСФСР.
Несмотря на присущие мне иногда срывы, я работаю с подлинным чувством ответственности и добросовестно. Если учесть, что я неважный организатор и слишком много делаю сам лично, не умея расставить данные мне силы, станет ясно, насколько невозможен для меня при этих обязанностях мой собственный литературный труд.
Работники отделов ЦК, отделов Совета Министров, мои товарищи по работе не всегда понимают этого глубокого противоречия и внутренних трудностей при выполнении мною всякой работы в ущерб моему призванию. Они частенько рассматривают меня как обычного руководителя обычного ведомства, привлекают к решению десятистепенных вопросов, которые могли бы быть решены и без меня. У меня есть и просто обязанности перед читателями, от которых я получаю буквально тысячи и тысячи писем.
В итоге я в течение вот уже 6 лет ежедневно совершаю над собой недопустимое, противоестественное насилие, заставляя себя делать не то, что является самой лучшей и самой сильной стороной моей натуры, призванием моей жизни. И это в пору наибольшего расцвета моего дарования. Я не имею права здесь скромничать, потому что мой художественный талант – не мое личное дело. Я вижу работу своих талантливых сверстников, работу замечательной литературной молодежи и с высоты своего возраста и опыта не могу не видеть, что многое мог бы сделать не хуже их, а кое-что и получше.
Такое повседневное насилие над своим дарованием систематически выводит меня из душевного равновесия и истощает нервную систему. Дела, которые при нормальном использовании меня как писателя были бы близки моему сердцу, превращаются в ненавистную обузу. И чем сильнее я натягиваю эту струну, тем хуже работаю уже и просто как общественный деятель.
В силу этих причин я прошу ЦК ВКП(б): предоставить мне отпуск для написания романа сроком на 1 год с полным освобождением на этот срок от работы в Союзе писателей СССР, а также от исполнения обязанностей председателя редакционной комиссии академического собрания сочинений Л.Н. Толстого и председателя комиссии по хранению и изданию архива А.М. Горького.
Если ЦК сочтет это полезным и необходимым, я мог бы в течение этого года выполнять свои обязанности во Всемирном совете мира, в Комитете по Сталинским премиям в области искусства и литературы и, разумеется, обязанности депутата Верховного Совета СССР, РСФСР и Московского совета.
Прошу Вас, Иосиф Виссарионович, поддержать мою просьбу
А. ФАДЕЕВ
Поэт А. Коваленков – Сталину
23 апреля 1951 г.
Дорогой товарищ Сталин!
В статье «Неудачная опера», опубликованной в газете «Правда» от 19 апреля сего года, подвергается справедливой, всесторонне-обоснованной критике либретто оперы «От всего сердца». Являясь одним из авторов этого либретто и сознавая всю свою ответственность за плохие результаты недостаточно серьезной работы над созданием литературного текста оперы, я посылаю Вам, товарищ Сталин, это письмо и книгу стихов «Лирика» по следующей причине:
Не все из приведенных в статье «Правды» стихотворных строк написаны мною. Но, не ищу себе оправдания, я хотел бы, чтобы была соблюдена истина и она стала известна Вам.
Опубликовать в печати или вынести на театральную сцену стихи, эстетическая ценность которых будет гарантирована не только редактором, но в первую очередь самим автором, крайне трудно. В особенности это относится к лирике. Написанное мною ко дню Вашего семидесятилетия стихотворение «Слово о великом человеке», открывающее книгу «Лирика», из-за робости некоторых редакторов было напечатано с запозданием в полгода.
Имевшая место при работе над оперой «От всего сердца» редакторская боязнь отклонения от лозунговых канонов в значительной мере содействовала подмене реальной действительности «видимостью современности», о чем пишет «Правда».
Не проявив достаточной твердости в своих авторских взаимоотношениях с дирекцией Большого театра, я опозорил себя как поэта. Но, испытывая жгучее чувство стыда, я не потерял мужества и в дальнейшей своей работе приложу все усилия, чтобы новые мои стихи, если Вы их прочтете, товарищ Сталин, – Вас порадовали, а не огорчили.
А. КОВАЛЕНКОВ
Ким Ир Сен – Сталину о подарках корейского народа «Дорогому нашему отцу, другу и учителю»
18 октября 1952 г.
Москва, Кремль
Глубокоуважаемый товарищ Иосиф Виссарионович.
В этом году корейский народ, ведущий третий год освободительную войну против американских захватчиков, несмотря на беспрестанные бомбардировки мирных городов и сел Кореи, добился значительных успехов в области сельского хозяйства и вырастил богатый урожай, по своим размерам равный самому высокому урожаю мирного времени.
Корейский народ, стойко переносящий все ужасы бактериологической и химической войны, полон трудового энтузиазма и решимости разгромить врага и изгнать иностранных интервентов с корейской земли.
Корейский народ хорошо знает, что его успехи не были бы возможны без той постоянной помощи, какую он получает от стран демократического лагеря во главе с великим Советским Союзом, и он высоко ценит непрестанную заботу, какую проявляете лично Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, в это трудное для корейского народа время.
Воодушевленный Вашей любовью и вниманием, корейский народ с чувством глубокого уважения и преданности посылает Вам свой скромный подарок из урожая этого года, любовно подготовленный для Вас нашим народом в искренней благодарности и любви к Вам и народам Советского Союза.
Корейский народ от всего сердца желает Вам, дорогой наш отец, друг и учитель, долгих лет жизни во имя мира и счастья народов всего мира.
КИМ ИР СЕН
Председатель кабинета министров КНДР
Г. Пхеньян. 18 октября 1952 года
Необходимое пояснение. 1 ноября 1952 г. зам. министра иностранных дел СССР Яков Малик докладывал Поскребышеву:
Секретно. Экз. № 1.
Товарищу Поскребышеву А. Н.
1-го ноября в Москву прибыли поездом в изотермическом вагоне преподнесенные товарищу И.В. Сталину правительством КНДР следующие подарки: пять тонн риса, пять тонн яблок и груш, две тонны каштанов и пятнадцать коробок корня женьшень.
Корейский посол в Москве Лим Хэ посетил заведующего Протокольным отделом МИД СССР и просил оказать содействие в передаче этих подарков по назначению (запись беседы прилагается).
МИД СССР просит Вас дать указание соответствующим органам о принятии подарков.
Я. Малик
3 декабря Малик пересылает Поскребышеву инструкции по приготовлению женьшеня:
Товарищу Поскребышеву А. Н.
Направляю Вам присланные корейским посольством инструкции, содержащие способы приготовления корня женьшень. Инструкции получены на русском языке.
Одновременно посольство сообщило, что указанные в инструкциях способы приготовления являются не научными, а народными, применяемыми с давних времен.
Я. Малик
3 декабря 1952 года
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВА «ЖЕНЬ-ШЕНЬ»
Эффективной дозой для одного приема «Жень-Шень» является 150 гр. Существуют нижеследующие способы употребления:
1. 150 гр. белого «Жень-Шень» кипятят с 2 литрами воды до тех пор, пока вода не получится в количестве 0,4 литра. После этого все вместе выжать и полученную жидкость принимать или же принимать прокипяченную воду вместе с «Жень-Шень», неплохо было бы кипятить с прибавлением 15 гр. риса с большим содержанием клейковины.
2. 150 гр. белого «Жень-Шень», 2 литра воды, 1 каштан, 10 шт. фиников и 30 гр. сукдихвана (лекарства) вместе кипятить до тех пор, пока вода не будет 0,4 литра. После этого все вместе выжать, чтобы получилась однородная жидкость, и принимают.
3. 150 гр. белого «Жень-Шень» с одной курицей, очищенной и освобожденной от внутренностей, в 4 литра воды до тех пор, пока бульон станет 0,5 литра. Обычно принимают бульон с курицей, а детям рекомендуется только бульон, для этого курятину отжимают.
Для красного «Жень-Шень», 150 гр. кипятят с 2 литрами воды, и довести до 0,4 литра, после этого выжать и принимать полученную жидкость.
Сладкий «Жень-Шень» является одним видом высококачественных сладостей, и поэтому можно кушать в таком виде, каким он есть.
Примечание: применение «Корня жизни» противопоказано при легочных заболеваниях – туберкулезе легких как в закрытой форме, так и открытой.
Часть вторая Scripta manen[18]
Из докладной записки зам. зав. отделом агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б) П. М. Керженцева о пьесе М. А. Булгакова «Бег»
6 января 1929 г.
Политическое значение пьесы
1. Булгаков, описывая центральный этап белогвардейского движения, искажает классовую сущность белогвардейщины и весь смысл гражданской войны. Борьба добровольческой армии с большевиками изображается как рыцарский подвиг доблестных генералов и офицеров, причем совсем обходит социальные корни белогвардейщины и ее классовые лозунги.
2. Пьеса ставит своей задачей реабилитировать и возвеличить художественными приемами и методами театра вождей и участников белого движения и вызвать к ним симпатии и сострадание зрителей. Булгаков не дает материала для понимания наших классовых врагов, а, напротив, затушевал их классовую сущность, стремился вызвать искренние симпатии зрителя к героям пьесы.
3. В связи с этой задачей автор изображает красных дикими зверями и не жалеет самых ярких красок для восхваления Врангеля и др[угих] генералов. Все вожди белого движения даны как большие герои, талантливые стратеги, благородные, смелые люди, способные к самопожертвованию, подвигу и пр.
4. Постановка «Бега» в театре, где уже идут «Дни Турбиных» (и одновременно с однотипным «Багровым островом»), означает укрепление в Художественном] театре той группы, которая борется против революционного репертуара, и сдачу позиций, завоеванных театром постановкой «Бронепоезда» (и, вероятно, «Блокадой»). Для всей театральной политики это было бы шагом назад и поводом к отрыву одного из сильных наших театров от рабочего зрителя…
Необходимо воспретить пьесу «Бег» к постановке и предложить театру прекратить всякую предварительную работу над ней (беседы, читка, изучение ролей и пр.).
Из докладной записки Культпропа в Оргбюро ЦК ВКП(б) о состоянии советских литературных журналов (В сокращении)
1 января 1932 г.
Оргбюро ЦК ВКП(б)
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КУЛЬТПРОПА О СОСТОЯНИИ ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ
«КРАСНАЯ НОВЬ» – орган ФОСП, художественный и научно-публицистический журнал. Редколлегия: А. Фадеев (отв. редактор), Сутырин, Горохов, Л. Леонов и В. Иванов.
Журнал должен являться основным органом, представляющим творческое лицо наиболее близких попутнических кругов литературы. Рассчитан на партийный и советский актив и пролетарскую интеллигенцию. Поставленных задач в должной степени журнал не реализовал.
Отдел прозы (романы, повести) в значительной части заполнен произведениями правооппортунистических и необуржуазных авторов (Платонов – «Бедняцкая хроника», «Впрок», № 3, Пастернак – «Охранная грамота», № 4–5—6, Оренбург – «Фабрика снов», № 5–6—7, И. Евдокимов – «Дорога», № 8,
А. Толстой и П. Сухотких – «Записки Мосолова» – № 5, 6, 7, 8, Сергеев-Ценский – «Поэт и поэт», № 10–11, Буданцев «Повесть о страданиях ума»…)
В этом отделе по существу не уделено места произведениям попутчиков, переходящих на рельсы союзничества, привлечено незначительное количество попутчиков в собственном смысле этого слова. За год напечатано: пьеса Ю. Олеши «Список благодеяний», № 8, роман Дмитриева и Новака «Вход с Арбата», № 2–3, водевиль Катаева «Миллион терзаний» и рассказы Лидина, Габриловича, В. Катаева, Апоева и друг…
В отделе поэзии по-прежнему находят себе приют певцы кулацкой контрреволюции Клычков и Орешин, правые Б. Пастернак и Антокольский…
Тематика журнала не только крайне далека от современных задач социалистического строительства, но порой направлена против них, проблемы, выдвинутые третьим решающим годом пятилетки, не нашли своего художественного отражения в журнале. «Красная новь» не откликнулась ни на одно из важнейших партийных решений. Буржуазные и правооппортунистические элементы пытаются выразить через журнал свое отношение к революции и получают трибуну для высказывания своих политических, философских, эстетических воззрений. Вот примеры из практики работы журнала: Сергеев-Ценский – писатель, настроенный явно враждебно к советской действительности, пишет повесть («Поэт и поэт») из жизни Пушкина и Лермонтова, Буданцев в «Повести о страданиях ума» разрабатывает на материале 70–80 годов прошлого столетия взаимоотношения между биологическим и социальным и решает эту проблему идеалистически, Б. Пастернак в «Охранной грамоте» рассказывает о своей жизни до революции и в дни революции, протаскивая идеалистический хлам, замаскированно подчеркивает то, что говорил Троцкий о причинах смерти Маяковского. Оренбург в «Фабрике снов» старательно описывает механизм капиталистической кинематографии, описывает «королей» киноиндустрии…
Содержание журнала за год богато идеологическими провалами. Если тематика в значительной степени не соответствует современным вопросам и аполитична, то помещаемый материал свидетельствует о наличии откровенно враждебных произведений: «Бедняцкая хроника» Платонова («Впрок») – кулацкая издевка над коллективизацией и политикой партии в деревне.
Редакции не могло быть не известно политическое лицо писателя Платонова, опубликовавшего кулацкий рассказ в журнале «Октябрь» – «Усумнившийся Макар». Мы уже упоминали выше произведения Буданцева, Пастернака, поэтов Клычкова, Орешина, Сельвинского, из которых, например, последний описывает в «Электрозаводской газете» факт поголовного обыска рабочих, производимого по инициативе ОГПУ и под руководством парткома…
Журнал, в таком виде как он есть, не обеспечил на протяжении 1931 г. осуществления поставленных перед ним задач и не только не сумел организовать союзнические и попутнические кадры писателей и воспитывать их, а сам в ряде случаев стал трибуной для реакционных, классово-чуждых нам выступлений. Редакция журнала, несмотря на прямые указания ЦК партии (по поводу «Впрок»), не подвергла критике ни одного враждебного, чуждого произведения, печатавшегося на страницах «Красной нови», и не перестроила своей работы. Недостаточная большевистская бдительность, либеральное отношение к попыткам и случаям протаскивания в литературу вредной, чуждой нам идеологии, неумение подчинить содержание журнала задачам социалистического строительства на данном этапе приводит к выводу о необходимости смены руководства.
«НОВЫЙ МИР». Редактор В. Полонский, члены редколлегии Гронский, В.М. Соловьев.
Журнал в основном держал путь на писателей необуржуазных и попутчиков, скатывающихся с позиций попутничества вправо, – А. Толстой, Сергеев-Ценский, Буданцев, Пильняк, Мандельштам, Пастернак, Приблудный и др.
Если в отношении других журналов, наприм. «Красная новь», мы говорим о значительных политических срывах, о грубых ошибках, то в отношении «Нового мира» нужно сказать, что политические срывы и ошибки носят характер системы.
«Новый мир» является каналом и рупором для чуждой идеологии.
В журнале помещен роман А. Толстого «Черное золото», который был квалифицирован как красная халтура. Однако в нем определенная чуждая нам направленность. Под флагом «авантюрности» автор проводит мысль, что революционное настроение французских рабочих обусловлено тем, что «мимо их носа» уплыли военные прибыли, что в окопах французская буржуазия дралась наравне с рабочими. Русские белогвардейцы выведены истерзанными и измученными, стремящимися лишь к покою людьми и т. д.
Главы из романа «Повороты» Яковлева беззастенчиво извращают историческую действительность. На Путиловском заводе, по автору, весть о русско-японской войне была принята восторженно и недовольство началось только после поражения. Рабочий-большевик – вождь рабочих на Урале, одушевлен единственной идеей – местью царю за убитую девятого января дочь. Автор с полным сочувствием и жалостью описывает последние дни царя Романова.
Романы Воронского и Аросева выводят коммунистов как типично мелкобуржуазных интеллигентов…
В журнале неоднократно помещались реакционные произведения Сергеева-Ценского – писателя явно враждебного…
Общую линию художественной прозы продолжает и поэзия. Стихи Приблудного, Прокофьева, Пастернака, Мандельштама, Сельвинского дополняют картину. Сельвинский пишет, что в Биробиджане евреи обрели «новую Палестину», Мандельштам идеализирует старую Армению с ее экзотикой и нищетой. Прокофьев пишет, что у нас на земле узколобые избы и шахты «и дорога твоя обусловлена ныне никчемной повесткой от жакта».
Критический отдел журнала также неблагополучен. Это яркий образец беспринципности и грубого эклектизма. Редактор Полонский, якобы борясь с воронщиной, на самом деле повторяет ее зады. Выступая против утверждения Воронского, что творческий акт – явление бессознательное, Полонский пишет: «Разница между актом сознания, происходящим на периферии, и актом центральным не в том, что центральные – сознательные, а периферийные – бессознательны, сознательны и те, и другие… Разница в том, что центральный акт в момент своего совершения подотчетен сознанию, а периферический неподотчетен». Выступая против отрицания пролетарской литературы, Полонский с другого конца приходит к теории «единого потока» в литературе, наделяя одинаковыми свойствами и пролетарского писателя, и попутчика, не видя никакой разницы между попутчиками от Пильняка до Маяковского. Взгляды Полонского, являющиеся противопоставлением линии партии в художественной литературе, в конкретной критике осуществляются А. Глаголевым. Аксельрод-Ортодокс протаскивает в своих высказываниях контрабанду меныпевиствующего идеализма и т. д.
Все это подтверждает выводы, сделанные в начале, что журнал является трибуной для антисоветских, реакционных выступлений в художественной литературе и критике.
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Состав редколлегии: А. Безыменский, М. Бирюлин, А. Караваева (отв. редактор), М. Колосов (зам. отв. редактора), Г. Киш, А. Салтанов…
Журнал преимущественно опирается на кадры пролетарских писателей. За последнее время в журнале выдвинулся ряд новых комсомольских писателей: Г. Грин, Боровой, Днепропетровский, Анучин, Шмерлинг, Железнов; критики: Бровман, Жак, Левин и др. Слабо представлены попутчики: Бабель, Люб. Копылова, Луговской, Дементьев.
Состав авторов, печатавшихся в журнале за 1931 г., имеет большую партийную прослойку.
За 1931 г. в журнале дан ряд актуальных по тематике литературно-художественных вещей. Но значительная часть этой продукции имеет большие недостатки, как с идейно-политической, так и художественной стороны.
Наличие прорывов говорит о недостаточной большевистской бдительности руководства журналом и слабой работой с кадрами авторов.
В этом отношении показательно ведущее в журнале произведение – роман Г. Бутковского (член В КП (б)) «Девятьсот тридцатый», полный «левацкой» практики, извращения линии партии по коллективизации, художественного смакования злоупотреблений при раскулачивании. Герой романа коммунист Ветров, не находя никакого выхода, кончает жизнь самоубийством.
В рассказе Я. Шведова «Два окна» на тему о переделке быта мрачными красками описывается рабочее общежитие. По рассказу получается, что за годы революции в быту ничего не изменилось. Рассказ клеветнический. Факт напечатания рассказа в журнале есть проявление со стороны редакции гнилого либерализма.
Рассказ М. Гаева «Двое» (№ 5 и 6) – приспособленческая, политически враждебная, безграмотная, антихудожественная халтура.
Стихотворение В. Глебова «Мой девятьсот одиннадцатый год» пропитано вредной иронией к гражданской войне.
За 1931 г. в журнале был напечатан ряд интересных и ценных художественных произведений (рассказ Борового «Отпуск». Нейкран – «Веддинг на баррикадах и др.), но редакции необходимо:
Перестроить работу журнала применительно к запросам широких комсомольских масс, усилить идейно-политическую бдительность и требовательность к авторам. Наладить воспитательную работу с авторами, обратив особое внимание на воспитание творческого актива, шире и глубже отображать историю партии и комсомола, воспитывать в ней молодые комсомольские кадры. Полнее освещать вопросы интернационального воспитания. Значительно расширить отдел библиографии.
«ЗВЕЗДА» – орган Лен[инградского] ФОСПа. Редактор, редколлегия, ответ. Редактор – Белицкий.
Задачи журнала те же, что и «Красной нови», но журнал не осуществляет этих задач.
Группируя вокруг себя наиболее правых попутчиков и необуржуазных писателей, журнал не только не сумел воздействовать на них в нужном направлении, но сам в значительной мере очутился у них в идеологическом плену. В текущем году ведущее место было занято в журнале правооппортунистическими писателями, которым редакция обеспечила возможность враждебных выступлений.
Свою деятельность в 1931 г. журнал начал с опубликования повести Тынянова «Восковая фигура», в которой писатель идеализирует петровскую эпоху. Даже после смерти Петра его восковая персона стережет ореол самодержавия, которое не плохо, а плох двор, окружающий царя.
В журнале опубликована повесть Воронского «Глаза урагана» – повесть слюнтяйская, размагниченная, упадочническая, где пошлое изображение февральских и октябрьских событий являются фоном для банальной истории с некой демонической женщиной.
Каверин в «Путевых рассказах» клеветнически пишет о зерносовхозе, где работают авантюристы, где нет коллектива. Это – обычная латифундия, где мастера гонят на работу, а рабочие при удобном случае свертывают голову мастеру. Автор утверждает, что совхоз отобрал киргизские земли и киргизам ничего не осталось.
Этого же писателя (Каверина) была помещена повесть «Художник не известен», в котором защищаются идеалистические взгляды на искусство. Проводится идея, что художник стоит вне классовой борьбы, его не волнуют житейские бури, он творит вечное и прекрасное.
Ольга Форш в реакционном произведении «Сумасшедший корабль» открыто защищает реакционную буржуазную интеллигенцию.
Савин в рассказе «Сон наяву» клевещет на наше культурное строительство.
Чистяков в романе «Задворки» допускает грубые ошибки в показе коллективизации. В нем говорится, что крестьяне и колхозники считают коллективизацию чуть ли не стихийным бедствием и демонстрируют свой протест чуть ли не повальным пьянством. Культурная антирелигиозная работа в колхозе изображается как хулиганство.
В отделе поэзии такое же положение, как в прозе. Пастернак, например, пишет, что вакансия поэта бесполезна, а может быть, и вредна. Комиссарова считает, что если бы не было героики прошлого, то поэзия шаталась бы впустую по равнинам скучной действительности… Б. Эрлих помещает упаднические и клеветнические стихи, в которых говорит, что советская действительность не дает возможности высказываться, и он «вбивает в глотку кляп» и молчит…
Тематика журнала явно отстала от современных задач социалистического строительства на данном этапе. «Звезда», по существу, прошла мимо жгучих вопросов партийно-советской жизни.
Все это позволяет сделать вывод, что журнал, его руководство заняло «отражательскую» в отношении настроений попутчиков позицию, не сумев организовать, как это необходимо, попутчиков и направить их творчество в русло социалистического строительства. Не журнал руководил попутническими кадрами и их перестройкой, а наоборот, попутчики правого крыла (преимущественно) с их старой идеологией оказались хозяевами в журнале…
«ЛЕНИНГРАД». Орган Ленинградск. Ассоц. Пролетарск. Писат. (с 7-го номера). Ответ, редактор Е. Добин.
В руководстве журналом царит полнейшая обезличка. Журнал работает без установки на определенные читательские кадры, без плана, без твердого руководства, жил и живет за счет «самотека». Продукция журнала, за редким исключением, слаба, малоактуальна и для широкого советского читателя абсолютно не интересна. Значительная часть напечатанного материала явно реакционна. Отсюда не случайно появление на страницах его таких контрреволюционных, открыто кулацких произведений, как «Гугенот из Териберки» Правдухина, образцов попутнической публицистики (Казакова «Человек и его дело»), левацкой клеветы на партийное руководство колхозным строительством (Михайлов «Колхоз рождается в муках», Адалина и друг.).
Эти произведения искажают нашу действительность.
Библиография и критика в «Ленинграде» носят беспринципный характер. Нередко идеалистические и формалистические лозунги утверждаются на страницах журнала (статья Саянова, посвященная творчеству формалиста Тынянова, где методы Тынянова ставятся в образец пролетарским писателям).
Журнал, являющийся органом Лапа, был фактически представлен руководству Казакова – приспособленца, который использовал журнал для распространения в отдельных случаях реакционных произведений.
Журнал необходимо превратить в массовый популярный, рассчитанный на широкие кадры пролетарской молодежи орган, занимающийся выдвижением и подготовкой новых творческих кадров из среды ударников, призванных в литературу, и пр.
«ОКТЯБРЬ». Литературно-художественный и публицистический журнал. Орган Рапа. Редколлегия: Ермилов, Ильенков, Исбах, Макарьев, Панферов (отв. редактор), Платошкин, Речиков, Ставский, Суриков, Шолохов.
Журнал является центральным творческим и литературнополитическим органом РАППа и в этом смысле должен рассматриваться как ведущий орган пролетарской литературы, работающий на основе указаний и требований, предъявляемой к последней партией и рабочим классом.
Наряду с отдельными значительными по тематике и идейному уровню произведениями («Хлеб» Киршона, повести и очерки Парфенова, Исбаха, Ильенкова, Ставского и друг.) журнал все же не охватил круга основных политических вопросов как творческим, так и внехудожественным материалом. Особенно недопустимым является крайняя бедность отделов критики и публицистики, в частности, почти полное исчезновение в журнале библиографии. Совершенно неудовлетворительна работа писателя в отношении борьбы за центральные проблемы культурной революции, призыва рабочих ударников на борьбу с новобуржуазной, классово-враждебной агентурой в художественной литературе, в деле выдвижения новых творческих кадров.
Одновременно редакция не обеспечила журнал и от политико-идеологических срывов, наиболее значительными из которых являются помещенные в № 5 журнала антипартийного, повторяющего троцкистскую клевету о «перерождении» партии очерка Киша «Подкоп» и статьи Парного о процессе меньшевистского ЦК, извращающей политическое содержание процесса, и не с большевистских позиций рисующего физиономии главных его участников. Ошибочным является также помещение троцкистской по своей основной концепции повести К. Левина «Жили два товарища», А. Митрофанова «Июнь – Июль», Шведова «Повесть о волчьем братстве» – политически неверно трактующей нашу концессионную политику – и пр.
Журнал не развернул широкой критики грубейших ошибок и политических провалов, имевших место в ряде литературных журналов, не освоил и не осуществлял задач, связанных с руководством попутническими кадрами, принимал совершенно недостаточное участие в развертывании творческой дискуссии РАПП…
Зам. зав. Культпропом ЦК А. ГУСЕВ
«Об откликах писателей на помощь, оказанную правительством сыну писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина»
(Из спецзаписи ОГПУ)
Март 1932 г.
В ленинградских писательских кругах с необычайной быстротой распространились и в течение долгого времени обсуждались и комментировались сведения о помощи, оказанной советским правительством сыну писателя Салтыкова-Щедрина. История с этой помощью настолько заинтересовала писательские круги, что на некоторое время отодвинула все иные злободневные для литературной среды вопросы, став в полном смысле слова сенсацией дня…
Писатель А.Н. Толстой говорит:
«Я восхищен Сталиным и все больше проникаюсь к нему чувством огромного уважения. Мои личные беседы со Сталиным убедили меня в том, что это человек исключительно прямолинейный. Иные недоверчивые хлюсты пытаются представить историю с Салтыковым как очередной подвох большевиков. Но ведь здесь-το уж никак нельзя думать о специально продуманном подкупе кого-то. Салтыков – ни на что не годная развалина, и помощь ему единственно может быть объяснена тем, что в Советской России заботливо относятся к памяти и заслугам великих людей…»
В кругах правых писателей, в частности, в салоне Иванова-Разумника, сообщение об оказании помощи сыну писателя Салтыкова-Щедрина было встречено с чувством большого недоверия и весьма злобно комментировалось.
Иванов-Разумник, Шишков и Петров-Водкин высказали по этому поводу следующую точку зрения:
«Во всех этих историях звучат какие-то мотивы восточной деспотии. Необходимо сопоставить со всеми этими историями то страшное значение и силу, которые имеют каждое высказанное Сталиным слово, что делает его власть значительно более мощной, чем власть даже самого неограниченного восточного деспота, ибо там власть материальная, физическая, а здесь сверх того и власть над умами, над малейшим проявлением свободной мысли. В связи с этим приобретают особый характерный исторический смысл все эти разговоры о сказочных превращениях в судьбах отдельных людей под влиянием одного слова вождя».
Оперуполномоченный] 4 Отд[еления] С ПО
КОГАН
Из записки Главлита в Политбюро ЦК ВКП(б)
9 апреля 1933 г.
… Главлит осуществляет предварительную и последующую цензуру за всеми видами печати. Предварительная цензура просматривает печать как в интересах охраны государственных тайн, так и в интересах недопущения политически вредных, искажающих советскую действительность, малограмотных, халтурных произведений или отдельных мест в них. Эта функция предварительной цензуры оправдала себя полностью. Состав редакторских кадров в наших издательствах настолько еще несовершенен и порой даже просто слаб, что наши цензора представляют собою дополнительную мобилизацию большевистской бдительности на таком ответственнейшем фронте, каким является фронт нашей печати в самом широком, всеобъемлющем смысле слова. Ответственность органов предварительного контроля – огромная. Ибо по поводу любого прорыва в нашей печати (роман, стихи, статья, книга, карикатура, иллюстрация, этикетка, раскрытие гостайны и т. д.) может быть предъявлена претензия к Главлиту: ведь всюду стоит разрешительный номер Главлита.
От предварительной цензуры зависит, в конечном счете, разрешить печатать данную сомнительную вещь или не разрешить. Но качество и наших людей далеко несовершенно. Правда, их бдительность особо заострена и мобилизована. Они не руководствуются необходимостью обязательно выпустить номер журнала или выполнить во что бы то ни стало издательский план (количеством), они не связаны договором с типографией и автором и т. д. Они, поэтому, более свободны в суждениях о данной вещи, они более объективны и материально незаинтересованны. Но, все же, хотя количество и качество нежелательных и вредных пропусков со стороны предварительной цензуры уменьшается, пропуски, ошибки есть, и их немало…
Главлит особое внимание уделил художественной литературе. Здесь было особенно много прорывов со стороны издательств и особенно много конфискаций и задержаний со стороны Главлита (начиная от школьного тома Лермонтова со скабрезными его юнкерскими поэмами и кончая «Личным и общественным» Парфенова). В издательствах и журналах царила в большинстве случаев полная безответственность. Цензура была крайне слаба и поэтому мало авторитетна. Это был наиболее трудный участок работы (да и сейчас таким остается) вследствие сопротивления со стороны издателей и редакторов, которые нередко отражали и отражают с своей стороны напор писателей (и не лучших)…
И сейчас, конечно, бывают прорывы. (В «Федерации», например, выпущен в Октябрьской серии Асеев с большой троцкистской поэмой «Лирические отступления», в «Новом мире» была в 11 книжке напечатана кулацкая «Поэма о гибели казацкого войска» Павла Васильева, в ГИХЛе готовился томик того же П. Васильева, а также пришлось перепечатывать ряд страниц в «Сестрах» Вересаева (о коллективизации), в Ленинградском Товариществе Писателей вышли «Дневники» М. Шагинян с политически одиозными записями, в Московском Товариществе Писателей задержан готовый к печати роман «Личное и общественное» Парфенова и т. д.). Но ни качеством, ни количеством они не похожи на то, что делалось в недавнем прошлом. На каждый прорыв Главлит отвечает репрессиями по отношению к цензорам, передачей дела об них, как и об редакторах и авторах (партийцах), в контрольные органы и в ячейки и рядом производственных совещаний, инструктирующих, мобилизующих наших работников…
Главлит, наконец, осуществляет цензуру над всей иностранной печатью, поступающей в Союз. Имеется значительная группа работников, знающих каждый по несколько языков и работающих как на Почтамте, так и в аппарате Главлита. Главлит же дает разрешение на вывоз рукописей и т. п…
Среди крупных, лучших наших писателей нет ущемленных Главлитом и резко недовольных нашей цензурой. Отдельные замечания Главлита, политически улучшающие текст, обычно принимаются авторами. Издатели не очень жалуют Главлит, ибо цензура, конечно, причиняет им немало неприятностей политического и материального характера. Авторы и редактора, которых касается воздействие Главлита, нередко полагают, что не они виноваты в их политических ошибках, а Главлит виновен в том, что он их обнаружил…
Начальник Главлита
Б. ВОЛИН
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) О В. И. Немировиче-Данченко
26 мая 1933 г.
№ 138. п. 104/84 – О Немирович-Данченко.
Выдать Немирович-Данченко 1500 долларов при условии обяз
ательного и немедленного возвращения в Москву.
Необходимое пояснение. В. И. Немирович-Данченко, основатель (совместно с К. С. Станиславским) Художественного театра (1898 г.), находясь за границей в Европе, испросил у советского правительства дополнительных денег для продолжения лечения.
Сводка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях И. Э. Бабеля
22 сентября 1936 г.
После опубликования приговора Военной Коллегии Верховного суда над участниками троцкистско-зиновьевского блока источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем в присутствии кинорежиссера Эйзенштейна. Беседа проходила в номере гостиницы, где остановились Бабель и Эйзенштейн.
Касаясь главным образом итогов процесса, Бабель говорил:
«Вы не представляете себе и не даете себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории.
Это страшное дело. Мы с вами, кончено, ничего не знаем, шла и идет борьба с «хозяином» из-за личных отношений ряда людей к нему.
Кто делал революцию? Кто был в Политбюро первого состава?»
Бабель взял при этом лист бумаги и стал выписывать имена членов ЦК ВКП(б) и Политбюро первых лет революции. Затем стал постепенно вычеркивать имена умерших, выбывших и, наконец, тех, кто прошел по последнему процессу. После этого Бабель разорвал листок со своими записями и сказал:
«Вы понимаете, кто сейчас расстрелян или находится накануне этого: Сокольникова очень любил Ленин, ибо это умнейший человек. Сокольников, правда, «большой скептик» и кабинетный человек, буквально ненавидящий массовую работу. Для Сокольникова мог существовать только авторитет Ленина, и вся борьба его – это борьба против влияния Сталина. Вот почему и сложились такие отношения между Сокольниковым и Сталиным.
А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые с ним сталкиваются. Троцкий, бесспорно, будет продолжать борьбу и его многие поддержат.
Из расстрелянных одна из самых замечательных фигур – это Мрачковский. Он сам рабочий, был организатором партизанского движения в Сибири; исключительной силы воли человек. Мне говорили, что незадолго до ареста он имел 11-тичасовую беседу со Сталиным.
Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского – самый блестящий знаток русского языка и литературы.
Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений.
Представляете ли вы себе, что делается в Европе и как теперь к нам будут относиться. Мне известно, что Гитлер после расстрела Каменева, Зиновьева и др. заявил: «Теперь я расстреляю Тельмана».
Какое тревожное время! У меня ужасное настроение!»
Эйзенштейн во время высказываний Бабеля не возражал ему.
Зам. нач. секр. – полит. Отдела ГУГБ,
старший майор госбезопасности
В. БЕРМАН
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о романе М. С. Шагинян «Билет по истории»
5 августа 1938 г.
Ознакомившись с частью 1-й романа Мариэтты Шагинян «Билет по истории» (подзаголовок – «Семья Ульяновых»), а также с обстоятельствами появления этого романа в свет, ЦК ВКП(б) устанавливает, что книжка Шагинян, претендующая на то, чтобы дать биографический документальный роман о жизни семьи Ульяновых, а также о детстве и юности Ленина, является политически вредным, идеологически враждебным произведением. Считать грубой политической ошибкой редактора «Красной нови» т. Ермилова и бывш. руководителя ГИХЛ[19]т. Большеменникова допущение напечатания романа Шагинян.
Осудить поведение т. Крупской, которая, получив рукопись романа Шагинян, не только не воспрепятствовала появлению романа в свет, но наоборот, всячески поощряла Шагинян, давала о рукописи положительные отзывы и консультировала Шагинян по фактической стороне жизни семьи Ульяновых и тем самым несет полную ответственность за эту книжку.
Считать поведение т. Крупской тем более недопустимым и бестактным, что т. Крупская делала все это без ведома и согласия ЦК ВКП(б), за спиной ЦК ВКП(б), превращая тем самым общепартийное дело – составление произведений о Ленине – в частное и семейное дело и выступая в роли монопольного истолкователя обстоятельств общественной и личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда прав не давал.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1). снять т. Ермилова с поста редактора «Красной нови»;
2). объявить выговор бывш. директору ГИХЛ т. Большеменникову;
3). указать т. Крупской на допущенные ею ошибки;
4). воспретить издание произведений о Ленине без ведома и согласия ЦК ВКП(б);
5). книжку Шагинян из употребления изъять;
6) предложить Правлению Союза советских писателей объявить Шагинян выговор.
Необходимое пояснение. В чем заключалась «политическая вредность» и «идеологическая враждебность» книги Мариэтты Шагинян, помогает понять текст постановления по этому же поводу Правления Союза советских писателей от 9 августа 1938 г., где выражается «суровое порицание» писательнице за «искаженное представление о национальном лице Ленина».
Каким же образом Мариэтта Шагинян сумела исказить национальное лицо Ленина? А дело все в том, что писательница коснулась родословной Владимира Ильича и упомянула, что мать его Мария Александровна была дочерью Александра Дмитриевича Бланка (уж не еврея ли?), а сам Бланк был женат на Анне Карловне Остенд (шведке), то есть дедушка по материнской линии у Ленина чуть ли не еврей, а бабушка – шведка.
Дед Ленина по отцовской линии Николай Васильевич Ульянов был русский мещанин, но женился на дочери крещеного калмыка, от кого Ленин и унаследовал азиатский тип лица.
Более подробно семейную генеалогию Ленина разобрал Дмитрий Волкогонов в книге «Ленин» (М.: 1997). Он уже прямо указывает, что дед Ленина по материнской линии был «Александр Дмитриевич (Сруль Мойшевич) Бланк, крещеный еврей из Житомира…»
Казалось бы, какое все это может иметь значение? Тот же Волкогонов совершенно справедливо говорит, что «исторический котел великой страны, именовавшийся Россией, переплавлял в своем тигле самые различные национальные и расовые ветви, что было совершенно естественным и нормальным».
А вот советским идеологическим стражникам, а вслед за ними и официальным биографам Ленина «очень не хотелось отмечать редкое смешение крови в генеалогическом древе, на котором появился плод в лице Володи Ульянова. Ведь считалось естественным, само собой разумеющимся, что вождь русской революции должен быть русским!» (Д. Волкогонов).
Справка Главного управления государственной безопасности НКВД СССР о поэте Демьяне Бедном
9 сентября 1938 г.
Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) – поэт, член Союза советских писателей. Из ВКП(б) исключен в июле с.г. за «резко выраженное моральное разложение».
Д. Бедный имел тесную связь с лидерами правых и троцкистско-зиновьевской организации. Настроен Д. Бедный резко антисоветски и злобно по отношению к руководству ВКП(б). Арестованный участник антисоветской организации правых А. И. Стецкий по этому поводу показал:
«До 1932 г. основная задача, которую я ставил перед возглавлявшимися мною группами правых в Москве и Ленинграде, состояла в том, чтобы вербовать в нашу организацию новых людей. Из писателей я установил тогда тесную политическую связь с Демьяном Бедным, который был и остается враждебным советской власти человеком. С Демьяном Бедным я имел ряд разговоров, носивших открыто антисоветский характер. Он был резко раздражен недостаточным, по его мнению, вниманием к его особе. В дальнейших наших встречах, когда стало выясняться наше политическое единомыслие, Демьян Бедный крепко ругал Сталина и Молотова и превозносил Рыкова и Бухарина. Он заявлял, что не приемлет сталинского социализма. Свою пьесу «Богатыри» он задумал как контрреволюционную аллегорию на то, как «силком у нас тащат мужиков в социализм».
Озлобленность Д. Бедного характеризуется следующими его высказываниями в кругу близких ему лиц:
«Я стал чужой, вышел в тираж. Эпоха Демьяна Бедного окончилась. Разве вы не видите, что у нас делается. Ведь срезается вся старая гвардия. Истребляются старые большевики. Уничтожают всех лучших из лучших. А кому нужно, в чьих интересах надо истребить все поколение Ленина? Вот и меня преследуют потому, что на мне ореол октябрьской революции».
Д. Бедный систематически выражает свое озлобление против тт. Сталина, Молотова и других руководителей ВКП(б).
«Зажим и террор в СССР таковы, что невозможна ни литература, ни наука, невозможно никакое свободное исследование. У нас нет не только истории, но даже и истории партии. Историю гражданской войны тоже надо выбросить в печку – писать нельзя. Оказывается, я шел с партией, 99,9 [процентов] которой шпионы и провокаторы. Сталин – ужасный человек и часто руководствуется личными счетами. Все великие вожди всегда создавали вокруг себя блестящие плеяды сподвижников. А кого создал Сталин? Всех истребил, никого нет, все уничтожены. Подобное было только при Иване Грозном».
Говоря о репрессиях, проводимых советской властью против врагов народа, Д. Бедный трактует эти репрессии как ничем не обоснованные. Он говорит, что в результате, якобы, получился полный развал Красной Армии:
«Армия целиком разрушена, доверие и командование подорвано, воевать с такой армией невозможно. Я бы сам в этих условиях отдал половину Украины, чтобы только на нас не лезли. Уничтожен такой талантливый стратег, как Тухачевский. Может ли армия верить своим командирам, если они один за другим объявляются изменниками? Что такое Ворошилов? Его интересует только собственная карьера».
Д. Бедный в резко антисоветском духе высказывался о Конституции СССР, называя ее фикцией:
«Выборов у нас, по существу, не было. Сталин обещал свободные выборы, с агитацией, с предвыборной борьбой. А на самом деле сверху поназначали кандидатов, да и все. Какое же отличие от того, что было?»
В отношении социалистической реконструкции сельского хозяйства Д. Бедный также высказывал контрреволюционные суждения:
«Каждый мужик хочет расти в кулака, и я считаю, что для нас исключительно важно иметь энергичного трудоемкого крестьянина. Именно он – настоящая опора, именно он обеспечивает хлебом. А теперь всех бывших кулаков, вернувшихся из ссылки, либо ликвидируют, либо высылают опять… Но крестьяне ничего не боятся, потому что они считают, что все равно: что в тюрьме, что в колхозе».
После решения КПК об исключении его из партии, Д. Бедный находится в еще более озлобленном состоянии. Он издевается над постановлением КПК: «Сначала меня удешевили – объявили, что морально разложился, а потом заявят, что я турецкий шпион».
Несколько раз Д. Бедный говорил о своем намерении покончить самоубийством.
Пом. нач. 4 отдела 1 упр. НКВД капитан государствен, безопасности
В. ОСТРОУМОВ
Необходимое пояснение. 10 сентября эта Справка с сопроводительным письмом за подписями наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова и начальника ГУГБ НКВД Л. П. Берии была отправлена в ЦК ВКП(б) Сталину.
Из постановления Бюро КПК при ЦК ВКП(б) о т. Фадееве А. А
23 сентября 1941 г.
По поручению Секретариата ЦК ВКП(б) Комиссия Партийного Контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК В КП (б) т. Фадееве А. А. и установила, что т. Фадеев А. А., приехав из командировки с фронта, получив поручение от Информбюро, не выполнил его и в течение семи дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение…
Бюро КПК при ЦК ВКП(б) постановляет: считая поведение т. Фадеева А. А. недостойным члена ВКП(б) и особенно члена ЦК В КП (б), объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании.
В качестве прибавления к документу. Театровед Анатолий Смелянский в книге «Уходящая натура» передает историю, услышанную им уже после смерти Фадеева от его вдовы – актрисы МХАТа Ангелины Осиповны Степановой. Суть истории сводится к тому, что однажды секретарь Союза писателей срочно понадобился Сталину. Фадеева искали, но не нашли. Когда же тот объявился (через несколько дней), Сталин спросил:
– А где это вы пропадали, товарищ Фадеев?
Фадеев отвечал с большевистской прямотой:
– Был в запое, товарищ Сталин.
– И сколько дней длится обычно у вас запой?
– Дней десять-двенадцать.
– Ане могли бы вы, – сказал Сталин, – как коммунист проводить это мероприятие в более сжатые сроки? Постарайтесь уложиться, скажем, дня в три-четыре!
Г. Ф. Александров, А. А. Лузин, А. М. Еголин – Г. М. Маленкову[20]
2 декабря 1943 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Маленкову Г М.
За последнее время в литературно-художественных журналах «Октябрь», «Знамя» и др. допущены грубые политические ошибки, выразившиеся в опубликовании антихудожественных и политически вредных произведений.
В журнале «Знамя» (№ 7–8 за 1943 год) напечатано стихотворение Сельвинского, в котором имеются такие, например, строки:
«Сама как русская природа Душа народа моего: Она пригреет и урода[21], Как птицу, выходит его. Она не выкурит со света, Держась за придури свои — В ней много воздуха и света И много правды и любви», (стр. 111)Несколько месяцев тому назад редакция журнала «Октябрь» приняла к печати стихотворение Сельвинского «Эпизод», в котором Сельвинский цинично воспевает войну за то, что она дала ему счастье обладать молодой девушкой с Кубани:
Сидит предо мной белокурое счастье, Казацкою силой маня; Морские глаза ее, злые от страсти, С презреньем ласкают меня… Не досмотрел еще я сновиденья, Тайны не разгадал, Как налетело вдруг наводненье На деревенский квартал! Бомба! Раз – я бросился на пол, Прямо на стекла – в кровь… Желчью ракет небосвод закапал В бешенстве прожекторов. Опалена пулеметною строчкой, Вся в озареньи войны — Кинулась рядом хозяйская дочка, Голая, как из волны, «Вы?» Я засмеялся от счастья, Как молодой зверолов. Бомбы все громче. Залпы все чаще. Выл паровозный зов… Я целовал ее, как на свиданьи, В плечи, в затылок, в рот. Она замирала, чуть задыхаясь; Чуть-чуть стонала она… Она меня любит. О, этот хаос! Непостижима война. Кто мог подумать? Нет, не напрасно Эта гремела мгла… Только бы, только бы длилась опасность, Только бы ты не ушла. Завтра ты снова наложишь «табу» На самый голос любви… И вдруг, точно в душу пламя, И к голосу от сердца бросок. Я ощутил под своими губами Мокрый от пули висок…Управление пропаганды запретило опубликование этого стихотворения.
Ошибки редакций журналов усугубляются тем, что ЦК В КП (б) неоднократно предупреждал об антихудожественном и вредном характере ряда стихотворений Сельвинского…
В журнале «Октябрь» (№ 6–7 и № 8–9 за 1943 г.) опубликована пошлая, антихудожественная и политически вредная повесть Зощенко «Перед заходом солнца».
Повесть Зощенко чужда чувствам и мыслям нашего народа. Зощенко декларирует, что материалы его повести «говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания», но в действительности вся повесть построена на узко личном, обывательском восприятии мира. Зощенко рисует чрезвычайно извращенную картину жизни нашего народа. Психология героев, их поступки носят уродливый характер.
Зощенко занят только собой. Читатель все время чувствует в повести назойливое выпячивание писателем своего «я». Зощенко пытается объяснить события своей жизни, опираясь на данные физиологии, забывая о влиянии социальных факторов. Такое объяснение не только наивно, но и противоречит элементарным основам научного мировоззрения. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Ленин).
Зощенко начинает повествование о своей жизни с годовалого возраста…
Описание младенчества занимает в повести значительное место… Нет сомнения, что эти «воспоминания» никакого интереса для советского читателя не представляют…
Исключительное внимание уделяет Зощенко в повести сексуальным моментам, смакуя свои многочисленные связи с женщинами. Описанию любовных похождений Зощенко посвящено 17 из 63 небольших рассказов первой части повести…
В рассказе «Спать хочется» приводится следующий эпизод:
Зощенко встречается с незнакомой женщиной. «Я сижу мрачный, хмурый, отрицательно качаю головой. – Спать хочется? – спрашивает она. – Тогда пойдем ко мне. Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь. Китайские ширмочки. Китайские халаты. Это забавно. Смешно. Мы ложимся спать» (№ 6–7, стр. 70)…
Вспоминая о своей женитьбе, Зощенко пишет:
«Одна женщина, которая меня любила, сказала мне: «Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне». – Я пошел в ЗАГС с этой женщиной. И мы записались. Теперь она моя жена» (№ 6–7, стр. 83).
Рассказы Зощенко натуралистически грубы. Описывая зверей Ленинградского зоологического сада, автор заканчивает рассказ такой сценой: «Бурые медведи яростно ходят по клетке… Рыча, самец покрывает самку» (№ 6–7, стр. 90).
Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, – это пьяницы, жулики и развратники…
В этом рассказе, как и во всех других рассказах повести, Зощенко говорит о людях нашего народа с нескрываемым презрением и брезгливостью, клевещет на наш народ, нарочито оглупляет его и извращает его быт…
В рассказе «Встреча» Зощенко говорит, что он взял работу переписчика во время Всесоюзной переписи населения, чтобы «увидеть, как живут люди». Что же он увидел?
«Я хожу по коридорам, кухням, захожу в комнаты. Я вижу тусклые лампочки, рваные обои, белье на веревках, ужасающую тесноту, мусор, рвань…»
В другом рассказе «Выступление» Зощенко рисует советских зрителей тупыми и грубыми:
«Баню» давай… «Аристократку»… Чего ерунду читаешь!.. Ах, если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе – вечер был бы в порядке… Я утешаюсь тем, что зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика и жонглера» (№ 6–7, стр. 89).
Вся повесть Зощенко является клеветой на наш народ, опошлением его чувств и его жизни.
Рассматривая жизнь русских классиков, «моих великих товарищей» (как пишет Зощенко), он выписывает из их биографий «все, что относилось к хандре», стараясь показать «у них тоску вроде моей». Зощенко односторонне нанизывает факты, один страшнее другого, и создает извращенное представление о великих русских писателях. Все русские писатели у него оказываются пессимистами и упадочниками. Гоголь, – пишет Зощенко, – не находил себе места от тоски, Некрасов все время собирался утопиться, Салтыков-Щедрин – застрелиться, Л. Толстой – повеситься и т. д. И это состояние, – говорит Зощенко, – было характерно для писателей. «Я старался брать то, – пишет он, – что было характерно для человека, то, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой…»
Опубликование повести Зощенко «Перед восходом солнца» является, несомненно, грубой ошибкой…
Совершенно неудовлетворительно ведутся в журналах отделы критики и библиографии. Многие крупные произведения советских писателей, удостоенные Сталинской премии, до сих пор не нашли надлежащей оценки на страницах журналов. Так, например, журнал «Знамя» до сих пор не опубликовал ни одной статьи о повести Ванды Василевской «Радуга», о пьесе Леонова «Нашествие», о романах А. Толстого «Хождение по мукам», Яна «Чингис-Хан» и «Батый», о творчестве писателей Тычина, Купала, Самед Вургун, Рыльский и др…Большинство критических статей, опубликованных в журналах, крайне общи и поверхностны, разбор художественных произведений дается часто в отрыве от их идейно-политического содержания…
Президиум Союза Советских Писателей, органами которого являются литературно-художественные журналы, совершенно не руководят их работой. Редакционные коллегии литературно-художественных журналов не работают. Президиум ССП проходит мимо этого и не принимает мер к налаживанию их работы. Несмотря на неоднократные указания ЦК ВКП(б) о необходимости коренного улучшения постановки литературной критики, со стороны Президиума и лично тов. Фадеева не были приняты меры к повышению роли и значения литературной критики.
Литературно-критические выступления тов. Фадеева на совещаниях писателей малосодержательны, абстрактны и нередко ошибочны. Так, например, на состоявшемся в октябре текущего года совещании писателей тов. Фадеев резко выступил против повести Горбатова «Непокоренные» и романа Голубова «Багратион». Повесть Горбатова т. Фадеев назвал «беллетризованной публицистикой», «чертежом», выбросив, таким образом, эту повесть за пределы художественной литературы.
«У нас ведь молодежь растет, – говорил он, – а мы все будем хвалить за тему, за политику, а строго не будем подходить. А молодой человек потом подрастет и обнаружит, что были на свете, кроме Горбатова и Голубова, еще и Лев Толстой, Горький и Тургенев…»
Совершенно очевидно, что тов. Фадеев выступил здесь против той положительной оценки, которую получили произведения Горбатова и Голубова в ЦК ВКП(б)…
…Президиум ССП и лично т. Фадеев не сделали для себя необходимых выводов из указаний ЦК ВКП(б), не ведут воспитательной работы среди писателей и не оказывают никакого влияния на их творческую работу…
Управление пропаганды считает необходимым принять специальное решение ЦК ВКП(б) о литературно-художественных журналах.
Начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
Г. АЛЕКСАНДРОВ
Зам. начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
А. ПУЗИН
Зав. отделом художественной литературы
А. ЕГОЛИН
Высказывания работников литературы и искусства о докладе товарища Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»
25 сентября 1946 г.
Писатели, деятели театра и кинематографии горячо одобряют доклад товарища Жданова, как важнейший программный документ, четко определяющий пути дальнейшего развития советского искусства и литературы.
Писательница А. Караваева говорит: «Доклад товарища Жданова большевизирует нашу мысль. Его выступление имеет огромное значение. Очень важно, что впервые раздеты «Серапионы», вскрыта их сущность. Необходимо издать доклад большим тиражом».
Писатель Ф. Панферов: «Принимаю доклад душой, сердцем и разумом. Этот доклад – надолго. Нам надо на основе его разработать положительную программу перестройки всей нашей работы, всей работы Союза советских писателей, литературно-художественных журналов и т. д.».
Критик Л. Субоцкий: «В докладе поставлены коренные вопросы литературы, раскрыты ее специфические задачи. Доклад дает направление нашей литературной критике. Писательскую общественность воодушевило то, что партия уделяет сейчас так много внимания литературе».
Критик О. Резник: «До сих пор у нас не было столь глубокого научного анализа вопросов советской литературы. Мы, критики, работающие в области советской литературы, обязаны заново осмыслить всю свою работу, как литературную, так и лекционную, преподавательскую».
Литературовед профессор Д. Благой: «Доклад исключительно полноценный. Для нашей историко-литературной науки особенно важны те оценки реакционных течений в литературе прошлого, которые даны в докладе».
Народная артистка СССР Яблочкина: «Мы раньше не знали, как высказать наши мысли о театре, литературе. Товарищ Жданов сформулировал наши общие мысли и чувства. Нам редко приходится играть советские пьесы о советских людях. Не один десяток лет я играю Мурзавецкую. Надоело. Хочется сыграть роль советской женщины, но я не могу это сделать, хотя и страстно хочу».
Народная артистка СССР Пашенная: «Прочитала я доклад товарища Жданова и подумала: мы готовим к сезону «Золотую карету» Леонова. Если мы поставим ее – мы провалимся. Это – совсем не то, о чем говорит товарищ Жданов, и не то, что требует сейчас партия».
Кинорежиссер Г. Александров: «Доклад товарища Жданова поражает своей глубиной и предельной ясностью в разборе советской литературы и перспектив ее развития. Доклад является образцом принципиальной критики в области искусства. Он оттеняет убожество и примитивность критики последних лет. Доклад надо изучать, а главное – рассматривать его, как эталон для уровня критических статей и анализа художественных произведений».
Кинооператор Екельчик: «Доклад может быть помещен в учебниках по истории советской литературы. До сих пор ни разу не было дано такого серьезного и принципиального анализа литературных течений, не сделано таких четких выводов о задачах литературы в жизни советского государства».
Кинорежиссер В. Петров: «Доклад товарища Жданова – плод многих бессонных ночей. Товарищ Жданов, видимо, работал над ним особенно тщательно, готовя его к печати».
Кинорежиссер А. Давидсон: «Доклад товарища Жданова великолепен и по содержанию и по форме. Я никогда не подозревал, что он так глубоко знает и понимает литературу. Я читал и перечитывал доклад много раз. Его нужно не только читать, а изучать, и прежде всего – нашим «горе-критикам».
Сценаристы Е. Помещиков и Н. Рожков: «Если бы наша кинокритика была на том же уровне, что и доклад товарища Жданова, то никаких решений по «Большой жизни», «Нахимову», «Грозному» и другим фильмам делать не пришлось бы, так как этих ошибок совершено не было бы. У нас в газетах помещается часто просто пересказ фильма, и это выдается за рецензию. Ожидай после этого помощи от критики! Все приходится делать на свой риск и страх. Доклад замечательный, и теперь критики закряхтят, трудно им будет писать».
Режиссер Н. Пырьев: «Доклад товарища Жданова разрешает все недоуменные вопросы. Я читаю и перечитываю его. Он должен стать настольной книгой каждого художника. Поражает тонкое знание истории литературных течений, знание специфических вопросов искусства. Доклад – подлинная научная диссертация».
Наряду с приведенными высказываниями, имеются и другие, свидетельствующие о том, что некоторые работники литературы и искусства не сделали должных выводов из доклада товарища Жданова, заняли «выжидательную» позицию.
По сообщению редактора «Правды» по литературному отделу В. Кожевникова, писатель К. Паустовский, в ответ на обращенную к нему просьбу написать статью, ответил: «Я изучаю сейчас историю партии и долго буду ее изучать»; писатель Н. Погодин сказал: «Сейчас разгорелся пожар, но так как пьеса – это бумага, я не хочу растапливать ею этот пожар»; писатель Л. Славин заявил, что он «не будет писать до тех пор, пока не установится порядок». По словам В. Кожевникова, некоторые писатели выжидают, «пока пройдет кампания массовой порки».
Заведующий отделом литературы и искусства «Комсомольской правды» В. Жданов отмечает, что «те из молодых поэтов, которые склонялись к публицистической поэзии Маяковского, встретили доклад товарища Жданова с горячим одобрением, те же, которые склонялись к чистой лирике – очень смущены».
По сообщению ответственного секретаря газеты «Советское искусство» И. Адова, некоторые драматурги чувствуют себя «попавшими в тяжелое положение». Так, Н. Гладков, братья Тур говорят, что они «ничего давать в театры не будут, так как слишком высоки требования»; писатель В. Катаев сказал: «Что я дам в театр? «Белеет парус» дал. Эта вещь прошла все испытания. А больше ничего. Подождем, пока все успокоится»; театральный критик Бояджиев заявил: «Сейчас писать рецензии о пьесах трудно. Бить по маленьким людям неинтересно, а критиковать больших – вряд ли поместят».
М. А. Суслов, А. А. Фадеев, Т. Н. Хренников и другие – Сталину
17 октября 1950 г.
Копия
Товарищу Сталину
Комиссия по поручению Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрела вопрос о серьезных извращениях в оплате труда авторов за публичное исполнение их драматических и музыкальных произведений и представляет на Ваше рассмотрение соответствующий проект постановления.
–
–
–
–
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ОБ ИЗВРАЩЕНИЯХ В ВЫПЛАТЕ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА ЗА ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТИЧЕСКИХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЦК ВКП(б) отмечает, что в оплате труда авторов литературно-драматических и музыкальных произведений за право публичного исполнения этих произведений имеются крупные извращения.
Установленное действующей системой авторского гонорара пожизненное (с правом наследования) процентное отчисление от сборов за публичное исполнение литературно-драматических и музыкальных произведений дает возможность отдельным авторам получать большие денежные средства и обогащаться за счет государства. Драматург Барянов за публичное исполнение написанной им пьесы «На той стороне» получил только в 1949 году 920,7 тыс. рублей процентных отчислений. Драматург Софронов в том же году получил 642,5 тыс. рублей, братья Тур – 759 тыс. рублей. Писателю Симонову выплачено процентных отчислений за последние 4 года около 2,5 миллиона рублей. Лавреневу – 1,2 миллиона рублей.
Получая в течение многих лет большие суммы за исполнение одного и того же произведения, отдельные авторы не работают над повышением своего художественного мастерства и не создают новых высококачественных произведений.
При выплате авторского гонорара допускается уравниловка, при которой переводчики и составители инсценировок получают за свои работы одинаковое с авторами оригинальных произведений вознаграждение. Это обстоятельство используется отдельными лицами в целях легкого обогащения за счет государства. Волков – автор инсценировок («Анна Каренина» и др.) за последние три с половиной года получил отчислений свыше миллиона рублей; Желябужский за инсценировку «Овод» Войнича[22] за два с половиной года – 850 тыс. рублей. Переводчик Мингулина только за перевод одной пьесы Гоу и Дюссо «Глубокие корни» получила за последние три года более 800 тыс. рублей процентных отчислений. Автор перевода пьесы Б. Шоу «Пигмалион» Н.Н. Зубова-Константинова за то же время получила около 500 тыс. рублей, Щепкиной-Куперник за переводы нескольких произведений Шекспира и Шиллера за последние четыре с половиной года выплачено в виде процентных отчислений около 1.300.000 рублей.
Существующая уравниловка в оплате труда, дающая возможность получения высоких гонораров при незначительной затрате труда, породила группу литературных ремесленников и халтурщиков, которые, не обладая способностями к созданию новых оригинальных произведений, занимаются ненужным переделыванием имеющихся переводов пьес или инсценировками, зачастую низкого качества, получая за это большие суммы по процентным отчислениям. Некий Архипов (Зайцев), не зная ни одного иностранного языка, получил крупные суммы за незначительные и ненужные переделки уже существующих переводов пьес К. Гольдони «Слуга двух господ» и «Трактирщица», пьес Шиллера «Коварство и любовь», «Разбойники» и других. Авторам слегка подновленного перевода либретто оперетты «Марица» Спиро, Цензору и Ярону выплачено за последние три года 450 тыс. рублей; Рубинштейну за переводы и переделки венских оперетт – 677 тыс. рублей. Ежегодно выплачиваются сотни тысяч рублей процентных отчислений за недоброкачественные переводы Е. Геркену, В. Эльтону, Л. Сегаль, В. Марковичу и другим халтурщикам и бракоделам.
Все это противоречит социалистическим принципам оплаты труда, способствует проникновению в среду драматургов чуждых нравов, тормозит развитие драматургии и наносит ущерб интересам государства.
ЦК ВКП(б) отмечает, что Всесоюзное управление по охране авторских прав при Союзе советских писателей и его руководители допускали многочисленные злоупотребления, выражающиеся в незаконной выплате авторского гонорара и в поощрении литературных халтурщиков, жуликов, а иногда и политических проходимцев.
Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР, зная о грубых извращениях в выплате авторского гонорара за публичное исполнение литературно-драматических и музыкальных произведений, не принял мер к ликвидации этих извращений. Комитет и его Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром безответственно разрешали к публичному исполнению низкопробные инсценировки и слабые переводы пьес, засоряя этим репертуар театров и создавая условия для обогащения отдельных ловких лиц.
Правление Союза советских писателей СССР не осуществляло должного контроля за работой Управления по охране авторских прав и, имея сигналы о творящихся в этом управлении безобразиях, не приняло мер к пресечению антигосударственных действий его руководителей, к наведению порядка и укреплению Управления проверенными кадрами. У отдельных писателей-драматургов, занимающих руководящее положение в Союзе советских писателей (т.т. Симонов, Софронов, Лавренев), получивших из авторских отчислений большие суммы, создались с работниками Управления по охране авторских прав приятельские отношения, в силу чего они оказались не в состоянии объективно оценить грубые извращения в сложившейся практике выплаты авторского гонорара за литературно-драматические и музыкальные произведения.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Считать, что существующая система оплаты авторского гонорара за создание драматических и музыкальных произведений, а также за переводы пьес, либретто опер и оперетт устарела и тормозит творчество драматургов и композиторов.
Ввести с 1 января 1951 г. новый порядок оплаты труда авторов драматических и музыкальных произведений.
В новой Системе оплаты авторов предусмотреть:
а) единовременное авторское вознаграждение за драматические и музыкальные произведения в зависимости от их идейно-художественной ценности;
б) установление дополнительной премиальной оплаты за произведения, выдающиеся по своим идейно-художественным качествам;
в) некоторое повышение оплаты за издание музыкальных произведений;
г) единовременное вознаграждение авторам за переводы пьес, либретто опер и оперетт, а также за инсценировку литературных произведений значительно меньшее по размерам, чем за оригинальные произведения;
д) предоставление Комитету по делам искусств при Совете Министров СССР и его органам и учреждениям права приобретения и заказов новых литературно-драматических и музыкальных произведений.
2. Утвердить проект постановления Совета Министров СССР «Об оплате труда авторов драматических и музыкальных произведений».
3. Поручить Прокуратуре СССР расследовать антигосударственные действия, допущенные в Управлении по охране авторских прав, и виновных в злоупотреблениях привлечь к строгой ответственности.
4. За непринятие мер к ликвидации извращений в работе Главреперткома, а также в выплате авторского гонорара за публичное исполнение литературно-драматических и музыкальных произведений председателю Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР т. Лебедеву объявить выговор.
5. За халатное отношение к своим обязанностям и неправильную линию в работе бывш. начальнику главреперткома т. Добрынину объявить строгий выговор, а нынешнего зам. начальника главреперткома т. Болберга снять с работы.
6. Обязать Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР в 3-месячный срок пересмотреть ранее разрешенные к публичному исполнению переводы драматических произведений, либретто опер и оперетт, запретить недоброкачественные и восстановить лучшие переводы.
7. Обязать Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР (т. Лебедева) и Правление Союза советских писателей (т. Фадеева) к 1 января 1951 г. доложить ЦК ВКП(б) о выполнении настоящего постановления.
8. Поручить комиссии в составе т.т. Суслова М.А. (председатель), Кружкова В.С., Синецкого А.Я., Фадеева А.А., Лузина А.А., Грачева В.Г., Котова А.К. в месячный срок проверить систему оплаты труда авторов литературно-художественных произведений и свои предложения внести на рассмотрение ЦК ВКП(б).
«Об очищении репетуара театров от идеологически порочных и антихудожественных произведений» (Записка А. А. фадеева)
30 августа 1952 г.
ЦК ВКП(б). Товарищу Маленкову ГМ.
Выполняя указание ЦК ВКП(б) об очищении репертуара театров от идеологически порочных и антихудожественных произведений, Секретариат Союза Советских Писателей СССР за последние полтора года пересмотрел в специально созданной Комиссии большое количество пьес (главным образом переведенных с иностранных языков и инсценировок) и поставил вопрос перед Комитетом по делам искусств при СМ СССР о снятии с репертуара театров около 50 произведений.
Большинство этих произведений в настоящее время снято с репертуара. Однако в отношении некоторой их части решений до сих пор не принято. Комитет по делам искусств и его главные управления вообще не проявляют должной инициативы в активном пересмотре действующего репертуара театров и эстрады, где наиболее широко получили распространение антихудожественные, халтурные произведения.
Секретариат Союза Советских Писателей считает совершенно недопустимым, что в действующем репертуаре наших театров и эстрады до сих пор продолжают находиться произведения лиц, арестованных и осужденных органами Советской власти за контрреволюционную деятельность.
Эти произведения открыто исполняются в широких аудиториях, хотя многие зрители (слушатели) хорошо знают, что авторы этих произведений арестованы и осуждены органами Советской власти.
По справке Всесоюзного Управления по охране авторских прав в 1952 году в театрах и особенно на эстраде довольно широко исполнялись произведения 13-ти репрессированных авторов (Л. Шейнина, И. Маклярского, М. Улицкого, Л. Рознера, Л. Хайт, Я. Смелякова, В. Козина и др.), хотя в большинстве случаев эти произведения являются идеологически порочными и антихудожественными и давно должны быть сняты с репертуара безотносительно к тому, арестованы и осуждены их авторы или нет.
Органы охраны авторских прав автоматически собирают за публичное исполнение таких произведений обязательные авторские отчисления, значительная часть которых нередко попадает в карманы родственников осужденных лиц.
По справке Всесоюзного Управления по охране авторских прав за время с 1951 по 1 июля 1952 года Управлением «охранялись» права более чем 20-ти таких авторов, заработок которых составил около 150 тыс. рублей, из которых, по всякого рода доверенностям, выплачено около 95 тыс. рублей. Секретариат Союза Советских Писателей СССР просит ЦК ВКП(б) дать категорическое указание Главлиту и Комитету по делам искусств при СМ СССР:
а) о запрещении издания и публичного исполнения произведений, написанных лицами, осужденными за контрреволюционную деятельность;
б) о более активном пересмотре (с участием Союза советских писателей СССР) действующего репертуара театров и эстрады и очищении его от идеологически порочных, антихудожественных и устаревших произведений.
Генеральный секретарь Союза советских писателей СССР А. ФАДЕЕВ
Фрагмент доклада Г. М. Маленкова на XIX съезде КПСС о литературе и искусстве
17 июля 1952 г.
Идеологическая работа партии должна сыграть важную роль в очищении сознания людей от предрассудков и вредных традиций старого общества. Надо и впредь развивать в массах высокое сознание общественного долга, воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма и дружбы народов, в духе заботы об интересах государства, совершенствовать лучшие качества советских людей – уверенность в победе нашего дела, бодрость, жизнерадостность, готовность и умение преодолевать трудности.
В этой связи следует особо сказать об обязанностях работников литературы и искусства. Дело в том, что, несмотря на серьезные успехи в развитии литературы и искусства, идейно-художественный уровень многих произведений все еще остается недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется еще много посредственных, серых, а иногда и просто халтурных произведений, принижающих советскую действительность. Многогранная и кипучая жизнь советского общества в творчестве некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно. Не устранены недостатки в таком важном и популярном виде искусства, каким является кино. У нас умеют делать хорошие фильмы, имеющие большое воспитательное значение. Но таких фильмов создается все еще мало. Наша кинематография имеет все возможности для того, чтобы выпускать больше хороших и разнообразных кинокартин, но эти возможности плохо используются.
В нашу эпоху идет гигантская борьба нового со старым. В этой исторической схватке важно не только видеть силы, которые являются творцом нового общественного строя, но надо постоянно растить эти силы, заботиться о всемерном их развитии, неустанно организовывать и совершенствовать их в интересах успешного разгрома враждебных социализму сил. Огромные обязанности в великой борьбе по выращиванию нового, светлого и выкорчевыванию обветшалого и омертвевшего в общественной жизни ложатся на наших работников литературы и искусства. Художественное творчество должно становиться все более мощным идеологическим средством перевоспитания человека, орудием создания нового общественного строя. Сила и значение художественной литературы и искусства состоит в том, что они, бичуя в своих произведениях пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе, раскрывая в положительных художественных образах людей нового типа во всем великолепии их человеческого достоинства, способствуют воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков, привычек, свободных от язв и пороков, порожденных капитализмом.
В нашей литературе есть немало произведений, в которых удачно показаны хорошие качества советских людей. Но чтобы целиком выполнить свою воспитательную роль, советская литература должна смело показывать жизненные противоречия и конфликты, уметь пользоваться оружием критики как одним из действенных средств воспитания, беспощадно разить пороки и недостатки, умело и метко подвергать осмеянию пережитки отживающего прошлого. И в нашем обществе нужны Гоголь и Щедрин, которые огнем боевой сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед.
Враги социализма и всякого рода их подпевалы изображают социализм как систему подавления индивидуальности. Нет ничего примитивнее и вульгарнее такого рода представления. Доказано, что социалистическая система обеспечила раскрепощение личности, расцвет индивидуальностей, создала условия для всестороннего развития талантов и дарований, таящихся
в глубинах народных масс. Сила реалистического искусства состоит в том, что оно может отобразить широкий, могучий и неудержимый рост простых людей, выявить и раскрыть высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека, создать его яркий художественный образ, достойный быть предметом подражания для людей.
Наши художники, литераторы, работники искусства в своей творческой работе по созданию художественных образов должны постоянно помнить, что типично не только то, что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы. В марксистско-ленинском понимании типическое отнюдь не означает какое-то статистическое среднее. Типичность соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным. Сознательное преувеличение, заострение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее. Типическое есть основная сфера проявления партийности в реалистическом искусстве. Проблема типичности есть всегда проблема политическая.
Высокая и благородная задача, стоящая перед работниками литературы и искусства, может быть успешно решена только при условии, если мы поведем решительную борьбу с халтурой в работе наших художников и литераторов, если будет беспощадно вытравлена ложь и гниль из произведений литературы и искусства. Необходимо учитывать, что идейный и культурный уровень советского человека неизмеримо вырос, его вкусы воспитываются партией на лучших произведениях литературы и искусства, советские люди не терпят серости, безыдейности, фальши и предъявляют высокие требования к творчеству наших художников и писателей. Изгнать халтуру, дать дорогу лучшим достижениям художественного творчества – такова одна из главных задач деятелей литературы и искусства. Долг наших писателей, художников, композиторов, работников кинематографии глубже изучать жизнь советского общества, осмысливать величайший в истории процесс строительства коммунизма, создавать на основе метода социалистического реализма художественные произведения, достойные нашего великого народа.
Нина Бондарева – Сталину о плагиате в докладе Маленкова на XIX съезде КПСС
10 января 1953 г
Глубокоуважаемый и дорогой Иосиф Виссарионович!
Я осмеливаюсь беспокоить Вас лично по делу, которое отнюдь не является личным. Речь идет об отчетном докладе Центрального Комитета девятнадцатому съезду нашей партии. Я не могу не поделиться с Вами тревогой и замешательством, возникшими у меня при одном неприятном открытии, связанном с изложением в докладе эстетических проблем.
Скажу прямо: мною, как и многими другими, гораздо больше эрудированными товарищами, литературоведами и критиками, чеканные формулировки о типическом, да еще поставленные рядом с Вашим указанием на то, что нам нужны советские Гоголи и Щедрины, восприняты как Ваши формулировки. дорогой Иосиф Виссарионович. (Почти весь 17 абз. 2-го раздела доклада тов. Маленкова.)
К тому же в журнале «Коммунист» (№ 21 за 1952 г.) определение типического, данное в отчетном докладе т. Маленкова, характеризуется как «ясное и четкое, основанное на марксистко-ленинском знании закономерностей общественного развития и специфики искусства». А кто, кроме Вас, обладает знанием этих закономерностей в степени марксистско-ленинских знаний?
На эти формулировки сейчас ориентируется вся работа творческих организаций, учебные курсы литературоведения и марксистско-ленинской эстетики; они являются темой творческих дискуссий теоретических конференций, ими живет вся наша художественная интеллигенция. Наблюдаются даже некоторые крайности: мне кажется, намечается тенденция противопоставлять типическое «массовидному», тому, чего много; проблема типичности сужается до проблемы типа; право на заострение и преувеличение образа приобретает окраску непременного требования (т. е. чеховской традиции грозит полное вытеснение традицией гоголевской).
Но не это вызывает сейчас особую тревогу и озабоченность.
Изучая историю вопроса о реализме, я просматривала статью «Реализм» в 9 томе литературной энциклопедии (год издания 1935). Нечаянно, на стр. 552—53, я натолкнулась на формулировки, буквально совпадающие с указанным 17 абзацем 2-го раздела доклада т. Маленкова. Изменен только порядок фраз.
Автор статьи – Д. Мирский, и она указана на титульном листе в списке важнейших статей 9 тома.
Первоначально меня изумило простодушие, с которым лицо, готовившее материал к этому разделу доклада Центрального Комитета, перенесло чужой текст в доклад, без кавычек и без какой-либо переработки. Мне известно, как тщательно должен отбираться материал для докладов и статей, для проектов резолюций и директив, какие такт, добросовестность и чувство ответственности необходимы тому, кто работает даже над предварительными формулировками (я работала в 1946—48 гг. помощником секретаря ВЦСПС).
Поэтому меня огорчило и взволновало мое несчастное открытие.
Сознаюсь: имя автора статьи «Реализм» ничего мне не говорило. Осторожно я поинтересовалась у старших товарищей, кто такой Д. Мирский… Ответ гласил: Д. Мирский, бывший белоэмигрант. разоблачен и репрессирован как враг народа и шпион.
У меня нет возможности точно установить достоверность этих сообщений. Но меня они ошеломили.
Я мучительно колебалась в намерении писать Вам, но пришла к такому выводу, что промолчать я не имею права. Как член КПСС я несу свою долю ответственности за качество партийных документов. Я виновата уже в промедлении, дорогой Иосиф Виссарионович.
Тираж литературной энциклопедии превышает 25 тыс. экз., она во всех библиотеках, у частных лиц и, наверное, за границей. Каждую минуту это легкомысленное заимствование из сомнительного источника может стать достоянием общественности, поводом к злостному глумлению. Впрочем, нет нужды комментировать что-либо, когда говоришь с Вами…
Быть может, я чего-то не понимаю, мои тревоги неосновательны и это не так уж важно, поскольку формулировки Мирского по существу не противоречат марксистко-ленинским эстетическим установкам. Я буду счастлива ошибиться и только пожалею об отнятом у Вас драгоценном времени. Разумеется, я не претендую на ответ. Для меня важно только, чтобы факт этот был известен Вам. Тогда все будет как надо. Поэтому я хотела бы иметь подтверждение, что это письмо до Вас дошло.
Прощаясь, дорогой Иосиф Виссарионович, я хочу выразить Вам мою искреннюю дочернюю привязанность, преданность и уважение.
Н. БОНДАРЕВА
Мой адрес: Москва 1, Садово-Кудринская, 14/16, кв. 11.
Нина Александровна Бондарева (член КПСС, бил. № 7932772, парторганизация Литературного ин-та им. А.М. Горького).
Поступило в ОС ЦК 13.1.53.
Необходимое пояснение. Приведем сведения о Дмитрии Петровиче Мирском, содержащиеся в 4-м томе Краткой литературной энциклопедии, выпущенной в 1971 г.:
«… русский сов. критик и литературовед. Сын либерального царского министра кн. 77. Святополк-Мирского. Окончил филологический ф-т Петерб. ун-та… После революции в эмиграции. В 1922-32 жил в Англии, читал курс рус. лит-ры в Лондонском у-те и Королевском колледже… В 1930 вступил в Коммунистич. партию Великобритании. В 1932 М. вернулся в Сов. Союз и активно включился в лит. жизнь… В 1937 был незаконно репрессирован; реабилитирован посмертно».
Видимо, слухи об имевшем место казусе с определением типического в литературе и искусстве дошли (как это почти всегда и бывало) до наиболее либеральных кругов творческой интеллигенции. Абрам Терц (Андрей Синявский) в книге «Спокойной ночи» (1983, Париж) пишет:
«Как раз тогда, в 52-ом, на Девятнадцатом Партсъезде Маленков, замещая Самого, сделал блистательный экскурс в художественную литературу. Дескать, «типическое» в искусстве это не «среднестатистическое», а нечто «исключительное»… И никто, абсолютно никто в мире, кроме нескольких подобных мне отщепенцев, связанных незримой цепочкой, не ведал, что весь этот теоретический вклад у Маленкова был списан дословно из ветхой, заброшенной Литературной Энциклопедии. И не у кого-нибудь – у бывшего белоэмигранта Святополка-Мирского, вернувшегося сдуру в Россию и успевшего, про слухам, уже сдохнуть с голоду в лагере в роли врага народа. Дотошные историки могут меня легко проверить, если захотят, сняв с полки и сравнив маленковский доклад на съезде с забытым энциклопедическим томом, на букву «Р»: «Реализм»…»
В. Малин – в Президиум ЦК о проектах отчетного доклада ЦК XIX съезду КПСС
29 апреля 1955 г.
Членам Президиума ЦК КПСС
В архиве Президиума ЦК КПСС имеются два проекта «Отчетного доклада XIX съезду партии о работе Центрального Комитета», подготовленные т. Маленковым и направленные т. Сталину 17 июля 1952 г. и 2 августа 1952 г.
В тексте проекта отчетного доклада, направленного т. Маленковым 17 июля 1952 г., в разделе «Партия» имеется абзац о типическом в литературе и искусстве. При просмотре текста доклада т. Сталин этот абзац вычеркнул.
В тексте проекта отчетного доклада, направленного 2 августа 1952 г., абзац о типическом в литературе и искусстве отсутствует. Более поздних проектов доклада в архиве Президиума ЦК КПСС не имеется.
В тексте отчетного доклада, зачитанного т. Маленковым на XIX съезде партии, абзац о типическом в литературе и искусстве включен в раздел «Дальнейший подъем материального благосостояния, здравоохранения и культурного уровня жизни народа».
13 января 1953 г. на имя т. Сталина поступило письмо члена КПСС т. Бондаревой Н.А. В этом письме т. Бондарева обращает внимание на то обстоятельство, что формулировки о типическом в литературе и искусстве, приведенные в отчетном докладе т. Маленкова на XIX съезде партии, взяты из статьи «Реализм» в 9 томе литературной энциклопедии. Автор этой статьи Д. Мирский, бывший белоэмигрант, разоблачен и репрессирован как враг народа и шпион.
14 января 1953 г. письмо т. Бондаревой было направлено т. Маленкову быв. зав. Особым сектором ЦК КПСС т. Поскребышевым.
По поручению т. Хрущева настоящая справка и письмо Бондаревой рассылаются членам Президиума ЦК КПСС для ознакомления.
Заведующий Общим отделом ЦК КПСС
В. МАЛИН
Необходимое пояснение. В протоколе заседания Президиума ЦК КПСС от 8 августа 1955 г. η. XXVIII отложилось решение «Об определении типического в литературе и искусстве в отчетном докладе т. Маленкова на XIX съезде партии». Было поручено Суслову, Поспелову, Шепилову и Маленкову «продумать, в какой форме исправить допущенную т. Маленковым в отчетном докладе на XIX съезде партии ошибку в вопросе об определении типического в литературе и искусстве, и свои соображения представить в ЦК КПСС».
Выписка из протокола № 165 заседания Президиума ЦК КПСС
21 октября 1955 г.
П. 3. ОБ ОШИБКЕ В ДОКЛАДЕ Т. МАЛЕНКОВА НА XIX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «ПО ВОПРОСУ О ТИПИЧЕСКОМ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ»
Президиум ЦК КПСС отмечает, что в докладе тов. Маленкова Г. М. на XIX съезде партии допущена ошибка, заключающаяся в том, что в текст отчетного доклада ЦК КПСС включена формулировка определения типического в литературе и искусстве из статьи «Реализм» Д. Мирского, опубликованной в 1935 г. в IX томе Литературной энциклопедии. В силу этого высказывания Мирского в литературной среде стали принимать нередко как директиву, в то время как по существу эти высказывания являются схоластическими. Подобного рода ошибка могла произойти лишь в результате недобросовестности работников, подготовлявших предварительные материалы к докладу, и некритического отношения к этим материалам докладчика т. Маленкова.
Президиум ЦК КПСС постановляет:
1. Принять к сведению заявление т. Маленкова о том, что он признает допущенную им ошибку, заключающуюся в том, что в тексте отчетного доклада XIX съезду оказалась включенной формулировка Мирского по вопросу о типическом в литературе и искусстве.
2. Предложить редакции журнала «Коммунист» опубликовать статью, в которой было бы разъяснено, что указанную выше формулировку об определении типического в литературе не следует воспринимать как партийную установку в понимании типического в литературе и искусстве.
3. Разослать настоящее постановление обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик и редакциям центральных общеполитических газет, литературно-художественных и общественно-политических журналов.
Об изготовлении слепков с головы и рук Сталина
11 апреля 1953 г.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
тов. ХРУЩЕВУ Н. С.
Министр культуры Союза ССР тов. Пономаренко П. К. сообщает, что по заданию Комиссии по организации похорон И. В. Сталина народным художником РСФСР скульптором Манизером изготовлены оригинал слепков с головы и рук И. В. Сталина и десять копий.
Тов. Пономаренко предлагает оригинал и первый экземпляр копии передать на хранение в Центральный музей В. И. Ленина. Последующие копии передать в Государственную Третьяковскую галерею (3 экз.); в Государственный Русский музей в Ленинграде (2 экз.); в Государственный музей русского искусства в г. Киеве (1 экз.); в Государственный музей искусств Грузинской ССР в г. Тбилиси (1 экз.); в лабораторию при мавзолее В. И. Ленина и И. В. Сталина (1 экз.); скульптору Манизеру М. Г. (1. экз.).
Кроме того, тов. Пономаренко просит разрешения изготовить два экземпляра слепков в бронзе и передать их на хранение в Третьяковскую галерею, а также предоставить право Главному управлению по делам искусств Министерства культуры СССР выдавать из хранилищ музеев копии слепков скульпторам и художникам во временное пользование для творческой работы над произведениями, посвященными жизни и деятельности И. В. Сталина.
Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС считает целесообразным оригинал слепков с лица и рук И.В. Сталина и первый экземпляр копии передать на хранение в Институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК КПСС; пять копий Центральному музею В. И. Ленина с последующей передачей одной копии Ленинградскому, Тбилисскому, Киевскому и Ульяновскому филиалам Центрального музея В. И. Ленина, после того, как в данных музеях будет подготовлена соответствующая экспозиция; две копии – Третьяковской галерее, одну копию лаборатории при Мавзолее Ленина и Сталина; одну копию оставить у автора работы – скульптора Манизера.
Считаем также возможным принять предложение тов. Пономаренко об изготовлении двух экземпляров отливов копий в бронзе, из которых один передать Центральному музею В. И. Ленина и один – Третьяковской галерее.
Тов. Пономаренко просит предоставить право музеям, с разрешения Главного управления по делам искусств Министерства культуры СССР, выдавать копии слепков скульпторам и художникам во временное пользование для творческой работы над произведениями, посвященными жизни и деятельности И. В. Сталина. Принимая во внимание, что практика выдачи копий слепков с головы и рук В. И. Ленина во временное пользование художникам и скульпторам привела к изготовлению ими большого числа собственных копий, во многих случаях низкого качества, считали бы целесообразным рекомендовать художникам и скульпторам пользоваться для своей работы копиями слепков с головы и рук И. В. Сталина в соответствующих музеях.
Тов. Пономаренко с данными предложениями согласен.
Зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС
В. КРУЖКОВ
Зав. сектором Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС
В. ЕВГРАФОВ
Постановление Секретариата ЦК КПСС «О музее И. В. Сталина»
2 сентября 1953 г.
Постановление
Секретариата ЦК КПСС
протокол № 40, п. 331 от 2. IX. 1953 г.
О МУЗЕЕ И. В. СТАЛИНА
1. Принять предложение Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС, ИМЭЛС и Центрального музея В. И. Ленина об организации на подмосковной даче, где жил и работал И. В. Сталин, мемориального Музея И. В. Сталина по типу Музея И. В. Ленина в Горках, с подчинением Центральному музею В. И. Ленина.
2. Утвердить директора Музея И. В. Сталина т. Бакулина И. С. заместителем директора Центрального музея В. И. Ленина.
3. Обязать Центральный музей В. И. Ленина (т. Морозова) закончить всю работупо созданию экспозиции Музея И. В. Сталина к 15.Х и открыть Музей для посетителей с 10.XI с.г.
4. Поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК КПСС (т. Кружкову) и ИМЭЛС (т. Обичкину) рассмотреть экспозицию Музея И. В. Сталина и доложить об этом Секретариату ЦК КПСС 20.Х с.г.
5. Утвердить представленные Отделом пропаганды и агитации и Управлением делами ЦК КПСС штаты Музея И.В. Сталина, согласно приложению.
6. Передать все служебные помещения, находящиеся при даче И. В. Сталина, в распоряжение Высшей партийной школы при ЦК КПСС для учебных целей.
Секретарь ЦК ХРУЩЕВ
А. Румянцев – в ЦК КПСС об опубликовании статьи о типическом в литературе и искусстве
26 января 1956 г.
В соответствии с поручением ЦК КПСС редакционная коллегия журнала «Коммунист» опубликовала статью «К вопросу о типическом в литературе и искусстве» («Коммунист», № 18, 1955 г.). Статья вызвала в целом положительный отклик в творческих организациях, научных учреждениях, учебных заведениях и среди читателей.
В редакцию поступают письма по поводу этой статьи. Поступили письма от Б. Е. Платонова, А. А. Родькина (г. Ленинград), Η. Т. Мамонова (г. Владимир), Н. Г. Слободчикова (г. Рига), Я. Б. Крочек (г. Хмельницкий) и другие. Наряду с положительной оценкой статьи в этих письмах высказываются замечания и ставятся вопросы, о которых считаем необходимым довести до сведения ЦК.
Суть этих вопросов сводится к следующему: какая точка зрения на типическое в литературе и искусстве является точкой зрения партии: та ли, которая изложена товарищем Г. М. Маленковым в отчетном докладе XIX съезду партии о работе ЦК, или та, которая изложена в редакционной статье «Коммуниста»?
Так, Η. Т. Мамонов пишет, что статью о типическом он прочитал с большим интересом; вместе с тем, он просит разъяснить: «следует ли эту статью… рассматривать директивной в противовес определению этого вопроса в докладе т. Маленкова на XIX съезде КПСС» или «данная статья журнала является только материалом, опубликованным в порядке дискуссии?»
А. А. Родькин просит редакцию ответить на следующие вопросы, которые, по его мнению, «могут быть заданы любому из пропагандистов»:
1) «Кто является, – пишет А. А. Родькин, – действительным автором этих схоластических и ошибочных формулировок о типическом в художественном творчестве, т. к. еще ранее, до Великой Отечественной войны, мне приходилось в каком-то из справочников или какой-то энциклопедии читать такие же формулировки по этому вопросу?
2) Как могло случиться, что в такой ответственный документ, ставший руководящим для всей партии, – отчетный доклад ЦК съезду, могли попасть противоречащие духу марксизма-ленинизма формулировки?
3) Можно ли считать указанную передовую статью «Коммуниста» как документ, отменяющий неправильные формулировки доклада тов. Маленкова?
4) Было ли по этому вопросу решение ЦК КПСС и если было, то будет ли оно доведено до партийных организаций? Или эта передовая статья и является изложением решения ЦК?»
H. Г. Слободчиков просит разъяснить ему:
«В каком из приведенных двух положений о типичности в литературе и в искусстве – в докладе ЦК на XIX съезде или в статье журнала «Коммунист» – заключается марксистско-ленинская точка зрения?»
Такого рода письма продолжают поступать в редакцию «Коммуниста».
Обращает на себя внимание и тот факт, что «Правда», «Комсомольская правда» и другие центральные газеты, а также печатные органы Союза писателей до сих пор не опубликовали статей о проблеме типичности в искусстве и выступление журнала «Коммунист» рассматривается только как точка зрения редакции.
Информируя о поступающих в редакцию письмах по вопросу о типическом, прошу Ваших указаний.
А. РУМЯНЦЕВ, главный редактор журнала «Коммунист»
Материал для Президиума ЦК КПСС «О биографии И. В. Сталина»
15 июня 1956 г. (не ранее)
I. В связи с решением XX съезда партии о ликвидации пережитков и последствий культа личности необходимо дать критическую оценку второму изданию книги «Краткая биография И. В. Сталина», получившей широкое распространение. Эта книга написана в чуждом марксизму-ленинизму духе культа личности Сталина и непомерного восхваления его заслуг; в ней искажаются исторические факты, принижается роль народа, партии и В.И. Ленина в социалистической революции и в строительстве социализма. Эта «Биография» не только не может служить делу воспитания членов партии и народа в духе идей марксизма-ленинизма, а, наоборот, она способна засорить и засоряет головы читателей чуждыми научному коммунизму взглядами и идеями.
Биография была написана авторским коллективом в обстановке процветания культа личности Сталина. Авторский коллектив не проявил объективности и в угоду культу личности принес в жертву историческую правду. Книга переполнена льстивыми характеристиками Сталина как «гениального вождя», «несравненного мастера марксистского диалектического метода», «великого стратега социалистической революции». Сталину приписываются черты непогрешимого мудреца, сверхчеловека.
Первая часть биографии Сталина основана, в значительной мере, на книжке Л. Берия, фальсифицирующей факты и события истории закавказских с.-д. организаций. В биографии (см. стр. 11–23) проводится фальшивая идея о двух параллельных центрах зарождения Российской социал-демократии: Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса во главе с Лениным и тбилисской с.-д. организации во главе со Сталиным. Сталин, который в 1905 году был известен лишь небольшому кругу людей, характеризуется как крупнейшая литературная и теоретическая сила партии, как политический вождь пролетариата (см. стр. 25). Его популярная брошюра «Коротко о партийных разногласиях» объявляется выдающимся произведением большевистской мысли и ставится в ряд с гениальной книгой Ленина «Что делать?».
Работа Сталина «Марксизм и национальный вопрос» в биографии характеризуется так, что Сталин будто бы впервые дал в ней марксистскую теорию нации, сформулировал основы большевистского подхода к решению национального вопроса, обосновал большевистский принцип интернационального сплочения рабочих (54–55 стр.). Такая оценка этой работы Сталина принижает значение классических произведений Маркса и Ленина по национальному вопросу.
В биографии обойден вопрос об ошибочной позиции И. В. Сталина, которую он занимал в период Февральской революции, до приезда В. И. Ленина из эмиграции в апреле месяце. Более того, в биографии сказано, что Сталин выступал против полуменыпевистской позиции условной поддержки Временного правительства, которую занимали Каменев и другие оппортунисты. В действительности же И. В. Сталин в то время стоял на позиции, сходной с Л. Каменевым.
В биографии неправдиво, в духе восхваления, вопреки историческим фактам, освещается роль И. В. Сталина в подготовке и проведении Октябрьской социалистической революции. В ней сказано: «Он непосредственно руководит всем делом подготовки восстания» (стр. 65). Таким образом, роль ЦК партии, Ленина в подготовке и проведении восстания оказалась в тени, – их заслонила фигура И. В. Сталина.
В биографии имеет место явное преувеличение роли И. В. Сталина в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. Сталин «характеризуется как непосредственный вдохновитель и организатор важнейших побед Красной Армии, как творец важнейших стратегических планов» (стр. 82–83).
Исторически неправдиво показана роль И. В. Сталина в образовании Союза Советских Социалистических Республик (стр. 89), замалчивается тот факт, что вначале Сталин защищал идею так называемой «автономизации», т. е. вхождения всех национальных республик в состав РСФСР. Эта неправильная сталинская позиция была подвергнута В. И. Лениным решительной критике.
Бесспорно большое значение в защите ленинизма, в борьбе с троцкизмом имела известная работа И. В. Сталина «Об основах ленинизма». Это показано в биографии; однако в ней умалчивается о том, что в первом издании этой книги была допущена принципиальная ошибка. Сталин писал тогда: «Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно, – для этого необходимы усилия пролетариев нескольких передовых стран» («Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 142, 1952 г.).
Эта ошибка была признана и исправлена впоследствии самим Сталиным во втором издании работы «Об основах ленинизма».
В биографии не классические философские труды В. И. Ленина, а популярная брошюра Сталина «О диалектическом и историческом материализме» объявляется последним словом марксистской философской мысли.
В полном противоречии с духом и методом марксизма в биографии утверждается, что Сталин «создал цельное и законченное учение о социалистическом государстве» (стр. 171). Таким образом, эта формула, находящаяся в прямом противоречии с положением Ленина о разнообразии форм диктатуры пролетариата, заранее исключает возможность исторического творчества рабочего класса различных стран в создании новых форм своей государственности.
В духе культа личности И. В. Сталина в биографии освящена его роль в деле строительства социализма и в Великой Отечественной войне. По существу одному Сталину приписываются все победы, одержанные советским народом под руководством партии.
2. И. В. Сталин, подвергнув представленный ему макет биографии тщательному и радикальному редактированию, не только не устранил, а наоборот, усилил чуждые марксизму идеи непомерного возвеличивания его роли, прославления и восхваления его личности.
Вот некоторые примеры того, как И. В. Сталин «отредактировал» свою биографию. Так, И. В. Сталин собственноручно вписал в текст макета биографии, что он является «ведущей силой партии и государства» (стр. 105). Такая приписка является не только примером самовосхваления, но и отступлением от основ марксистско-ленинской теории, переходом на взгляды идеализма.
Марксизм признает ведущей, движущей силой государства тот или иной общественный класс, а не отдельную личность.
Ведущей силой Советского государства является рабочий класс и его авангард – партия.
В ряде своих выступлений Сталин давал правильные, в духе марксизма, характеристики роли народных масс и личности в истории, в строительстве социализма. Но говорил он одно, а делал другое, всячески поощрял и насаждал культ собственной личности, совершенно утратив всякое чувство большевистской скромности.
Ярким примером этого является следующая хвалебная автохарактеристика Сталина, вставленная им при редактировании своей биографии: «Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования».
В макете биографии было сказано: «Сталин – это Ленин сегодня». Не удовлетворившись этим, Сталин переделал фразу следующим образом: «Сталин – достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин – это Ленин сегодня» (стр. 240).
Сталин также внес в текст макета биографии дополнения, в которых он восхваляет самого себя как полководца, развившего советскую военную науку и мастерски осуществлявшего руководство военными операциями. Все эти поправки ярко характеризуют стремление Сталина преувеличить свою роль в истории партии за счет умаления роли Ленина. Такое «редактирование» И. В. Сталиным своей биографии, вносившиеся им «поправки» сковывали составителей биографии, мешали им дать исторически правдивое, объективное освещение деятельности И. В. Сталина.
3. Всякая подлинно научная биография должна быть исторически правдивой, объективной. Она должна исходить из марксистского понимания роли народных масс, партии и вождей в истории, в общественной жизни. Этим основным требованиям не отвечает «Краткая биография И. В. Сталина» (второе издание).
В целях правильного воспитания наших кадров и полного преодоления культа личности Сталина необходимо составить для очередного тома Большой Советской Энциклопедии краткую биографию Сталина. В этой биографии следует показать действительную роль И. В. Сталина в истории нашей партии, в строительстве социализма в нашей стране, а также в международном рабочем движении.
При этом необходимо привести основные положения характеристики, данной Лениным И. В. Сталину, отметить его отрицательные черты, внушавшие серьезные опасения Ленину
В биографии нужно подвергнуть критике культ личности Сталина, показать его ошибки, произвол и злоупотребление властью, допущенные им особенно в последние годы его жизни.
Следует осветить, что И. В. Сталин после XVII съезда партии стал грубо нарушать ленинский принцип коллективности руководства, допустил серьезные ошибки в руководстве сельским хозяйством, в военных делах, в области внешней политики, что привело к тяжелым последствиям для партии и страны.
В настоящее время еще не представляется возможным дать исчерпывающую оценку допущенным И. В. Сталиным ошибкам и нарушениям ленинских принципов. Это должно найти в свое время должное освещение при разработке истории Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства.
Следует отметить, что не все еще в нашей партии учитывают и понимают тот серьезный ущерб, который был нанесен нашей партии, ее идейно-политической жизни, нашему государству чуждым марксизму культом личности И. В. Сталина. Поэтому необходимо продолжать систематическую партийно-воспитательную работу по полному преодолению культа личности И. В. Сталина и его последствий, по более глубокому разъяснению марксистско-ленинского понимания роли народных масс в развитии общества, роли революционной марксистской партии, роли ее коллективного руководства. Марксизм-ленинизм осуждает как культ личности, так и мелкобуржуазное, анархическое отрицание роли руководителей, значение их авторитета.
Важнейшая задача идеологической работы партии на современном этапе состоит в том, чтобы во всей полноте показать величие основателя партии и Советского государства В. И. Ленина, показать всепобеждающую силу идей ленинизма, их торжество и всемирно-историческое значение.
Эпилог
МОЛЬЕР. Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. И вот все-таки – раздавил… За что?.. Извольте… я, может, вам мало льстил? Я, может быть, мало ползал?.. Думал найти союзника… Что я еще должен сделать, чтобы доказать, что я червь?
М.А. Булгаков. «Кабала святош»Из предсмертного письма Александра Фадеева
13 мая 1956 г.
Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте… Литература – эта святая святых – отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа…
Меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспомнить все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушились на меня… Литература – этот высший плод нового строя – уничтожена, затравлена, загублена…
Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни…
Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.
Примечания
1
Богу и Хозяину (лат.)
(обратно)2
Ноорден – немецкий врач, пользовавший советскую элиту до 1937 года. Т. Косиора направили в Вену к проф. Ноордену с женой и сопровождающим, ассигновав 2000 ам. долларов, незадолго до расстрела.
(обратно)3
Немецкий генерал, победитель Самсонова в Первой мировой войне.
(обратно)4
«Нынешняя ситуация в России» (нем.).
(обратно)5
Подразумевается: как у Вас, т. Сталин.
(обратно)6
Так в стенограмме.
(обратно)7
Так (здесь и далее) в тексте. Правильно – Панферова.
(обратно)8
Так в тексте.
(обратно)9
Так в тексте.
(обратно)10
Так в тексте. Вероятно, имеется в виду 15-летие революции.
(обратно)11
Так в тексте.
(обратно)12
На документе пометка: «не было».
(обратно)13
Печатается в сокращении.
(обратно)14
Здесь и далее выделено автором.
(обратно)15
Заместитель председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР по кинематографии.
(обратно)16
Так в тексте. Правильно – XVII.
(обратно)17
Беседа записана со слов С. Эйзенштейна и Н. Черкасова. Публикуется в сокращении.
(обратно)18
Написанное остается (лат.).
(обратно)19
ГИХЛ – Государственное издательство художественной литературы.
(обратно)20
Печатается в сокращении.
(обратно)21
Здесь и далее выделено авторами.
(обратно)22
Так в тексте.
(обратно)
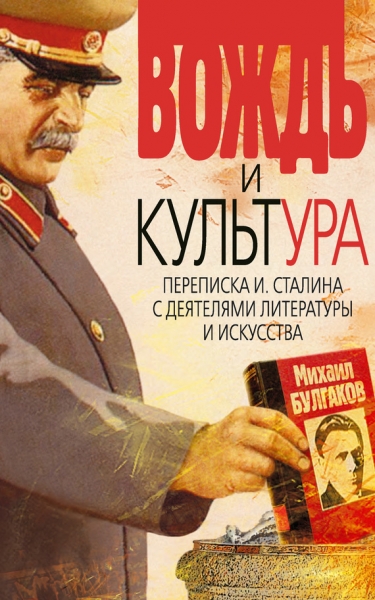





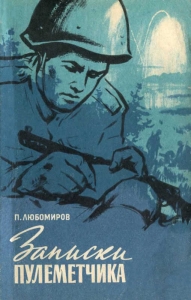
Комментарии к книге «Вождь и культура. Переписка И. Сталина с деятелями литературы и искусства. 1924–1952. 1953–1956», Вячеслав Трофимович Кабанов
Всего 0 комментариев